Анри Труайя Свет праведных. Том 2. Декабристки
На каторге
Часть I
1
Николай спал на ходу под окрики охранников и неумолчный звон собственных и чужих цепей. Вышли во двор, и лицо омыл предутренний холодок. Озарёв остановился, вздрогнул, прищурил глаза: после темной камеры ослепляли даже эти первые лучи восходящего солнца. Его товарищи тоже замерли, никто толком не проснулся, и клевать носом в такое время было обычным делом. А ведь, между прочим, ранним утром читинский острог становится прелестным местечком! Феб на огненной колеснице выкатывает из-за гряды облаков, небо пока еще серое, но можно догадаться, какая таится там, в глубине, ясная лазурь. Ночи едва ли не морозные, зато днем жарит – с приближением лета иначе в Сибири не может быть. Птички хлопочут вокруг лужи, затянутой прозрачной, тающей на глазах пленочкой льда…
Унтер-офицер, выпятив грудь, рявкнул:
– Стройсь в колонну по двое! Подвязать цепи!
Приказ был разумный, работать с нелепым, сковывавшим ноги, тяжеленным устройством было трудно, и каторжники подчинились, правда, вяло: сил на то, чтобы делать что-то быстро, не хватало уже с утра. А чтобы дать себе хоть минимальную свободу действий, следовало, подняв цепи, подвязать их ремешком либо к поясу, либо к шее. Они наклонялись, разгибались, со стороны, наверное, можно было подумать, будто они собственные кишки к горлу подтягивают!
Озарёв привязал кольцо, висящее посередине соединявшей его лодыжки длинной цепи, к веревке, которой, встав с постели, обвязал талию. Голод терзал его: до того, как их вывели на работу, он только и успел, что сжевать горбушку черного хлеба, запив ее стаканом теплого чая, и теперь жидкость уныло плескалась в его пустом желудке. Но чувствовал себя Николай совсем неплохо. Этот резкоконтинентальный сибирский климат вкупе с грубой пищей и ежедневной, без выходных, физической нагрузкой, как ни странно, закалили его: здоровье, подорванное четырнадцатью месяцами в темнице Петропавловской крепости, восстановилось. Товарищи в большинстве тоже выглядели куда лучше, чем сразу по выходе из бастиона. Поскольку каторжных роб для политических преступников не существовало, каждый одевался согласно своему вкусу и своим средствам. На ком тулуп, на ком шинель, на ком – давно обратившийся в лохмотья сюртук… А на головах – чего только не увидишь! От ушанки до тюбетейки… И обуты кто во что горазд: вот ноги в валенках, а рядом – в лаптях, сплетенных из лыка. Можно подумать, что старьевщик поделил между ними… всю собранную им кучу дрянного отрепья. Шагая среди этой толпы нищих, Озарёв порой сомневался, что на самом деле все они были, причем не так уж давно, дворянами лучших родов империи, блестящими гвардейскими офицерами, высокопоставленными чиновниками, да просто – мальчиками из хорошей дворянской семьи. Неудавшийся государственный переворот 14 декабря 1825 года сбросил их всех в яму, перемешал, уравнял в несчастье. Минуло два с половиной года с того дня, когда они, сплотившись в борьбе за Права Человека против тирании царя, вышли на Сенатскую площадь. Ну, и кто сейчас помнит об этой безумной затее, кроме них, заплативших за нее своей свободой?
Слава Богу, читинскую дисциплину еще можно переносить. Арестанты, собравшиеся во дворе острога, если бы не цепи и лохмотья, походили бы, скорее, на людей, которые собрались выехать на загородную прогулку. У одних под мышкой книги или газеты, другие взяли с собой скатанный в трубку коврик, шахматную доску, складной столик, шкатулку, даже самовар!.. Как обычно, караульный офицер «не заметил», что его подопечные словно на пикник собрались. Бывшие уголовные преступники швыряли в тачки предназначенные для работы «господ политических заключенных» лопаты и заступы. «До какого же уровня опускается общественная иерархия в России, – думал Николай, – если и такие каторжники, какими мы сделались теперь, находят людей более низкого социального положения, чтобы те их обслуживали!»
Солдаты с ружьями у плеча окружили колонну арестантов, офицер встал во главе конвоя и изящным движением вытащил из ножен шпагу – бедняга, все равно ведь поблизости нет никого, кто залюбовался бы им. По его приказу были распахнуты обе створки ворот. Полсотни каторжников – а именно из стольких состояла колонна – волоча ноги, тронулись с места под бряцание тяжелых цепей. Плетясь по деревне, они поглядывали на избы справа… слева: не мелькнет ли в окошке знакомое лицо? В Чите уже обосновались семеро декабристок: шесть из них были женами заговорщиков – княгиня Трубецкая, княгиня Волконская, госпожа Муравьева, госпожа Фонвизина, госпожа Нарышкина, госпожа Давыдова, Софи – и одна пока еще невестилась, но свадьба должна была состояться уже совсем скоро. К Ивану Анненкову приехала, чтобы на каторге с ним обвенчаться, молоденькая француженка Полина Гебль. Ожидались и другие дамы, конечно, если царь не поставит преграду на пути этого потока любящих женщин.
Когда оставалось всего ничего до избушки, где поселилась Софи, у Николая сжалось сердце. Ему просто необходимо сегодня утром хотя бы на минутку, на одно мгновение встретиться с ней взглядом – разве есть у него иная возможность поднабраться мужества! На пороге пусто, в окошке пусто. Время слишком раннее, она еще спит. Николай уронил голову на грудь и попытался представить себе красавицу жену в этой ее убогой деревенской постели: веки опущены, на губах улыбка… может быть, нет, наверняка она сейчас видит во сне его! Конечно же, его! Кровь в жилах Озарёва только что не закипела, ему захотелось вырваться из ряда, побежать к избушке, взломать дверь, проскочить одним прыжком сени и – наброситься на это разнеженное сном прекрасное тело… Он бы тогда… Но взгляд его наткнулся лишь на пустые глаза охранника. Ах, вот в чем дело: они же на марше. Он снова почувствовал, как тяжелы его оковы.
– Пра-а-авой, ле-е-евой! Пра-а-авой, ле-е-евой! – командовал офицер.
Но в ногу шли всего человек десять.
Избушка Софи скрылась за головой жующего солдата. Они добрались до околицы деревни, здесь собаки были уже не такими дерзкими, как у себя дома, и не осмеливались гавкать на проходящих. Вот и последние жалкие покосившиеся хибарки, цепляющиеся изо всех сил, чтобы не соскользнуть по пологому песчаному откосу. Внизу сверкают на солнце веселые воды реки, чуть дальше тусклая подернутая ряской и совершенно неподвижная поверхность пруда. И потом уже луга – сочная зелень травы, редкие стайки кустарников и деревца со стволами, подножием увязшими в грязи… На горизонте полукругом синие зубчатые горы. Поскольку требовалось придумать для каторжников какую-то работу, генерал Лепарский, комендант Читинской каторжной тюрьмы, отправлял их каждый день на окраину городка, чтобы засыпали землей глубокий овраг. Однако первым же порывом ветра, первой же грозой сметалось и смывалось все, что они так терпеливо натаскали до сих пор, и назавтра все приходилось начинать сначала. Бессмысленность этого поистине сизифова труда освобождала тюремную администрацию от поисков другой работы и отнимала у каторжников всякое желание вкладывать душу в свое дело. Они прозвали рабочую площадку Чертовой могилой, тем самым вроде бы признав тот факт, что черт от природы упрям и неуступчив, потому его и дохлого не захоронить.
Стоило Николаю подумать о том, какие пустые часы его ждут впереди, он почувствовал омерзение – страшное, почти до тошноты. Господи, да как же можно существовать без малейшей надежды! Посмотрел на товарищей, и ему показалось, что вид у них куда более подавленный, чем в день вынесения приговора. Тогда прошло слишком мало времени после восстания, с течением дней… месяцев… веков… вера в лучшее будущее постепенно угасала. Ему почудилось даже, будто на каждом лице ясно читается число: на сколько лет осужден. «Вот ему осталось еще семнадцать… а ему – двенадцать…» Самому Озарёву, приговоренному по четвертому разряду, повезло: еще только восемь лет каторги, но ведь потом – поселение до конца жизни. Шедший рядом Юрий Алмазов прошептал:
– Ты почему такой мрачный с утра? Что-то не заладилось?
– Да нет, все в порядке… – пожал плечами Николай.
– Каждый по очереди, право, тоска! Вчера я надулся, как индюк, завтра другой станет смотреть тучей. Знаешь, ни к чему так, дружище! Бери пример с Лорера – вот кто постоянно весел!
Лорер, он шел в паре прямо перед ними, поправил закрепленное на плече кольцо, к которому были приделаны цепи, обернулся, и совершенно ребяческая улыбка осветила его худое лицо, перерезанное густыми усами и окаймленное каштановыми бакенбардами. Николай Иванович принадлежал к Южному обществу, но здесь его признавали своим и любили все, даже те, кто не был с ним знаком раньше: еще бы, как же не любить такого всегда жизнерадостного человека!
– Ох, дорогой мой, дорогой мой! Отбросьте все сожаления, все раскаяния, угрызения совести – ни к чему они сейчас, бесполезны! Помните поговорку о том, что всякий сам кузнец своего счастья? А я бы чуть изменил ее: строитель – любыми подручными средствами! Пусть это будет краюшка хлеба или лоскуток голубого неба – разве они не прекрасны? Может, споем? Легче станет идти…
– Споем, – без всякого энтузиазма откликнулся Озарёв.
А Юрия Алмазова предложение, наоборот, вдохновило.
– Давайте-ка хором! – воскликнул он. – Внимание! Раз, два, три… Запе-е-евай!
Лорер выпрямился, как мог, и затянул чистым высоким тенорком:
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье…Это были первые строки сочиненного Пушкиным и прозванного здесь «Послание в Сибирь» стихотворения, которое поэт ухитрился тайком, при посредничестве Марии Волконской, передать каторжникам. Декабристы сразу же положили стихи на музыку и сделали строевым маршем. Все головы поднялись, все взгляды загорелись, несколько голосов подхватили начатую Лорером песню:
Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье. Несчастью верная сестра, Надежда в мрачном подземелье Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная пора…Они шли и пели, голоса их крепли, исчезала куда-то охриплость:
Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас.В последнем куплете, самом любимом, сплелись уже все голоса, никто не остался безучастным:
Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут – и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.Теперь в ногу шагали все. Ритмично позвякивавшие цепи казались им самым что ни на есть подходящим аккомпанементом для этой пламенной речи в защиту подрывной деятельности. Из осторожности каторжники старались произносить не слишком внятно чересчур смелые слова, но догадаться было так легко… Сопровождавший их офицер не проявлял ни малейшего беспокойства. Может быть, просто делал вид, будто ничего не может разобрать, чтобы не пришлось разозлиться и приступить к наказаниям? Фамилия его была Ватрушкин, был он ленив от природы и люто ненавидел всяческие приключения на свою голову. Что же до солдат, охранявших колонну, – те, кажется, были в восторге от разыгрывающегося у них на глазах спектакля. Все равно приписываемая солдату изначально тупость избавит от любых подозрений на их счет. Иногда на обочине дороги появлялся какой-нибудь крестьянин или рабочий из бывших каторжников, что понятно было по позорной метке на лбу. Глядя вслед проходившим арестантам, он снимал шапку и крестился, уверенный, что политические распевают псалмы…
– А что, друзья! – воскликнул, когда хор умолк, Иван Пущин, вставая на цыпочки, чтобы стать заметным. – Не спеть ли нам теперь ответную песню?
Ответ на стихи Пушкина был написан здесь, на каторге, поэтом-декабристом, князем Александром Одоевским. И снова Лорер выпел начало песни, а хор подхватил:
Струн вещих пламенные звуки До слуха нашего дошли, К мечам рванулись наши руки, И – лишь оковы обрели…Николай, который, когда пение начиналось, только шевелил губами, подпевая, теперь возвысил голос. Голова, руки, ноги – его тело больше не принадлежало ему, он стал частицей толпы, он слился с друзьями в единое целое, и теперь их всех поднимала к небесам и увлекала за собой одна и та же могучая сила.
Но будь покоен, бард, цепями, Своей судьбой гордимся мы И за затворами тюрьмы В душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя, — И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей И пламя вновь зажжем свободы, Она нагрянет на царей, И радостно вздохнут народы.Озарёв прекрасно понимал, что все это только мечты и прекрасные слова, что никакие темницы не рухнут, что декабристам уже никогда не пойти с мечом в руках на трепещущего деспота, что свет Свободы не скоро вспыхнет для всего человечества, но ему было совершенно очевидно и другое: идеалы, воспетые хором из стольких голосов, не могут исчезнуть бесследно, раствориться в эфире. Мысль, поселившаяся в умах и сердцах людей, станет гореть искоркой негасимого огня и в разрушенном очаге… А дохни на искру – разгорится пламя!..
Дорога была песчаная, ноги в ней увязали, каторжники двигались вперед по пояс в облаке коричневой пыли. Свежесть и прохлада утра сменилась сухим жаром, от зноя выцветало небо, под безжалостным солнечным светом бледнела зелень трав и листвы… Скованные цепями, совершенно выдохшиеся, истекающие потом люди, вопреки всему продолжали, надсаживая горло, кричать о своей вере в будущую справедливость…
Остановились у Чертовой могилы. Песня утихла, слышен был только лязг цепей.
– Разгрузить тачки! – скомандовал офицер.
Каторжники распределили между собой нехитрый свой инструмент. Им предстояло в очередной раз забрасывать землей глубокий овраг, со стен которого на дно постоянно сыпался песок. Началась работа. Едва наполнялась одна из тачек, ее сразу же переворачивали, сбрасывая содержимое в яму. Земля мгновенно растворялась на дне оврага, только в воздухе еще долго стоял похожий на желтый дым столб пыли. Николай с Юрием Алмазовым работали бок о бок, они тяжело дышали, с трудом управляясь с тяжелыми, выщербленными лопатами, но физический труд им, скорее, нравился. Солдаты-охранники, составив оружие в козлы, разбились на группки и, рассеявшись по краю оврага, затеяли игру то ли в подкидного дурака, то ли в козла. Грязные истрепанные карты так и мелькали у них в руках. Играть на деньги им было запрещено, на интерес скучно, потому проигравшие расплачивались семечками. Только четверо часовых продолжали стоять, но – используя ружья как подпорку, правда, даже таким образом удерживаться на ногах бедолагам было лень, и это сильно чувствовалось по их позам. Офицер сбросил на землю шинель, улегся на нее – руки под затылком, смотрел в небо и поминутно зевал, а вскоре и заснул прямо с открытым ртом…
– Как легко было бы сбежать! – шепнул Николай Алмазову.
– Легко, но нас тут же поймали бы, – отозвался тот. – Одоевский с Якубовичем строят другие планы.
– Да? Какие же?
– Погоди немного, сами скажут.
– Очень я опасаюсь Якубовича: он ведь совершенно безумен!
– Знаешь, в последнее время у него несколько поубавилось безумия…
Они работали, по-прежнему размышляя о побеге – вечной грезе всех каторжников, хотя каждый в глубине души не мог не осознавать, до какой степени нереально осуществление этой мечты. Офицер громко захрапел и внезапно проснулся, словно испуганный произведенным им шумом. Движения арестантов становились все более медленными, вялыми, неточными, казалось, им мешает ставший каким-то липким воздух. А чуть спустя они вообще остановились.
– Ну же, господа! – усовестил поднадзорных офицер. – Еще одно маленькое усилие!
Усталые люди в ответ проворчали нечто невнятное. Но он и не подумал придираться к этому, заставлять их. Для охранников, как и для каторжников, труд этот имел чисто символический смысл: надо же было как-то убить время, вот и убивали кто как мог, только при этом одни сторожили других… Приличия соблюдены – вот и ладненько… Остальное вообще никакого значения не имеет… Николай подумал, что дисциплина на каторге представляет собой странную, порой даже забавную смесь беспощадной жестокости с явным дружелюбием. Чем строже правило, тем многочисленнее становятся здесь исключения, его смягчающие.
– Давайте-ка еще по две тачки на бригаду и – сделаем перерыв… – мирно предложил офицер.
Каторжники повиновались. Так прошло еще десять минут, – и, наконец, побросав свои орудия труда на площадке, они побрели к леску, куда манила листва серебристых тополей и пурпурных буков, надеясь спрятаться от солнца под их кронами. Действительно, здесь было куда прохладнее, а почва оказалась мягкой, пружинистой из-за невысокой травки и мха. И впрямь самое подходящее место для отдыха, лучше и придумать нельзя! Одни, решив подремать, улеглись на траву, другие, привалившись к стволу дерева, раскрыли книги и погрузились в чтение, кто-то играл в шахматы, кто-то писал, кто-то вполголоса беседовал с приятелями… У большого камня, мшистая поверхность которого кишела муравьями, Николай и Юрий Алмазов увидели внимательно их рассматривающих Якубовича с князем Одоевским и подошли к ним.
– Что, берете уроки общественных наук, глядя на этих зверюшек? – усмехнулся Озарёв.
Якубович, высокий, сухощавый, с выпученными глазами, черными сросшимися бровями и закрученными кверху усами, выпрямился.
– Совершенно верно, – ответил он. – Гляжу на них и думаю: что бы это такое было перед нами – столица муравейского государства или муравьиная каторга…
И нервно захихикал.
Юрий Алмазов бросил на него взгляд через плечо и прошептал, обращаясь к Одоевскому:
– Объясни Николаю, что у тебя за план!
– Вас это действительно интересует? – спросил Одоевский.
– Конечно же! Очень! И мне хотелось бы знать о ваших планах во всех подробностях!
Они помолчали, князь задумался, машинально поглаживая заросший щетиной подбородок тонкой рукой с черными от набившейся туда земли ободками у ногтей. Раскосые глаза излучали нежность. Полные розовые губы поблескивали из-под навесика усов.
– Ох… Пока все это одни лишь фантазии… – вздохнул Одоевский. – Но кое-что уже можно оттуда извлечь! Заметил ли ты, Николай, насколько все солдаты, которых ставят нас охранять, по-доброму к нам расположены? Просто все! Уверяю тебя, в глубине души они нас любят, жалеют, они сочувствуют нам и считают нас более к себе близкими, чем их начальники, потому что сами живут в нужде и забитости. Так почему бы нам не использовать такую благоприятную ситуацию?
– Каким же образом?
– А ты сам прикинь! – подмигнул ему Якубович.
– Нет… даже не представляю…
– До сих пор, – принялся объяснять Одоевский, – те из нас, кто мечтал о побеге, предполагали действовать в одиночку, что неизбежно привело бы к провалу предприятия, иначе и быть не может. Как можно выжить одному на просторах Сибири, в этой пустыне?! Тем более что бурятам обещано вознаграждение за поимку каждого беглого каторжника. Стоит им получить известие о побеге – и они тут же отправятся в погоню за беглецом и унюхают его – не хуже охотничьих собак. Для них это просто очередная торговая сделка – как продажа пушного зверя. Надо быть просто идиотом или уж отчаяться до полной потери рассудка, чтобы искушать судьбу в подобных обстоятельствах. Лучший способ изменить наше положение – действовать, применяя силу.
– Силу?! – изумился Николай.
Якубовича охватил восторг, его лицо исказила гримаса, глаза просто-таки уже выскакивали из орбит, и Озарёву почудилось, будто из них сыплются искры.
– Силой, именно силой, голубчик вы мой! Си-ло-ю! Это же понятно! Если мы восстанем – все сразу – и нападем на сторожевой пост, солдаты не окажут нам ни малейшего сопротивления. С одной стороны – группка неуклюжих парней, с другой – семьдесят или восемьдесят таких мужчин, как мы, почти все бывшие офицеры, людей, жаждущих свободы и яростно прокладывающих к ней дорогу!.. Мы их мигом обезоружим!
– Ну а потом – что? – спросил Николай.
– Бросим в тюрьму Лепарского и его приспешников, запасемся ружьями, пулями, порохом и провизией – так, чтобы хватило на долгое путешествие, погрузим все на телеги и – прощай, Чита!.. Причем совершенно точно, что из ста солдат местного гарнизона половина присоединится к нам… А остальные…
– А остальные, – перебил Якубовича Николай, – помчатся в Иркутск и поднимут тревогу!
– Когда это случится, мы будем уже далеко. А поскольку у нас будет вооруженный и сплоченный отряд, никакие буряты нам не страшны – они попросту не осмелятся нас атаковать!
– Хорошо… А наши жены?
– Их мы, разумеется, увезем с собой! Как же иначе?
Он замолчал, потому что к ним вперевалочку приближался князь Трубецкой. Ему приходилось часто пригибаться – слишком он был высокий, чтобы пройти под свисающими ветками. Трубецкой сильно похудел за прошедшие на каторге годы и теперь – со своим носом-клювом между маленькими глазками – стал как-то особенно похож на птицу. «Про таких говорят: его видно только в профиль…» – невесело усмехнулся про себя Озарёв. Одетый в изношенный до бахромы на подоле и низах рукавов сюртук и пошитые из дрянной ткани штаны с засаленными коленками, с кандалами на ногах, с мешочком у пояса – князь все равно сохранил манеры дворянина.
– Господа, – сказал Сергей Петрович, подойдя к ним, – не выпьете ли со мной чайку? Жена принесла кое-какие лакомства, и мне хотелось бы отведать их в вашей компании…
– Охотно, князь, – ответил Николай.
И прибавил, обращаясь к Одоевскому:
– У тебя интересная идея. Надо будет потом в нашей «казарме» устроить общую дискуссию… Обсудим, если не возражаешь…
Все вслед за князем Трубецким потянулись к полянке, на которой уже дымился старый медный самовар с изрядно помятыми боками и косо поставленной трубой… Румяный и жизнерадостный Иван Пущин накрывал импровизированный «стол». Посуды на всех не хватало, и заменявшие чашки деревянные мисочки передавались из рук в руки. Николай разок отхлебнул теплой, слабо пахнувшей водички, гордо именовавшейся чаем, и передал свою мисочку Юрию Алмазову. Лакомства, о которых говорил князь Трубецкой, были представлены черничным, сливовым и малиновым вареньем. Такие полдники между завтраком и обедом вошли с недавнего времени в обычай у каторжников. С непринужденностью хозяина, приглашающего к столу почетного гостя, Сергей Петрович окликнул дежурного офицера и предложил ему тоже перекусить с ними. Ватрушкин охотно угостился бутербродом. Подлесок был полон движущихся пестрых силуэтов: на одежде арестантов причудливо чередовались пятна света и тени, от этого облаченные в нее люди напоминали гигантские грибы с темными шляпками… Зато когда они выходили на поляну под ослепительное солнце, яркий безжалостный свет полностью – с головы до ног – лишал их каких-либо красок, только цепи сверкали, подобно драгоценностям… Караульный прикончил бутерброд с вареньем, старательно и методично облизал палец за пальцем, начав с мизинца и закончив большим, после чего, почему-то сразу забыв вкус сладкого, нахмурил брови, придавая себе значительности, и рявкнул:
– За работу, господа!
* * *
По возвращении с работы каторжники собрались во дворе острога, ожидая, пока их позовут к ужину, состоявшему обычно из весьма невыразительной похлебки. Холостяки так и остались в центре площадки, а женатые нарочито развязной походкой направились к забору. Высоченные колья, из которых было сделано ограждение, плотники сбили тесно, только кое-где с северной стороны дерево было подтесано и образовались щелочки, через которые и происходили переговоры политических заключенных с их женами. Такие вот у них регулярно происходили свидания. Караульный офицер притворялся, что не замечает маневров, часовые тоже предпочитали смотреть куда-нибудь еще, а не в сторону нарушителей порядка. Хотя, конечно, не миновать было и внезапных приступов властолюбия, когда солдат, обуреваемый рвением или попросту подогретый возлияниями, впадал в ярость и разлучал пары. В любом случае лучше было не предаваться слишком долгой беседе и говорить следовало тихо. Николай Озарёв приближался к месту, где обычно они встречались с Софи. Постепенно все счастливые супруги, один за другим, выстраивались вдоль забора – каждый находил именно свое всегдашнее место безошибочно, арестанты двигались к ограде, как идут хорошо выдрессированные лошади в свои стойла…
Устроившись у довольно широкой щели и заглянув в отверстие, Николай поначалу расстроился. Пространство за забором оказалось пустым. Почему Софи не пришла? Посмотрел налево, направо – все жены вроде бы здесь… Александрина Муравьева силится протиснуть какой-то сверток в узенькую щелку между землей и досками ограды… Похожая на прекрасную креолку Мария Волконская кокетничает, стоя перед глухой на вид стеной… Довольно тучная и потому запыхавшаяся Екатерина Трубецкая принесла с собой складной стульчик и, сидя, болтает с мужем, которому пришлось согнуться вдвое, чтобы ее видеть… От мадам Давыдовой издалека виден лишь краешек юбки… А вот та корзинка, скорее всего, принадлежит Полине Гебль, невесте Анненкова. Модисточка из Парижа, обосновавшаяся в Москве, она благодаря своему упорству преодолела все препятствия, триумфально вышла из всех переделок, какие чинили ей власть и семья Ивана и прибыла в Сибирь, чтобы обвенчаться на каторге с тем, кого любила и за кого мечтала выйти замуж. Хотя Полина оказалась в Чите позже всех декабристок, Софи именно к ней испытывала наибольшую симпатию – может быть, просто потому, что та, как и она сама, была француженкой? Николай хотел было спросить у Полины, почему его жена не пришла сегодня на свидание, но почти сразу же передумал: зачем беспокоить Анненкова и его подругу, зачем мешать влюбленным перешептываться? Он уже решил уйти от забора, когда сердце его чуть не выскочило из груди от радости – Софи уже перешла дорогу и теперь бежала к нему, быстро перебирая ногами и спотыкаясь на каждом ухабе. Внезапно ему почудилось, будто любимое личико уже на таком расстоянии, что можно различить дыхание Софи – нет, не почудилось, она же и впрямь рядом, вот она! Сквозь неровные края бреши между кольями было мало что видно, зато все место занимали глаза… самое главное во внешности молодой женщины… ее глаза – темно-карие, почти черные, жаркие, огромные, светящиеся нежностью, полные сожаления о том, что – «вот так уж случилось»…
– Прости, прости меня, – шептала Софи, – меня задержала Пульхерия, эта ее стирка…
Господи, какая глупость, какая малость! А он-то, как всегда, воображал худшее! Ему стало легче дышать, и он едва слушал, как жена наспех рассказывала ему о каких-то домашних проблемах. Чудо заключалось в том, что она здесь, рядом с ним, так близко, прямо за этим забором. Она – со своим женственным, своим женским телом… И спрашивает, как он провел день. Вместо ответа он шепнул:
– Люблю тебя, Софи!..
Она замолчала, глядя на него удивленно и немного испуганно: с чего вдруг такое признание?
– И я тоже очень тебя люблю, – наконец сказала Софи бархатным своим голосом.
– Еще целый день и целых две ночи ждать!
Николай намекал на их будущую встречу в избушке, где жила Софи: женатым декабристам разрешали навещать под конвоем своих жен два раза в неделю.
Софи покачала головой, взгляд ее опечалился.
– Да, – сказала она. – Послезавтра только.
– Как это не скоро!
– Ужасно не скоро, Николя!
Он всмотрелся в жену более пристально: кажется, она покраснела. Покраснела? Да… Стыдливость Софи, как всегда, вызвала у него восхищение. Он приблизил вытянутые трубочкой губы к вырезанному ножичком отверстию в ограде – специально, чтобы можно было поцеловаться, невзирая на эту глухую стену из кольев. Плотно прижавшись лицом к забору, он уже не видел ничего, но чувствовал на губах… свежесть воздуха.
– Родная моя! Дорогая! – бормотал Озарёв.
Софи долго не отвечала ему. А потом он ощутил на губах пылкую ласку. Его окутало горячее, ароматное дыхание. Ему померещилось, будто он в гробу, и эта точка соприкосновения губ – единственная связь его с миром живых, единственное место, где его плоть может слиться с плотью его жены… Увы, как обычно, все кончилось слишком быстро и как-то разом. Лицо Софи отдалилось. Наверное, бедняжка стеснялась столь явного доказательства своей любви, своей тяги к нему на людях. Но разве может он возмущаться ее застенчивостью, такой прелестной, такой естественной для Софи? Он услышал за спиной позвякивание цепей, обернулся. Колодники-холостяки, разбившись на группки, бродили по двору. Притворяясь, будто оживленно беседуют, они то и дело исподтишка поглядывали в сторону ограды. Многим эти свидания женатых собратьев по каторге доставляли истинные страдания: такие от ревности, зависти, подавленного желания, разочарования выглядели изголодавшимися. И вдыхали запах чужого пиршества так жадно, словно надеялись, что им перепадут хотя бы крошки… вот уж истинно «в чужом пиру похмелье»… Но их можно понять: восемь женщин на восемьдесят мужчин! Николай устыдился своего счастья, наблюдая за метаниями этих своих обделенных нежностью товарищей. Его взгляд остановился на одном из них. Юрий Алмазов, заметив, что Николай смотрит на него, вытащил из кармана лист бумаги и помахал им. Ага, ясно: он хочет передать записку! Поскольку политические преступники не имели права на переписку с оставшимися в России близкими, дамы-декабристки служили им не просто почтовыми голубками, они сами за них писали, согласно их указаниям. Таким образом, на каждую десятку осужденных приходилось по добровольной помощнице, Юрий же Алмазов входил в «десятку клиентов» Софи Озарёвой. Впрочем, он вроде бы серьезно влюбился в Софи, и это отнюдь не раздражало Николая, напротив, ему льстило, что его красавица жена пользуется успехом у других мужчин.
– Ничего, что я вас побеспокоил? – спросил Алмазов, подходя к забору.
Николай на минутку уступил ему место.
– Простите меня, ради Бога, мадам, – зашептал Юрий, – но мне бы хотелось отправить еще одно письмо моей матушке. Я совершенно уверен, что предыдущего она не получила. Самое главное я набросал, вот черновик…
– Давайте скорее записку! – поторопила Софи.
– Ах, как мне отблагодарить вас!..
Он просунул сложенную бумагу в щель между досками… и вдруг отпрыгнул в сторону. По ту сторону ограды раздались крики. Николай узнал голос лейтенанта Проказова, который пришел сменить Ватрушкина на посту. Этот Проказов, горький пьянчужка и тупица, выслужился до офицерского чина, надзирая за уголовниками, и не желал мириться с тем, что на Нерчинских рудниках, где содержатся только политические преступники, установлен куда более терпимый режим, чем в других местах. Стоило вышеназванному пропойце выпить лишнего, он начинал придираться к любой ерунде, мог позволить себе какую угодно наглую выходку. Снова приклеившись глазом к щели в ограде, Николай увидел, как приближается эта красномордая буря. При виде Проказова испуганные дамы поскорее отошли от забора, княгиня Трубецкая даже чуть не упала, вскакивая со своего складного стульчика. Низенький, пузатый, весь поросший рыжей шерстью «надсмотрщик», ставший причиной столь беспорядочного бегства, сперва замер на полпути, но, тут же сориентировавшись, бросился к Софи и вырвал у нее из рук бумагу, которую та не успела припрятать.
– Это письмо принадлежит мне, месье! – закричала Софи. – Извольте немедленно вернуть мне его!
– Я не обязан исполнять распоряжения жен каторжников! – рявкнул в ответ Проказов.
– Я пожалуюсь генералу Лепарскому!
– Попробуйте только пасть раззявить, живо начнете кровью исходить под кнутом!
Он схватил Софи за руку и принялся коленом грубо подталкивать женщину вперед.
– Оставьте, оставьте меня, – чуть не простонала она.
– Нет уж, ты у меня еще попляшешь! Ты у меня пойдешь, куда надо! Шлюха французская!
Николай, убиваясь из-за того, что не может прийти на помощь жене, в бешенстве колотил сжатыми в кулаки руками по забору и орал:
– Лейтенант Проказов! Вы негодяй и мерзавец! Вы позорите свой мундир!
Словно получив пощечину, Проказов на мгновение застыл, отпустив руку Софи, но тут же опомнился и медленно хриплым голосом произнес:
– Кто это сказал? Какая подлая шваль решилась говорить со мной так?
Ответом была мертвая тишина. Налитую кровью физиономию Проказова исказила гримаса, он весь дрожал от ненависти и был готов проломить ограду лбом, лишь бы скорее добраться до преступника. Забыв про женщин, он на неверных ногах бросился к караульной будке и три минуты спустя был уже во дворе с шестью солдатами, сопровождавшими его как конвой.
– Ну?! Пусть тот, кто говорил, лучше сам признается! – Лейтенант расставил ноги пошире и тряс кулаками в воздухе. – Ну?!!!
– Ради Бога, не вздумай и пальцем пошевелить! – шепотом взмолился Юрий Алмазов, обращаясь к Николаю.
– Считаю до десяти! – прорычал Проказов.
После счета «десять» ответа тоже не последовало. От этого лейтенант разгневался еще больше:
– Отлично! Так, значит! Что ж, я развяжу вам языки! Если виновный сию же минуту не признается в содеянном, мои люди расстреляют вас всех!
Пьянчуга явно потерял голову. Но ведь вся его власть над каторжниками была поставлена под угрозу. Декабристы стояли перед ним сплоченными шеренгами, головы их были гордо подняты, руки чуть покачивались, во взгляде каждого читалась усмешка. Неспособный более владеть собой, Проказов скомандовал:
– Целься!!!
Николаю вдруг очень захотелось выступить вперед и признаться. Однако, к величайшему его удивлению, солдаты оставались неподвижными, они и не подумали выполнять приказ. Скорее всего, они поняли, что ничего хорошего из повиновения вдребезги пьяному командиру получиться не может.
– Целься! – повторил тот. – Чего вы ждете? Целься, говорю! Ну?!!
Солдаты, все более и более неуверенные, стали переглядываться, перешептываться, подталкивать друг дружку локтями. Николай почувствовал, что сейчас можно спасти положение, решившись на новую дерзость, которая явно себя оправдает.
– Ваш начальник сошел с ума! – закричал он. – Скорее известите об этом коменданта!
Командность его тона произвела на караульных сильное впечатление. Им вдруг показалось, что их командир на самом деле не тот, кто надел военную форму, а тот, на ком цепи. Один из солдат, не ожидая других указаний, побежал в сторону комендантского помещения.
– Кого ты слушаешься, сукин сын? – вопил ему вслед Проказов, ставший уже совсем багровым. – Кого ты слушаешься – каторжника? Да я тебя сквозь строй прогоню! А ну, вернись! Вернись, слышишь?! На кар-р-раул! Тут мятеж! Бунт! Стройся! Огонь!
Он топал ногами, размахивал оружием, но солдат, естественно, не вернулся. И тут внезапно ярость Проказова улеглась. Он побледнел, тело как-то обмякло. Неужели понял, что зашел слишком далеко, что его пьяная выходка может стоить ему выговора от Лепарского, если не хуже? Проказов посмотрел на декабристов, опустил пистолет и поплелся к караульной будке.
Чуть позже появился Ватрушкин.
– Господа, я не хочу знать, что тут произошло в мое отсутствие, – начал он.
– Да тут ничего особенного и не произошло, – с улыбкой перебил его Николай.
Ох, с каким облегчением вздохнул офицер – так, будто с него сто пудов груза свалилось…
* * *
Во время ужина, с общего согласия, не прозвучало даже намека на произошедшее: пока желудок не наполнен, дух не свободен… да и мозг тоже… это всем известно! Ответственного за прокорм политические выбирали сами и из своих – на три месяца. Он делал закупки на деньги, собранные заключенными, каждый участвовал в пополнении этой «артельной кассы» соответственно своим возможностям. Кроме того, дамы снабжали арестантов кофе, чаем, шоколадом, вареньем и другими «деликатесами». Подобная организация дела помогала улучшить питание заключенных, а это было необходимо, потому что выжить, рассчитывая лишь на те шесть копеек, которые власти выделяли арестанту в день, оказалось бы трудно, если не невозможно. Разве достаточное питание для взрослого мужчины, тем более – занятого физическим трудом, щи из капусты и кусочек вываренной говядины? Поскольку ножи были запрещены, хлеб раздавали уже нарезанный ломтями. Вилок, разумеется, тоже в обиходе не предполагалось, потому порцию говядины рвали на куски пальцами. Стол ставили на козлы посередине камеры. Среди сотрапезников, устраивавшихся локоть к локтю кто на скамье, кто на кровати, были и такие, кто на воле грешил чревоугодием, любил хорошо поесть, были и те, кому тюремное питание казалось просто пищей богов, ибо до каторги они познали голод и нужду. Но теперь все в равной мере были озабочены содержимым заменявших тарелки мисок. По мере насыщения арестанты становились более шумными, все громче становился под низким потолком звон цепей, все оживленнее звучали голоса. Поток воздуха, проникавший через зарешеченные окна, был слишком слабым, чтобы разогнать запах остывающей пищи. «Темнеет сейчас поздно, вечер затянется надолго. Вполне вероятно, сюда скоро прибегут на шум товарищи из соседних камер…» – подумал Николай. Вокруг него постоянно царило оживление, здесь собрались самые активные из декабристов, и остальные в шутку прозвали эту камеру «Великий Новгород». Соседнюю же окрестили «Псковом», потому что в этом городе, равно как и в Новгороде Великом, существовала республиканская форма правления. Только в Новгороде она просуществовала долго: с XII по XV век, а в Пскове – всего лишь с 1348 года до 1462-го… В третьей камере – «Москве» – жили по преимуществу молодые люди, выходцы из хороших семей, отличавшиеся барским поведением. Четвертая – «Вологда» – стала прибежищем представителей самых скромных сословий: мелких чиновников, безвестных гарнизонных офицеров, которые даже по-французски не говорили.
Николай был счастлив, что участвует в вече республики «Великий Новгород», потому что именно она задавала тон на всей каторге. Он посмотрел вокруг и заметил, что для большинства трапеза уже заканчивается. Жизнерадостный Лорер вытирал насухо миску корочкой хлеба; Завалишин, лохматый, мистически настроенный вегетарианец, приступил к чтению раскрытой на коленях Библии; толстый Нарышкин раскуривал трубочку, а князь Одоевский, поэт и на сегодня дежурный по кухне, собирал грязную посуду и относил ее к ушату с водой. Юрий Алмазов заговорщически посмотрел на Николая, и тот понял, что пришло время начать обсуждение волновавшей их проблемы.
– Друзья, а что вы думаете о нашей стычке с Проказовым? – громко спросил Озарёв.
– Думаю, что это весьма опасный дурак, который при первом же удобном случае непременно на нас отыграется за свое сегодняшнее поражение, – ответил Завалишин, не поднимая головы от Библии.
Теперь он сидел на кровати по-турецки. Волосы свисали занавесками по обеим сторонам его бледного лица.
– Это соображение можно считать второстепенным, – отпарировал Николай. – А я хотел бы привлечь ваше внимание к другому, куда более важному факту. Солдаты не подчинились Проказову, значит, солдаты на нашей стороне!..
– Ну и что дальше? – буркнул Нарышкин.
– А дальше… Хм, что дальше! Дальше, если дела обстоят таким образом, нам позволены любые, самые смелые надежды! Ну-ка расскажи о своей идее, Одоевский, развей ее!
Князь Одоевский – в фартуке, с засученными рукавами – окунул в это время в воду очередную тарелку. Он не торопясь помыл ее, вытащил, вытер полотенцем и только тогда сказал:
– Надо спросить у Якубовича – это же первоначально на самом деле его идея!
– Отлично! Сходи за ним в «Москву»! – предложил Николай.
– А если и другие «москвичи» за ним наладятся?
– Конечно же, пускай приходят! Какие у нас могут быть от них секреты!
– Заодно попроси их одолжить тебе чистое полотенце! – воскликнул Иван Пущин. – Поглядите только, какой грязной тряпкой он вытирает нашу посуду! Знаете, зачем? Да чтобы вы больше никогда в жизни кушать не захотели! И отныне один вид пищи станет вызывать у вас отвращение!
Одоевский пожал плечами и вышел, сопровождаемый громовым хохотом: судомойка, которую прогнали хозяева. Несколько минут спустя он вернулся вместе с еще более молчаливым, чем обычно, Якубовичем, князьями Трубецким, Оболенским, Волконским и с несколькими другими декабристами рангом пониже. Обитатели Великого Новгорода потеснились на кроватях и скамьях, чтобы новоприбывшим хватило места. Всматриваясь в лица молодых людей, отмечая про себя, как внимательно они прислушиваются и приглядываются ко всему, что вокруг происходит, Николай ощутил, что его переполняет какая-то довольно забавная смесь братских чувств и снисходительности. «Ах, конечно же, в этой компании не одни только герои, – думал он, – но ведь даже тех из нас, кто 14 декабря показал себя недостойными великой задачи, теперь не отличить от самых что ни на есть пламенных революционеров!» Никому нынче не придет в голову упрекнуть князя Трубецкого в том, что он скомпрометировал, по сути, все предприятие, растерявшись, «забыв» об избрании его диктатором, не явившись на Сенатскую площадь, больше того – принеся присягу императору Николаю, разве что Пущин посетует порой: Сергей Петрович, мол, вообще отличается крайней нерешительностью, и не в его характере было взять на себя ответственность ни за кровь, которой неминуемо суждено было пролиться, ни за беспорядки, которые столь же неминуемо должны были разразиться вслед за восстанием… Никто не упрекнет того же Якубовича за трусость в последнюю минуту – после его смехотворного фанфаронства – или Завалишина в игре на два фронта, в метаниях от императора к заговорщикам и обратно… Одно только то, что нерешительные, предатели, пустозвоны – все в равной мере хлебнули, в конце концов, суровости царя, заставляло товарищей простить их. Излишне строгое наказание приравняло всех, привело к общему согласию…
Князь Волконский склонил набок большую голову, став сразу же похожим на усталого попугая, и спросил:
– Не понимаю, о чем речь?
– Слово Якубовичу! – вместо ответа произнес Одоевский и вернулся к грязной посуде.
Якубович же присел на край стола, изобразил на лице решимость и отвагу, после чего повторил почти слово в слово все, что они с Одоевским объяснили Николаю в полдень у Чертовой могилы. Выслушав сообщение еще раз, Озарёв нашел предложение вполне приемлемым. Даже в большей степени, чем раньше. Естественно, оптимизма ему прибавило поведение солдат во время его стычки с лейтенантом Проказовым. Но, как и следовало ожидать, стоило Якубовичу умолкнуть, посыпались возражения.
– Допустим, нам удастся подчинить себе и обезоружить караульных, допустим даже, что нам удастся опередить преследователей на четыре-пять дней, а дальше – что? Куда мы пойдем? – поинтересовался князь Трубецкой.
– Если бы затруднения у нас были только с выбором маршрута! – вмешался Александр Одоевский. – Мы могли бы двинуться на юг, пройти по Маньчжурии до Китая…
– И как же будут счастливы китайцы, когда схватят нас и передадут русским! – отрезал Сергей Григорьевич Волконский.
– Можно спуститься на лодках по рекам Чите или Ингоде до места, где они впадают в Амур, а потом уже по Амуру… – предложил Николай.
– Да чушь это все! Несусветная чушь! Нас слишком много! Представьте себе эту флотилию, идущую по сибирским рекам! Вы знаете, во сколько оценят наши головы? И прибрежные жители будут стрелять по нашим лодкам! – закричал Трубецкой.
– Погоди, Сергей… Но потом… Предположим, достигли мы каким-то чудом океана… – смягчил гнев товарища князь Волконский. – И теперь как станем действовать?
– Поставим себе задачей перебраться в Америку, – воодушевился Николай, который вспомнил кабинет Рылеева накануне восстания, прикрепленную к стене карту Сибири, обозначенный на ней маршрут, по которому шли караваны с товарами Российско-американской компании… – Рылеев счел бы, что это самый подходящий вариант, – продолжил он. – Оказаться на Аляске или в Калифорнии – вот и спасение!
– Тут ничего не скажешь, это верно, – поддержал Озарёва Нарышкин. – Но ведь какой далекий поход! Надо одолеть половину Сибири, когда казаки следуют по пятам, убедить капитана достаточно большого судна, чтобы тот перевез нас на другой берег Тихого океана… Нет, господа, этот замысел, на мой взгляд, не выдерживает критики, я бы все-таки предпочел двинуться в сторону Европейской России…
– Конечно-конечно! Четыре тысячи верст до Урала – и везде посты, везде патрули… А если возьмем севернее, там ничего, кроме пустынной тундры… – с горечью сказал Юрий Алмазов. – Нет, друзья, сделать это – значит самим вырыть себе могилу! Но мне кажется, можно поступить умнее, – вдруг оживился он. – А если направиться к Аральскому мору, к Каспию… чтобы оказаться на Кавказе?..
– Да!.. Да!.. Кавказ – это великолепно! – воскликнули сразу несколько арестантов.
Лица у всех покраснели, глаза заблестели – как после доброй попойки. Даже изначальным критикам самой идеи вдруг повеявший аромат желанной свободы кружил теперь голову, декабристы кричали, перебивая друг друга… А Николай под эту разноголосицу вспоминал ночное бдение 13 декабря: его товарищи обсуждали сейчас планы побега с каторги с такими же легкомыслием и горячностью, с какими спорили тогда о шансах на победу государственного переворота.
– Но нас же никто не обязывает всех идти в одном направлении! – сообразил вдруг Юрий Алмазов. – Нам просто нужно собраться всем вместе, чтобы одолеть караульных, а потом мы можем и разделиться…
– Ну, конечно! И, разделившись, ослабить каждый отряд!
– В любом случае, господа, прежде всего нам надо выбрать главнокомандующего…
Они готовились к штурму Зимнего дворца… Были одни только офицеры… все в мундирах… Еще несколько минут – и князя Трубецкого выберут военным диктатором… При воспоминании о теперь уже далеком прошлом голова у Николая закружилась. Он посмотрел на свои оковы, но их оказалось недостаточно, чтобы прошло это волшебное опьянение. Его вместе со всеми остальными снова втянули в сказку, в сон, в мечту… Он знал, что мечта эта бессмысленна, что она опасна, однако не мог и не хотел избавиться от нее. Да и зачем? Поглядев вокруг, он заметил, что в сказку погрузились все, только женатые декабристы пока еще сопротивляются заговору, но тоже не слишком уверенно. Наконец, князь Волконский решился высказать вслух то, о чем думали, скорее всего, и остальные:
– А что станет с нашими женами, если мы все это осуществим?
Озарёв сразу вспомнил, что при первом упоминании о побеге сегодня утром он задал тот же вопрос. Однако ему не было необходимости обсуждать идею Якубовича и Одоевского с Софи, он и так знал, что жена, такая решительная, такая отважная, немедленно согласится убежать с каторги вместе с ним, больше того – перенесет без единой жалобы все тяготы похода, станет рисковать своей жизнью, своей свободой. Но, может быть, другие декабристки менее стойкие и выносливые?..
– Наши жены пойдут с нами! – воскликнул Николай.
– Куда? – спросил князь Трубецкой. – В тундру? В тайгу? Только представьте себе этих несчастных, вынужденных, как и мы, в течение долгих недель, а то и месяцев терпеть холод и голод, спать под открытым небом, чтобы в конце концов погибнуть под кнутом казаков или под стрелами бурят!
– Знаете, если представлять одни катастрофы, мы вообще никогда с места не сдвинемся! Наши подруги своим поведением доказали, на какие подвиги они способны!
– Не спорю, – пожал плечами князь Волконский. – Вот только именно после этих подвигов, именно после того, как наши жены принесли неслыханные, сверхчеловеческие жертвы, пожертвовали собственной свободой, собственной нормальной жизнью ради того, чтобы добраться к нам сюда, мы и не имеем права подвергать их снова испытаниям, причем куда более ужасным.
– Полностью согласен и присоединяюсь к вашему мнению! – воскликнул Иван Анненков.
– А у тебя вообще нет права голоса, – расхохотался Алмазов. – Ты пока не женат!
Анненков не принял шутки, он обозлился:
– В следующем месяце буду женат, дорогой мой, и ты это прекрасно знаешь. И как бы ни велико было мое стремление к свободе, я ни-ког-да не стану втягивать Полину в эту авантюру!
– Мне, друзья мои, кажется… нет, пожалуй, я полагаю… – произнес Завалишин, очевидно, впавший в религиозный экстаз, и возвел глаза к потолку, – более того, я уверен, что человек должен оставаться там, куда его поместил Господь!..
Спор с каждым мгновением становился все оживленнее. Вскоре все уже кричали. Постоянно входили новые гости, жители других камер, они какое-то время слушали, изредка вставляя пару слов, выходили, приводили друзей… «Великий Новгород» был уже битком набит людьми, полчаса спустя яблоку упасть было негде. Лица в сумерках становились неразличимыми. Стараясь перекрыть шумную невнятицу голосов, Фонвизин горделиво поднял свою большую голову с вихром на макушке и заорал:
– Холостяки могут уходить хоть все! Мы никому препятствовать не станем!
– Отличная идея! – сыронизировал Нарышкин. – А о репрессиях вы подумали? Тех, кто останется здесь, власти призовут к ответу за побег их товарищей!
– Естественно! – явно волнуясь, отозвался Трубецкой. – Нам придется заплатить за их свободу. Наверняка дисциплина станет более строгой, возможно, нам запретят видеться с женами…
Николай до того не задумывался о подобном исходе. Но ведь возможен, возможен! Он было расчувствовался, хотел признать правоту соперников в споре («Вечная моя мания становиться на место другого, чтобы лучше понять его точку зрения!»), но тут в разговор довольно грубо вмешался Якубович:
– Что за идиотизм! Просто глупость неимоверная! Когда это было, чтобы на каторге в случае мятежа те, кто в нем не участвовал и вообще с места не сдвинулся, отвечал за виновных?! Все происходит как раз наоборот! Умники и послушные получают благодарности от власть имущих!
– Господа! Господа! Дайте мне сказать! Я давно прошу слова! – взывал Никита Муравьев.
Он взобрался на стол, и воцарилась тишина. Лицо Никиты было бледным, вдохновенным, руки его дрожали, словно в приступе лихорадки.
– Хочу вам сказать вот что, – запинаясь, начал Муравьев. – Я, как вы знаете, женат, и женат счастливо. Но я считаю неправильным и недостойным отговаривать одиноких бежать с каторги под тем предлогом, что их побег может усугубить чье-то положение, что кого-то за это накажут! Все те, у кого, как и у меня, жены сейчас рядом, должны согласиться, что они счастливчики по сравнению с остальными. И мы меньше, чем кто-либо, имеем право жаловаться на судьбу! Сожалею, князь, о сказанном вами…
– Браво! – завопил Якубович.
Вокруг зааплодировали, затопали ногами, отчего цепи зазвенели особенно громко.
– Меня вам не переубедить, – вздохнул Трубецкой. – Кстати, если бы я не был среди женатых «любимцев судьбы», я точно так же кричал бы: «Опомнитесь, сорвиголовы вы этакие!»
– Вы нам уже кричали это 13 декабря 25-го года! – с вызовом произнес Юрий Алмазов.
Князь отпрянул, побледнел от сдерживаемой ярости.
– Если бы вы послушались меня 13 декабря 25-го, – тихо сказал он, – может быть, сейчас мы говорили бы не здесь…
– А если бы вы явились 14 декабря на Сенатскую площадь, может быть, сейчас мы бы правили Россией! – Алмазова явно занесло.
Окружающие оцепенели: им было интересно, как пойдет дело дальше, но от назревающей ссоры становилось тревожно. Спорщики мерили друг друга взглядами. Впервые за все время, что декабристы провели в Чите, кто-то решился упрекнуть несостоявшегося диктатора в том, как он повел себя в день восстания. Николай опасался, что, начнись настоящий скандал – от каждого только пух да перья полетят. А если это случится, прощай чудесное согласие, которое царило здесь до сих пор…
– На что вы намекаете? – прошептал Трубецкой еле слышно.
Алмазов, видимо, почувствовал, что продолжать опасно и что по его вине может разразиться буря, в которой пострадают многие, если не все, пожал плечами и буркнул:
– К чему ворошить старое? В конце концов, это все давно уже быльем поросло… И сегодня меня интересует не то, почему мы потерпели поражение тогда, в 1825 году, а как нам избежать такого же провала сейчас, в 1828-м!
Сергей Петрович успокоился – похоже, чересчур быстро для человека, которому не в чем себя упрекнуть. А поскольку все еще волновались, были возбуждены, хотя и старались этого не показать, и никто не осмеливался произнести последнее слово, Одоевский предложил прекратить на сегодня разговор.
– Идея ведь еще не оформилась окончательно. Надо подумать, обсудить, взвесить «за» и «против»…
– Как бы там ни было, я в любом случае требую полнейшей секретности! – снова принялся надрывать горло Якубович. – Пусть женатые сейчас же, сию минуту поклянутся, что ни слова не скажут своим женам!
Дурацкое предложение неожиданно, но своевременно разрядило обстановку. Тут уж никто не смог сдержать смех. Декабристы развеселились, развеселились, несмотря ни на что, и смеющиеся лица составляли странный контраст с засаленными изношенными тряпками, в которые они были одеты, в которых спали, ели, валялись на земле, работали… Мужья, один за другим, встали и принесли клятву.
Ночь приближалась, в коридоре зазвенели ключи охранников – пора было запирать камеры. Гости стали прощаться с хозяевами под крики унтер-офицера: «Быстро! Быстро по местам! Господа, время расходиться, прошу вас всех в свои камеры! Каждый к себе! Быстро! Быстро!» Клацнули дверные замки, лязгнули засовы, острог превратился в то, чем ему и полагалось быть: местом тюремного заключения, запертым на все запоры.
Растянувшись на соломенном тюфяке, Николай постарался устроиться поудобнее и тут вдруг почувствовал под боком маленький твердый предмет. Что такое? Пригляделся: косточка, которую кто-то обгрыз и оставил. В постелях часто находили объедки… Не прошло и пяти минут после отбоя, как обитатели «Великого Новгорода» уже похрапывали. Некоторые, правда, еще гремели цепями, ворочались с боку на бок, пытаясь, очевидно, переложить свои дневные заботы с одной стороны на другую… Хотя спор по поводу восстания на каторге ни к чему не привел, Озарёв не терял надежды на продолжение дискуссии. Не только в идее свободы, но и в надежде ее обрести для человека всегда содержится могучая сила притяжения, нисколько не меньшая, чем та, что заставляет камень катиться по склону горы, причем тяжелый камень устремляется вниз быстрее легкого… Разумен план побега с каторги или нет, но план этот уже проложил себе путь в умы и сердца арестантов. Даже те, кто сегодня против, завтра способны сказать «да, согласны!». Юрий Алмазов, чья кровать стояла по соседству с озарёвской, вдруг прошептал:
– Видел, как я поставил на место Трубецкого! Он давно меня раздражает своими манерами аристократа!
– Здесь никто не может быть рыцарем без страха и упрека по сравнению с другими, – отозвался Николай. – И первый наш долг – никогда не натравливать одних на других!
– Та-а-к… значит, ты считаешь меня обидчиком князя? Значит, по-твоему, я не прав!
– Почему же… По содержанию, скорее всего – прав, по форме – точно нет. Но думать ты можешь что угодно, а вот говорить об этом вслух, на мой взгляд, совсем не обязательно.
– А как ты считаешь, нам удастся побег? – резко сменил тему собеседник.
– Нельзя же, в конце концов, всю жизнь только и делать, что проигрывать!
– Ох, а я… – вздохнул Юрий, – я все-таки смотрю на это дело с известной долей скепсиса. И все думаю: не зря ли мы посвятили столько народу в нашу тайну?
– Ну а как иначе-то? Это необходимо, когда затевается предприятие, в котором придется участвовать всем.
– Конечно, конечно, – пробормотал Алмазов, но голос его прозвучал неуверенно.
Друг повертелся и заснул. Николай остался бодрствовать один – как утес в море. Он перебирал в уме фразы, сказанные в течение дня и особенно – вечера, и желание воевать за свободу росло в нем одновременно со страхом. А если и тут – одни химеры, а если мы опять строим воздушные замки? Безрассудство, горячность, наивность, присущие в равной мере его товарищам и ему самому, иногда представлялись Озарёву неким поразившим всю российскую элиту наследственным заболеванием. Неподалеку от него послышался шепот. Оказалось, Завалишин не спит – тихонько молится… Наверное, просит Господа, чтобы спас и сохранил… нет, чтобы вразумил и избавил от искушения рабов Божиих в Чите… Николай встал на колени и принялся молиться о том, чтобы Господь помог им сбежать с каторги.
2
Софи перечитала свое письмо родителям Юрия Алмазова, положила его в ящик стола, где уже собралась стопка подобных же эпистол, сотворенных ею по просьбе других заключенных, взяла чистый листок и принялась за послание сестре Василия Ивашева. Это был уже восьмой отчет за день – работа в принципе довольно нудная и тяжелая. Всем адресатам – одна и та же фраза в начале: «Видела сегодня Вашего сына (мужа, брата, кузена, или кто там еще бывает из родственников мужского пола), и он попросил меня передать Вам следующее…» А дальше она пыталась оживить в памяти голоса каторжников, наперебой старавшихся снабдить ее сведениями, которые надлежало донести до семьи. Но все это было действительно позарез необходимо: Софи понимала, что ее нынешняя работа помогает товарищам мужа сохранить связь с внешним миром – пока здесь других средств нет и быть не может. Вполне возможно, без нее и других преданных своему долгу женщин, приехавших сюда вслед за мужьями, декабристы были бы давно забыты всеми, ведь только эти отважные и стойкие женщины позволяют осужденным держаться на поверхности, а не кануть в Лету… Только благодаря восьми ссыльным, выбравшим эту участь по своей охоте, мужчины здесь не потеряли человеческой сущности, они говорят, они еще дышат…
Зная, что вся почта читается и визируется генералом Лепарским, Софи сдерживала вдохновение, не блистала остроумием и тщательно взвешивала каждое слово. Ей казалась странной эта переписка с множеством людей, которые никем не приходились ни ей, ни ее мужу, которые никогда ей не отвечали… и при этом так редко писать о себе, о своих заботах, о своих переживаниях… Письма, отправленные ею родителям во Францию, либо потерялись в пути, либо были арестованы цензурой, потому как мать и отец не подавали никаких признаков жизни. Зато она получала ежемесячно обширные послания от свекра, и тут уже не отвечала она сама. Софи не могла простить Михаилу Борисовичу его ненависти к Николаю, двойной игры, которую он вел, только чтобы избавиться от сына, доноса, присланного им иркутскому губернатору в надежде, что вернет ее назад, не допустит к мужу-каторжнику… Однако, если бы этот мерзкий старик, которого она просто на дух не переносила, вдруг перестал ей писать, она почувствовала бы себя несчастной и обделенной, ведь его послания были единственным источником новостей о том, как растет маленький Сереженька. Ребенку пошел уже третий год. «Он настоящий Озарёв, – хвастался дед. – Ничего от отца, весь в нашу родню!» Софи мечтала хоть когда-нибудь увидеть мальчика, которого доверила ей перед смертью Маша и которого теперь воспитывали, ласкали, окружали вниманием другие люди. Даже и сейчас то, что она, по сути, бросила малыша, тяжким бременем лежало на ее совести. Унесенная потоком воспоминаний, молодая женщина застыла с пером в руке, а когда вернулась к написанному, то плохо понимала, кому именно она это сообщает: «Ваш брат будет очень счастлив, если получит от вас французский словарь, в котором он крайне нуждается…» Кто бы это мог быть?.. Ах да, бедняга Ивашев!.. Такой милый мальчик… Но, конечно, как и все, с кучей проблем… Что за тоска! Устав от всего передуманного и пережитого, Софи сдвинула бумаги и откинулась на спинку стула. Хватит заниматься чужими делами! Ей внезапно почудилось, будто она куда более одинока, чем любой из тех, чьи судьбы она взяла на себя обязанность устраивать. Комнатушка с обшитыми дранкой, но неоштукатуренными стенами, с низким почерневшим от копоти потолком, была темной, хотя за окном вся деревня купалась в солнечных лучах. Сегодня день посещений. Осталось около часа до прихода Николя. Ей вдруг ужасно захотелось написать Никите и попросить, чтобы рассказал, как он там, в Иркутске, что нового. Но она одернула себя, напомнив, что только время потеряет. Не стоит труда!.. Софи уже три раза отправляла ему весточки, но все три остались безответными. Заблудились в пути, что ли, или были перехвачены полицией… Писала она и своему гостеприимному хозяину-французу, Просперу Рабудену – тот, по крайней мере, отозвался, но говорил совсем не о том, о чем она его спрашивала, – можно подумать, будто он вообще никогда не слышал имени Никиты, не было у него такого работника, в жизни такого не встречал! Единственное тому объяснение: трактирщик боится привлечь к себе внимание властей, называя имя Никиты в ответном письме. Наверное, безрассудный парень совершил еще какую-то промашку, какую-то глупость, и теперь лучше забыть о его существовании. А она-то, она продолжает настойчиво выспрашивать, что с ним сталось, настаивает с риском для его жизни – и теперь уже лишь из своего собственного безрассудства! Как трудно привыкнуть к мысли, что шпионы суют нос в твою корреспонденцию и, демонстрируя повышенный интерес к кому-то, ты можешь только повредить ему, как трудно привыкнуть к мысли, что ее дружба теперь опаснее ненависти, что она теперь – хуже зачумленной! Кошмар!..
Софи решительно придвинула к себе письмо сестре Ивашева, оставшееся незаконченным. Добавила пару строк банальностей и… и перед ней снова вырос Никита… высокий, широкоплечий, мускулистый, с золотистыми волосами, ясным выражением лица, глазами фиалкового бархата, излучающими несказанную ласку… Каким он был чудесным спутником в этом долгом и трудном путешествии! Никакой не крепостной, не раб, не слуга – доверенное лицо, почти что близкий друг! Она пожалела, что ее вынудили бросить его в Иркутске из-за того, что в противном случае пришлось бы задержаться там и не скоро приехать к мужу. Но сразу же она и поздравила себя с тем, что нашла Никите такое хорошее место работы. Наверное, у Проспера Рабудена со временем он перешел в официанты, ему отлично платят… Закончив письмо, Софи почувствовала такое облегчение, будто отправляла его не сестре Василия Ивашева, а Никите, как будто он сможет прочитать между строк все ее тайные мысли… В дверь постучали, и ее это сильно удивило, она не ждала Николая так рано. Вскочила, глянула в зеркало – так и есть, растрепанная, не успела причесаться! Что ж, тем хуже… Открыла дверь, надеясь увидеть мужа, но перед ней стояли три подруги-декабристки.
– Знаете новость? – спросила Мария Волконская. – Посещения отменили!
Софи на мгновение онемела, неспособная понять, что происходит в ее душе: никакого протеста, который можно было бы предвидеть, одна только покорность судьбе. Услышав о том, что свидание с Николя сегодня не состоится, она почувствовала какой-то внутренний холодок и небывалую легкость.
– А почему? – тихо-тихо спросила Софи.
– Да по причине этой глупейшей позавчерашней истории с лейтенантом Проказовым! – воскликнула Каташа Трубецкая. – Мы только что, причем случайно, узнали эту новость в разговоре с Ватрушкиным. Но нельзя же нам с подобным соглашаться!
– Да, да, надо немедленно идти с протестом к генералу Лепарскому, – поддержала Трубецкую Александрина Муравьева. – Просто сейчас же идти!
Захлебнувшись в этом потоке слов, Софи никак не могла заставить себя возмутиться. Единственное, что удалось выговорить, было:
– А на какой срок распространяется наказание?
Мария Волконская изумленно на нее уставилась:
– Какая разница?! Ну, на один сегодняшний день! Этого вполне достаточно!
– А-а-а… я просто боялась… – промямлила Софи и не закончила фразу.
«Значит, вот каковы истинные масштабы случившегося… Досадно, конечно же, но ведь на будущее наказание никак не влияет, а это уже отрадно… За Николя обидно, разумеется, ему сейчас тяжело, грустно, и меня тоже расстраивает его печаль… Он ведь с таким нетерпением ждет свидания со мной, и сегодня ждал… Надо, пожалуй, как-то успокоить их…» – решила Софи и произнесла с улыбкой:
– Если мы будем слишком часто являться к Лепарскому с протестами, мы рискуем лишиться его доброжелательного отношения к себе, разве не так? Может быть, лучше приберечь наше возмущение властями для более серьезного случая?
– Как?! Случившееся представляется вам не очень серьезным случаем? Обычным происшествием? – Екатерина Трубецкая не могла поверить своим ушам, ее короткая шея словно вытянулась, круглое лицо налилось краской. – Поразительно слышать это от вас, дорогая! Для меня все, что касается моего права видеться с мужем, – священно!
– Но… но для меня тоже… – пробормотала Софи.
Она чувствовала себя виноватой, нельзя было таких возбужденных женщин обливать холодным душем… Теперь они смотрят на нее строго, во взглядах подозрение! Вообще-то это просто смешно! Тем не менее…
– И, естественно, если вы решите пойти к Лепарскому, – добавила Софи, – я пойду с вами.
– Мы не хотим никого вести силой! – Мария Волконская явно обиделась.
Софи взяла накидку и вышла вслед за подругами из дома. Изба за избой, дамы обошли всех обиженных сегодня властями жен, и в «предбаннике» генеральского кабинета аудиенции дожидалось уже семеро декабристок. Их заставили потомиться три четверти часа – наверное, в надежде, что за это время уляжется их боевое настроение, однако, когда дверь кабинета распахнулась, они все семеро так решительно сделали шаг вперед, что увечный солдат, который был сегодня дежурным, отпрянул к стене и зажмурился, испуганный таким количеством колышущихся юбок. Лепарский, затянутый в зеленый кавалерийский мундир, сидел за письменным столом, но поднялся, когда вошли дамы, выпятил похожую на витрину с безделушками грудь в орденах, нахмурил брови, чтобы сделать взгляд суровым. Морщины на стариковском лице генерала выглядели грубыми швами. Съехавший низко на лоб пепельный парик походил на шапку.
– Извольте присесть, сударыни… – сказал комендант.
Но кресел оказалось всего четыре. В конце концов, после долгого обмена взаимными извинениями и прочими вежливыми словами обе княгини – Волконская и Трубецкая, Александрина Муравьева и Наталья Фонвизина оказались в креслах, а три оставшихся без места и потому стоявших дамы – за спинками этих кресел. Со стороны могло показаться, что выстроившиеся таким образом в две шеренги посетительницы сейчас запоют хором. Сигнал к началу выступления подал Лепарский, произнесший все тем же тоном ледяной корректности:
– Могу ли я узнать, чему я обязан чести видеть вас у себя, сударыни?
Ответом действительно стал хор – декабристки на семь голосов осыпали коменданта упреками. Он отпрянул – генералу почудилось, что семиглавая гидра сейчас выплюнет ему в лицо семь языков пламени. Однако он уже привык к подобному – не проходило недели без того, чтобы эти дамы не потребовали принять их, да и выражения вроде «беспрецедентный скандал», «нравственная пытка» или «жалоба в высшие инстанции» звучали слишком часто. Возмущаясь вслед за остальными, Софи все-таки не могла не восхищаться терпением хозяина кабинета. Она смотрела на желтую соломенную шляпку с голубыми лентами, в которой пришла сидящая теперь перед ней Каташа Трубецкая, и чувствовала, что не может душой присоединиться к этому бабьему гвалту. Внезапно шум был перекрыт голосом Марии Волконской:
– Знаете, вы кто, генерал Лепарский? Вы – новый Гудсон Лоу![1]
Остальные временно затихли, настолько их удивило это заявление. Пауза была достаточно долгой и показалась Софи предвестием бури. М-да… Мари зашла чересчур далеко!.. Генерал Лепарский задумался, опустив голову, и видно было, что раздумья у него сейчас весьма непростые. «Наверное, пытается уразуметь, бедняга, что общего можно у него увидеть с тюремщиком Наполеона!» – подумала Софи. Но вот он поднял глаза, выражение лица его стало насмешливым, кончики завитых усов задорно вздернулись.
– Сударыня, – сказал Лепарский, – ваше восхищение супругом, увы, стало причиной заблуждения. Разумеется, для вас, сударыня, ваш супруг – Наполеон, но это отнюдь не означает, но это не причина для того, чтобы видеть во мне Гудсона Лоу. Если бы на моем месте был упомянутый вами господин, ответом на ваши инвективы, несомненно, стал бы строгий запрет на свидания с императо… пардон, с князем в течение, по крайней мере, шести месяцев. У вас, простите, слишком короткая память, мадам! Вы слишком быстро забыли, сколько я дал вам послаблений, как я старался облегчить вашу участь, закрывая глаза на многое!..
– Отнюдь вы не закрывали глаза, сударь, – воскликнула Екатерина Трубецкая, – раз мы сегодня расплачиваемся за то, что позавчера говорили через ограду с нашими мужьями!
– Такие поступки противоречат регламенту!
– Но мы их совершаем каждый день и не первый месяц!
– Я ничего не сказал бы, если бы лейтенант Проказов вас не заметил…
– Да он же настоящее животное! – вскричала Софи. – Вы знаете, как он грубо, непростительно грубо вел себя со мной! Он хватал меня за руку, он угрожал мне… угрожал…
– Да, я знаю, – перебил ее Лепарский. – Мне все известно, и я уже отправил его под арест. Но, видите ли, если я наказываю лейтенанта за грубость и за превышение власти, то не имею права не наказать и вас за ослушание.
– Обязаны! Интересно, кто наложил на вас подобные обязательства!
– Что значит – кто?.. Кто… Моя собственная совесть – совесть офицера и коменданта!
Дамы обменялись понимающими улыбками. Генерал смотрел на них с грустью, так, будто уличал в неожиданной для него жесткости: неужто они полагают, что комендант, решающий судьбы каторжников, не может быть совестливым?..
– И все-таки у вас, генерал, не хватит духа утверждать, что все здесь не зависит только от вашей доброй воли! – сказала Софи.
– Господи, что ж вы не знаете, что здесь, как и везде, все зависит и все зависят от Санкт-Петербурга! – удивился непониманию такой простой вещи Лепарский.
– Санкт-Петербург в шести тысячах верст отсюда, – упрямилась княгиня Трубецкая. – Из подобной дали не видно, что происходит в вашем ведомстве!
– Ошибаетесь, княгиня! «В подобной дали» не упустят ни единой подробности моего поведения! За мной постоянно шпионят!
– Кто может шпионить за вами!
– Что за наивность, мадам! Ясно же кто: мои подчиненные. Доносительство развито везде, на всех уровнях. И мне, увы, приходится куда больше опасаться тех, кем я командую, чем тех, кто командует мной.
Софи вначале подумала, что у коменданта мания преследования, потом поняла, что действительно вся российская власть держится на этом – испытываемом каждым, любого ранга чиновником – опасении, что всякий может на него донести. Прочность империи обеспечивается вовсе не сплоченностью ее подданных, но – взаимными подозрениями. Они живут в вечном страхе, в вечной тревоге и глаз не сводят с вершин власти, – так вглядываются в тучки небесные жители долины, когда хотят предугадать завтрашнюю погоду.
– Но вы же не хотите сказать, что о позавчерашнем инциденте могут доложить императору? – усомнилась Александрина.
– Именно это я и хочу сказать, сударыня! Отсюда без конца отсылаются в столицу тайные донесения. Храни нас Бог от следственной комиссии, способной внезапно нагрянуть в Читу! Собрав множество доказательств моей излишней к вам снисходительности, меня в этом случае перевели бы в другой гарнизон, а на мое место назначили более властного, авторитарного генерала. И, уж поверьте мне, он не стал бы выслушивать и десятой части того, что вы мне успели наговорить! Он установил бы поистине железную дисциплину. И ваша жизнь превратилась бы в ад… А у вас хватает совести говорить о Гудсоне Лоу!..
Он выдохся и умолк. Единство дам поколебалось. Несколько сердец забилось в унисон с генеральским: признание Лепарского в своей слабости оказалось эффективнее, чем была бы демонстрация силы. Однако Мария Волконская устояла перед чарами коменданта.
– Словом, – презрительно сказала она, – вы опасаетесь за свою карьеру!
– Моя карьера закончена, – устало произнес генерал Лепарский. – Мне, сударыня, семьдесят четыре года. Ни знаки отличия, ни ордена больше меня не интересуют. И я уже ни о чем не мечтаю, кроме вечного покоя…
– В таком случае вам незачем беспокоиться о том, что о вас подумают царь или Бенкендорф! Беспокоились бы о том, что о вас подумает Господь Бог! – не унималась Мария.
– А кто вам сказал, что Господь Бог не на стороне царя и Бенкендорфа?
– Мне это сказало, господин генерал, все, что я, да и все мы знаем об Иисусе Христе! – совсем уже раззадорилась княгиня Волконская.
Она встала, юбки волнообразно колыхнулись. Высокий рост, смуглое лицо, огненный взгляд черных глаз… «Красивая, но не обаятельная», – подумала Софи. Каташа Трубецкая и Александрина Муравьева были, по ее мнению, куда привлекательнее именно своей мягкостью и сдержанностью.
– Обещаю, что в дальнейшем ваши встречи с мужьями будут проходить в нормальном режиме, – спокойно ответил на выпад Лепарский. – Простите, это все, сударыни. Мое время вышло. Аудиенция окончена.
– А вы не могли бы, Станислав Романович, все-таки отменить ваше решение и позволить нам с ними увидеться еще сегодня, до захода солнца? – попросила Наталья Фонвизина.
Этого уже и Лепарский не мог выдержать. Он сказал сухо: «Я никогда не пересматриваю уже принятых решений. Дисциплина… всем следует соблюдать дисциплину, даже вам, сударыни!» – и, прихрамывая, направился к двери на кривых кавалерийских ногах… Аудиенция и впрямь была окончена. И послужила она лишь тому, что генерал теперь оскорблен, а декабристки убедились в своем бессилии изменить положение вещей. Они, стараясь не утерять достоинства, потянулись к выходу. Когда Софи уже ступила за порог, комендант окликнул ее:
– Задержитесь на минутку, мадам Озарёва, я хотел бы переговорить с вами отдельно.
Она в последний раз взглянула на пестрые платья, образовавшие за дверью пышный букет, потом дверь захлопнулась, и Софи осталась наедине с генералом в лишившемся красок мире. Он со вздохом вернулся за письменный стол, она села в не остывшее еще после Каташи Трубецкой кресло.
– Прошу извинить заранее, что вынужден решать с вами финансовые проблемы, сударыня, – сказал Лепарский, – но закон предписал мне быть вашим банкиром.
Софи улыбнулась и кивнула головой. Действительно, установленный порядок требовал, чтобы деньги каторжников и их жен хранились у коменданта каторжной тюрьмы, выдавались на руки мелкими суммами, и требовалось всякий раз объяснять, на что намереваешься их потратить. А кроме официально заявленного капитала, у каждой из женщин было еще по несколько тысяч рублей, которые они прятали в тех избах, где жили. Софи, сильно поиздержавшаяся за время путешествия и не получавшая никакой денежной помощи из России, принадлежала, естественно, к самым бедным: она рассчитала, что при суровой экономии средств ей хватит на жизнь еще в течение шести или семи месяцев, не больше. Ну, а потом, наверное, она должна будет найти работу, способную прокормить. Но чем ей заниматься в этой глухой деревне, жители которой настолько нищие, что им не оплатить никакой услуги? Вот она – главная забота на будущее! С Николаем об этом она говорить избегала…
Генерал достал из ящика какую-то бумажку, нацепил очки с треснутым стеклом, сморщил нос, чтобы они не сползали, и спросил:
– Знаете ли вы, сударыня, сколько денег на вашем счету?
– Четыреста семьдесят семь рублей, – ответила Софи.
– Отлично! А теперь я должен выполнить чрезвычайно приятную миссию: извещаю вас, что мною только что получены специальной почтой пять тысяч рублей на ваше имя…
Софи так удивилась, что даже обрадоваться сразу не смогла.
– Наверное, тут какая-то ошибка, ваше превосходительство! – пробормотала она.
– Никакой ошибки!
– Кто мог прислать такую сумму?
– Ваши родственники.
– Родители?! Из Франции?!
– Да, родители, но не совсем из Франции. Они написали вашему свекру и поручили ему…
Она в бешенстве оборвала губернатора:
– Все это ложь!
– Помилуйте! Михаил Борисович Озарёв сопроводил деньги письмом, в котором объясняет…
– Он лжет!
– Ну, почитайте сами…
Генерал протянул ей лист бумаги. Она узнала почерк старика и оттолкнула письмо.
– Он лжет! – повторила Софи. – Цензура не позволяет ни мне писать родителям, ни им писать мне. Между Францией и Сибирью не существует в этом смысле никакой связи, и потому мои родители понятия не имеют даже о том, где я сейчас нахожусь. Еще меньше я верю в то, что они могли прислать деньги…
– Конечно же, прямо вам не могли! – усмехнулся Лепарский. – И никто не говорил, что это так. Не имея возможности связаться с вами, ваши родители обратились к Михаилу Борисовичу Озарёву за новостями о вас и попросили вашего свекра переслать сюда все, в чем вы могли бы нуждаться…
– А я вам говорю, что эти деньги не от них, а от него самого!
– Да зачем ему прятаться за спины ваших родителей?
– Потому что он знает: от него я и гривенника не возьму!
– Отчего же?
Софи просто уже трясло от бешенства, и чем больше она старалась овладеть собой и успокоиться, тем сильнее ощущала, насколько все это ее раздражает и насколько она слаба…
– Оттого только, что он вел себя по отношению ко мне и к своему сыну гнусно, гадко, непростительно мерзко!
Лепарский немного подождал, надеясь, что Софи уточнит свои обвинения, но, в конце концов, понял, что этого не произойдет, и тихонько произнес:
– Видите ли, госпожа Озарёва, сколь бы ни была велика провинность вашего свекра, я не могу одобрить того, что вы делаете сейчас. Даже если бы я был совершенно уверен, что деньги присланы лично им, я и тогда сказал бы: Михаил Борисович хочет – пусть на свой манер – показать вам, что раскаивается в содеянном, а значит, вы как христианка не имеете права помешать человеку исправиться, замолить грех благодеянием. Но ведь, что бы вы ни думали, остаются сомнения: а вдруг все-таки эти деньги присланы вашими родителями? В подобном случае, отвергая их, вы совершаете преступление, да и глупо это все… Получается, хоть так, хоть так, вам следует их принять!
Софи замотала головой, яростно показывая: нет, нет и нет! Но тем не менее практичным своим умом она понимала, что комендант рассуждает верно. Лепарский об этом догадался и заговорил уже более громко и уверенно:
– Признайте же: вы упрямитесь только из гордости!
– Возможно… Однако гордость – это все, что нам остается. Нам, отверженным. Ради Бога, не предлагайте нам с нею расстаться!
– Говоря так, вы думаете только о себе!
– Мне-то казалось, наоборот, потому что…
Генерал не дал ей договорить:
– Ах, сударыня, ах, дорогая моя мадам Озарёва, как же легко вы выходите из себя и как же легко вы поддаетесь иллюзиям!.. Вы забываете, что благополучие, не только благосостояние вашего мужа и его товарищей зависит от суммы, которую каждый вносит в общий фонд. Разве вы не понимаете, что трагическая ситуация, в которой вы все волею судеб оказались, должна возвысить вас над мелкими семейными неурядицами? Разве вам не следует забыть в Чите обо всех распрях из-за первенства, обо всех амбициях, обо всех уколах, нанесенных самолюбию? Разве не утихло навеки злопамятство прежних дней? Разве вы не ощущаете, что стали выше всего этого? Разве не стало для вас самым важным, самым существенным одно-единственное: добиться любыми способами возможности осуществлять поистине братскую взаимопомощь в среде тех, кого общая беда свела здесь, на каторге?
Она не сказала ни слова, но урок был принят ею с какой-то стыдливой, но пылкой признательностью, которую она сдерживала, потому что остатки гордости мешали вслух признать правоту Лепарского. А генерал ловко помог собеседнице уклониться от этого.
– Впрочем, – непринужденно продолжил он, – я ведь и не спрашиваю вашего мнения по этому поводу. Я уже внес в кассу пять тысяч рублей на ваш счет. И вы можете теперь поступать с ними как угодно: хотите истратить – тратьте, хотите, чтобы лежали там, на счету, пусть лежат…
Его ворчливо-властный тон вернул ей спокойствие. Больше не хотелось думать о последствиях, каких-то практических выводах, она испытывала глубокое облегчение, граничащее с надеждой. Еще немного – и она начнет его благодарить… Она встала, взволнованная, смущенная… Но он посмотрел на Софи поверх очков с ласковой насмешкой и неожиданно спросил:
– Вы очень торопитесь, сударыня?
– Н-нет…
– Уделите мне тогда, пожалуйста, еще минут пять… Я… Я, так сказать… я нуждаюсь в одной услуге… или лучше… мне нужен ваш совет…
Софи не могла скрыть удивления этим всемогущим человеком, который обращается к ней за содействием.
– Генерал! Я даже не представляю, чем – в своем-то нынешнем положении – могу быть вам полезна!
– Да я насчет бракосочетания Анненкова и Полины Гебль. Понимаете, я согласился быть у них посаженым отцом, как положено по православному обычаю…
На самом деле всем было известно, что Лепарский сам попросил взять его в посаженые отцы, чтобы показать таким образом, что расположен к декабристам, снисходителен к ним, Анненков же не решился ответить отказом на подобную милость, хотя она его и стесняла.
– Поздравляю, ваше превосходительство! – уклонилась от прямого ответа Софи.
Он покашлял, потеребил очки, затем, сокрушенно вздохнув, наконец выговорил:
– Но я же… я же католик!.. И я никогда подобного не делал!..
– Так что, вы просто хотите узнать, что входит в ваши задачи на свадьбе?
– Вот именно! Я, конечно, мог бы справиться у этих господ… но… ох, признаюсь, я так боюсь их удивления, улыбочек… А вы, раз вы сами католичка, наверное, лучше меня поймете…
Софи расхохоталась.
– Право, генерал, не беспокойтесь, вам совершенно не о чем тревожиться! Ваша роль будет проще некуда!
Объясняя коменданту, что ему придется делать во время венчания, она подумала, не притворяется ли Святослав Романович непонятливым только ради того, чтобы продлить разговор. И тут же насторожилась. Если уважение заключенных к их тюремщику и тюремщика к заключенным еще как-то возможно, то о взаимном доверии даже вопроса не возникает! Каким бы Лепарский ни выглядел приветливым, как бы ни был вежлив с ними, здесь он прежде всего затем, чтобы помешать другим людям жить свободно. А когда он пытается с ними сблизиться, какие могут быть сомнения в том, что его симпатия большею частью зиждется на профессиональном любопытстве… И, окружая их заботами и вниманием, он попросту хочет разоружить недовольных. Все эти мысли промелькнули в голове Софи с немыслимой скоростью, и отсвет их, вероятно, появился в глазах, потому что генерал внимательно посмотрел на собеседницу, похоже, догадался, о чем она думает, и помрачнел. Лицо его сразу же отвердело, приобрело строго официальное выражение, он поклонился Софи и сказал:
– Благодарю вас, сударыня, и не смею больше задерживать. Не забудьте, что почта уходит послезавтра, и если у вас есть письма для передачи мне…
Она молча вышла. А комендант, вместо того чтобы сесть за стол, принялся мерить шагами комнату, раздувая ноздри и вдыхая тонкий аромат, перекрывавший устойчивую смесь запахов пыли, заплесневелой бумаги, сапог и армейского сукна, постоянно царившую в его кабинете. Дамы, явившись ненадолго, оставили после себя это еле уловимое воспоминание, хотя – тут уверенность генерала была полной и обоснованной! – ни одна из них не употребляла духов. Это, думал он, их природный аромат, так пахнут существа высшей породы. Он мысленно проводил сравнения и пытался понять, какой из них отдает предпочтение. Из этой восьмерки… Из этих восьми дам, куда более смелых, предприимчивых и скорых на решения, чем все его заключенные, вместе взятые. Их невозможно унять, эти ершистые, непримиримые создания, доставляющие ему столько хлопот! Какие тут могут быть сомнения: они просто отроду не способны соблюдать дисциплину. Малейшее противоречие – и вот они уже ощетиниваются всеми колючками, ни на одну уступку не идут, ни одна уступка с его стороны их не устраивает, и они поднимают крик, жалуясь на несправедливость. Задерганный ими, он тратит уйму времени на попытки согласовать суровость регламента с собственным желанием сделать им приятное. Иногда удается, но, как ему кажется, ни одна из них не испытывает к нему благодарности. Но это явное безразличие не обескураживало генерала, и он ни за что не променял бы свою трудную ситуацию на какую-то другую, более спокойную.
Что за странный финал у его карьеры! Поляк, воспитанный иезуитами, Лепарский завоевывал одну награду за другой, переходил со ступени на ступень, получал в императорской армии одно звание за другим, чтобы после пятидесятилетней службы получить в командование Северский конно-егерский полк. А когда Лепарскому исполнилось семьдесят два года и генерал-майор уже готовился уйти в отставку, царь Николай I – государь в бытность свою великим князем шефствовал над этим полком и потому хорошо знал, насколько честен и исполнителен его командир, каким гибким способен быть в отношениях с подчиненными, – пригласил верного слугу отечества к себе и попросил принять этот ужасный пост в Чите… Именно – попросил! Разве можно забыть эти два часа наедине с государем!.. До сих пор, вспоминая его голос, его слова, генерал с трудом побеждает волнение. «Станислав Романович, прошу вас, докажите последний раз свою преданность! Забудьте о возрасте! Поезжайте в Сибирь! Да хранит вас Господь!..» Потом император поцеловал его и подарил табакерку. Лепарский погладил лежавшую в кармане драгоценную вещицу – он никогда не расставался с ней.
Подъезжая к Томску, новый комендант Нерчинских рудников готовился взять в свои руки дело трудное, беспокойное и неприятное – до сих пор ему ни за кем надзирать, слава Богу, не приходилось. Но все получилось иначе. В первые же дни его покорили те, кто подлежал наблюдению, – среди каторжников здесь не оказалось никого, кроме молодых людей из хороших семейств, воспитанных, культурных… Получалось, что государь в приступе слепой ярости лишил Россию лучших ее сынов, истинной элиты: офицеров, писателей, историков, математиков, моряков, ученых, которые могли бы трудиться на благо родины, а теперь вынуждены в глубине Сибири пересыпать туда-сюда песок… Но сила их интеллекта оказалась такова, что и в Чите им удалось создать маленькое общество, и – вопреки скудости существования – обеспечить себе и близкому окружению жизнь вполне духовную. Они обменивались идеями, и дискуссии между ними бывали порой столь жаркими, что казалось: для каждого самое главное в жизни – наставить соседа, указать ему путь истинный. Порой Лепарский сожалел о том, что нет возможности отправить в Санкт-Петербург доклад об этом очаге просвещения посреди этой пустыни. Его иногда обвиняли в излишней симпатии к государственным преступникам, а на самом деле он чаще всего воспринимал их как своих детей. А особенно живые родительские чувства питал даже не к ним самим, но к их женам. Генерал, который никогда не был женат, оказался вдруг в семьдесят четыре года отцом восьми совершенно невыносимых дочек, – и как же его трогала их молодость, как восхищался он мужеством, отвагой, независимостью декабристок… Ему нравилось даже, когда, нарушая строгость обстановки, в кабинет врывался вихрь светлых платьев, когда звучал нестройный хор мелодичных голосов… Его не стеснялись побеспокоить, его бранили, его дразнили, ему дарили улыбки, на него дулись – а назавтра он обнаруживал букет полевых цветов, украсивший письменный стол. Кто принес? Какой-то деревенский мальчишка, отвечал в таких случаях дежурный, и больше ничего узнать не удавалось. Ну а зачем? Ему надо было получить должность управителя каторгой, чтобы ощутить наконец, что он не одинок на земле… «Вот она, настоящая семейная жизнь», – думал он, чувствуя, как вот таким вот странным путем осуществляется мечта, которой он и не высказывал вслух никогда, и нежная улыбка расцветала на его губах.
Лепарский открыл папку с письмами жен его подопечных – это урожай за неделю. По существующим правилам, коменданту следовало каждое прочесть, завизировать и только после этого отослать на почту. Презирая навязанную ему чисто сыскную обязанность, Станислав Романович, тем не менее, испытывал несказанное удовольствие, продвигаясь все дальше в исследовании личной жизни ссыльных супружеских пар.
Он разложил перед собою листочки: каждый был исписан сверху донизу, везде почерк разный, но везде – женский, а значит – изящный, летящий, дерзкий, буковки то заостренные, то, наоборот, выкругленные, у кого как… Как гурман, уже обвязавший шею крахмальной салфеткой, колеблется, созерцая притягательные блюда, так и он – не знал пока, с которого послания начать. Живость стиля Марии Волконской добавляет остроты в самые банальные истории, Полина Гебль отличается незаурядным юмором, Александрина Муравьева, кажется, самая из дам поэтичная… Как жаль, что мадам Озарёва еще не успела закончить писем – наверное, завтра принесет, да, конечно, завтра… В конце концов, генерал решил положиться на случай, перетасовал конверты и, сложив их в стопку произвольным порядком, стал брать по очереди. Пролистывая письма страницу за страницей, он узнал, что Екатерине Трубецкой позарез необходима «самая мягкая ткань» на ночную сорочку, что Завалишин собирается переводить Библию с иврита на русский, что госпожа Фонвизина две ночи подряд видела во сне черную кошку на белом-белом снегу, и это, нет сомнений, дурной знак, что у Якушкина проблемы с пищеварением, Одоевский умирает от скуки и, чтобы выжить, ему нужны книги, а Полина Гебль безумно счастлива тем, что выходит замуж, а ее платье, которое она, разумеется, сошьет сама, будет просто великолепным – «с заложенным мелкой складочкой лифом, пышными рукавами и подхваченными снизу драпировками на юбке»… Помимо всего остального, эти дамские исповеди рассказывали своему «цензору» не только о читинских событиях, но – посредством игры в вопросы-ответы – о жизни адресатов в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове. Он теперь путешествовал со скоростью мысли и везде чувствовал себя как дома. Он приподнимал крыши домов, как повар крышки кастрюль, заглядывал, пробовал на вкус кипящее там варево из споров, утешений, советов, матримониальных планов, надежд, чьих-то болезней и чьих-то выздоровлений, чьих-то финансовых удач и чьих-то денежных затруднений, знакомился с бабушками, дядьями, кузенами, внезапно и всегда с огромным удивлением понимая, что всего за четверть часа ухитрился прожить добрых пять десятков жизней… Как только письмо переставало быть для него интересным, он перекладывал его налево. Стопка росла… Вскоре Лепарский почувствовал усталость, от этого калейдоскопа перед глазами поплыли серебристые мушки… В дверь постучали – пришел его племянник, Осип Лепарский, туповатый, неотесанный, слабый здоровьем и постоянно хмурый молодой человек, которого он в Чите взял себе адъютантом.
– Давайте, я помогу вам, дядя, – сказал Осип, присаживаясь к краешку стола и придвигая к себе стопку писем с намерением их изучить. Увидев, как пухлые лапы племянника теребят исписанные листочки, Лепарский-старший нахмурил брови. Ему стало неприятно – как было бы, если бы какой-нибудь грубиян осмелился в присутствии генерала дотронуться до «его» дам. Он хотел один владеть их тайнами, какого черта, мысленно выругался Станислав Романович, какого черта я сам когда-то попросил этого дурака помочь с чтением писем?!
– Вы читали вот это, от Александрины Муравьевой? – спросил Осип. – Просто прелесть!
Что он мог там понять? Александрина пишет по-французски, а он двух слов на этом языке связать не способен. Фу! Он не быстрее улитки ползет взглядом по бумаге и все пачкает слизью! Какая гадость!
– Отдай! – комендант накрыл письмо ладонью. – Я сам дочитаю.
– Но, дядюшка!..
– Отдай, говорю!
Он вырвал письмо из рук племянника. Осип изумленно уставился на дядю. Генерал сразу же пожалел о том, что поддался настроению и сам проявил грубость, передал адъютанту несколько папок с деловыми бумагами и предложил отправиться с ними в соседний кабинет. Там, дескать, будет удобнее изучать документы. Часом позже, когда дневальный зашел к коменданту зажечь лампы, он обнаружил, что начальник сидит в подвинутом к окну кресле, на кончике носа – очки, на губах – странная улыбка, на коленях – какое-то письмо, а другие письма рассыпаны по ковру…
3
Екатерина Трубецкая, Мария Волконская и Александрина Муравьева взяли с собой на каторгу каждая по две служанки. Однако преданность этих девушек не выдержала испытания, которому подвергла их жизнь в Чите. Едва горничные увидели своих хозяек скромно одетыми, в убогих жилищах, а их мужей – закованными в цепи, словно злоумышленники, – их уважение к господам испарилось. Теперь служанки могли ответить на просьбу дерзостью, пренебречь заданием, вообще отказаться работать, а большую часть времени они проводили где-нибудь рядом с караульными, строя глазки и принимая зазывные позы… А уж когда они познакомились с унтер-офицерами, как было бедным головушкам окончательно не пойти кругом! Следовало отправить девушек по домам, в Россию, иначе беспорядков не избежать, и Лепарский подписал все необходимые бумаги. Ох, с каким тяжелым сердцем провожали «каторжные дамы» горничных, которым выпало счастье скоро увидеть родную землю. Сами же служанки, повязав платочки и усевшись рядком в тарантасе, смотрели на провожающих не без спеси: они-то знали, что господа сами себя наказывают: в конце концов, кому теперь будет хуже?
Дамам пришлось заменить уехавших простыми деревенскими девушками, вялыми и невежественными, им нужно было совсем немного платить, а спали они в сенях. Из всех жен декабристов больше всех повезло Софи – она довольно мирно уживалась с помогавшими ей по хозяйству Захарычем и Пульхерией, остальные вынуждены были довольствоваться услугами, в малой степени соответствовавшими их запросам. Попробовали возместить качество количеством: в итоге у каждой барыни оказалось на иждивении четыре-пять бездельниц с неопределенными обязанностями, и некоторые из декабристок, отчаявшись чего-то добиться от нанятых ими никчемных лентяек, стали сами исполнять наиболее сложную работу. Однако среди прибывших в Читу аристократок, воспитанных в роскоши, немного было женщин, умеющих пришить пуговицу или сварить яйцо. Софи и самой непросто оказалось справиться с домашними делами, но она, по примеру других, отважно бросилась в пучину, и, поначалу, конечно, прогадывая и обжигаясь на всем, на чем можно и на чем нельзя, научилась торговаться, более или менее прилично готовить, шить и наводить порядок. Полина Гебль, выросшая в куда более скромных условиях, помогала подругам справиться с основами ведения хозяйства. Всеми овладело рвение, успешно заменявшее прежним белоручкам недополученные в детстве навыки. Они собирались то в одной избе, то в другой и после скудного обеда делились рецептами вкуснейших, но недоступных на каторге блюд. А потом, если позволяла погода, все вместе отправлялись на прогулку по окрестностям. Нужно было как-то скрасить монотонность здешнего существования, и они с этой целью намечали в ближайшем будущем какое-то событие, к которому начинали деятельно готовиться. Сейчас все дамы с таким нетерпением ждали свадьбы Полины Гебль, словно после этого торжественного события должна была решительно измениться их собственная жизнь.
И вот наконец-то наступает великий день. Деревянная церквушка заполнена людьми. Лики святых на иконостасе – точь-в-точь темные лица деревенских мужиков и баб, нимбы, выстроившиеся за их головами, похожи на рядок тарелок за стеклом горки. Все тихо, и вдруг собравшиеся вздрагивают и в едином порыве оборачиваются к дверям: слышно, как нарастает, приближаясь к паперти, лязг железа. Софи приподнимается на цыпочки, чтобы лучше было видно. Это колодники. Они подобны волне, хлынувшей в морской грот, храм теперь набит битком: всем-всем-всем разрешили прийти на венчание товарища. Мужчины чисто выбриты и принаряжены, вид у них, несмотря на оковы, праздничный, кое у кого есть даже цветок в бутоньерке. Вроде бы у кого-то даже белый галстук, сшитый, видимо, из носовых платков. Вооруженные солдаты подталкивают арестантов к правому приделу. Софи замечает Николая и машет ему рукой. Другие декабристки, они стоят рядом с нею, тоже делают знаки своим мужьям, улыбаются им. Женщин особенно возбуждает знаменательность события, по этому случаю они вытащили из сундуков самые лучшие платья, помогли друг дружке сделать парадные прически. Госпожа Нарышкина принесла с собой все имевшиеся у нее свечи – нельзя же обидеть кого-то из святых! Читинские крестьяне сроду не видели свою церковь такой сияющей. Входит Полина об руку с посаженым отцом, генералом Лепарским, и по храму прокатывается восхищенный шепоток. Слишком много людей знает о связи француженки с Анненковым, было бы странно видеть невесту в белом, но Полина оправдала ожидания, вкус ей не изменил. К алтарю идет стройная женщина среднего роста, с пышной грудью и живыми темными глазами, одетая в сиреневое переливающееся платье, светло-каштановые волосы не укрыты фатой, их украшает венок из полевых цветов. Она улыбается, чтобы скрыть волнение. Генерала беспокоит отсутствие жениха, который уже должен был быть здесь, на месте, но вскоре появляется и он – запыхавшийся, с двух сторон солдаты. На нем тоже белый галстук, на ногах кандалы. Дамы начинают громко возмущаться:
– Как можно венчать закованного в цепи человека!. Это не по-христиански!.. Станислав Романович, сделайте что-нибудь!..
Комендант явно растерян, снова сердце в нем восстает против инструкций. Ах, как же эти дамы любят взывать к совести в самый неподходящий момент, думает он. Хоть когда-нибудь они дадут ему передышку? Он глубоко вздыхает, зовет унтер-офицера и приказывает:
– Снимите это!
Унтер-офицер присаживается на корточки у ног Анненкова, снимает с пояса ключ – щелчок, и цепи падают на пол церкви. Жених приподнимает брючины и растирает себе лодыжки.
– А шаферы? – кричит Мария Волконская.
– Да-да, конечно, – ворчливо говорит Лепарский. – И этих двоих тоже нужно расковать. – Он указывает на Петра Свистунова и Александра Муравьева, стоящих за спинами новобрачных.
Священник совсем молоденький, с белобрысой бородкой. Он выглядит испуганным – ну, как венчать такую странную пару в таких непривычных условиях перед людьми, прекрасно знающими все обычаи? Он совсем утонул в фелони с широкими твердыми оплечьями, из дырки для головы торчит тоненькая, как у цыпленка, шейка, молитвы он читает вполголоса, то и дело поглядывая на генерала, чтобы убедиться: власти вроде бы ничего больше не придумали, начинать церемонию сначала не придется… Хора нет, дьякон сам выпевает: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!..», размахивая в такт огромным кадилом. Сквозь дымок тлеющего на угольках ладана Софи видит склоненные головы Полины и Анненкова под венцами, которые бережно, на вытянутых руках, держат над ними шаферы. Она вспоминает собственную свадьбу – в Париже, тринадцать лет назад. Вспоминает до странности спокойно – словно прошлое больше ее не касается. Рядом с ней – Каташа Трубецкая, она плачет, чуть подальше Наталья Фонвизина, искусавшая себе губы. Теперь, по обряду, новобрачным следует обменяться кольцами – в церкви воцаряется полная тишина, все в смятении: правила запрещают каторжникам носить обручальные кольца, и у женатых мужчин, едва они прибыли в Читу, кольца отобрали. Сделают ли исключение для Анненкова? Священник жалобно смотрит на Лепарского, спрашивает взглядом совета. Генерал отрицательно качает головой.
– Чудовище! – шипит Мария Волконская.
Склонившись к молодым священник шепчет:
– Сделайте вид, что меняетесь!
Новобрачные трижды повторяют ритуальный жест, передавая друг другу единственное кольцо – его Иван наденет на безымянный палец Полине. Впрочем, теперь ее зовут иначе: сегодня венчают раба Божьего Иоанна рабе Божьей Параскеве – имени «Полина» нет в святцах.
Когда церемония заканчивается и священник, поздравив молодых и благословив паству, отходит в сторону, возникает унтер-офицер с цепями в мешке. Генерал выпрямляется и, пряча смущение за надменной маской, обязательной для представителя власти, отдает приказ:
– Поторапливайся!
В гробовом молчании унтер-офицер возвращает кандалы на щиколотки Анненкова и шаферов. В течение всей этой операции Лепарский стоит, опустив глаза: боится встретиться взглядом с кем-нибудь из декабристок. Но все равно чувствует их острые, не хуже кончиков шпаг, взгляды – этак ведь и убить можно, пошевелись – проткнет насквозь любая! Софи задумывается, у кого – у генерала или у арестантов – сейчас более жалкий вид. Комендант тем временем подходит к новобрачным и бормочет:
– Поздравляю вас и желаю, чтобы сладостные узы брака помогли вам забыть об этих оковах!
– А можно моему мужу сегодня вечером побыть со мной? – спрашивает Полина.
Под «вечером» она, естественно, имеет в виду «ночь». Щеки Лепарского багровеют, кровь бросается ему в голову.
– Нет, мадам, – отвечает он. – Правила одинаковы для всех. Ваш муж должен немедленно вернуться в острог – вместе со своими товарищами. Увидитесь с ним в день, отведенный для посещений.
Он щелкает каблуками и идет в сопровождении двух адъютантов по церкви, с обеих сторон – ряды враждебных лиц. Молодоженов теперь поздравляют друзья. Наконец чета новобрачных выходит из храма, толпа взрывается аплодисментами. Каторжники аккомпанируют овации ритмичным звоном цепей. Лейтенант Ватрушкин старается перекричать весь этот шум:
– Пре-кра-тить! Тихо! Стройся!
Солдаты отрывают молодоженов друг от друга. Анненков вливается в шеренгу арестантов, они перестраиваются в пары. Дамы окружают Полину.
– Вперед, марш!..
Мощный взрыв голосов:
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье!..Софи провожает Николая взглядом. Он идет рядом с Анненковым, временами то один, то другой останавливается, оглядывается, вытягивает шею. Кажется, даже подпрыгивает на месте. Полина смеется, плачет, машет рукой. Дамы ведут ее домой. Комната у нее маленькая, едва ли не вся мебель тут – брезентовая складная кровать и сундук с круглой крышкой. Гостьи кладут на пол подушки, усаживаются на них вокруг деревянного ящика. Полина накрывает импровизированный стол салфеткой, ставит на него чашки с чаем, вазочку испеченных ею самой пирожных.
Несмотря на радость: вышла ведь все-таки замуж за красавца Ивана Анненкова, такого непонятного, так долго будоражившего ее кровь Ивана, – Полина нервничает, страдает оттого, что им пришлось расстаться сразу после церемонии.
– Нет, никак не могу поверить, что мы уже обвенчаны, – говорит она, вздыхая. – Что для меня переменилось?
Чтобы отвлечь ее, Екатерина Трубецкая заговаривает о Париже, спрашивает Полину, какие воспоминания она хранит о родине. Тон у княгини такой дружеский, такой доверительный, что француженка отвечает на него откровенностью: рассказывает о том, как ее отец, полковник наполеоновской армии, был послан императором к брату, королю Жозефу, и погиб в Испании, как трудно было растить четырех детей ее матери, лишившейся денежного пособия после падения империи, как она, старшая, семнадцатилетняя, желая помочь родным, поступила продавщицей в один из модных домов Парижа, где приходилось трудиться по четырнадцать часов в сутки, и как, вконец отчаявшись и выбившись из сил, согласилась на более выгодную работу в Москве.
– Там, во французской лавке, я и увидела Ивана Александровича впервые, – краснея, призналась новобрачная. – А шесть месяцев спустя было восстание, было 14 декабря… Поженились бы мы, если бы его не отправили на каторгу? Думаю, нет. Его мать была против подобного мезальянса… Но вы ведь, Катерина Ивановна, кажется, долго жили в Париже…
– Да, – улыбнулась в ответ Каташа. – И это точно были лучшие годы моей жизни!
Теперь наступила очередь исповеди Трубецкой. Екатерина родилась в семье французского эмигранта, графа Жана Франсуа Лубрери де Лаваля (по-русски он звался Иваном Семеновичем) и Александры Козицкой, происходившей из богатого купеческого рода. Александра Григорьевна владела большим медеплавильным заводом, золотым прииском и несколькими имениями, Каташа выросла в роскошном дворце на Английской набережной Санкт-Петербурга, здесь давали великолепные балы, на которых бывал даже император Александр I, устраивали литературные и музыкальные вечера, где выступали со своими сочинениями самые известные литераторы и музыканты, жизнь текла счастливая, безоблачная. Продолжилась она во Франции, но страна аристократов, легкомысленная, обожающая роскошь, которую описывала сейчас Трубецкая, не имела никакого отношения к той – трудовой – Франции, где проходила юность мадемуазель Гебль. Балы в Тюильри, приемы в шикарных особняках Сен-Жерменского предместья, прогулки в открытом экипаже по Елисейским полям, спектакли Оперы, бега в Лоншане, пикники в парке Сен-Клу… Она говорила вполголоса, глядя в пустоту, опершись локтями на сбитый из некрашеных досточек ящик.
– Князь Трубецкой бывал со мною повсюду. По-моему, он и предложение мне сделал в театре, в нашей ложе… у итальянцев…
Софи подумалось, насколько ее, лично ее, Франция не похожа ни на ту, что вспоминает княгиня, ни на ту, о которой говорила швея…
– Послушайте, – вдруг обратилась к ней Трубецкая, – разве не странно, что мы ни разу не встретились в Париже? Припоминаете грандиозный сезон 1820-го? Ах, что за круговорот!..
– Я уехала из Франции в 1815 году, сразу после того, как вышла замуж, – ответила Софи.
– Но у нас есть, конечно, общие друзья: скажем, Грамоны или Кюстины, да… вот еще Шарла или Мальфер-Жуе…
Софи только кивала головой: «да, да…» – и все в ожидании смотрели на нее, полагая, наверное, что пришла ее очередь открыть свое сердце. А она вдруг поняла: нет, немыслимо сейчас рассказывать о своей жизни в Париже, о встрече с Николя, об их венчании, не испытывая просто невыносимой тоски. Нервы ее были натянуты до предела, мышцы напряжены, комок в горле мешал говорить.
Выручила Наталья Фонвизина, предложив погадать на картах, – и дамы тут же переключились на новоявленную Кассандру: как бы ни было приятно вспоминать прошлое, узнать будущее – куда интереснее. Пока Фонвизина, специалистка по «снам, карточным гаданьям и предсказаниям луны», разложив валетов, дам, королей и всякую мелочь по ящику, всматривалась в получившиеся сочетания трагическим оком, Софи замкнулась в своей разочарованности судьбой и не слышала, как рядом с ней вздыхают и смеются, как воцаряется минутная тишина, а потом раздаются восторженные, но с оттенком тревоги, восклицания: «Да неужто такое возможно!.. Хоть бы сбылось!..» Даже те из дам, которые к любым гаданиям относились скептически, попадали под обаяние доморощенной пифии, несмотря на то что некоторые ее предсказания в сибирской избе, находящейся в двух шагах от каторжной тюрьмы, звучали более чем странно:
– Вот… этот темноволосый мужчина в годах… в больших чинах… он желает вам только добра… можете ему доверять… так… успех в делах… успех в любви, ну, это понятно… болтовня, пересуды, обман со стороны женщин… вольнодумство… но главное – все кончится чудесно!.. Три, четыре, пять… дальняя дорога… вместе с любимым человеком эта дорога выпала… богатство… ребенок…
Полина, затаив дыхание и выдавая волнение лихорадочным блеском глаз, безотрывно глядела, как создается рисунок ее будущего счастья – словно кружево плетется.
Когда Полина познакомилась с тем, что готовит ей фортуна, клиентками гадалки стали по очереди Каташа Трубецкая и Мария Волконская. И услышали разные, но столь же многообещающие, даже завидные предсказания. Наступила очередь Софи, но она сказала «спасибо, не хочется» и сразу же после этого «до свидания, мне пора».
– Нет-нет, ни в коем случае! – запротестовала Полина. – Вы не можете меня оставить! Своим уходом вы подадите сигнал к тому, чтобы разошлись все!
В отличие от молодоженов, которые обычно торопятся разогнать гостей, чтобы остаться наедине, Полина удерживала дам, боясь остаться наедине со своей печалью, неизбежной в одиночестве этой брачной ночи… Софи из сочувствия посидела еще немножко, но едва солнце стало клониться к закату, решительно поднялась. Мария Волконская с Екатериной Трубецкой догнали ее на улице.
– Бедная, бедная Полина!.. – прошептала Каташа.
Они сделали десяток шагов в молчании, затем Мария повернулась к Софи и вполголоса спросила:
– А вы слышали о планах побега?
– Нет, – рассеянно ответила думавшая совсем о другом Софи.
– Да как же! Они ведь есть, и весьма серьезные! Истомившись в заточении, наши каторжники… ну, по крайней мере, некоторые из них… решили организовать восстание, отнять оружие у охраны… Кстати, ваш муж, имейте в виду, полностью одобрил идею…
Софи, словно бы проснувшись, изумленно вытаращила глаза:
– Боже мой! Нет… Николя сказал бы мне!.. – пробормотала она.
– Почему вы так думаете? Вот именно что не сказал бы! Они там все поклялись сохранять свои планы в тайне, даже те, кто против побега. Ну и князь Трубецкой просто ни словечка не сказал Каташе, а я совершено случайно услышала, как вчера за забором мой Сергей перекинулся с кем-то словечком насчет этих дел. Ну и пристала к нему с вопросами так, что он вынужден был что-то сказать, взяв, правда, и с меня обещание никому ничего не говорить. Побег назначен на июль месяц… Знаете, как они рассчитывают сделать?..
И Волконская принялась разворачивать перед Софи картину заговора, но та едва слушала: из всего, что было уже сказано, ее взволновало только одно – почему Николай промолчал. Такая скрытность со стороны человека, всегда утверждавшего, что делится с нею всеми мыслями и чувствами, воспринималась ею как ложь. Обижала, оскорбляла. И сколько она ни твердила себе, что муж связан клятвой и просто не мог ничего ей рассказать, все равно обида не проходила. Как он мог?! Он! Не сказать ей! Значит, между ними, существами, как до сих пор она верила, самыми близкими на свете, все-таки есть расстояние. Или оно возникло внезапно? А он-то клялся, будто жить не может без того, чтобы она не откликнулась на все его мысли, на любое его действие… И она просто-таки растворялась в его тепле…
– В общем, – подвела итог Екатерина Трубецкая, – вы же понимаете: если все, и мужчины, и женщины, примут участие в этом великом исходе, то всех сразу и поймают, а если сбегут только одинокие, то женатые, наши мужья, расплатятся вместо них, подвергнутся незаслуженному наказанию…
– Да, конечно, – отвечала Софи. – Что за абсурд!..
– Как хорошо, что вы думаете так же, как и мы сами, – обрадовалась Мария Волконская. – Нужно любыми способами убедить этих господ отказаться от их затеи. Могу ли я рассчитывать, что вы именно в этом смысле постараетесь воздействовать на Николая Михайловича?
– Завтра же с ним поговорю, обещаю вам!
– Только не говорите, откуда обо всем узнали, ладно? У мужчин такие странные понятия о чести! Порой им легче сделать какую-то глупость, чем проявить мудрость, нарушив дурацкую клятву!
– Можете сказать Николя, что слухи уже бродят по всей деревне, – подхватила Трубецкая. – Ну, и вы услышали об этом, скажем, от хозяйки вашей избы…
– Не беспокойтесь, я все сделаю так, как надо, и никого не подведу.
Каташа пылко сжала подруге руки:
– Какое счастье, что вы понимаете: нам сейчас надо сплотиться, как никогда прежде!
Их тени под косыми лучами заходящего солнца все росли… Изменились краски пейзажа вдалеке: теперь между серо-зелеными лугами бежала розовая дорога. Троица остановилась перед домом Софи. Она изо всех сил старалась делать вид, что охотно принимает участие в разговоре, хотя с каждым шагом это было все труднее.
Оказавшись одна в комнате, Софи почувствовала, что на нее навалилась такая страшная тоска, словно готовилось нечто ужасное, нечто, способное перевернуть всю жизнь, а она была бессильна не только преодолеть возникший на ее пути барьер, но и просто разобраться, что же это за барьер такой. Села у открытого окна, тупо уставилась на темнеющее небо, на деревья, сливающиеся с сумраком ночи… Побег виделся ей предприятием очень рискованным, но основной причиной ее враждебного к планам каторжников отношения было отнюдь не это. Что-то в ней бунтовало против подобного рода перемен, против авантюр как таковых. Может быть, срабатывает инстинкт самосохранения или усталость после долгого путешествия к Николаю, сюда, на каторгу? Нет, такого утверждать она не может! Но знает точно: сама идея каких-либо изменений в их участи, пусть даже она недовольна своей судьбой, ее пугает. «Не шевелиться!.. Главное – не шевелиться!..» Со стороны острога послышался звук трубы. Резкие звуки напомнили о дисциплине, о твердости, о постоянстве. И она, странно успокоенная, закрыла глаза.
* * *
– Я и сам отлично сознаю, что это дерзкий, даже, пожалуй, самонадеянный план, – сказал Николай, – но, ради Бога, не тревожься напрасно: мы начнем действовать только в том случае, если будем полностью уверены, что все шансы на нашей стороне…
Он говорил по-французски, совсем тихо, чтобы двое солдат, стоявших на часах за дверью комнаты, ничего не могли ни расслышать, ни понять.
Софи сидела на кровати, склонив голову, уронив руки на колени. Она встретила мужа, ничем не выразив радости от долгожданного свидания, и слушала его доводы с безразличием, куда больше Николая расстроившим, чем любая, даже самая жесткая критика. Он никогда прежде не видел любимую в подобном оцепенении из-за того лишь, что требовалось сделать выбор, принять решение, и метался теперь по комнате в ожидании хоть какого-то ответа. Не дождался и заговорил снова сам – чем дальше, тем с большей горячностью:
– Ты не имеешь права упрекать меня в том, что ничего не сказал тебе о наших планах: я же дал товарищам обет молчания. Между прочим, для мужчин такая клятва имеет очень большое значение! Видишь, я же не спрашиваю, кто тебе сказал о наших планах! Какая разница! Уверен, что уже все жены моих друзей в курсе… Хотя, скорее всего, именно они тебе и разболтали, что сорока на хвосте принесла! И настроили тебя как следует. Ведь не ошибаюсь, правда?
– Ошибаешься… – слабым голосом возразила Софи.
– Смешно! Теперь я еще больше убежден, что они! Сама по себе ты реагировала бы совершенно иначе, мне ли тебя не знать! Ты так любишь свободу, что не потерпела бы, чтобы твой муж оставался на каторге, когда появится возможность вырваться на волю! Было бы естественно, если бы ты – с твоим характером, твоим темпераментом, твоими взглядами, – узнав о наших планах, стала меня поддерживать, ободрять, даже – торопить, да ты бы все сделала сама, чтобы мы могли сбежать вместе! Потому что знаешь: без тебя я с места не сдвинусь!
Николай пригнулся, положил руки на плечи жене и заглянул ей в глаза. Софи с трудом выдерживала его полный нежности и тревоги за нее взгляд. Минуту спустя он продолжил свой монолог, и как ей было не признать, что Николя прав… Оставаясь верной себе, она должна была бы всеми средствами помогать ему снова обрести независимость. Разве не она сама всегда побуждала его действовать? И ей захотелось объяснить мужу, что она вовсе не хотела его отговаривать от побега, а намерена была напомнить ему и друзьям: надо предусмотреть все, рассчитать все так, чтобы мятеж не был подавлен, чтобы побег не сорвался, чтобы победа была обеспечена.
– Я очень хорошо понимаю тебя, Николя, – начала Софи… и вдруг с ужасом услышала, что шепчет совсем не те слова, какие собиралась произнести. – Но разве ты не думаешь, что лучше направить свои ожидания на смягчение нашей участи?
– Что?! – уже не удивился, испугался он. – Что ты такое говоришь?! Неужели ты и впрямь полагаешь: императора загрызет совесть настолько, что он вдруг пожалует нас царской милостью?!
– А почему бы и нет? История знает случаи… Достаточно какой-то крупной победы над турками, например… По слухам, русская армия на Балканах нечто небывалое сотворила…
– Ох, нет, Софи, нет, родная… Царь и думать забыл о нас, едва только сослал в Сибирь. Мы для него умерли… или, по крайней мере, похоронены, – горько усмехнулся Николай.
– Зачем так говорить? – Софи возражала, но совесть ее была неспокойна, и она не узнавала себя в этой боязливой женщине, выдвигавшей аргумент за аргументом, словно выстраивая перед собой стенку из костяшек домино. – Я просто убеждена, что ты ошибаешься! Вполне вероятно, что царю докладывают о вашем примерном поведении, а если вы вдруг взбунтуетесь, вы навсегда потеряете надежду выйти отсюда раньше срока…
– Ну, а если мы сами, как ты говоришь, выйдем отсюда раньше срока? Это куда более вероятно!
– Выйдете – и куда пойдете?
– Господи! Я же тебе объяснял: либо на запад, либо на восток…
– Прямо всей ордой? И еще с женщинами в обозе? Да нас в минуту выследят и окружат, что за наивность!.. Вот если бы мы могли сбежать вдвоем…
– Милый мой дружок, это куда опаснее!
– Нам понадобилось бы… нам понадобился бы… Проводник, вот кто нам понадобился бы!
– Этот проводник за медный грош сдаст нас казакам… А уж за десять рублей – как пить дать! Нет, все-таки оптимальное решение – уйти всем вместе…
Дальше Софи не слушала. Мечта свалилась на нее неожиданно и опутала, как сеть птицелова. Она горевала, что нет рядом Никиты: им вместе было бы намного легче организовать побег. Он сильный, может убить даже зверя, может сложить из веток шалаш, он умеет определять направление ветра, читает по звездному небу как по книге, куда идти, если заблудишься, умеет говорить с мужиками, умеет драться с разбойниками… И почти сразу поняла, что, решившись сбежать с каторги вдвоем с Николя (а хоть бы и со всеми вместе) и даже организовав побег, она была бы вынуждена двинуться в путь без Никиты – и поняла, что с места не тронется, даже если гнать будут. Пусть от юноши пока нет вестей, так это же только пока! Рано или поздно он все равно доберется до Читы. И что же? Ей, сбежав, отказаться от последнего шанса на встречу с ним? «Если мы отсюда уйдем, – думала Софи, – я никогда в жизни больше его не увижу…» Ледяные клещи сжали ей сердце. «Нет, это невозможно!.. Невозможно!..» Глубина переживаний поразила ее саму. Неужели Никита занимает такое огромное место в ее жизни?.. Она постаралась преодолеть недомогание и сделала вид, что интересуется все продолжавшимся монологом мужа:
– Мы запасемся провизией… мы раздобудем буссоль, раздобудем карты…
Шепот все удалялся, удалялся от нее… становился еле различим – как журчание лесного ручейка… Из глубин памяти выплывали воспоминания, и некуда было от них деться: вылинявшая розовая рубаха… загорелая рука, накрывающая ее руку… взъерошенные степным ветром золотистые волосы… задорный молодой смех… Образы были такие четкие, такие реальные, что ей стало неудобно перед Николаем: как будто по ее вине кто-то нарушил их уединение. Как будто третий вторгся в их союз, нет, не вторгся – ведь она сама его позвала! И она испугалась: вдруг муж сейчас полезет к ней с нежностями!.. Воскресные визиты продолжались два часа – так диктовало официальное разрешение, а они уже потеряли добрый час на споры, и он уже спешит заключить жену в объятия! Господи! Его лицо уже совсем рядом, и выражение такое умоляющее!..
– Увидишь, моя любимая, мало-помалу ты привыкнешь к этой мысли! Да и в любом случае, все это будет не завтра!.. Мы еще сто раз успеем это обсудить…
– Нет-нет! – почти закричала она. – Давай обсудим сейчас!
– Но я же тебе повторяю, что…
– Послушай, Николя! Ты сказал… ты сказал… ты сказал, что мы можем спуститься по реке к Тихому океану, да? А ты подумал, нам же для этого надо будет купить лодки, построить плоты… Разве ты подумал об этом?
Она громоздила одно на другое слова, пытаясь выиграть время. И боялась: а вдруг он поймет, догадается, почему она так делает? Вот же Николай нахмурился и спрашивает так хрипло:
– Ну, лодки, плоты… и что? Почему бы этим не заняться, когда время придет?
Висок Софи обжигало дыхание мужа.
– А буряты? – почти в отчаянии шептала она и машинально отклоняла голову. – А буряты, которые кинутся по нашим следам? Ты про них забыл?
Это горячечное дыхание преследует ее! Везде достает!
– Бурятов мы сделаем своими союзниками! – хрипел он в самое ухо.
– Каким образом?
– Заплатим им!
– А деньги откуда?
– Украдем у коменданта!
Пылающие губы скользнули по щеке Софи, остановились на шее, спустились к ямочке между ключицами…
Она вздрогнула и зашептала:
– Нет, нет, Николя, умоляю… там охранники!..
И тут же поняла, что ее слова просто смехотворны.
– Ну, что ты, милая! – удивился он. – Охранники же за дверью, и ты отлично знаешь, что они не войдут! Это я умоляю тебя, Софи!.. Софи!.. О, как я люблю тебя!..
Он опрокинул ее на постель. Они уже почти боролись, и тут вдруг она увидела, как красивы его зеленые глаза, которые нетерпение превращало в злые, как красивы впалые, обожженные солнцем щеки, как прекрасно это лицо – страстное, воспламененное желанием… Но чем больше пыла проявлял Николай, тем яснее становилось ее сознание и тем больше она впадала в депрессию. Даже пошевелиться было уже трудно, каменная баба… вот кто она… «Что со мной? – в безмолвной тоске повторяла она. – Что со мной? Никогда же такого не было!» Она позволила снять с себя одежду, ласкать – везде… Потом притянула к себе его голову… Она смеялась, она целовала его, она изо всех сил делала вид, что счастлива как никогда… Он взобрался на кровать, гремя железом… Обычно это она, Софи, его утешала, своей нежностью заставляла забыть о цепях, от которых он страдал как от увечья… А сейчас звяканье цепей неприятно ее удивило… Призвав на помощь всю свою любовь к мужу, всю жалость к нему, Софи уговаривала себя, что не надо противиться тому, что сейчас произойдет. Но ее телу цепи сегодня мешали. Она не испытывала никакого желания… Более того, ей казалось, будто эти цепи навалились на нее, что ими опутаны ее собственные ноги. Да! Да! Да! Она тоже закована. Она прикована к нему. На всю жизнь. «Это хорошо. Так надо. Я не хочу ничего другого», – повторяла она.
– О любовь моя!.. Прости меня, прости!.. – задыхался Николай.
Охранники топали, шагая туда-сюда за дверью. Разговаривали. Николай двери не запер – это было запрещено. Он приставил стул к створке, и все. Еще десять минут, и все закончится. И он уйдет – довольный, счастливый. Он навалился на нее всем телом. Тяжелым телом. Тихонько застонал и впился в ее губы. Солдат за дверью откашлялся, сплюнул. Другой засмеялся. Николай все не отрывал своих губ от ее рта, сколько же может длиться поцелуй… Он раздвинул коленом бедра Софи. «Надо бы помешать этому побегу», – подумала она. И закрыла глаза.
4
Застывший по стойке «смирно» правительственный курьер вперил безжизненный взгляд в стенку. Он был весь покрыт крупными каплями пота, круглое лицо покраснело от жары и носило печать безмерной усталости, толстый слой пыли покрывал его мундир с эполетами. Дело оказалось настолько срочным, что он даже не успел почиститься перед тем, как войти к Лепарскому. А тот уже в четвертый раз, все с большей яростью, перечитывал письмо шефа жандармов: глава Третьего отделения, всемогущий граф Бенкендорф, извещал его о том, что по окончании литургии в Казанском соборе – служили ее в честь победы русской армии над турками – его величество император, известный своим бесконечным милосердием, принял решение облегчить участь некоторых политических заключенных и отдал в связи с этим приказ коменданту Читинской каторжной тюрьмы снять кандалы с тех из каторжников, кто, по его, генерала Лепарского, мнению, заслужил эту милость своим хорошим поведением.
– Они там, в Петербурге, уже просто и не знают, что еще изобрести, лишь бы осложнить мне существование, – ворчал Станислав Романович себе под нос. – Ну, как, как я могу выбрать? Они все ведут себя превосходно! И что теперь – бросать жребий? Кому повезет, кому не повезет? Нельзя же так, право, господа!
Племянник генерала, Осип, и его плац-адъютант, поручик Розенберг, почтительно слушали бормотание начальника – собственного мнения на этот счет у них не было никакого, да и откуда? «Нету у меня тыла!» – в который раз подумал Лепарский и неожиданно для себя самого грохнул кулаком по столу. Осип вздрогнул и напустил на себя важность, ничуть не прибавившую выражения его лицу типичного размазни.
– А вы что думаете? – спросил комендант.
– Следует поразмыслить, дядюшка, – пролепетал Осип. – Думаю, в конце концов, мы сможем прийти к оптимальному решению. Вы хотели бы, чтобы я составил список?
– И кого же ты собираешься включить в свой список? – усмехнулся генерал.
– Ну… ну, например… Вот! Князя Трубецкого, князя Волконского, князя Одоевского…
– Значит, ты полагаешь, что они ведут себя лучше остальных?
– Не совсем так… но у них такие громкие фамилии…
– Нас, видишь ли, никто не просил составлять реестр дворянских семей, проживающих на каторге! Впрочем… впрочем, Бенкендорф ведь не назвал числа заключенных, с которых можно снять кандалы, так?
– Мне кажется, каждого второго… – предложил Розенберг.
– Да? А почему не двоих из трех? Или девять из десяти? Они тут все друзья между собой, все равны и – представляете: внезапно одни станут разгуливать свободно, а другие – осужденные, между прочим, за участие в том же бунте – по-прежнему станут тащить за собой цепи? Как вам это нравится?
Поручик поторопился признать, что начальник, как всегда, прав. Осип взял из рук дяди письмо и весьма серьезно – требовалось же выглядеть соответственно обстановке! – принялся изучать его строчка за строчкой. А правительственный курьер, вызвавший такую бурю, теперь все с тем же идиотским видом витал в облаках.
– Идите пока отдыхайте! – бросил ему в сердцах Лепарский. – Но готовьтесь сегодня же ввечеру отбыть в столицу с ответом.
Фельдъегерь щелкнул каблуками, поклонился и вышел.
– Вы что-нибудь уже решили, дядюшка? – спросил Осип участливо.
– Нет. Оставьте меня одного, – ответил генерал. – Мне необходимо собраться с мыслями.
Однако не прошло и пяти минут, как он уже был у острога. Стражники встрепенулись, увидев коменданта: солдаты, их было человек десять, мигом вскочили со своих мест и, подталкивая друг друга, вытянулись в струнку с ружьями на караул. Лейтенант Проказов в расстегнутом мундире встретил генерала при входе, на лице начальника караула ясно читалась тревога: что здесь понадобилось Лепарскому, который редко посещал арестный дом?
– Заключенные вернулись с работ? – спросил Лепарский.
– Примерно час назад, ваше превосходительство!
– А что они делают теперь?
– Отдыхают. Хотите их видеть, ваше превосходительство? Я…
– Видеть хочу. А вы не трудитесь, оставайтесь здесь.
Поставив таким образом лейтенанта на место, комендант сначала вошел во двор, где при его появлении началась суматоха. Он улыбнулся, видя, как женатые декабристы поспешно отпрянули от забора. Ну, разве он может сердиться на этих людей за то, что им хочется потихоньку поболтать с женами? Группа кандальников стояла вокруг Николая Бестужева: тот, положив на колени альбом, рисовал акварелью портрет Юрия Алмазова. Конечно, правилами было строго запрещено передавать заключенным бумагу, чернила, перья, карандаши, а уж тем более – краски, но генерал и на это нарушение регламента смотрел сквозь пальцы: он убедил себя, что приказы, идущие из Санкт-Петербурга, следует трактовать с умом. Разве найдешь развлечение более невинное и полезное, чем живопись? Предаваясь занятиям искусством, Бестужев и его соперники – а он не преминул ими обзавестись! – избавляли себя от монотонности здешнего существования, да и о политике, что принесла им столько зла, забывали. Комендант приблизился к художнику, поднес к правому глазу руку, сложенную трубочкой, и всмотрелся в рисунок. Рисунок оказался пока еще только наброском, но сходство уже чувствовалось.
– Однако у вас талант! Большой талант! – оценил Лепарский.
– А вы бы согласились как-нибудь попозировать мне, ваше превосходительство? – спросил Бестужев, не выпуская кисти.
– Отчего бы и нет? – воскликнул генерал, которому явно понравилось предложение.
Но тут же задумался: а что подумают о нем в столице, узнав, что он заказал свой портрет государственному преступнику? Ох, как же ему надо следить за собой все время, чтобы не влипать в опасные ситуации! Быть снисходительным – это, знаете ли…
Расточая направо-налево приветливые взгляды и улыбки, Лепарский направился к огороженному участку, где узники сделали грядки и выращивали теперь овощи. И таких прекрасных овощей не найти было ни на одном крестьянском огороде в окрестностях Читы! Картошка, капуста, морковь – все в изобилии произрастало на тучной земле. Там росли даже огурцы – до прибытия сюда декабристов тут почти никто и не знал, что существует такой деликатес… По мере того, как генерал проходил мимо, огородники – князья, графы, бывшие гвардейские офицеры – распрямлялись. Руки у них были черные от земли, лица усталые, но здоровался он с ними точно так же, как если бы они встретились не посреди грядок с рассадой, а в каком-нибудь коридоре Зимнего дворца.
Внутри здания Станислав Романович обнаружил еще нескольких узников: они читали или писали в чистых тихих комнатах. Вначале, соблюдая монаршую волю, Лепарский запретил в камерах книги, но жены сделали все возможное и невозможное, чтобы доставлять их в острог тайком, и, когда коменданта известили о том, что в арестном доме собралась уже целая библиотека, он не нашел в себе мужества уничтожить ее. И теперь, уже с его согласия, заключенные получали все, в чем нуждались по части литературы. Более того, в каждой пришедшей с почтой посылке непременно были русские или иностранные газеты, журналы… Лепарский писал на первой странице «прочитал», ставил внизу подпись, и завизированная им пресса поступала к адресатам. На самом-то деле, прочесть этого всего он не мог никак: для того, чтобы прочесть, ему нужно было бы, кроме русского и французского, изучить еще и английский, немецкий, испанский, итальянский, греческий, латынь, иврит… Генерал подумал и некоторое время спустя заменил визу «прочитал» визой «просмотрел». Более скромная формулировка – во всяком случае, так ему показалось – куда меньше его компрометировала.
Протиснувшись между кроватями, он остановился около Завалишина, погруженного в перевод Библии; заглянул через плечо Никиты Муравьева: тот наводил какие-то справки по тексту «Филиппик»; Баратынский на грифельной доске старательно выписывал какие-то уравнения; Ивашев рылся в груде книг, возвышавшейся на полу… Так, что тут у него? «Труды по археологии», «Классический словарь естественной истории», «Трактат о революциях на поверхности планеты»… Что-что? Какие еще революции?.. У Лепарского мгновенно проснулся охотничий инстинкт, он встрепенулся и торопливо схватил книгу. Неужели по нечаянности пропустил? Вот его виза на титульном листе… А кто автор? Кювье? Нет, это имя ему неизвестно. Движимый ужасным подозрением, генерал перелистал несколько страниц… Фу-у-у… Ложная тревога! Слава тебе Господи! Тут имеются в виду революции, вполне дозволенные законом… Опять-таки естественные науки… Фу-у-у… Ивашев смотрел на коменданта, не скрывая иронии. Лепарский отдал ему томик и отправился дальше, улыбаясь про себя. Переходя из одной камеры в другую, он заметил доктора Вольфа – тот стоял в коридоре, раскуривая трубку. За его спиной маялся князь Одоевский – бледный, со страдальческим лицом и забинтованной рукой.
Комендант спросил сразу обоих, стараясь не выдать вопросом тревоги:
– Надеюсь, ничего серьезного?
– Нет-нет, – ответил врач. – Обычный нарыв. Я только что вскрыл его.
– А-а-а, отлично, отлично, – думая уже о своем, ответил Лепарский.
Затем, словно бы вспомнив, спросил:
– Но вы, конечно же, помните, что в принципе не должны…
– Помню, разумеется, – сухо сказал Вольф. – Вот только дело было срочное – могла воспалиться вся рука…
А генерал подумал, как же повезло каторжникам, что среди них находится этот замечательный человек – бывший штаб-лекарь 2-й армии и личный врач генерал– фельдмаршала, главнокомандующего тою же армией графа Витгенштейна. Приговоренный к двадцати годам каторжных работ за участие в организованном Пестелем Южном обществе, доктор официально не имел права лечить больных, но как человек, давший клятву Гиппократа, не мог оставаться безучастным в случае чьей-то хвори и, с молчаливого одобрения тюремщиков, выполнял в остроге свой профессиональный долг. А назначенный властями каторжным врачом лекарь по фамилии Жучков – человек ленивый и ни к чему не способный – только радовался, что может сложить с себя хотя бы часть ответственности на блистательного собрата. Ходили слухи, что Вольф учился в Германии, дружил даже с Шеллингом, знал средства от всех болезней, считавшихся неизлечимыми… Комендант проводил врача до комнатки, где тот устроил свою аптеку: лекарства и медикаменты для нее присылали из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы… Здесь генерал осмотрел стройные ряды флакончиков, коробочек, баночек с разноцветными мазями, порошками и микстурами – к каждой была аккуратно прикреплена этикетка с каллиграфически выведенным латинским названием препарата. Лепарский пришел от увиденного в полный восторг, попросил дополнительных разъяснений, а потом все-таки снова вспомнил, что вообще-то все сие противоречит указаниям, полученным из столицы. И добавил поспешно:
– Не тревожьтесь, Фердинанд Богданович, и считайте, что я ничего не видел!
– Весьма вам признателен, ваше превосходительство! – высоченный доктор склонил голову.
С его худого лица, словно бы втиснутого между каштановыми бакенбардами, не сходило выражение природной суровости, на голове он носил черную бархатную ермолку.
Доктор снял передник, аккуратнейшим образом повесил его на гвоздь. Теперь перед комендантом стоял господин в потертом сюртуке и широком галстухе, завязанном пышным бантом под подбородком.
– Растворите это в небольшом количестве воды и выпейте, – предписал он явившемуся в аптеку князю Одоевскому, передавая тому бумажный пакетик.
После ухода Одоевского генерал испытал сильное искушение посоветоваться с опытным врачом по поводу сердцебиений, сильно его мучивших, но тут же, хоть и не без грусти, отказался от этого намерения. Он же представитель закона! И если еще может терпеть нарушения этого закона, когда они совершаются ради кого-то, кому это позарез необходимо, то уж никак не имеет права сам его нарушать.
– Каково здесь санитарное состояние помещений? – спросил Лепарский.
Ах, как же ему не нравилось слово «тюрьма», с каким удовольствием он заменял его синонимами: «дом», «помещение», «здание»!..
– Все в порядке, ваше превосходительство, – отвечал доктор Вольф, провожая коменданта до двери. – Однако вскоре мы почувствуем нехватку кое-каких необходимых средств: их надо будет заказать в Иркутске. Я составлю для вас список…
За врачом волочились по полу цепи, и их звяканье ужасно раздражало Лепарского: право, этот кандальный звон превратился у него уже в какую-то навязчивую идею! Никогда до сих пор он не уделял им такого мучительного, такого изматывающего душу внимания! И даже выйдя во двор острога, генерал не различал ни лиц, ни фигур, не слышал голосов: цепи, цепи, цепи… везде одни только цепи!.. С кого их снять, на ком оставить?! Ему страшно хотелось схватить Бенкендорфа за руку, силком притащить сюда и поставить перед необходимостью выбора… Да! Да! Решил бы сам!.. «Какая странность, – думал комендант, – я горжусь своими узниками!» Вместо того чтобы облегчить ему задачу, посещение острога сделало ее еще более трудной.
– Не хотел потревожить вас, господа, – невольно проворчал он, проходя мимо групп декабристов.
Затем остановился рядом с Николаем Озарёвым и Якубовичем: они, сидя на траве неподалеку от ограды, играли в шахматы.
– Есть ли новости с фронта? – спросил, поднявшись на ноги, Озарёв.
К ним подошли и другие каторжники. Большей частью они раньше были гвардейскими офицерами, у них осталось много друзей в сражающихся сейчас с турками полках. Не имея возможности участвовать в битвах, декабристы особенно близко к сердцу принимали все, что происходит сейчас на фронтах Русско-турецкой войны – да и как было не мечтать, как было не видеть во сне продвижение русских войск, ордена, славу, которые сейчас завоевывали на их месте другие… Лепарскому пришлось разочаровать всех известием о том, что отброшенный было поначалу враг теперь вроде бы оказывает все возрастающее сопротивление, а главное – что русские войска страдают от нездорового климата. «Если бы они только знали, что я получил приказ расковать некоторых из них!» – снова подумал генерал.
Внезапно принял решение и, оборвав разговор, мелкими, но тяжелыми шагами заторопился к выходу. Теперь он уже ничего не видел и ничего не слышал – он в уме сочинял письмо Бенкендорфу, и когда Лепарский оказался у себя в кабинете, это послание уже было закончено. Осталось только написать его на бумаге.
Если отбросить обычные формулы вежливости, в своем письме Станислав Романович начертал следующее: «Государевой милости заслуживают все без исключения арестанты, содержащиеся в Нерчинском остроге. Таким образом, справедливо было бы и от кандалов либо не освобождать никого, либо освободить всех без исключения. Пусть Его Величество решит, какой именно вариант предпочитает. Со своей стороны, скажу, что второй представляется мне единственным решением, которое действительно выражало бы намерение показать великое милосердие, присущее нашему государю». Довольный собой, генерал позвал адъютантов и прочел им вслух текст дрожащим от волнения голосом. Молодые люди были так озадачены услышанным, что замерли в безмолвии.
– А вам не кажется, дядюшка, что это несколько… несколько резковато высказано? – решился наконец Осип. – Может ведь показаться, будто вы царю нравоучение читаете…
– Посмотрим, что кому покажется! – отрезал Лепарский. – Предупредите фельдъегеря, что пора собираться.
Несмотря на резкий тон ответа, генерал вкладывал листок в конверт и надписывал последний, весь дрожа от страха. А вдруг Осип прав? Разве дело какого-то ничтожного коменданта каторжной тюрьмы оспаривать царское решение? Да просто обсуждать это решение! Но поздно, поздно… Фельдъегерь уже стоял перед ним – отдохнувший, почистивший мундир, руки по швам. Лепарский вздохнул и протянул ему письмо.
* * *
– Хоть убейте меня, ваше превосходительство, все равно кричать стану, что это правда! – падая на колени, взвыл старый Васюк. – Когда я узнал, что этот прохвост и оболтус, мой сын, решил помогать им за деньги, я ничего не сказал ему, а сразу побежал к вам предупредить! Еще и потому, что священный отцовский долг – помешать молодому человеку совершать глупости!..
Лепарский, сидя за столом в кабинете, утирал лицо носовым платком, даже в позе чувствовалось, до чего генералу тяжко. Правда, откровения Васюка не застали его врасплох: лейтенант Ватрушкин еще накануне донес ему, что во время перерыва работ у Чертовой могилы слышал, как несколько декабристов перешептывались, обсуждая планы побега с каторги.
– С кем договорился твой сын? – спросил комендант.
Лицо старика сморщилось, покраснело под слоем копоти и седой бородой, – вспоминал он с явным трудом. Семья Васюков жила в лачуге неподалеку от Читы, и, как все местные крестьяне, старик пережигал древесный уголь, снабжая им Нерчинские заводы.
– Ох, не припомню имен, – вздохнул он наконец. – Если верить сыну, просто все арестанты собираются устроить бунт, связать солдат – как колбасы какие, ну, и сбежать отсюдова… Вот для того они велели принести топоры, веревки, порох, пули и чай плиточный… Откуда мне знать, кто велел?.. Он там работает рядом – у Чертовой-то могилы – им это кстати… А он и посулил, дурак!.. Но ему двадцать едва сравнялось!.. Одно оправдание!..
– Возвращайся домой и, главное, ни слова сыну о том, что со мной говорил!
– Святым Богом клянусь, ваше превосходительство! Чтоб мне пусто было! Чтоб я сдох, если скажу! А ежели он станет это все собирать и прятать в избе?
– Пусть собирает и прячет.
– А нам ничего за это не будет?
– Ничего.
Успокоенный Васюк, кряхтя и гримасничая, стал подниматься с колен.
– Нельзя дело иметь с каторжниками!.. Господа там или кто, раз в цепях, то и все… каторжник, он и есть каторжник!..
Последняя фраза старика задела Лепарского за живое. Не способный вымолвить ни слова, он сделал знак посетителю удалиться. Но когда увидел, что тот в двух шагах от двери, окликнул его:
– Узнаешь что-то новое, не забудь меня известить!
Оставшись один, комендант постарался объективно оценить сложившееся положение вещей. Минуло всего две недели с того дня, как он отослал в Санкт-Петербург письмо о том, что считает всех декабристов достойными того, чтобы с них сняли кандалы! Если он теперь попросит отменить эту царскую милость, правительство вправе предположить, что за это короткое время случилось нечто весьма серьезное. Что еще могло заставить его сразу переменить мнение? И потом, все эти разговоры о побеге могут оказаться досужим вымыслом… Да и вообще – все узники всех тюрем всего мира мечтают, одни чаще, другие реже, вырваться на свободу. А от этих «планов» до их осуществления ох как далеко! Так должен ли он, назначенный императором комендант каторжной тюрьмы, воспользоваться непроверенными сведениями в качестве предлога для того, чтобы лишить эту оказавшуюся на каторге российскую элиту благодеяния, которое император вот-вот им окажет? Нет, честь не позволяет ему совершить такой маневр. Но, с другой стороны, как не прийти в ужас только от одной мысли о том, что может произойти, когда едва освободившиеся его заботами от цепей заключенные обратятся в бегство… Немедленно начнется следствие, и уж оно обязательно откроет, что его, Станислава Романовича Лепарского, боевого генерала и начальника здешней каторги, предупредили о планах побега! Причем заблаговременно! Ну, и как он объяснит в этом случае Бенкендорфу, что, зная обо всем, тем не менее снял с каторжников кандалы? Что бы ни сказал, не поверят. Обвинят: хотел, дескать, облегчить им побег! И пятьдесят лет верной службы отечеству – псу под хвост… Отношение Лепарского к императору было сложным, было некоей смесью восхищения и страха. Поляк по рождению и католик по вероисповеданию, нося российский мундир, он все-таки усвоил и сделал своим почти религиозное представление об абсолютной монархии. Впасть в немилость у государя – это же все равно, что рухнуть в пропасть, все равно, что оказаться на полюсе холода, отчаяния и мрака! И как только декабристы могут жить вдали от этого солнца!.. Признавая, что наказание, избранное для этих людей, чрезмерно суровое, уважая изгнанников, Лепарский, тем не менее, отнюдь не придерживался их или даже близких им политических взглядов. Предпринятый ими мятеж против установленного порядка выходил за границы его понимания. «Безумцы! Мальчишки!» В их адрес он испытывал нечто вроде рожденной настоящей любовью досады. Он сердился на них за доверие, которое они ему внушили к себе. «Да они просто очаровали, околдовали, убаюкали меня… Я уже не знал, что еще придумать, чтобы доставить им удовольствие, им и их женам, а они… они в это самое время готовились к тому, чтобы уйти, не простившись!.. Но хоть один из них, пусть на минуточку, задумался: а что же будет со мной после такой их выходки, не отдадут ли меня под суд, не сорвут ли с меня погоны, не бросят ли меня в тюрьму?.. Да нет, конечно же, нет! Они думали только о себе! Только о себе! И мне нечего стесняться!..»
Голова Лепарского пылала. Он положил перед собою большой лист бумаги, взял перо и принялся обдумывать первую фразу письма Бенкендорфу. В его возрасте он имеет право уйти в отставку, сохранив достоинство.
«Имею честь сообщить Вам, что в связи с некоторыми фактами, открывшимися после отправки моего последнего донесения, мне кажется предпочтительнее оставить государственных преступников закованными впредь до нового приказа…»
Перечитал написанное, текст показался ему неуклюжим, и он разорвал письмо.
Начать новое? А зачем? Он уже понял, что не сможет, попросту не хватит сил донести на этих людей, хотя они и собирались сыграть с ним самую, наверное, злую шутку за все время его службы… Старость его, что ли, сделала таким жалостливым?.. Он вовлечен в цепь обстоятельств, и это они вынуждают идти туда, куда вовсе не хочется… Виски, как обручем, сжало, во рту пересохло… Он схватил колокольчик и велел прибежавшему вестовому принести графин с водой и стакан. Но первый же глоток не освежил его, а только усилил недомогание… «Я заболею от всей этой истории, – подумал генерал, – я уже заболел. Это определенно лихорадка. У меня просто не хватает физических сил, чтобы так нервничать. Я же никогда не знаю, что надо делать!» Голова под париком была мокрая. Он снял парик, помахал им у лица, снова надел, открыл окно.
Два бывших каторжника, осужденных в свое время по уголовному делу, подметали центральную аллею. Лепарский тут же почувствовал облегчение. Сняв с узников кандалы, он лишит их желания сбежать! Идея сначала показалась ему несуразной, потом вдохновила. Да, да, замечательная идея! Очень логичная! Известие о первой царской милости побудит заключенных остаться на месте в надежде на скорое официальное освобождение! Точно! Именно так! Надо молчать обо всем, что ему известно, и ждать ответа Бенкендорфа. Ну и усилить надзор…
Счастливый оттого, что сумел принять единственно правильное решение, генерал направился к двери, чтобы отдать соответствующий приказ. Но не успел сделать и нескольких шагов, как перед ним вдруг возникла вертикальная черная линия – будто вдруг наступил на грабли. Пол закачался, пошел волнами, вздыбился, в кипении воспаленного мозга перемешались император, декабристы, цепи, эполеты, все это кружилось, мелькало, сталкивалось, рассыпая искры… Он рухнул в ближайшее кресло, голова бессильно упала на грудь. Секунда – и жизнь его оставила.
* * *
Когда к Станиславу Романовичу вернулось сознание, он лежал в своей постели, и два усатых санитара, склонившись над больным, обдавали его сильно отдававшим вином и исключительно жарким дыханием. Племянничек Осип и Розенберг. Какое наказание!
– Ничего, ничего, дядюшка! – шептал Осип. – Пустяк! Небольшое недомогание…
– Мы известили доктора Жучкова, – подхватил Розенберг. – Доктор сейчас будет.
Лепарский собрал все силы, всплыл сквозь облака на поверхность и сказал:
– Не желаю вашего Жучкова. Он осел!
– Хорошо, дядюшка! А если я вызову врача из Иркутска?
– Вот это да! Из Иркутска! Восемьсот семьдесят семь верст сюда и столько же обратно! Пока этот лекарь сюда доберется, я либо выздоровею, либо в землю лягу! Нет уж! Позовите Вольфа! Быстро, быстро!
Устав от обилия слов и горячности своей речи, генерал закрыл глаза и снова погрузился в сумрак. Перед ним проносились столетия… Потом раздался неприятный звон. Еще один кошмар! Господи, это бряцание цепей даже и в бреду его преследует! Он с трудом приподнял веки и – увидел у изголовья сухощавого человека с внимательными темными глазами… с взъерошенными баками! Доктор Вольф! Радостный вздох вырвался из груди Лепарского.
– Вот и вы… – тихо произнес он. – Спасибо, что пришли.
– Это я должен благодарить вас за оказанное доверие, – ответил Вольф. – Только ведь я не смогу лечить вас…
– Почему? – забеспокоился больной.
– Предписание… – пожал плечами доктор.
– Но вы же так успешно лечите своих товарищей!
– В глазах центральной власти они – персоны куда менее значимые, чем вы, генерал. Если и умрут, никому до этого дела не будет. Если же несчастье, не дай Бог, случится с вами, меня тут же осудят еще и за нелегальные занятия медициной.
Комендант призадумался, озадаченный, но почти сразу повеселел и прошептал:
– Есть один способ!.. Предположим, вы сделаете назначения, а доктор Жучков их подпишет…
– Было бы все в порядке, – сказал Вольф. – Но он в жизни на такое не пойдет!
– Пари держу, что пойдет! А ну, Розенберг, живо к нему и… и объясните, что от него требуется!
Адъютант заторопился к выходу и вскоре вернулся – с согласием поставленного властями каторжным врачом лекаря. Доктор Вольф тут же приступил к осмотру. Он мог показаться со стороны медлительным в движениях, но жесты у него были точные, уверенные, взгляд – думающего человека, голос – низкий и мягкий. Забыв, что человек, руки которого сейчас выстукивают и мнут его голое тело, каторжник, Лепарский ничуть не стыдился ни своего огромного живота, ни тонких рук с дряблыми складками отвисшей кожи, ни перевитых синими, кое-где вздувшимися венами голеней… «А если и он причастен к планам побега? – с тоской думал пациент. – Способен ли он искренне хотеть, чтобы я исцелился, замыслив побег, который имел бы для меня самые ужасные последствия?.. Есть ли среди этих людей хоть один, кто дружески относится ко мне?..» Поглощенный грустными мыслями, Лепарский совсем забыл о том, что болен, но доктор Вольф вернул его в реальность, заговорив о состоянии сердца. Сердце, по его мнению, у генерала вялое, капризное, оно часто спазмируется и способно неожиданно остановиться – вот как сегодня утром. Но, тем не менее, его превосходительству не следует сверх меры тревожиться. В течение десяти дней необходим полный покой и успокоительные капли – при пробуждении и перед каждой едой. Строгая диета – ни капли возбуждающего, ничего спиртного. И в будущем – размеренная жизнь, без волнений и перегрузок.
– Это невозможно! Невозможно! – повторял Лепарский. – Это просто немыслимо! Побойтесь Бога, доктор! Предписывать такое – мне! В моем положении! С теми обязанностями, которые на меня возложены!..
– Хорошо, – добродушно согласился доктор. – Но попробуйте пока просто поверить, что в вас не нуждаются, потому что ваши каторжники достаточно взрослые люди, чтобы присмотреть за собой сами!
Комендант пристально посмотрел на врача. Нет ли известного макиавеллизма в этом мирном предложении? «Усыпим бдительность старикана и – на волю!..»
До самого конца визита Лепарского раздирали противоречия: то он склонялся к симпатии, то к подозрениям. Но как, как тут не быть настороже?
И все-таки со следующего же дня все переменилось: теперь он ждал доктора как друга, не скрывая нетерпения. Беседы с Вольфом способствовали окончательному покорению пациента. Вскормленный научными и философскими трактатами, медик, проповедуя воинственный скептицизм и заявляя, что жизнь не имеет смысла и что человек не способен к бескорыстному действию, сам неизменно готов был к самопожертвованию, впадал в элегическую задумчивость при виде цветка или насекомого, а уж о свободе, равенстве, справедливости вообще не мог говорить без страстной дрожи в голосе… Как врач Вольф стал для генерала непререкаемым авторитетом, и сам генерал превратился в примерного пациента. Он глотал лекарства, смиренно лежал в постели, радовался тому, что постепенно возвращается аппетит, возвращаются жизненные силы… А еще ему помогало быстрее выздоравливать то, что жены декабристов, как выяснилось, каждое утро наведывались узнать о его самочувствии… Он был настолько растроган вниманием и заботой со стороны этих людей, что порой забывал о планах побега, которые ими же и разрабатывались.
В день, когда доктор Вольф разрешил ему подняться, он тщательно умылся, надел самый красивый мундир и вышел из спальни в сопровождении племянника и Розенберга – бледный, ослабевший, но сияющий. Адъютанты шли за ним, вытянув руки, готовые в любую минуту поддержать, и напоминали людей, с обожанием служащих какому-нибудь пошатывающемуся божеству.
В прихожей, где обычно томился дневальный, он, к своему величайшему удивлению, обнаружил Софи Озарёву.
– Я ждала поручика Розенберга, чтобы передать ему несколько писем, – объяснила дама.
– Вот и отлично. Но на этот раз, сударыня, вам придется удостоить чести принять от вас письма меня самого! – важно произнес генерал.
– Не слишком ли рано вы собираетесь приступить к работе, дядюшка? – заволновался Осип.
Лепарский молча пожал плечами, распахнул дверь кабинета и пригласил Софи войти туда.
– Но мне бы не хотелось вас беспокоить, – бормотала посетительница, садясь в указанное комендантом кресло.
На самом деле Софи была счастлива возможности поговорить с генералом наедине. Уже несколько недель ее преследовала неотвязная мысль: если пока побег откладывается, значит, есть шанс вызвать сюда Никиту. События словно бы сами подталкивали ее к подножию стены – она должна совершить поступок, сейчас или никогда! Поставить все на кон, чтобы спасти Никиту и себя самое. Она была убеждена: Никита сможет приехать сюда вовремя и бежать вместе с ними. Софи беседовала с Лепарским, расспрашивала его о болезни, расхваливала доктора Вольфа, умоляла впредь относиться к себе бережнее, а дерзкий план все крутился и крутился у нее в голове… Слушавший сладкие речи с полузакрытыми глазами комендант вдруг показался ей похожим на кота, лакающего молоко… «Как одинок этот человек!» – подумала она. И, не помня себя, прошептала:
– Могу ли я попросить об одолжении, ваше превосходительство?
Собственная наглость испугала Софи. Никогда в жизни ей не приходилось делать такую большую ставку при такой слабой карте.
– Разумеется! Охотно помогу вам! Если это в моей власти, можете вполне на меня рассчитывать! – обрадовался генерал.
– Речь идет о крепостном человеке, моем слуге, сопровождавшем меня в путешествии. Я была вынуждена оставить его год назад в Иркутске, потому что губернатор Цейдлер отказался подписать подорожную. С тех пор у меня нет о нем вестей. Но я очень нуждаюсь здесь, в Чите, в его услугах…
Она остановилась, стараясь унять сердце, забившееся так беспорядочно, будто слова, только что произнесенные совершенно бесстрастным тоном, могли открыть коменданту истинную причину волнения гостьи, к лицу которой словно бы приклеилась угодливая, просительная улыбка, а внутри сражались между собой стыд, надежда и страх.
– Вот в чем дело! Мне кажется, задача совсем простая, – сказал Лепарский. – У меня отличные отношения с господином Цейдлером, и, если вашего слугу не в чем упрекнуть, я легко смогу добиться, чтобы его прислали сюда.
Радость прокатилась по телу Софи теплой волной, но она не подала виду и продолжила тоном глубокого безразличия:
– Значит, вы полагаете, это действительно получится? Такое возможно?
– Совершенно уверен.
– Чрезвычайно признательна, ваше превосходительство.
Тут у нее перехватило дыхание.
– Да… мне нужно сообщить вам некоторые сведения о нем… Его зовут Никита, ему двадцать пять лет…
Теперь она сияла, но генерал не замечал перемены, записывая под диктовку данные.
И вдруг, остановившись, спросил:
– Но почему, мадам, вы раньше мне не сказали?
– Как-то не подумала, – поспешно соврала она и затараторила: – Волосы светлые, глаза голубые, веры православной…
5
Каждый вечер после ужина приверженцы и противники побега заводили спор под звон цепей и посуды. Вот и сегодня заключенные хриплыми голосами старались перекричать друг друга. Одоевскому удалось-таки перекрыть гвалт:
– Господа, господа, дайте мне сказать!.. Вы должны знать это!.. Мы уже приняли меры, и теперь успех нашего предприятия обеспечен!.. Несколько крестьян из ближайшей деревни согласились помогать нам – и благодаря им мы имеем возможность создать запасы продовольствия и инвентаря…
– А чем, интересно, мы им станем платить? – завопил Нарышкин.
– Артельными деньгами!
– Но эти деньги принадлежат всей общине!
– Община голосованием даст нам право распоряжаться ими, – вмешался Николай Озарёв.
– Вы не получите большинства голосов! – заявил Никита Муравьев.
– Получим!
– Ничего подобного!
В этот момент дежуривший сегодня у дверей Аврамов свистнул в два пальца. Все тут же умолкли – как умолк бы выводок гомонящих птенцов, оглуши их звук выстрела. В полной тишине раздался шепот Аврамова:
– К нам инспекция пожаловала!.. Старик собственной персоной!..
Декабристы обменялись тревожными взглядами, еще бы – Лепарский впервые прибыл сюда в столь поздний час. Две минуты спустя в «Великий Новгород» ворвался как безумный лейтенант Проказов и с порога пролаял:
– В шеренгу-у-у стройсь!
Узники давно уже решили никогда не слушаться этого приказа, потому только поднялись в знак уважения к генералу.
– Сомкнуть ряды! Живо, живо! Я кому говорю! – продолжал бесноваться Проказов. – А ну, выходи на середину! Общий сбор! Все собираются тут!
И впрямь вскоре прибежали товарищи из «Москвы», «Пскова», «Вологды». Звенели цепи, все искали себе место в общей спальне, толкая друг друга, устраивались между кроватями, теснились вокруг стола. Проказов продолжал надрывать глотку, наводя порядок, а заключенные тихонько перешептывались:
– Не знаешь, что происходит?
– Вроде бы в шесть прибыл фельдъегерь из Петербурга…
– Ну и что? Он за кем-то прибыл?
– Наверняка за кем-то!
– А может, обыск?
– Как бы там ни было, пахнет жареным…
– Молчать! – рявкнул лейтенант.
Сам он, затаив дыхание, встал по стойке «смирно» – грудь колесом, морда красная, глаза только что из орбит не вылезают: само служебное рвение. Вошел комендант, за ним его племянник, Осип Адамович, и поручик Розенберг. Все трое в парадных мундирах, генерал – в орденах, с лентой через плечо, толстый живот опоясан нарядным шарфом… Обрюзгшее лицо его хранило торжественно-трогательное выражение. Лепарский передал треуголку Осипу, откашлялся и произнес:
– Я собрал вас здесь, чтобы сообщить о чрезвычайно важной новости. Только что прибыл правительственный курьер из Санкт-Петербурга, он передал мне приказ государя. Приняв во внимание отправленное мною ему месяц назад донесение, его величество разрешил мне снять со всех вас – подчеркиваю: со всех вас! – кандалы и цепи, которыми вы скованы. Нет никаких оснований сомневаться в том, что за этой монаршей милостью очень скоро последуют и другие меры, облегчающие ваше положение, и вы наверняка еще более высоко их оцените. Поздравляю вас, господа!
Речь генерала была встречена гробовым молчанием. Николаю, как и другим, потребовалось время – эта секунда показалась коменданту вечностью, – чтобы почувствовать, как в нем начинает бурлить неистовая радость. Его товарищи тоже стали переглядываться – взволнованные, ошалевшие от счастья, не верящие своим ушам. Но никто не мог и пальцем двинуть. Сам Лепарский тоже едва сдерживал чувства: глядя на Станислава Романовича, можно было подумать, что это он нежданно-негаданно получил бесценную награду. Щеки его мелко дрожали, в глазах стояли слезы. Наконец генерал поднял руку, сделал знак – и три унтер-офицера выстроились перед ним, вытянувшись в струнку.
– Немедленно снимите с этих господ цепи! – приказал комендант. – Соберите все, сочтите и положите, сосчитав, в кладовой для инвентаря.
Юрий Алмазов толкнул Николая локтем:
– Ущипни меня!.. Я сплю!..
– Надо поблагодарить Лепарского! – восторженным шепотом предложил Анненков.
– За что? – возмутился Николай, тоже еле слышно. – Разве он нам подарок сделал? Он просто вернул то, что у нас было отнято. Элементарная справедливость!
Однако и его обуревало желание пожать руку генералу. А унтер-офицеры между тем уже переходили от одного узника к другому, снимали с каждого оковы, и цепи с тяжелым звоном падали на пол. Николай подобрал свои, взвесил их на ладони, с каким-то даже дружеским вниманием рассмотрел – так, словно они за это время стали частью его самого, потом шевельнул одной ногой, другой, покачался, постоял, переминаясь с одной на другую и удивляясь волшебной легкости движений. Ему захотелось бегать, прыгать, танцевать – тормошить, теребить, напрягать свои мышцы… Он повернул голову к окну – и взгляд сразу же уперся в решетку.
Когда цепи были сняты со всех, раздался нестройный хор:
– Спасибо, ваше превосходительство!.. Спасибо, Станислав Романович!.. Спасибо!.. Ур-р-ра!..
Под градом благодарностей, рукопожатий, поцелуев (некоторые, расчувствовавшись, бросились к Лепарскому с объятиями) комендант не растерялся: он, смеясь, делал вид, будто отбивается от напавшей на него радостной толпы декабристов. Его принялись качать, и голова его подпрыгивала над головами товарищей Николая, как пробка на волнах. Сам же Озарёв, стоя чуть в стороне, прислушивался к доносящимся до него обрывкам генеральских восклицаний:
– Господа, так я рассчитываю на вас в будущем!.. Ваше примерное поведение, о котором я доложил властям… Нравственный залог, мое за вас поручительство… Только оставаясь достойными монаршего доверия, вы получите…
Когда начальство покинуло острог и обитатели других камер разошлись по домам, жители «Великого Новгорода» унесли со стола грязную посуду, разобрали его и улеглись на кровати. Одна и та же мысль преследовала теперь всех. Николай то и дело потирал одну щиколотку о другую, скрещивал ноги, разбрасывал, тихонько барабанил пятками по тюфяку, снова тер одну лодыжку о другую – и наслаждался видом голых этих щиколоток. Там, где прежде ногу охватывало железное кольцо, теперь была видна розовая, шероховатая кожа. Где-то глубоко в глубине сустава таилась боль, несильная, но напоминающая о себе. Но скоро, конечно, и воспоминание о ней исчезнет. Текли минуты, наполняя душу декабриста необъяснимой печалью. Слух его, приспособившийся к звону цепей, тяготился непривычной тишиной. Раньше приходилось чуть ли не кричать, чтобы тебя услышали на соседней кровати. А сейчас, когда Юрий Алмазов и Александр Розен шептались, сдвинув головы, их еле слышный разговор казался Озарёву чересчур громким.
– Разумеется, я счастлив, что избавился от оков, – шептал гигант Розен, – но нельзя же быть неблагодарными: они так красиво звенели, наши цепи, когда мы шли, а особенно – стоило нам запеть…
– Что ж, получается, ты жалеешь, что их сняли? – удивился Алмазов.
– Знаешь, немножко жалею… В глубине души я гордился ими… А теперь мы вроде как свободны, но – не имея свободы…
Они замолчали. Снова воцарилась тягостная для всех тишина.
Нарушил ее Николай Бестужев, который неожиданно воскликнул:
– А я попрошу вернуть мне мои цепи и сделаю из них памятные кольца! К сведению любителей каторжных сувениров!
– Браво! Одно прибереги для меня! – обрадовался Одоевский.
Другие тут же поддержали его:
– И мне сделай! И я хочу!.. И я…
О тишине забыли, все были оживленны, почти веселы. Но Никита Муравьев внезапно положил конец болтовне, сказав:
– Господа, мне кажется, нам следует принять более серьезные решения. Не знаю, что думаете об императорской милости вы, но я, со своей стороны, полагаю, что теперь было бы абсурдно строить планы побега.
– Почему? – закричал Озарёв. – Совсем наоборот! Теперь нам будет куда легче!
– Нас вполне могут поймать и убить, так зачем же рисковать жизнью в то самое время, когда царь готовится вскоре отпустить нас на свободу?
– Откуда такие сведения?
– Лепарский же дал нам понять, что Николай I, снимая с нас цепи, встал на путь прощения…
– Ну, если вы верите тому, что говорит Лепарский…
– Он порядочный человек, человек чести! – воскликнул Анненков.
– Пусть, но он комендант каторжной тюрьмы, считай, начальник надо всей каторгой! – возразил Николай. – Впрочем, даже если царь и подарит нам два или три года, то все равно придется еще долго платить по его счетам.
– У меня срок дольше вашего, – заметил Нарышкин, – и все-таки, вы видите, я полагаюсь на императора!
В спор вмешались другие узники, и оказалось, что многие из тех, кто еще час назад поддерживал планы побега, теперь считают, что лучше подождать нового проявления монаршей милости. По тому, как изменились их интонации, как они прятали глаза, Николай догадывался о том, насколько ослабела их решимость. Разговор постепенно затихал – так угасает огонь, когда перестают подбрасывать дрова. Надеясь таким образом скрыть, насколько круто изменились их намерения, самые робкие говорили громче всех:
– В любом случае теперь нет необходимости пороть горячку… не отказываясь от наших планов, мы не можем не признать: их следует пересмотреть… пока не суетиться… все отложить на время… а там поглядим…
Даже Якубович, даже Одоевский и Юрий Алмазов, и те, казалось, поколебались.
– Делаю вывод, господа, – объявил Николай, – что императорское великодушие сковало нам ноги куда надежнее, чем десятифунтовые кандалы. Это теперь мы в оковах!
Никто не отреагировал на горечь его слов, и Озарёв понял, что погасил радость товарищей. Он лег, заложив руки под затылок, уставился в потолок. Спустилась ночь – синяя, прохладная сентябрьская ночь. Откуда-то несло дымком, как всегда бывает в эту пору. Тишина в комнате царила оглушающая. Где-то вдалеке ухнул филин. Чтобы стало повеселей, Николай принялся мечтать о том, как завтра удивится Софи, увидев его без цепей.
* * *
Новость распространилась по деревне, как огонек по бикфордову шнуру, и так же взорвала спокойствие. В тот же вечер Екатерина Трубецкая собрала у себя всех дам, чтобы отметить событие. Устроили настоящий праздник: зажгли полдюжины свечей, откупорили две давно пылившиеся в ожидании лучших времен бутылки мадеры. Никто не сомневался в том, что планы побега рухнули. Софи испытывала несказанное облегчение. Она думала о Николае, с которого сняли цепи, о Никите, который непременно приедет, и сердце ее таяло от благодарности судьбе. Она была уверена, что скоро увидится с Никитой, хотя Лепарский до сих пор не получил ответа от иркутского губернатора. Что такое месяц, полтора или даже два месяца для человека, хорошо знающего обычаи российских властей? В этом громадном, раскинувшемся на тысячи верст беспозвоночном организме – а Россия именно такой организм! – нерасторопность становится основой могущества. Теперь, что бы ни произошло, Софи знала, что Лепарский ее никогда не оставит. Она предложила тост за здоровье Станислава Романовича – все с энтузиазмом присоединились. Дамы немножко опьянели и были крайне возбуждены. Разместившись в комнатке Каташи кто на ящиках, кто на сундуках, кто на кровати, они почти кричали, перебивая друг друга.
– Ах! Как хорошо, что все позади! Хороши бы мы были с этим коллективным побегом!
– Мужчины – совершенные дети! Представляете, как мы бы тянулись караваном по Сибири?!
– Да я бы в любом случае отказалась! Я и отказалась!
– Ну а я! Я тоже!
– Дорогая, я просто заново живу! Еще совсем немно-о-ожечко, и мне понравится Чита!
Огоньки свечей плясали в их глазах, мелькали в полутьме то светлый ручеек рукава, то изморозь кружевного узора, то сине-зеленая клетка шотландского шарфа… Хозяйка дома попросила Полину спеть какие-нибудь куплеты из парижских. Полина подумала, потом вся вытянулась стрункой и начала по-французски резковатым, но приятным голоском:
Будь бедней святого Рока Иль богаче, чем банкир, Будь ты круглым, словно кокон, Иль скелетом, как факир, Если весел ты, дружок, Побежали на лужок! Заведем мы хоровод, Праздник будет целый год, Крикнем громче петуха: Ку-ка-ре-ку! Ха-ха-ха! Лишь бы всем вина хватало: Для веселья бочки мало, — Пьет дурак из хрусталя! О-ля-ля-ля-ля-ля-ля!Песенка, которую Полина сопровождала задорными подмигиваниями и покачиваниями бедер, безумно развеселила ее подруг.
– Можно подумать, мы в Париже… – вздохнула Каташа Трубецкая.
Натали Фонвизина попросила спеть что-нибудь более нежное – чтобы «мелодия брала за душу», тогда Елизавета Нарышкина взяла гитару и исполнила незнакомый Софи старинный русский романс, в котором юноша, услышав вынесенный ему приговор, прощается с любимой. У юноши из романса были «синие, как васильки, глаза», «золотые, как спелая рожь, кудри» и «белые, как жемчуга, зубы», и Софи снова, словно воочию, увидела Никиту со светлыми, взъерошенными степным ветром волосами… У женщин, собравшихся тесным кружком, увлажнялись глаза, склонялись головы, все их мысли были направлены к мужьям, томящимся в остроге. Чтобы развеять грусть, Полина Анненкова спела еще одни веселенькие куплеты, а Александрина Муравьева прочитала стихи Пушкина. Бутылки опустели, в самоваре закипела вода. Каташа накрыла чайный стол: поставила на ящик бисквиты, варенье… Софи просто физически ощущала, как ей тепло с этими недавно еще совсем чужими женщинами, которых только случай свел здесь, в сибирской глуши. Она ушла из гостей одна из последних. Лунный свет заливал деревушку, и в нем избы казались фигурами из курса геометрии с совершенно невероятными очертаниями. Фантасмагория, да и только! С гор, где накануне выпал снег, подул холодный ветер. Оказавшись дома, Софи, вся продрогшая, нырнула в постель и долго лежала с открытыми глазами, бездумно вглядываясь в темноту: она слишком устала, чтобы о чем-то размышлять, но была слишком возбуждена, чтобы заснуть.
* * *
Лепарский сел на постели, высек огонь, подул на трут и взглянул на часы. Пять утра. Вот уже четвертый раз за сегодняшнюю ночь он так внезапно просыпается: все кажется, будто бьют в набат. Вспышки огня, звуки трубы, топот сапог на улице… Он прислушался… Нет, ночь в Чите нынче выдалась совсем тихая. И все-таки тишина не уменьшала его тревоги. Разумеется, вчера вечером он почувствовал, что, снимая с узников оковы, лишает их желания бежать с каторги, но – что там происходило после его ухода? Зачинщики вполне могли переубедить, да просто подавить остальных своим авторитетом! И, вполне возможно, сейчас эти господа готовятся напасть на караульных… На висках генерала выступили капли холодного пота, сердце бешено забилось. Он выпил в столовой ложке воды капли, назначенные доктором Вольфом специально для таких случаев внезапного недомогания. Но тревога не отпускала, наоборот, усиливалась, к ней прибавилась непонятная тоска… Он встал, оделся, с трудом натянул сапоги, нацепил на голову парик и открыл дверь спальни.
Его денщик спал, улегшись на полу поперек двери. Лепарский перешагнул через него, но тот и глаз не приоткрыл. «Меня тут зарежут, а этот болван и не заметит!» – подумал комендант. И тут же представил себе толпу мятежников, которая набрасывается на него, связывает по рукам и ногам, сжигает его архивы… Мятежников с лицами тех самых людей, которые накануне уверяли в признательности ему и государю. Как легко оказалось им превратиться в бандитов, насильников! Эк гримасничают! Вот Трубецкой, вот Волконский, Одоевский, Озарёв… Но почему бы и нет? Жажда свободы иногда толкает на преступление натуры самые что ни на есть благородные, высокие духом… В любом случае правильно он сделал, что рассказал адъютантам о готовящемся заговоре и приказал удвоить посты по всей каторге. «Но достаточная ли это мера? Ох, не знаю, не знаю, ничегошеньки я не знаю и не понимаю… Господи помилуй, что же я столько глупостей-то делаю?.. И когда я перестану трястись?..»
Проходя мимо будки, поставленной у его дома, комендант увидел часового, который сладко спал, опершись на ружье: кивер набекрень, губы умильно приоткрыты и вытянуты трубочкой – словно у дитяти, ищущего материнскую грудь… Но Лепарский отнюдь не умилился: напротив того, взбешенный, он как следует заехал ногой по голени часового, выругался по-польски, потом по-русски и продолжил путь. А часовой, разлепив веки, увидел человека в расстегнутом генеральском мундире, который шел один по ночной предрассветной улице, решил, что это сон, снова закрыл глаза и мирно заснул.
Занимался день… Лепарский почти бежал в острог, раздирая в клочья пелену тумана, пахнувшую дымом и сырой травой. По мере того, как он приближался к цели, страх усиливался, превращался в навязчивую идею, уже некуда было от него деться… Наконец впереди замаячила высокая ограда из кольев – слава Богу, кажется, все там спокойно… В столь ранний час тюрьма выглядела какой-то даже хрупкой, почти фантастической… Лепарский с любовью всматривался в надежно запертую шкатулку: отлично, все игрушки в целости и сохранности! Все до одной на месте! «Я принадлежу им, но и они мне!» – с ревнивым удовлетворением подумал комендант. Часовые по обе стороны ворот поприветствовали его. Совершенно успокоенный безмятежным выражением их лиц, генерал вернулся домой, лег в постель и проспал без всяких помех до момента, когда сыграли зорю…
6
Когда Николай вошел в комнату, Софи первым делом взглянула на его свободные от оков ноги. Он прошелся перед ней павлином: голова чуть откинута, руки чуть отставлены в стороны – так ребенок хвастается новым костюмчиком: посмотрите-ка, мол, как я хорош! Софи ужасно разволновалась от всего этого.
– О, Николя! До чего же радостно видеть тебя таким! – прошептала она.
– Но теперь ты никогда не узнаешь, что я уже подхожу к дому! – засмеялся он. – И я смогу наконец застать тебя врасплох!
Позади Озарёва стояли два солдата: у свободы тоже есть свои границы. Декабрист жестом приказал им выйти в сени, закрыл дверь и резко, даже грубовато привлек к себе жену. Крепко прижал ее к себе сильными руками.
– Ну, кто из нас был прав? – снова прошептала она. – Вот все и уладилось. Что теперь говорят твои друзья?
– Не хотят бежать…
– А ты разве хочешь?
– Не знаю… С той минуты, как ты, и ты тоже, даже ты стала возражать против наших планов… В конце концов, это смешно, это в какой-то степени даже обидно: я постоянно нуждаюсь в твоем одобрении, желая что-то предпринять! Но иначе я ни в чем не уверен… Я сбит с толку… Но ты счастлива?
– Очень счастлива! Очень-очень!
– Ты меня любишь?
– О да! – порыв Софи был искренним, но она сама с изумлением и недоверием услышала это восклицание. Наверное, прошлое вдруг пробилось из глубины на поверхность…
Николай приподнял ее, медленно покружился с женой на руках по комнате и приблизился к постели. Никакого звона… Легкие, свободные движения… Софи впитывала в себя непривычную тишину, смаковала ее. В молодой женщине словно все расцветало, а это было верным признаком небывалого наслаждения, безоблачного счастья, которое вот-вот обрушится на нее. Она отдавалась мужу с чувством, что одержала победу над самой собой.
Позже, всматриваясь в лежащего рядом Николая, лицо которого выглядело горделивым и нежным, Софи раздумывала над тем, почему до сих пор не решилась сказать мужу о попытке Лепарского выписать сюда Никиту. Сначала ей казалось, что лучше до поры до времени действовать втихомолку, а теперь она уже и не знала, чем оправдать столь долгое умалчивание. Она так давно и беспричинно оттягивала неизбежный разговор с Николя, что теперь завести этот разговор казалось попросту невозможным. Абсурд, глупость несусветная! И, тем не менее, она почему-то была уверена: Николай обрадуется, узнав, что скоро приедет Никита. Ну, скажет она ему, скажет – не сегодня, значит, завтра непременно скажет… Или на днях… Надо, чтобы подвернулся удобный случай… Да, надо!.. Она ласково погладила шею мужа, плечо… Ласково… Так гладят мужчину только влюбленные женщины! Потом Софи придумала себе игру: закрыв глаза, отчетливо представить себе облик мужа – до мельчайшей детали, до родинки… Закрыла – и очень скоро мысли ее приняли совсем иное направление.
Назавтра она застенчиво спросила коменданта, не стоит ли ему еще разок побеспокоить Цейдлера. Он в ответ засмеялся и посетовал, что мадам Озарёва, дескать, слишком нетерпелива…
Отшумели тоскливые осенние ливни, выпал первый снег. О том, чтобы посылать декабристов работать к Чертовой могиле, теперь не могло быть и речи, а поскольку занять их чем-то было необходимо, то и стали водить арестантов в большой сарай, где находились ручные жернова. Каждому положили норму: два пуда зерна в день. Те, кому эта деятельность казалась чересчур нудной, как правило, искали себе замену среди товарищей, жаждавших физического труда, и те охотно шли навстречу просьбе. А иногда охранники, прельстившись мелкими чаевыми, соглашались избавить заключенных от прискучившей работы, выполнить ее вместо них. Дежурный офицер набирал узников и для работ на открытом воздухе: когда требовалось разобрать рыбачьи хижины на берегу реки, или обтесать ледяные глыбы, или расчистить заснеженную дорогу… Николай, который постоянно искал случая потратить энергию, с удовольствием принимал участие в таких вылазках.
Но когда мороз трещал по-настоящему, все сидели по камерам, где от раскаленных добела дымящихся печей исходил противный до тошноты запах. Двери были накрепко заперты, но за ними обретал все права свободный дух, тем более что библиотека, которую заключенные собирали из книг, присланных в Читу в посылках от родственников и знакомых, подрастала и подрастала: теперь в ней насчитывалось уже больше трех тысяч томов. Самое интересное обсуждали все вместе. А кроме того, заключенные, взявшиеся быть педагогами, обучали желающих французскому языку, английскому, немецкому, испанскому, греческому, латыни… Время от времени в камерах устраивались лекции, и нередко послушать их приходили комендант и его адъютанты. Слушатели рассаживались по скамьям, кроватям, некоторые – прямо на полу, оратор взбирался на стол. Никита Муравьев читал курс тактики и стратегии, Завалишин – высшей математики и астрономии, доктор Вольф – химии и физиологии, Муханов – истории, Одоевский – русской литературы. Мало того, последний предложил Николаю Озарёву провести семинары по литературе французской: от Корнеля до Вольтера, – но, увы, успех его семинаров был не слишком велик, потому что аудитория знала о предмете примерно столько же, сколько и «профессор».
Позже Лепарский разрешил внести в острог музыкальные инструменты, и тогда на тряской телеге прибыло с грехом пополам, совершенно растеряв в пути строй, заказанное артелью в Иркутске фортепиано. Вслед за Полигимнией на каторгу явились и другие музы. Отдельное строение в глубине двора было отдано любителям искусства. Декабристы стали устраивать здесь концерты, проводить на досуге музыкальные занятия: Юшневский отлично играл на рояле, Вадковский – на скрипке, Крюков и Свистунов на виолончели… Ветер относил дивные мелодии Глюка далеко от острога, и люди, услышав их, бросали работу и предавались мечтам. А иногда декабристы собирались во дворе и проводили под руководством того же Федора Вадковского хоровые репетиции – спевки. И тогда окрестные крестьяне облепляли снаружи забор, и лица у них становились серьезные и вдохновенные – словно это пение звучало в церкви.
Занятия искусством отнюдь не мешали декабристам быть рачительными хозяевами и думать о материальном обеспечении своей жизни, о ее комфорте, о гигиене. У дежурных, которым издавна вменялось в обязанность мести камеру, мыть посуду, разводить самовар, теперь появились «подручные» – мальчишки из местных. И тут тоже все расходы взяла на себя артельная касса, куда богатые заключенные вносили деньги на общие нужды и на помощь бедным. Благодаря посылкам из России – а число их с каждым месяцем увеличивалось, – добрая треть заключенных к этому времени уже более чем прилично одевалась. У женатых была даже возможность сменить рабочую одежду на «выходной» костюм. Те, у кого собрался более или менее обширный гардероб, отдавали поношенные вещи нуждавшимся товарищам. Чтобы уменьшить расходы артели, некоторые арестанты научились ремеслам. Среди самых искусных портных называли Арбузова и князя Оболенского, а кроме них, как говорили, Ивану Пущину просто не было равных по части штопки, Петр Фаленберг шил колпаки, Николай Бестужев, помимо картин, славился еще и тем, как умеет подбивать к обуви новые подметки, чинил часы, вырезал деревянные фигурки, ковал все, что куется…
С 1 января 1829 года – нововведение: Лепарский разрешил и одиноким декабристам выходить из острога. Пусть даже в сопровождении двух охранников, пусть с обязательством возвратиться в тюрьму до заката, но они могли теперь ходить в гости к друзьям. Николай тут же воспользовался этим послаблением, чтобы заказать Бестужеву портрет Софи. Художник представил свою прелестную «натурщицу» у окна, развернув ее в три четверти к мольберту, на плечи накинута была шаль. Ему удивительно точно удалось передать грусть в глазах модели, изобразить красивый изгиб длинной белой шеи, высокую прическу. Заказчику не понравился суровый стиль картины, зато Софи сказала, что ей портрет как раз очень по душе.
Начался март месяц, а с ним пришли и жестокие снежные бури. Однажды вечером, когда Лепарский уже собрался отходить ко сну, прибежал его ординарец и сообщил, что его превосходительство желает видеть дама. И не просто видеть, а срочно переговорить с генералом. Станислав Романович быстро оделся и, ворчливо что-то приговаривая себе под нос, вышел в прихожую. Там оказалась Софи. Личико ее в обрамлении капюшона выглядело совсем юным, но в глазах блестел огонек тревоги. Увидев коменданта, молодая женщина горячо зашептала:
– Ради Бога, простите, ваше превосходительство, что пришла в столь поздний час, но умоляю вас, умоляю, разрешите доктору Вольфу сию же минуту выйти из тюрьмы и отправиться со мной! Требуется неотложная помощь, его помощь!
– Кто-то заболел? – заволновался генерал.
– Да… Госпожа Муравьева… и госпожа Анненкова…
– Что-то серьезное? Тяжело заболели?
Софи вздрогнула.
– Пока нет… Но может быть… Дело в том… понимаете… дело в том, что они рожают… обе…
Лепарского словно обухом по голове хватили. Глаза его едва не выпрыгнули из орбит, рот под густыми усами, присущими, скорее, какому-нибудь бессарабскому господарю,[2] а не сибирскому коменданту каторжных рудников, как открылся, так и не закрылся – челюсть отвисла…
– Как же это?.. Почему меня никто не предупредил?.. – забормотал он, чуть опомнившись.
– Да это же ясно, ваше превосходительство! Было так заметно, все думали, вы и сами видите…
– Ничего я не видел! – в сердцах воскликнул генерал. – Что я могу увидеть? Я старый холостяк! Нет, вы должны были… вы…
И внезапно растерянность сменилась гневом. Лепарский побагровел, надул щеки и залепил себе в грудь кулаком.
– Они не имели права! – заорал он.
– Как это так «не имели права»? – удивилась Софи. – Думаю, мне следует вам напомнить, господин комендант, что в обязательствах, которые нам всем пришлось подписать перед отъездом на каторгу, был пункт о судьбе детей, здесь рожденных.
– Речь шла о детях, могущих родиться после конца срока! Тогда, когда заключенные переберутся на поселение!
– Ничего подобного, никаких таких уточнений там не было!
Лепарский пожал плечами.
– Но зачем же нужны были такие уточнения? По регламенту, свидания между заключенными и их супругами должны проходить в присутствии охраны. А получается, раз госпожа Муравьева и госпожа Анненкова оказались теперь в такой… в таком положении… получается, что никаких охранников во время их встреч с мужьями не было, так ведь?
– Вы позабыли, господин генерал, что сами же разрешили часовым стоять за дверью, когда мы встречаемся с мужьями!
– Ох, да… да, да… Как же я дал такую слабину!.. Я просто не смог вас подозревать в… в этом… в том, что вы… – Лепарский никак не мог подобрать слов, и чем больше путался, тем глубже становилось его смущение и тем сильнее бесила его эта нахальная француженка, которая осмеливается ко всему еще и смотреть на него с иронией.
– Отлично, сударыня, превосходно! – проворчал он, наконец. – Наверное, у меня было о чем думать, кроме… кроме этого вздора!.. Всякое случается в моем возрасте… и в моем положении… Но что, что я напишу в Санкт-Петербург по поводу этих не дозволенных законом рождений? Как я стану их оправдывать?.. сам оправдываться? Вы об этом подумали? Всё же свалят на меня, только на меня! Ну, и, вполне возможно, отправят в отставку… или передвинут в другое место… Что еще за беда, просто беда, да и только!.. Но как же получилось, что они рожают одновременно?
– Случайное совпадение. Досадное, согласна.
– Очень, очень досадное!.. Но как поспоришь с капризами природы?.. Но… но… скажите, пока все идет, как положено?
– Нет. И одна, и другая роженицы в опасности. Госпожа Муравьева страшно слаба, а госпожа Анненкова несколько дней назад подхватила простуду. Ее ужасно лихорадит. Деревенская повитуха – совершенная дура! Ах, простите!.. Но если не придет доктор Вольф, ни на что хорошее нельзя надеяться… Быстрее, решайтесь же быстрее, ваше превосходительство!
Лепарский неожиданно перестал возмущаться.
– Да-да! Пойдемте быстрее за Вольфом! – заторопился он.
Денщик подал генералу шинель, треуголку и шпагу, но шпагу тот оттолкнул и приказал:
– Разбуди сейчас же Онуфрия, пусть приедет за нами в тюрьму!
На улице ветер ударил в вышедших с такой силой, что Софи пришлось схватиться за руку Лепарского, иначе упала бы. Поднятый с земли снег комьями летел в лицо. Они с трудом, пошатываясь на каждом шагу, медленно продвигались вперед сквозь вихри белых султанов. Их нагнал ординарец с фонарем: огонек за решетками дрожал, с грехом пополам разрывая вьюжный сумрак, да и то лишь поблизости. Когда возникли из тьмы колья ограды, Софи удивилась так, словно в степи вдруг наткнулась на нос корабля. Сразу вслед за этим перед нею встала громадная, как ей показалось, готовая раздавить их с Лепарским деревянная стена. Где-то сбоку закричал часовой. Потом приоткрылись ворота, и навстречу коменданту с дамой вывалились несколько солдат, шедших на широко расставленных ногах, чтобы хоть как-то выстоять против урагана, за ними – растерянный унтер-офицер, который никак не мог застегнуть свою портупею. По приказу генерала он послал кого-то за доктором Вольфом, затем пригласил гостей в караульную будку, где из-за жарко натопленной печки отвратительно воняло мокрыми сапогами. Секунду спустя Софи почувствовала, что к горлу подступает тошнота. Но тут вошел доктор – спокойный, серьезный, в черной ермолке и с саквояжем. Почти в ту же минуту зазвенели колокольцы: это подъехали сани. Они сели в сани и тесно прижались друг к другу, иначе было не поместиться втроем на сиденье.
– Сначала – к госпоже Анненковой! – скомандовала Софи.
Кучер взмахнул хлыстом, разворачивая тройку.
– Анненков и Муравьев тоже очень хотели бы прийти… – осторожно сказал доктор Вольф. – Не изволите ли разрешить им, в порядке исключения – учитывая обстоятельства?..
– Эти обстоятельства возникли исключительно по их вине! – проворчал комендант. – И я вовсе не желаю отблагодарить их за то, что обрюхатили жен, тем, что разрешу присутствовать при родах! Трогай, Онуфрий!
Возница хлестнул лошадей, они тронулись с места. По дороге врач задавал Софи вопросы, смысл которых оставался для Лепарского скрыт, но которые, тем не менее, казались ему не очень приличными: речь шла о каких-то схватках, абдоминальных болях, отходе вод… и впрямь, поди тут разберись!
И не заметили, как оказались в самом эпицентре драмы: изба, где жила Полина Анненкова, была, казалось, перевернута вверх дном. В большой комнате крестьянки грели воду, обмениваясь воспоминаниями о собственных родах, хозяин избы и два его сына, шестнадцати и четырнадцати лет, жались друг к другу в уголке за печкой – тупые, никчемные, не допущенные к участию в таинстве. Увидев входящего генерала, они выскочили из своего укрытия и стали в пояс ему кланяться, затем подали знатному гостю табуретку, положив на нее подушку в наволочке из мешковины. Лепарский сел и расстегнул шинель. Роженица за тонкой перегородкой не переставая стонала, эти стоны то стихали, то становились непереносимо громкими и жалобными, особенно тяжело было слышать, как она начинает задыхаться и рычать, в этом рыке генералу чудилось что-то даже не совсем человеческое… Доктор Вольф с Софи прошли туда, к постели Полины.
Оставшись один, Станислав Романович вдруг понял, что он смешон: надо же в семьдесят пять лет оказаться втянутым в столь интимное женское действо. Он прислушивался к хрипам и вздохам Анненковой, пытался представить себе ее страдания и думал: ну а ему-то что здесь делать, он-то зачем явился сюда в мундире посреди ночи… И все-таки не мог вернуться домой, пока не убедится, что с обеими молодыми дамами все в порядке. Проклиная в душе этих женщин и их мужей за неосторожность и нарушение правил, он, тем не менее, испытывал некое тревожное и сердечное любопытство к тому, чем же это все закончится. И вообще… Хотя бы потому, что младенцам оказалось суждено появиться на свет Божий тут, в его «владениях», он имеет право взглянуть на них, ну, и… ну и должен их защищать… Да-да, это его долг как коменданта… Чем больше генерал себя убеждал, тем больше крепло в нем ощущение, что он и сам причастен к рождению этих маленьких сибиряков – с ними прирастала его семья… Когда доктор Вольф и Софи показались на пороге комнаты, он вскочил и спросил с истинно отцовским волнением:
– Ну, что там? Как?
– Все идет нормально, – ответил доктор, – но пока еще слишком рано. Мы пойдем к Александрине Муравьевой.
– И я с вами! – обрадовался Лепарский.
Сани, весело звеня бубенчиками, несмотря на то что все вокруг еще спали, помчались на другой конец деревни. В некоторых окнах показались недовольные лица. И увидев призрачный экипаж с пассажиром-генералом в полной форме, и самые смелые спешили вновь забиться под одеяло.
В этой избе – словно и не выходили из дома Анненковой – генерал увидел все тех же (или таких же?) болтливых баб и растерянного мужика, точно так же кипела вода в котле, точно так же были раскиданы простыни, точно такую же ему предложили табуретку… Но крики из-за перегородки показались ему тут еще более дикими. И ему стало нехорошо при мысли о нежных женских телах, которые раздирались на части ради того, чтобы дитя явилось на свет… Когда доктор сказал ему о том, что Александрине Муравьевой предстоит мучиться еще часа четыре, а Полине Анненковой – так и все семь или восемь, он пришел в ужас: бедняжкам не перенести этих мук, они умрут, они умрут…
– Нет-нет, надо что-то сделать, нельзя заставлять их так мучиться дальше! – повторял он шепотом.
Доктора раздражала его растерянность, и он посоветовал коменданту идти спать, но тот гневно отказался – так, словно ему предложили дезертировать с поля брани в самом разгаре сражения.
И снова, оставив роженицу на попечении дряхлой повитухи, они, звеня колокольцами, понеслись по деревне. Вскоре собрались все жены узников – им хотелось поддержать подруг в часы страданий и надежд. Три раза за ночь сани совершали пробег от избы до избы и обратно. Чем дальше, тем более усталым выглядел Лепарский, на дряблых и бледных старческих щеках пробилась седая щетина. Он с трудом удерживал глаза открытыми. На рассвете из комнатки Александрины Муравьевой послышался писк, а несколько минут спустя, сквозь застилающий глаза туман, – ведь даже и на пять минут прикорнуть не удалось! – генерал увидел Софи Озарёву с маленьким сморщенным красным уродцем на руках… Уродец гримасничал, извивался и отчаянно вопил. Все женщины тут же собрались вокруг и принялись кудахтать.
– Это девочка! – воскликнула Софи. – Только посмотрите, какая она красавица!
Все принялись кудахтать еще громче, генералу пришлось согласиться с общим мнением – не оставаться же единственным, кто считает, что в этом крошечном чудовище решительно нет никакой красоты. Но почти сразу же появление в этом мире нового существа наполнило его каким-то опасливым почтением. Теперь он и вовсе не жалел, что принял решение остаться тут до конца. Новорожденную уложили в колыбель и отправились дальше. Совсем рассвело, когда Полина Анненкова тоже разродилась. И тоже – девочкой. Измученный бессонной ночью и переживаниями, но довольный Лепарский отправился наконец домой, чтобы побриться.
А вечером, приехав узнать, как себя чувствуют роженицы, он обнаружил у изголовья Александрины Муравьевой почти всех здешних дам. Александрина выглядела даже не просто бледной, а какой-то обескровленной, но лучилась счастьем. Поздравив молодую мать, генерал счел своим долгом напомнить собравшимся, как трудно ему будет заставить власти доброжелательно встретить известие о рождении девочек. Однако, вовсе не желая понимать его проблем и не проявив ни малейшего к нему сочувствия, Мария Волконская, заявив сначала, что он тревожится по пустякам, подумала минутку и воскликнула:
– Да вам же достаточно вообще ничего не говорить об этом счастливом событии в вашем донесении!
– Господи, да неужто вы и впрямь полагаете, будто у правительства нет других источников информации, кроме моих донесений? – хмуро отозвался Лепарский. – В Санкт-Петербурге узнают обо всем, что здесь происходит, едва ли не раньше меня самого! Может быть даже, из ваших писем… Вот если бы вы мне пообещали ничего не говорить родным о случившемся…
– Вы хотите, чтобы наши семьи ничего не знали о рождении наших детей?! – взволнованно прошептала Александрина. – Но это же бесчеловечно, ваше превосходительство!
Лепарский обхватил руками голову – как будто боялся, что иначе она взорвется.
– Но что же делать, что делать? – почти простонал он.
– Да ничего, – спокойно ответила Софи. – Просто подождать. Вот увидите, Станислав Романович, все прекрасно устроится и само собой. Кстати! Полина Анненкова поручила мне спросить вас: поскольку вы в свое время любезно согласились стать посаженым отцом на ее свадьбе, может быть, вы согласитесь стать также крестным ее дочери?
– Мне тоже хотелось попросить вас об этом для нашей с Никитой Михайловичем малютки! – застенчиво добавила Александрина Муравьева.
Генерал вскинулся, намереваясь ответить, но почувствовал, что теряет равновесие в этом порыве эмоций – так, словно, находясь все время на твердой почве, вдруг ступил на территорию зыбучих песков… Свидетельство уважения к нему, только что проявленное со стороны рожениц, обезоруживало коменданта, вызывало растерянность, ослабляло его позиции… Он пробормотал:
– Благодарю, благодарю вас, мадам… Я польщен, такая честь… – Но тут же, почуяв ловушку, заговорил более громко и более жестко: – Давайте не возвращаться к прошлому! Что сделано, то сделано. Но мне хотелось бы, сударыни, я обращаюсь ко всем вам, мне хотелось бы, чтобы вы пообещали мне впредь…
Говоря, он наблюдал за женскими лицами, а выражение их с каждым его словом становилось все более лукавым. Жизнь вокруг него продолжала происходить независимо от его желаний и просьб: это была тонкая, едва уловимая материя, и это была – фронда! А он сам был сразу и охотником, этаким страшилищем, и добычей…
– В общем, я надеюсь на вас, сударыни, – заключил он. – Надеюсь в том, что больше такие намерения никогда не родятся в ваших головках!..
Боже! Какую двусмысленность он себе позволил! Генерала словно обдало холодной водой: надо же было так неловко выразиться! Внезапно его осенило: а вдруг среди его нынешних слушательниц есть уже беременные?! Он с подозрением оглядел женщин, попытался оценить объем талии каждой, но платья были такими тесными в поясе… Ну и как доверять им, если у них полно приспособлений, чтобы все скрывать до поры до времени: всякие там корсеты, шемизетки, казакины… Как же, заметишь тут округлости в неположенном месте!.. Все они лгуньи! Предчувствуя завтрашние трудности, генерал проворчал:
– Прошу вас, сударыни, не вынуждать меня к запрету ваших свиданий с мужьями!
На этот раз все лица стали серьезными.
– Неужели, ваше превосходительство, вы рассматриваете возможность столь сурового наказания? – вздохнула Екатерина Трубецкая.
А генералу вдруг понравилось: вот как славно он припугнул этих милых дам: милые-то они, конечно, милые, но ни к чему демонстрировать подобное легкомыслие! Но все-таки Лепарский твердо пообещал, что разрешит на следующий день счастливым отцам «нанести кратковременный визит супругам и младенцам». С тем и расстались.
* * *
Прошел месяц, не только никакого выговора, но даже тени упрека из Санкт-Петербурга не последовало, Лепарский успокоился, и состоялись двойные крестины. Возвращаясь домой, Софи никак не могла одолеть печаль: что ждет этих двух девочек, родившихся на каторге, какое будущее? Она с ужасом вспоминала слова, которыми определял это будущее подписанный ею, как и всеми женами декабристов, перед отъездом в Читу документ:
«Женам государственных преступников, которые последуют за мужьями в Сибирь, должно будет разделить их участь, утратить свое прежнее звание и признаваться впредь лишь женами ссыльнокаторжных, а прижитые в Сибири дети будут зачислены в казенные крестьяне…»
Она просто не могла поверить, что этот пункт предписания станут соблюдать буквально. Но даже если правительство решит проявить меньшую суровость, чем обещало, то все равно – не получится ли так, что дети осужденных и сами будут осуждены на вечное изгнание? И один только доктор Вольф, кажется, сознает масштабы опасности. Он сказал ей недавно, и у него при этом был такой… такой его особенный взгляд: как будто он смотрит своими темными глазами откуда-то из глубины и в самую глубь души… право, это так усиливает его обаяние… он сказал: «Разве не странно, мадам, что природа, от которой все зависит, не захотела, чтобы жены каторжников рожали сыновей родине, которая бросила в тюрьму их отцов?»
А все дамы, между тем, наперебой восхищаются малютками, оспаривают право их баюкать, нянчить и мечтают о том, чтобы поскорее обзавестись собственными… В этом не было бы ничего удивительного, если бы среди самых пламенных мечтательниц не было Марии Волконской, Натальи Фонвизиной и Александрины Давыдовой – ведь все они, как и Александрина Муравьева, оставили своих детей в России… Уже зная, что ей не суждено иметь детей, Софи старалась оградить себя от их увлечений. Единственное, о чем она горевала, так это о том, что Сереженька растет так далеко от нее и что она узнает о нем только из писем Михаила Борисовича.
* * *
Некоторые декабристы с приближением Пасхи впали в некое мистическое нетерпение, и чем меньше до Светлого Христова Воскресения оставалось времени, тем сильнее овладевала ими эта лихорадка. Великий пост был единственным временем в году, когда им разрешалось посещать церковь. Многие на Страстной неделе соблюдали строгий пост. Иконы во всех камерах украсили веточками освященной вербы, работы были отменены, каждый день солдаты вели каторжников в храм, к началу службы, им было отведено особое место у самого входа. Николай с наслаждением вслушивался в замогильный голос дьякона, ловил вдохновенный шепот батюшки, а взгляд его то и дело обращался к группе женщин, выискивая на фоне горящих свечей тонкий профиль Софи. Когда началась проскомидия, ему почудилось, будто сам Христос смотрел на этот крошечный уголок земли, который назывался Читой. Он упал на колени, перекрестился с таким пылом, с каким осеняют себя крестом только дети, и в сердце своем воззвал к милости Господней. Он, как и все его товарищи, мечтал присутствовать на торжественном ночном богослужении в Страстную субботу, но в этой милости им было отказано под предлогом комендантского часа. Лепарский от имени властей всего лишь и прислал им по крашеному яичку и по ломтику освященного кулича… В Пасхальную ночь они жадно прислушивались к отдаленному трезвону колоколов, в полночь похристосовались со слезами на глазах. Назавтра генерал сам приехал поздравить арестантов: будучи католиком, он, тем не менее, приспособился к православным обрядам и потому с порога воскликнул:
– Христос воскресе!
Наверное, даже если бы Лепарский объявил об амнистии по случаю великого праздника, это вряд ли вызвало бы такой радостный отклик. А сейчас весь острог возликовал ему в ответ.
– Воистину воскресе! – дружно отозвались декабристы.
Эти простые слова, звучащие каждый год уже в течение многих столетий, обладали для Николая какой-то особенной, умиротворяющей властью, ничто на свете не могло подарить такого покоя его душе. Мало того, что он смягчился: у него прибавилось сил, у него появилось ощущение, похожее на то, какое бывает у путника, после долгого путешествия по темным чащам, по густым буреломам вышедшего наконец на солнечную поляну и сбросившего груз…
После праздников Софи снова напомнила Лепарскому о его намерении более энергично вмешаться в судьбу Никиты. На этот раз генерал не стал искать никаких отговорок, а просто пообещал завтра же написать в Иркутск. Это возродило в Софи надежду, впрочем, весеннее солнце и отличная погода, кажется, всех сделали оптимистами. По деревне то тут то там строили новые избы, сюда стали приезжать на постоянное жительство торговцы, явно подсчитавшие уже, какую прибыль смогут извлечь из коммерции пусть и в глуши, но там, где, по слухам, ссыльные дамы получают приличные деньги из России, да и сами жители Читы, боясь, наверное, что пришельцы обойдут их, стали открывать лавки, и так странно было видеть на деревенской улице витрину с тканями, хозяйственной утварью или принадлежностями для шитья… Население росло, богатело и благословляло «господ каторжников», ставших причиной этого неожиданного процветания.
В июне началась такая страшная жара, что Лепарский разрешил заключенным купаться в речке, и земляные работы у Чертовой могилы стали для них теперь лишь, так сказать, трудовой разминкой, прелюдией к погружению в прохладную чистую воду. После купания они обсыхали на берегу, лениво обсуждая новости, долетавшие из другого мира. Мира, где шла, к примеру, война с турками, по-прежнему весьма для них интересная. После неудач вначале русские спохватились, взяли себя в руки и стали одерживать победу за победой под водительством генерала Дибича, необыкновенно живого, деятельного и импульсивного, закипавшего из-за любой мелочи. Забавно, что после успехов на турецком фронте за горячность и за особенную внешность: Иван Дибич был огненно-рыжий, низенький, плотный, с широкими плечами и короткой шеей – его прозвали Самовар-паша. Этак дело пойдет, говорили декабристы, наши вскоре станут лагерем у Константинополя! А когда враг будет окончательно разбит, государь – какие тут могут быть сомнения! – празднуя триумфальное завершение кампании, издаст манифест о царской милости, в котором, снова нет никаких сомнений, первыми в числе ее удостоенных назовет декабристов.
Лепарский же почти прямо указывал на такой исход, и каторжники сохраняли надежду на близкую свободу. Можно себе представить, с каким восторгом они встретили известие о том, что 14 сентября заключен Адрианопольский мир, и по его условиям Россия закрепляет за собой устье Дуная и восточное побережье Черного моря, княжества Молдавия и Валахия, равно как и Сербия, получают автономию, гарантом которой также становится Россия, Греция тоже становится автономной, а кроме того, восстанавливается право свободного прохождения русских судов через Босфор и Дарданеллы… Вот только император, вдохновленный одержанной таким образом победой в дипломатической войне с Англией и Францией, освободил пленных турок во главе с пашами и сераскирами,[3] но, кажется, позабыл о русских своих пленниках, поныне томящихся в сибирской неволе и поныне мечтающих о царском прощении. Шли дни, и даже самые восторженные теряли последние иллюзии.
Возвращаясь с земляных работ, Николай теперь все чаще прогуливался по двору острога совсем один, то и дело останавливаясь у прорехи в ограде и вглядываясь в дорогу, которая не вела никуда. Радость, пережитая им на Пасху, стала всего лишь смутным воспоминанием, ей на смену пришли тревоги, тревоги, тревоги… насколько глаз хватает – ему повсюду виделись одни лишь тревоги… Он чувствовал себя заброшенным за тысячи верст от настоящей жизни. Отрезанным от всего. Перемещенным на другую планету. Окруженным пустотой, сравнимой разве что с космической. Как это возможно, чтобы он, Николай Михайлович Озарёв, с таким именем, с таким прошлым, с таким богатством, силой, энергией, выправкой, связями, наконец, – как это возможно, чтобы он до конца своих дней довольствовался одиноким прозябанием в сибирской глуши? Порой он жалел, что отказался бежать с каторги, и только присутствие Софи помогало ему преодолеть уныние.
Однажды утром, уже в октябре, когда Софи помогала Пульхерии убирать свою комнату, за ней явился генеральский денщик. Она сразу поняла: комендант хочет объявить ей о скором приезде Никиты, и с забившимся от благодарности сердцем поспешила к Лепарскому.
Лицо вставшего при виде посетительницы Станислава Романовича стало мрачным, у Софи отказали ноги, и она бессильно упала в кресло, не дожидаясь приглашения сесть. Нет сомнений, новость окажется ужасной…
– У меня печальные вести из Франции, сударыня, – сказал Лепарский, и она сразу подумала о родителях, о которых ничего не знала уже больше двух лет.
– Моя матушка? – еле слышно прошептала Софи.
– Да, – кивнул генерал. – Ваша матушка скончалась в начале этого года вследствие долгой и тяжелой болезни. Но и ваш батюшка ненадолго пережил супругу – он покинул этот мир 12 июля. Его превосходительство генерал Бенкендорф, получивший эти печальные сведения от посла Франции в Санкт-Петербурге, поручил мне известить вас и выразить вам свои глубочайшие соболезнования. Я присоединяюсь к Александру Христофоровичу.
Сраженную, онемевшую от внезапности услышанного Софи переполняла скорбь, но, по зрелом размышлении, эту скорбь можно было бы назвать, скорее, умеренной. Родители настолько давно исчезли из ее реального существования, что она, пожалуй, и перестала думать о них как о живых людях, они превратились в призраки полузабытого прошлого, в воспоминания, которые она вызывала или отправляла обратно в глубины памяти просто по прихоти, согласно капризу. И смерть отца и матери вовсе не застала ее врасплох, смерть эта, скорее, подтвердила ощущение неотвратимого сиротства, в каком она жила со времени разлуки с ними. На самом деле ничего не переменилось: она не стала ни более одинокой, ни менее любимой. Просто теперь уже нет на свете людей, помнящих ее ребенком, и, вспоминая детство, последние свидетели которого ушли навсегда, она будет испытывать горечь… вот и все. Но в горле ее встал комок, сердце забилось – в ней, внутри, в самой глубине души рыдала маленькая девочка… девочка на качелях… посреди цветущего сада…
– Сочувствую вашему горю, мадам, – произнес Лепарский. – Никто не может нам заменить возлюбленных родителей наших… Но все-таки пусть дружба окружающих вас здесь людей хотя бы немножко облегчит бремя выпавших на вашу долю страданий!
Софи смутили эти высокопарные утешения, и она отвернулась, пряча сухие глаза.
– Разумеется, ваше положение здесь, в Чите, не позволяет вам лично получать наследство, – снова заговорил генерал, – но ваши интересны соблюдены. Нотариус ваших родителей был ими уполномочен решать все необходимые вопросы, и благодаря этому он сможет наилучшим образом распорядиться перешедшим к вам движимым и недвижимым имуществом. И вы, когда вернетесь во Францию, если надумаете туда вернуться после освобождения, получите причитающуюся вам прибыль.
– Вернусь во Францию… – пробормотала Софи с печальной улыбкой. – Что такое вы говорите, генерал? Неужели вы действительно так думаете?
– Конечно же, – удивился комендант. – И вам надо надеяться – милосердие Господне безгранично.
– Да уж, не таково, как царское!
Он как-то по-птичьи развел руками – и птица эта показалась Софи больной, беспомощной, с трудом шевелящей крыльями. Она встала, чтобы попрощаться и уйти, унося с собой это горе, тяготящее, как ложь. Траур мешал ей проявить любопытство по отношению ко всему остальному человечеству, однако она, не удовлетворенная тем, что сведения генерала не содержали ничего по главному для нее вопросу, внезапно решилась спросить:
– А что, от генерала Цейдлера по-прежнему никакой информации?
– Нет, информация-то имеется, – ответил, поколебавшись, генерал, – но я сомневался, стоит ли вам говорить об этом сегодня. Утром пришло письмо от иркутского губернатора, в котором я прочел, что ваш крепостной человек уехал… бежал…
– Уехал? – не поверила своим ушам Софи. – Бежал?.. Куда же?
– Никто не знает. Он бросил работу и исчез из города.
– Когда?
– Вот этого генерал Цейдлер не уточнил, он написал просто, что им был отдан приказ начать поиски… А я, со своей стороны, намерен ответить генералу, что прошу его, когда молодого человека найдут, надрав тому хорошенько уши, прислать сюда.
– Благодарю вас, Станислав Романович! – краснея, сказала Софи.
Ей стало ужасно стыдно: наверняка комендант заметил, каким счастьем сразу же засияло ее лицо. Наверное, Никита сбежал из Иркутска совсем недавно и едет сюда, это, конечно, нарушение закона, но ведь теперь, даже если казаки его поймают, юношу все равно отправят в Читу! К ней! Она догадывалась о том, насколько безумна эта ее уверенность, но догадка ничуть не мешала уверенности крепнуть…
Взгляд маленьких глазок примолкшего генерала, на этот раз напомнившего ей разорителя птичьих гнезд, стал невыносим Софи. Она быстро откланялась, еле сдерживаясь, чтобы не побежать, пересекла деревню и укрылась в своей комнате, пряча от всех печаль и слабую надежду.
7
На Рождество арестантам не разрешили пойти в церковь, наоборот, священник сам явился в тюрьму. В самой большой камере накрыли белой скатертью стол, поставили на него икону – это заменило алтарь. Батюшка надел епитрахиль, прочитал молитвы, благословил опустившихся на колени декабристов, окропил святой водой их постели и стены… После его ухода добрый час в остроге слышался аромат ладана… Потом тюремные запахи перекрыли все, и жизнь потекла, как прежде.
29 декабря, в свой день рождения, Мария Волконская собрала у себя друзей; декабристы, которых она пригласила, получили от Лепарского разрешение побыть со своими до десяти часов вечера, но сам он из скромности на праздник не пришел. Дамы напекли пирогов, кое-кто из мужчин приготовил поздравления в стихах. Князь Одоевский прочитал стихотворение собственного сочинения, которое он посвятил женам сосланных на каторгу политических преступников, называя их «ангелами», спустившимися с небес, желая утешить в бедствии мучеников свободы…
…Был край, слезам и скорби посвященный, — Восточный край, где розовых зарей Луч радостный, на небе там рожденный, Не услаждал страдальческих очей, Где душен был и воздух, вечно ясный, И узникам кров светлый докучал, И весь обзор, обширный и прекрасный, Мучительно на волю вызывал.* * *
Вдруг ангелы с лазури низлетели С отрадою к страдальцам той страны, Но прежде свой небесный дух одели В прозрачные земные пелены, И вестники благие Провиденья Явилися, как дочери земли, И узникам с улыбкой утешенья Любовь и мир душевный принесли.* * *
И каждый день садились у ограды, И сквозь нее небесные уста По капле им точили мед отрады. С тех пор лились в темнице дни, лета, В затворниках печали все уснули, И лишь они страшились одного, — Чтоб ангелы на небо не вспорхнули, Не сбросили б покрова своего.Дамы слушали с мечтательными, добрыми улыбками, а их мужья стояли в сторонке, скромные, но гордые, – ни дать ни взять принцы-консорты. Все холостяки завидовали счастью этих пар. Николай молча сжал руку Софи в знак благодарности, и неизъяснимая нежность светилась в их встретившихся взглядах. Тронутая мелодией стиха, Софи заслушалась и забыла о своих более интимных и куда меньше украшающих ее тревогах, чтобы стать частицей единого целого: содружества жен декабристов. Она ощущала признательность подругам за то, что они помогали ей быть точно такой, какой она быть хотела: простой, великодушной, мужественной… Чтение закончилось, поэта удостоили овации. Некоторые дамы плакали. Мужчины, пытаясь скрыть волнение, откашливались. Одоевский переписал свое творение в альбом Марии Волконской и пообещал по копии каждому из «ангелов, чья преданность вдохновила его на сей труд».
Ровно в десять пришли конвоиры – пора было уводить гостей обратно, в тюрьму. Внезапно в комнате не осталось ни одного мужчины – и как будто вместе с ними ушел некий свет… На лицах женщин обозначилась усталость, даже платья сразу потеряли свежесть. Героини торжества оказались одни, растерянные, озадаченные, среди пустых стаканов, грязных тарелок, коптящих свечей… Недолгое время витал еще в воздухе запах крепкого табака, но и он исчез.
* * *
Некоторое время тому назад Лепарский отослал в Санкт-Петербург письмо, в котором спрашивал, нельзя ли получить для доктора Вольфа официальное разрешение лечить заключенных, их жен и «всех, кто пожелает, чтобы их лечил именно он». Великодушный император ответил, что отныне врач может практиковать свое искусство как внутри тюрьмы, так и за ее пределами. Убежденный теперь в отсутствии угрозы санитарному состоянию его маленькой колонии, генерал отправился в санях в какую-то таинственную инспекционную поездку. Вместе с комендантом уехали его племянник Осип и большая свита, а в отсутствие Лепарского его обязанности были возложены на Розенберга. Софи опасалась, что в момент, когда Никита будет особенно нуждаться в поддержке генерала, того не окажется на месте, но проходили недели, Никиты так и не было, а Цейдлер, похоже, не торопился с поимкой беглеца.
Комендант вернулся 11 марта и на следующий же день приказал собрать всех заключенных во дворе. Желтое солнце старалось растопить снег. Чопорный вид генерала предвещал важные новости.
Может быть, амнистия? Нет, невозможно в такое поверить!
– Господа, – сказал Лепарский. – Я прибыл из Петровского Завода, где, по велению императора, вот уже два года строится для вас новое помещение – куда более просторное и удобное. Работы почти окончены, и я думаю, что в течение лета мы сможем все обосноваться там.
Не прочитав на лицах своих подопечных ничего, кроме величайшей растерянности, генерал добавил:
– Напрасно вы, господа, не радуетесь переезду, который, в этом нет никаких сомнений, сделает вашу жизнь гораздо приятнее.
Николай прошептал на ухо Юрию Алмазову:
– Так, значит, вместо того, чтобы освободить нас, царь просто меняет одну каторгу на другую! Ну и что ты об этом думаешь?
– А я уже ничему не удивляюсь, – отозвался Алмазов. – Нашему царю есть на кого быть похожим: он гневлив, как его брат Александр Павлович, и злопамятен, как его батюшка Павел Петрович…
– В Петровском Заводе у каждого из вас будет отдельная комната, – продолжал рассказывать Лепарский тоном коммивояжера, расхваливающего свой товар. – Кроме того, государь разрешил тем заключенным, к которым приехали жены, поселиться вместе с ними.
– Где? В деревне? – поинтересовался кто-то.
– Нет, на территории тюрьмы.
Ответом ему стал саркастический смех собравшихся.
– Не вижу тут ничего забавного! – нахмурился генерал. – Просто один из участков территории каторги отводится под поселение семейных пар. Вот и все!
– Словом, рай! – присвистнул Лорер.
По рядам узников пробежал взволнованный шепоток. Холостяки еще продолжали вызывающе посмеиваться, но семейные уже словно бы выделились в другую компанию и рассматривали ситуацию со своей точки зрения. При мысли, что скоро у него снова начнется жизнь с Софи, Николай едва не задохнулся от счастья. Все ночи рядом с ней! Все! Все! Такого не случалось уже почти пять лет! А дни… эти ясные, наполненные светом дни вдвоем, когда только от присутствия любимой, от ее тепла, от запаха женщины, от того, как она хлопочет рядом, возрождается и растет любовь… Не в силах сдержаться, Озарёв воскликнул:
– Какое превосходное решение!
Но не успев и закончить фразы, пожалел о ней: уж не встал ли он на сторону властей, раз поддерживает Лепарского? К счастью, другие женатые декабристы тотчас подхватили:
– Да! Да! Конечно!
Их робкие одобрительные возгласы тонули в возмущенном ропоте холостяков: все они были против переселения на новое место, на новую каторгу, все кричали.
– Нам и тут, в Чите, хорошо, господин комендант! – надрывался Одоевский. – Каждый уже приспособился. Нас устраивает этот климат. Деревенские знают нас и любят. Зачем же, ради всего святого, лишать нас этого!
Строптивость заключенных явно пришлась не по вкусу Лепарскому. Полное его лицо сначала окаменело, потом исказилось недовольной гримасой, он переступил в раздражении с ноги на ногу и, видимо, торопясь вернуться к себе, холодно сказал:
– Нам не пристало обсуждать приказы царя. Позвольте мне откланяться, господа.
И ушел под враждебное молчание.
На следующий день к коменданту целой делегацией явились дамы, – впрочем, этого и следовало ожидать. Лепарский пригласил гостий сесть, они устроились перед ним полукругом, а сам он, как обычно, укрылся в бастионе – за письменным столом. Так мало времени прошло – откуда они узнали? Наверняка ведь подкупили казаков из его эскорта! Но как бы то ни было, переезд уже не секрет для них! И сколько подробностей им уже известно! Сначала дамы разразились критическими замечаниями в адрес места и климата. Они возмущались тем, что – из-за ошибки согласования между разными административными службами – помещения новой тюрьмы стали возводить на низкой болотистой почве, неподалеку от чугунолитейного завода. Но поскольку Лепарский не мог и не хотел обвинять вышестоящих, он принялся утверждать, что страхи дам чересчур преувеличены, что почва там здоровая, воздух сухой и земля плодородна, несмотря на то, что по соседству расположены «несколько маленьких водоемов»… А они, оказывается, еще прослышали об отсутствии окон – и тут тоже были правы, но Лепарский опять стал успокаивать посетительниц:
– Окон нет, это верно, но свет льется в каждую камеру потоком через застекленный верх двери! Сударыни, сударыни, меня поражает ваше недовольство: ведь благодаря монаршей милости вы сможете на новом месте поселиться вместе с мужьями!
– Может, и так! – закричала Полина Анненкова. – Но я не представляю, как растить своих детей в темнице!
– Детей? – переспросил ошарашенный Лепарский. – Почему во множественном числе?
– Да потому, что я жду второго, ваше превосходительство!
Комендант нахмурил брови: эк они торопятся, эти молодые влюбленные дамы! После прошлогодних двух одновременных рождений, разродились еще Мария Волконская и Александрина Давыдова, уже поочередно, правда… Позволить им – так придется открывать при каторге детские ясли…
– Ну и когда ждете? – проворчал он.
Полина Анненкова просияла и шепнула так, словно доверяет тайну лучшей подруге:
– В мае…
– Поздравляю вас, сударыня! Но это все? Или предвидится появление на свет и других малюток?
Лепарский встал и задал этот вопрос, глядя на дам сверху вниз – так он прозвучал внушительнее, а в таких делах требуется сила.
В ответ Екатерина Трубецкая пробормотала, потупив взгляд:
– И у меня… я тоже готовлюсь стать матерью…
Генерал, подавленный, рухнул обратно в кресло. Какое-то время ему понадобилось, чтобы вынырнуть из океана черных мыслей, наконец, он сказал сурово:
– Сударыни, я уже изучил проблему во всех ее аспектах. Нет никаких сомнений в том, что дисциплина, установленная регламентом для мест заключения, не только не предусматривает содержания детей раннего возраста в камерах, но присутствие там детей прямо регламенту противоречит. Нельзя, например, согласиться ни с тем, чтобы матери в целях ухода за младенцем зажигали свет после того, как объявлен час отхода ко сну, ни чтобы они среди ночи отправлялись на кухню подогреть ему воды, ни… да Господь его ведает, что там они еще захотят разогреть!.. ни чтобы вызывали к ребенку врача в неурочное время или… или кормилицу, когда двери заперты на засов и часовым приказано никого не допускать в здание острога!.. Вы меня знаете, сударыни, в этом я ни на йоту не отступлю от своего долга!.. Дам, которые решат поселиться на территории острога с мужьями, придется отделить от их детей!
– Может быть, вы прикажете, чтобы мы топили их, как щенков? – возмутилась Мария Волконская.
Лепарский вздохнул с раздражением и продолжил:
– Вот как я ставлю вопрос: матерям семейства придется построить себе небольшие домики поблизости от тюрьмы и поселить там детей со слугами, которым они могут этих детей доверить. Сами они пусть и станут проводить большую часть времени с мужьями, то есть на территории острога, смогут так часто, как пожелают, навещать своих малюток, давать указания их воспитателям и…
– Короче, – оборвала генерала Мария Волконская, – мы будем непрерывно бегать из тюрьмы в детскую и обратно. Что за абсурд!
– А кроме того, – спросила Александрина Муравьева, – где мы возьмем деньги на строительство этих домиков?
– Это что же, государство намерено дать нам на это средства? – съязвила Полина Анненкова.
– Почему бы и нет! – обрадовалась Екатерина Трубецкая. – Почему? Отличная идея! В конце концов, мы же не просили перевозить нас в Петровский Завод!
Лепарский протянул руку, усыпанную старческой гречкой, и попытался жестом утихомирить дам. Этого оказалось мало, и он заговорил снова:
– Строительство почти ничего вам стоить не будет. Подрядчики, которые возводят основное здание тюрьмы, твердо сказали, что, если вы доверите им работу, они берутся выполнить ее по весьма низким ценам. У них там на месте – и рабочие, и все нужные материалы. Полагаю, сударыни, что, действуя таким образом, вы с толком израсходуете деньги и подготовите себе удобное будущее.
Пока он говорил, Софи обдумывала: а не стоит ли ей тоже построить себе домик? Конечно, она почти все время будет жить в камере, с Николя, но иногда, если Лепарский позволит, и он сможет приходить в этот домик и проводить там хотя бы несколько часов вне этих ужасных стен, в квартире, которую она сделает уютной, обставит так, чтобы ничто не напоминало мужу о том, что он осужденный… изгой… И вот там-то, она уверена, они будут счастливы, как в медовый месяц… Ей не терпелось начать вить гнездышко, создавать уют из ничего – при помощи нескольких дощечек, кусочка красивой ткани, горсточки пуха, полевых цветочков в вазе… Впрочем… впрочем, ведь еще и Никита приедет, об этом тоже нельзя забывать! Что ж, они устроят его на чердаке, и он будет сторожить дом в отсутствие хозяев. Все так замечательно, с такой сверхъестественной простотой складывалось в ее мечтах, как бывает только во сне, когда спящий пальцем сдвигает гору. Раздался шум – стали отодвигать кресла, это вернуло Софи из мира грез в кабинет коменданта. Искоса взглянув на подруг, она поняла, что дамы только стараются выглядеть недовольными, а на самом деле рады тому, как все может хорошо устроиться. Если бы правила чести не обязывали жен декабристов постоянно противоречить властям и жаловаться на них, пожалуй, все они сошлись бы на том, что просто тают от предложения Лепарского: вот какое счастье-то выпало! Генерал тем временем проводил гостий до двери, поклонился и попросил:
– Известите меня, когда примете решение, сударыни! И не нужно терять времени, если вы имеете намерение строиться.
Софи вышла вслед за остальными, но в прихожей ее нагнал какой-то солдат:
– Это вы изволите быть госпожа Озарёва?
– Да, я.
– Его превосходительство просит вас вернуться.
– Прямо сейчас?
– Прямо сейчас, сударыня.
Она вернулась в кабинет, и ей показалось, что эта большая комната с пустыми, расставленными полукругом креслами напоминает зрительный зал после спектакля. Лепарский предложил ей сесть, сам же остался стоять и приступил к объяснениям, совершенно очевидно, дававшимся ему с большим трудом:
– Извините меня, сударыня, что вынужден был попросить вас вернуться. Просто голова кругом идет от всех этих разговоров о переезде, и я почти забыл, что есть для вас новости. Во время инспекционной поездки я побывал в Иркутске и видел Цейдлера. Следствие по делу об исчезновении вашего крепостного человека закончено. И оно завершилось печальным выводом…
Он помолчал, глядя Софи прямо в глаза, и добавил:
– Похоже, нет оснований сомневаться в том, что ваш слуга мертв, мадам.
В мозгу Софи образовалась жуткая пустота. Мыслей не осталось. Мир вокруг потерял краски. Едва шевеля губами, она прошептала:
– Мертв?.. Нет!.. Скажите, что это неправда!
– Увы, правда, сударыня… Да-да, есть довольно сильные основания полагать, что…
Она возмущенно перебила его:
– Что значит «довольно сильные»? Такие вещи говорят только тогда, когда абсолютно уверены в сказанном! Вы видели его мертвым? Кто-нибудь видел его мертвым? Кто-нибудь может ваши слова подтвердить?
– Его похоронили больше двух лет назад.
Она растерялась, но быстро взяла себя в руки и снова напала на коменданта:
– Если бы Никита умер так давно, меня известили бы об этом: я не теряю связи с Иркутском! У меня там есть знакомые!
– Он умер не в Иркутске, а в Верхнеудинске… Следствие и затруднило и сделало дольше именно то, что у него не было при себе бумаг, и то, что он упорно отказывался назвать свое имя. Он убил жандарма. Преступление налицо, он был взят с поличным, и наше правосудие в подобных случаях я бы назвал весьма расторопным. Его немедленно допросили, настаивали на том, чтобы он назвал свое имя, сказал, куда направлялся, но, поскольку он упорствовал в молчании…
Лепарский не закончил фразы, искоса взглянул на Софи и продолжал, сменив тон – так, словно хотел отвлечь ее от тягостной картины, которая неминуемо должна была ей представиться:
– Дело было давно закрыто, власти смирились с тем, что им не удалось установить личность убийцы, но в это время Цейдлер получил от меня посланные ему по вашему настоянию письма, и это пробудило в нем интерес к старой истории. А разобравшись в ней, он мигом сообразил, что ваш молодой крепостной, сбежавший из города, и таинственный убийца, арестованный на дороге поблизости от Верхнеудинска, одно и то же лицо.
Она слегка повернула голову – так, будто, пока комендант говорил, прислушивалась еще к чьему-то голосу, потом вдруг спросила:
– А этот человек… тот, которого арестовали у Вехнеудинска… он как умер?
– Он был казнен.
– Вы хотите сказать: расстрелян?
– Нет, сударыня. Это был мужик. И он убил жандарма. Его подвергли наказанию кнутом.
Софи в ужасе отпрянула, она вся дрожала и долго не могла выговорить, но наконец прошептала:
– Наказанию кнутом… то есть его били кнутом, и он умер под ударами?.. да?.. да?..
– Да, мадам.
Внезапно она успокоилась, отказавшись верить услышанному. Ей почудилось, будто жизнь Никиты зависит теперь только от того, насколько твердо она станет отрицать сам факт его смерти. От силы ее убежденности в том, что он не умер. Чтобы защитить Никиту, чтобы спасти его, думала Софи, достаточно просто сопротивляться дурным вестям и, что бы этот генерал ни говорил, отвечать одно: нет! Кричать – нет!
– Как вы можете утверждать, что это был он, – высокомерно сказала она, – если этот человек не открыл своего имени, а паспорта при нем не было!
– Жандармам удалось восстановить весь его маршрут, шаг за шагом. Они допрашивали свидетелей. Даты, приметы – все сходится…
– Как вам этого может быть достаточно? – в бессмысленной ярости закричала Софи. – Неужели вы сами верите тому, что вам сказали? Извините, я – нет! И мне – недостаточно! Ваше превосходительство! Мне требуются иные доказательства!
Она развела руками и бессильно уронила их – простонародный жест, ей ничуть не свойственный. Генерал глаз не сводил с Софи: наверное, все-таки сильно был удивлен тем, как она переживает из-за смерти слуги. Софи про себя отметила это его изумление, но ей было безразлично, что комендант может о ней подумать. Ей вообще все стало безразлично, кроме несчастья, угрозу которого она все-таки ощущала, и оно представлялось ей приглушенным биением каких-то мягких крыльев у самой головы.
– На обратном пути из Иркутска я останавливался в Верхнеудинске, – продолжал между тем Лепарский, – и полковник Прохоров, который вел дело об убийстве жандарма, любезно предоставил в мое распоряжение несколько бесспорных, на мой взгляд, улик…
Генерал открыл ящик и, вытащив из него странное ожерелье, где на веревочке были подвешены три желтоватых и неровных кусочка кости, положил улику на стол.
– Волчьи зубы, – сказал он. – Местные изготовляют такие амулеты для…
Обрадованная донельзя Софи прервала собеседника: освободившись от только что пережитого страха, она еле удерживалась от смеха.
– Это не его вещь! – заявила она.
– Вы уверены?
– Совершенно уверена, ваше превосходительство!
Лепарский снова принялся шарить в ящике, теперь где-то поглубже, отодвигал папки, бумаги, просовывал руку между ними, ворча: «У меня еще вот есть кое-что… да где же он?.. Ах, наконец!..»
В его руке что-то сверкнуло.
– Орудие преступления, – только и сказал он.
И внезапно все переменилось. На Софи навалилась беспредельная тоска, в животе ее что-то судорожно сжалось и оборвалось, а потом она сразу же рухнула в черную бездонную пропасть… Перед ней на столе лежал нож Никиты. Она узнала этот нож: Никита носил его у пояса и не расставался с ним во все время путешествия. Она увидела, как он режет этим ножом хлеб, как перерубает тугой узел, увидела, как летит из-под этого ножа стружка – при починке поломанной оси тарантаса… Она машинально протянула руку и взяла предмет, сохранивший столько отпечатков ее жизни… их общей жизни… Нож оказался не тяжелым. На деревянной ручке, отполированной до блеска и почерневшей от долгой службы, были вырезаны буква «Н», крест и дата… Софи вглядывалась в бороздки на дереве, словно увидела перед собой Никиту, силы ее убывали, страх, и невыносимое отчаяние заполняло душу. Нож лег обратно на стол. Лепарский посмотрел на улику, перевел глаза на Софи, взгляд его теперь напомнил ей взгляд судьи. Конечно же, он уже понял, что она побеждена. Тишина длилась и длилась, усугубляя смятение молодой женщины. Лицо генерала стало меняться, то приближаясь, то отдаляясь, странно, как будто накатывало и откатывало, как волна… Надо было уходить. Софи постаралась собрать остатки энергии, надо ведь встать, идти… Встала… Ноги не держали. Как дошла до двери, не помнила…
– Сударыня, я глубоко сожалею, что пришлось огорчить вас, – сказал Лепарский и склонился, чтобы поцеловать ей руку.
Его усы царапнули кожу – она инстинктивно руку отдернула, он выпрямился и удивленно на нее посмотрел.
Сделав шагов десять по улице, Софи заметила вдалеке выходивших из будки холодного сапожника Марию Волконскую и Каташу Трубецкую. У нее не хватило мужества пойти им навстречу, и она быстро шмыгнула в проулок между двумя домами, прошла двориком, заваленным ящиками и бочками, оказалась в чистом поле… Здесь, стоя на белой земле под синим небом, она почувствовала себя лучше. Холодало. Снег поскрипывал у нее под ногами, изо рта вырывались облачка пара, она почти бежала – как будто на том конце дороги кто-то ее ждал. «Никита» и «умер» – эти два слова никак не хотели связываться между собой, они не подходили одно другому. Никита – это сила, простодушие, красота, горячность, жизнь. Это ради нее он – без паспорта! – два с половиной года назад покинул Иркутск, он хотел соединиться с ней. А она всегда опасалась, как бы он не совершил такой глупости. Должно быть, Проспер Рабуден не смог удержать его, потому и счел предусмотрительным не отвечать на вопросы о Никите в ее письмах. Если бы только она тогда осталась в Иркутске, если бы она подождала, пока ему выправят бумаги! Несколько дней потерпела бы – и они бы уехали вместе, с правильной подорожной! Но она не хотела задерживаться в пути, ведущем ее к Николя… Все из-за нее! Из-за нее одной! Она тут думала, что Никита спокойно обслуживает посетителей трактира, а он замышлял бегство!.. Неужели надеялся в одиночку победить на этой такой трудной, такой дальней дороге усталость, полицию, тысячи случайностей, которые ждали за каждым поворотом? А когда его схватили – она в этом убеждена! – он потерял голову, он сопротивлялся, он защищался… и ударил… Она знала, что Никита способен проявить жестокость… Еще когда она была в Иркутске и солдаты хотели обыскать ее комнату… Она словно наяву увидела, как он лежит на полу – раздетый до пояса, с вывихнутым плечом, с лицом, искаженным гримасой… он весь в поту, и этот сине-фиолетовый взгляд из-под пряди золотистых волос… Эту боль не сравнить с той, какую он испытывал под ударами кнута… Она никогда не присутствовала при таком наказании, но крестьяне из Каштановки рассказывали, как это бывает… Она представила себе Никиту связанным, обездвиженным, его бичуют, бичуют… пока он не умрет под этой пыткой… Софи задыхалась от гнева. Она ненавидела Россию, как случалось всякий раз, когда приходилось сталкиваться с новой несправедливостью. В любой другой стране подобная экзекуция была бы невозможна! Что он видел перед тем, как умереть? Лица палачей, мундиры… Ненависть, злобу, идиотизм… Наверное, он думал о ней? Он вспоминал ее? Звал? А она ничего не слышала, ни о чем не догадывалась! Когда он умирал под кнутом палачей, она спокойненько ехала себе по Сибири, мечтая о Николае… О Николае, который вовсе в ней и не нуждался за своим частоколом!.. И почти два с половиной года жила иллюзией. Два с половиной года мысли о Никите составляли очарование этого мира, уверяя ее, что в этом мире волшебно, красиво, гармонично… Она ждала его, как ждут друга, а он давно гнил в земле. В сырой земле, как тут говорят… И только что – она же мечтала, что построит домик, и Никита будет его сторожить! Эта последняя мысль стала и последней каплей: чаша отчаяния переполнилась, и хлынули слезы. У Софи перехватило дыхание. Глубина ее отчаяния испугала ее саму. Между тем нежным и уважительным отношением, какое она проявляла к Никите при его жизни, и той беспредельной тоской, тем безумием, какое шквалом налетело на нее, стоило узнать о его смерти, лежала бездна, просто ничего общего! Что за тоска, что за тоска!.. Как будто от удара у нее в голове сорвался клапан, выпустив на волю самые тайные ее мысли, самые невероятные, самые… самые сумасшедшие… «Возможно ли, чтобы он занимал в моей жизни такое место, если между нами ничего и не было?..» Софи попробовала представить себе будущее и отступила перед его пустотой. Только что она летела вперед в надежде на встречу. Теперь – не знает, куда идет, зачем вообще существует… В этой бесцветной, лишенной аромата и имеющей лишь привкус горечи вселенной не осталось ничего имеющего хоть какой-то смысл, хоть какое-то для нее значение… «Сейчас я успокоюсь! Сейчас все это пройдет!» – твердила себе она. Но буря в ней росла и ширилась, и она перестала сопротивляться штормовой волне, позволила той, содержащей лишь яд воспоминаний, себя захлестнуть, позволила старым планам, сразу ставшим неосуществимыми, рвать ей сердце… Ее охватило страстное желание вновь – и наяву! – увидеть Никиту таким, как тогда: лежащим на красном полу, в трактире, в Иркутске… вдохнуть его запах… Она осмелилась представить себя в объятиях этого мужчины… простого мужика… крепостного… И острое, как кинжал… как нож Никиты, счастье, тут же и прерванное мгновенной и такой же острой болью, пронзило ее сердце так, что она едва не вскрикнула. Удержалась, искусала губы. Но что, что, что осталось нынче там, в черной яме, куда его бросили, от этих рук, о которых она мечтает, от этой груди с выпуклыми мышцами, от этого чудного лица?!
Небо хмурилось. Она давно миновала деревушку, превратившуюся теперь лишь в скопище крыш на заснеженном пригорке с коричневатым ореолом вокруг – следы грязи, типичного признака места, где обитают живые люди. Слезы стыли в глазах убитой горем женщины. Она прислушалась – далеко-далеко мужские голоса выводили:
Во глубине сибирских руд…Каторжники возвращались домой, закончив работу на мельнице с ручными жерновами, о которой Михаил Бестужев говорил так: «Ежели нам было угодно, то мололи для моциона…» Сейчас покажутся из-за поворота дороги! Живые и здоровые, с крепкими руками и ногами, обветренными на свежем воздухе лицами, громкими голосами… И среди них – Николай, ее муж! Софи растерялась так, словно ей грозило, что Николя застанет ее с другим мужчиной, и, подобрав юбку, бросилась прятаться в кустарниках. Вышла из укрытия только тогда, когда колонна арестантов скрылась. Все было спокойно. Она вернулась домой, никого не встретив по пути.
8
– Ужас какой! – прошептал Николай. – Бедный парень, бедный Никита… Но почему ты не сказала мне, что просила Лепарского вызвать его в Читу?
– Сама не знаю… – пожала плечами Софи. – Мне казалось… мне казалось, тебе это неинтересно…
– Мне это интересно, по меньшей мере, так же, как тебе! И вообще, это мое дело – подавать такие ходатайства!
Софи опустила голову. Ей и так пришлось совершить над собой насилие, чтобы рассказать обо всем мужу, и теперь она сидела рядом с Николаем на кровати ослабевшая, будто от потери крови… В комнате с голыми стенами повисло тягостное молчание. Солдат за дверью ходил туда-сюда, печатая шаг.
– Ну и как я, по-твоему, выгляжу в глазах генерала? – сердито продолжал ей выговаривать Озарёв.
Она снова пожала плечами.
– Да никак… И какое это имеет значение? Все кончено, правда? Давай больше не говорить об этом!
– Все кончено для Никиты, но, возможно, не для нас с тобой…
– Что ты имеешь в виду?
– Только то, что сказал. Надеюсь, что у нас из-за этой истории не будет неприятностей.
– Какие могут быть неприятности? Не мы же убили! И даже не здесь.
– Убил наш крепостной. И я очень сожалею, что Цейдлер начал это расследование. Иметь в качестве слуги убийцу жандарма вовсе не похвально для государственного преступника. Ты не забывай, пожалуйста, что для властей все предлоги хороши, лишь бы получить повод отказать в смягчении участи.
Софи возмутилась: и как только он может, когда произошла такая беда, предаваться настолько мелочным соображениям!
– Что за глупости! – с досадой произнесла она. – Уж как Лепарский относится к нам – лучше и желать нечего…
– Он-то да! Но не те, кто стоит выше его, над ним! А наша судьба решается в Петербурге!.. Просто восхищаюсь твоим оптимизмом… – Николай нахмурился, погрузился в размышления, потом, спустя долгую паузу, добавил, говоря словно бы с самим собой: – Ну, разве не удивительно, что Никита отправился в путь, не дожидаясь подорожной?
– Наверное, торопился увидеться с нами, – не подумав ляпнула она и почувствовала, как жаркий румянец разливается по ее щекам. Вдруг муж заметит, как она волнуется? Что тогда делать? Нет, кажется, пронесло, он смотрит в другую сторону…
– Он ведь должен был знать, что рискует как минимум попасть за решетку, если его схватят! – воскликнул Николай.
– Разумеется.
– Странный парень. Но еще более примечательно, что он не назвал своего имени, когда его арестовали.
– Что значит «примечательно»? И ничего не странно. Просто Никита боялся, назвавшись, привлечь этим внимание к нам с тобой. Боялся, что у нас будут неприятности.
– Вот-вот! – Николай торжествовал. – Видишь, сама сказала!
– Что я такое сказала?
– Что сказала? Сказала, что у нас могли быть из-за него неприятности… даже когда он никого еще не убил, а только сбежал без бумаг… Уверяю тебя, Софи, дело очень серьезное.
Так. Он опять за свое. Положительно, его не усмиришь!
– В конце концов, я начну думать, что у тебя мания преследования! – буркнула она почти со злостью.
– По-моему, я имею на нее право после трех лет, проведенных на каторге!
Она чуть было не сказала, что не так уж ему и плохо на этой самой каторге, так что зря жалуется, но вовремя прикусила язык, поняв, что несправедлива. Впрочем, Николай и сам немножко смягчился и прошептал:
– Прости меня, дорогая, я вспылил… Но пойми, пожалуйста: было бы слишком глупо, если бы как раз в то время, как мы станем переезжать в Петровский Завод, возникли какие бы то ни было трудности в связи с этой историей!
– Хм, Петровский Завод!.. – откликнулась она. – Мы, между прочим, даже не знаем, что это за прекрасное место, куда, как ты говоришь, мы «станем переезжать», и что нас там ждет!
– Зачем иронизировать? Мне кажется, там нам действительно будет хорошо, лучше, чем здесь. Одна только мысль о том, что мы заживем вместе…
Он обнял жену за плечи, и она покорно дала себя затопить исходящему от него теплу.
– Трубецкой, Муравьев, Анненков, Волконский только и говорят, что об этих домиках, которые хотят построить в Петровском Заводе, – продолжал Николай. – А если и нам выстроить себе дом?
– Зачем? – спросила Софи. – У нас же нет детей!..
– Ну и что? Не для детей! Разве тебе не хотелось бы иметь место, куда я бы приходил к тебе? И ты бы встречала меня на пороге нашего дома…
Она не ответила. Это предложение, показавшееся бы ей таким уместным накануне, этот домик, который так ее пленял, теперь потерял всякую привлекательность. Действительно, зачем он ей? Интересно, бывает ли так, чтобы за считаные минуты вся жизнь переменилась? Все мысли…
– Нет… – сказала Софи и повторила еще раз: – Нет… это слишком сложно… да и вообще… к чему решать что-то загодя? Ничего пока не известно… Посмотрим на месте…
И она с тоской подумала об унылой череде серых дней… в неизвестном краю… среди людей, которых она не любит… А Николай в это время уже вопрошающе заглядывал ей в глаза, лицо его стало сразу и нежным, и жестоким, он склонился к ней… умоляет взглядом… Но мысль о том, что он хочет вот прямо сейчас овладеть ею, была Софи отвратительна – разве это не обман? Разве это не ужасно – заниматься любовью едва ли не над гробом? Почему он не рассердился, не обиделся, не ушел, почему остался тут, крепкий, здоровый, сильный, и требует теперь, чтобы она исполняла свой супружеский долг? Здоровье мужа, его бодрый вид, излучаемая энергия, переполнявшее его желание вмиг стали ей невыносимы. У него прямо на лице написано: «Я живой!» – и он это еще подчеркивает поведением, просто какой-то парвеню!.. Ловким движением увернувшись от поцелуя, она вскочила. Николай удивился и тоже встал. Встал и пристально вгляделся в жену:
– Что с тобой, Софи?
– Ничего. Да… ничего, – ответила она.
– Иди тогда ко мне!
– Нет… И, прошу тебя, Николя, не настаивай… Я устала… Я так устала…
Николай испугался – нет, она не притворяется, это точно.
– Господи, да ты же и впрямь выглядишь измученной… Никогда прежде не видел тебя такой… Что с тобой, Софи? – снова спросил он, но на этот раз в его голосе звучала тревога, страх за жену. – Неужели на тебя так подействовало известие о смерти Никиты?
Софи постаралась подавить волнение – в самом деле, что ж такое, ее уже и дрожь бьет, как в лихорадке, и прошептала:
– Возможно…
– Не стоит так переживать, дорогая! Конечно, мальчик был очень милый, очень способный… и мы его любили… Но, в конце концов, Никита же просто один из наших крепостных…
«Пусть он замолчит! – думала Софи. – Пусть он сию же минуту замолчит, или я за себя не ручаюсь! Не могу больше сдерживаться!»
– Когда ты узнала о смерти родителей, – продолжал Николай, – ты и то не была в таком состоянии… Ты держалась молодцом, куда более мужественно, чем сейчас…
Замечание прозвучало для нее громом среди ясного неба. Как будто он дал ей пощечину! И он прав! Прав, тысячу раз прав! Смерть матери и отца просто огорчила ее, она некоторое время чувствовала себя подавленной, а сегодня… сегодня ей кажется: жить незачем, нет никакого желания жить…
– Есть вещи, которых тебе не понять! – пробормотала она.
Не изменившись в лице, Николай спросил:
– А ты сама? Ты сама понимаешь?
Чем больше Софи опасалась, что муж обо всем догадается, тем больше ей хотелось устроить скандал, дать выход ярости, накричать на него, выгнать… Сердце ее билось редко, тяжелыми толчками, дыхание перехватывало, в ушах шумело, как при высокой температуре.
– Я? Я не понимаю, к чему ты ведешь! – с вызовом бросила она.
– А ты? – Николай печально улыбнулся. – Ах, Софи, Софи, это же просто смешно… Неужели мы можем поссориться из-за такой малости, из-за такой глупости? Подумай! Ведь одна фраза тянет за собой другую…
«Из-за такой малости! Из-за такой глупости! – повторяла она про себя. – Ему это смешно! Вот какие слова он нашел!»
Николай стоял перед женой сгорбившись, ладони его повлажнели, взгляд стал тоскливым, как у побитой собаки, все-таки старающейся вымолить у хозяина прощение… Текли минуты… Софи пыталась успокоиться в тишине. Но вдруг ей стало физически неудобно находиться вот так между призраком и мужчиной из плоти и крови. И ее захлестнула жалость: к Николаю, к Никите… к себе самой.
– Уходи, Николя, – тихо-тихо попросила она.
– Что?! – Он вздрогнул, зрачки его расширились. – Уйти? Но почему, Софи? Ведь время еще не прошло…
– Потому что я хочу остаться одна.
– Почему?
– Уже сказала. Неважно себя чувствую.
– Тогда я тем более должен остаться! Не могу же я бросить тебя в таком состоянии!
– Можешь, Николя, можешь… Умоляю тебя: уходи… Да уходи же! Сейчас же уходи! Уходи немедленно!
Николай совсем растерялся, минутку постоял, переминаясь с ноги на ногу, с опаской взглянул на жену и, поняв, что ей действительно лучше остаться одной, произнес:
– Хорошо, ухожу. Не волнуйся. Отдохни, Софи, у тебя нервы расшалились. Послезавтра увидимся.
Он поцеловал жену в лоб – ледяной, как у покойницы. Она слабо улыбнулась ему вслед, но дверь уже захлопнулась.
9
Весна пришла раньше обычного и преобразила эту глухомань, вывела из оцепенения, сдернула с нее белый покров. Вместо толстого снежного одеяла глазам предстал пестрый цветочный ковер – краски, сохраненные долгой зимой, словно бы горели, искрились, сверкали не хуже драгоценностей… По песчаным речным берегам взметнулись ввысь ярко-розовые метелки камыша и покачиваются на ветру. Выстроившись треугольником, перелетные птицы движутся по небу и пронзительно кричат. Деревья уже покрылись нежным пушком – вокруг каждого зеленое марево. Позеленели и вершины дальних гор. Все радовалось весне, одна Софи, впервые в жизни, оставалась совершенно равнодушной к этому взрыву, этому брожению жизненных соков.
Когда Николай приходил навестить жену, она была настороженной, напряженной, вскоре он понял, что Софи постоянно боится – неудачного слова, неловкого прикосновения, – и его тревога сменилась сочувствием. Должно быть, он надеялся, что его терпение и ласка помогут ей стать прежней, что нервы ее успокоятся, беда эта пройдет как не было, и Софи снова станет любящей женой. Но та даже не замечала усилий, которые прилагал муж, чтобы ей угодить. Если раньше мелкие домашние обязанности были ей приятны, то теперь она не находила в них ни пользы, ни удовольствия и переложила все хозяйственные заботы на Пульхерию и Захарыча. Если раньше, когда ей приходилось писать от имени заключенных письма их близким, она была счастлива, что может выполнить свой долг и помочь людям, теперь это занятие наводило на нее тоску. Свадьбы, рождение детей, успехи в учении, годовщины, болезни, исцеления… И так бесконечно. И так у всех. От всего этого слишком сильно, слишком насыщенно веет жизнью, а ее тошнит от этого запаха… Письма, которые она сочиняла по заказу, становились все суше, все короче, и, поняв, что Софи стала выполнять прежде такие любимые обязанности небрежнее некуда, многие декабристы уже сменили «личного секретаря». Например, Ивашев, с сестрой которого она раньше постоянно переписывалась, стал пользоваться услугами Марии Волконской. Вот и хорошо. Тем более что дама в восторге: письма – ее страсть. И Мария успела подружиться на расстоянии с сестрой Ивашева, да так, что водой не разольешь… Говорят, Василий собирается жениться на молоденькой гувернантке-француженке из Москвы… Ее зовут Камилла Ле Дантю, влюбилась она в Ивашева, когда разница в их социальном положении делала брак между ними немыслимым, и сразу же с куда большей надеждой вернулась к своему намерению, как только Василия объявили государственным преступником – ведь за такого не пойдет замуж ни одна здравомыслящая женщина. Семья молодого человека, по слухам, страшно обрадовалась и принялась активно добиваться разрешения на свадьбу. Вполне возможно, невеста скоро прибудет в Читу. Правда, наиболее заинтересованное лицо помалкивает насчет этого – может, ему больше нравится холостяцкая жизнь? Дамы не понимают поведения жениха, суетятся, перешептываются: вся эта история с чужой свадьбой сильно их возбуждает. Их ненасытное любопытство, их фантастическая склонность к болтовне ужасно раздражают Софи. Они попытались даже разузнать у нее про смерть Никиты, прослышав о ней от людей из окружения Лепарского. Господь его ведает, какие новые сплетни привез генеральский племянничек из Иркутска… Но Софи несколькими сухими словами умерила пыл любительниц расследования всяких тайн. Отныне никто не имел права ни словечка сказать при ней о Никите.
Пришло время жары, и в первые же знойные дни дамы решили отправиться в коляске на прогулку по окрестностям. Экипаж в Чите был один-единственный, принадлежал он Лепарскому, и комендант, конечно же, любезно согласился предоставить его дамам на день. Ни Полина Анненкова, только что родившая второй раз (и опять девочку!), ни очень плохо переносившая беременность Каташа Трубецкая, увы, не смогли поехать, зато Мария Волконская, хотя и она ожидала ребенка, с удовольствием присоединилась к подругам.
Комендант сам прибыл в коляске, чтобы передать ее дамам, но, прежде чем сделать это, потребовал, чтобы они назвали точный маршрут. Дамы сослались было на то, что решат в дороге, куда лучше податься, но Лепарский стал объяснять причину показавшегося им непомерным требования, и они примолкли. Оказывается, в прилегающей к Чите местности сейчас весьма неспокойно, потому что, как только устанавливается по весне хорошая погода, искушение ярким солнышком и широким простором становится неодолимо для тех, кто содержится на каторге для уголовников, и они пускаются в бегство. Это «весеннее бродяжничество» по округе продолжается месяца два-три. Но в то время как эти самые варнаки, или чалдоны (так здесь называли бродяжничающих каторжников) упивались свободой в лесах и полях, в то время как они спали под открытым небом и с рогатками охотились на дичь, на них самих шла охота, правда, не столь ожесточенная. Бурятам властями было обещано по десять рублей за каждого варнака, приведенного живьем, и по пять рублей за каждый варначий труп – при условии, конечно, что тело можно легко опознать; и кто же захочет упустить такой навар! Те же из беглецов, кому удавалось не попасться ловцам, спокойно возвращались на каторгу с наступлением первых холодов. «Тариф» за побег был известен заранее: столько-то ударов кнутом, столько-то дней в карцере. Вернувшиеся в неволю каторжники покорно принимали наказание и, как только заживала ободранная до крови спина, как только она переставала болеть, начинали мечтать о «каникулах» в будущем году. Впрочем, это были для них и впрямь каникулы, потому что местные жители сочувствовали варнакам и во время этих вылазок их подкармливали, да и вообще помогали чем могли…
Сегодня Лепарский из присущей ему осторожности и предусмотрительности поручил двум своим казакам превратиться в дамский эскорт. Софи во всем этом, особенно в том, какой страх испытывали жены каторжников перед возможной встречей на дороге с другими каторжниками, виделось что-то невероятно комичное. Она поделилась впечатлением с Лепарским, но тот строго ответил:
– Живя среди умных и образованных каторжников, вы, сударыня, очевидно, забыли о существовании других, тех, для кого убийство и насилие – самое обычное дело.
Шеренга дам дрогнула, никто больше не решился пошутить. Они молча, впятером, расселись в коляске, дождались, пока генерал отдаст последние указания вознице, раскрыли над головами зонтики, чтобы не напекло голову, и компания отправилась в путь. Лошади бежали рысцой, дорога тянулась вдоль берега реки. Время от времени им попадались на пути холмики, вершины которых дымились. Дамы уже знали, что тут сложены большими кучами и накрыты сверху дерном березовые или дубовые поленья. Их вот так, под «крышкой» из земли, поджигали и оставляли для того, чтобы дрова горели медленно, постепенно – здесь повсеместно применялся этот старинный способ изготовления древесного угля, называвшийся «углежжением». На какой стадии сейчас находится будущий уголь, легко было понять по воздуху окрестностей Читы: в первые сутки по земле полз желтовато-серый пар, постепенно он становился более легким, голубоватым, но всегда отдавал запахом обугленных пней и горячей золы… Но все-таки в целом пейзаж, на котором умещались цветущие луга, молодые рощицы и даже эти курящиеся горки очаровывал взгляд и склонял к лени.
Повосхищавшись природой и повосклицав, дамы вернулись к обсуждению судьбы Камиллы Ле Дантю. Мария Волконская, состоявшая в переписке с сестрой Ивашева, принялась восхвалять самоотверженность молоденькой гувернантки, которая из любви к политическому каторжанину согласилась на ссылку в Сибирь.
– Конечно, конечно, – тихонько сказала Александрина Муравьева. – Но согласитесь, что при всех тех неудобствах, какие связаны с жизнью в изгнании, девушка заключает весьма выгодную партию – во всяком случае, в нормальных условиях она бы и мечтать не могла ни о чем подобном!
– Да не может она искренне любить Ивашева! – подлила масла в огонь ее тезка, жена Давыдова. – Она же почти его и не знала в России-то!
– А вы что – не верите в любовь с первого взгляда? – улыбнулась Мария Волконская.
– В таком случае, между первым взглядом и любовью многовато времени прошло, – заметила Наталья Фонвизина.
– Говорят… говорят, только я не знаю, правда это или нет… – сделав знак подругам приблизиться, таинственно округлила глаза Давыдова и перешла на шепот: – Говорят, матушка Василия Ивашева, обеспокоенная тем, что взрослый сын одинок… лишен женского общества… ну, вы понимаете, о чем тут речь… в общем, матушка взяла да и купила ему в лице мадемуазель Камиллы Ле Дантю – невесту! За пятьдесят тысяч рублей!
Дамы хором возмутились – как же можно пересказывать сплетни, да еще такие! – но все они казались чрезвычайно довольными тем, что эти гнусные сплетни услышали.
– Впрочем, Ивашев и сам не знает, чего хочет! – добавила Мария Волконская. – То он бежать собирается, то…
– Да уж, странноватая затея для человека, намеренного идти под венец!
– А у него, как у варнаков, страсть к весеннему бродяжничеству!
– Послушайте, неужели вам эта история не напоминает аналогичную? Между прочим, Полина Анненкова вышла замуж не совсем обычным способом!
– Уж Полина-то не заслуживает, чтобы о ней злословили – да разве можно сравнивать!..
Софи держалась в сторонке от всех этих пересудов, ей казалось, что именно в них ярче всего проявляется характерная для женщин страсть копаться в чужом грязном белье, что именно сейчас здесь заготавливаются про запас мелкие, не имеющие продолжения колкости и подковырки, что этот живой обмен не производящими реального эффекта нападками на отсутствующих схож с лишенной смысла бесконечностью отражений в расположенных одно против другого зеркалах… Интересно, сколько раз она сама становилась козлом отпущения в этой отвратительной ей игре? Слушая, что говорят о других, несложно представить, что могут говорить о тебе самой!
– В любом случае, ежели этой Камилле удастся осуществить свое предприятие, у нас тут в Чите будет три француженки, – сосчитала Александрина Давыдова.
– Плюс Каташа Трубецкая, она наполовину француженка! – сочла нужным вмешаться Софи и улыбнулась.
– Но как вы это объясните? – заинтересовалась княгиня Волконская. – Может быть, ваши соотечественницы наделены от природы каким-то особым, исключительным даром любить? Своего рода – призванием?
– Кажется, вы забыли, что пример нам всем подали именно вы… вы и княгиня Трубецкая, – ответила Софи.
Однако Мария продолжала, словно не слыша ее слов:
– Мне кажется, француженки, все француженки, француженки вообще – особенные женщины. Женщины с головой, разумные, но способные, пожелав чего-то, идти до конца, пока не добьются цели. И при этом их не смущают ни реакция общества на их действия, ни мнение других людей, ни разница в происхождении – хоть в ту сторону, хоть в другую…
Софи догадалась, что суждение это, произнесенное самым что ни на есть искренним и любезным тоном, куда меньше касалось блестящего кавалергарда, художника и музыканта Василия Ивашева с его гувернанточкой, чем ее самой и Никиты. Четыре пары глаз уставились на нее: передернется или не передернется от укола? Но даже под таким обстрелом ей ничего не стоило сохранить безмятежное выражение лица.
– Наверное, это наследство Великой революции? – настаивала Мария.
Как она была хороша в своем открытом недоброжелательстве! Теплая смуглота креольского личика, черные угли горящих глаз, пухлые губы… Красива, ничего не скажешь, но… Коляску трясло на неровной дороге, и на каждом ухабе женщины только что не падали друг на друга, сопровождая столкновения мягким шелестом шелков, смешением ароматов… Зонтики так и плясали над их головами… Но думать это не мешало. Вот и сейчас, прижавшись волею очередной рытвины к Марии Волконской, как не стала бы прижиматься и к любимой подружке, Софи, не меняя тона, сказала:
– Думаю, наследство революции лучше искать в сердцах не французских женщин, а русских мужчин. Расспросите-ка своих мужей, поинтересуйтесь, что они об этом думают, медам!
Ответ понравился всем. Здесь, как в фехтовальном зале, ценили отлично нанесенный удар. Даже Мария Волконская казалась довольной тем, что ее так сухо отчитали. Дамы успокоились, разговор стал более непринужденным, да и тему сменили: теперь обсуждали домики в Петровском Заводе. Оказалось, что Александрина Муравьева уже передала заказ подрядчику. Софи не стала слушать, как подруги спорят об архитектуре, и уж тем более – принимать участие в этом споре, она бездумно смотрела вокруг. По обе стороны коляски ехали казаки с ружьями за плечом. Лошади, похоже, объелись сырого сена, иначе с чего бы это они время от времени шумно – ни дать ни взять петарды! – выпускали газы. Дамы притворялись, будто не замечают этого, но, тем не менее, в такие минуты принимались усиленно обмахиваться платочками.
Чуть подальше нужно было вброд перебраться через реку. Кучер с глубокомысленным видом измерил глубину веткой. Убедившись, что вода дойдет только до ступенек, а ножки пассажирок не намокнут, собрался двинуться вперед. Но в этот момент местный священник, который плыл в лодке к другому берегу, заметил дам, развернулся и предложил им разместиться в лодке. Когда они заняли места на скамейках, оказалось, что самому свещеннику там уже не поместиться.
– Ничего-ничего, сударыни, – сказал он, – я пойду пешком и стану вас подталкивать.
Священника звали отцом Виссарионом. «Совсем молодой, а ведь у него уже четверо детей», – подумала Софи. Как раз отец Виссарион и венчал Полину с Анненковым. Лицо у него было простоватое, мужицкое: курносый нос, незабудкового цвета глаза, белобрысая раздвоенная внизу бородка… Несмотря на протесты смущенных женщин, батюшка разулся, достал из кармана веревочку, привязал ее к ушкам сапог, повесил их на шею, подумал несколько секунд, потом мужественно задрал едва ли не до пояса рясу… Дамы не были готовы к столь решительному его поступку и не успели отвернуться, так что во всей красе разглядели ляжки священнослужителя, и из-под зонтиков донеслись сдавленные смешки. Батюшка уже стоял в воде, растерявшись, он выпустил рясу, и подол ее закачался на волнах. Погрузившийся почти до пояса в воду и тем самым переставший наносить урон нравственности прихожанок, отец Виссарион брел по воде в окружении черных колышущихся и вздымающихся пол своего одеяния. От него веяло поистине библейской простотой… Мария Волконская спросила, куда направляется священник.
– К старику Антону, – ответил тот. – Слыхали ведь, конечно, – дровосек наш… Он в лесу живет. А сейчас помирает, и сын попросил меня прийти…
Казаки на лошадях теперь тоже переходили реку, пришла очередь коляски. Вот она уже, неуверенно покачиваясь, будто колеблется, то ли ей ехать по дну, то ли пуститься вплавь, опустилась в воду до брызговика. Добрались до середины реки. Здесь глубина оказалась священнику по грудь. Дамы забеспокоились.
– Наверное, это небезопасно, батюшка! – воскликнула Наталья Фонвизина.
– Вполне безопасно, сударыня, – ответил тот. – Видите, уже повыше стало, тут песчаная отмель.
Действительно мало-помалу вода вокруг него опускалась, и, опасаясь, что им сейчас снова откроется нечто не слишком приличное, дамы поторопились укрыться под зонтиками. Оказавшись на другом берегу, они поблагодарили своего пастыря, выглядевшего теперь еще менее солидным в прилипшей к тощим ногам рясе. Александрина Муравьева сказала, что завтра они непременно увидятся, так как она придет в церковь заказывать панихиду по умершей год назад матери.
– Приходите-приходите… Святое дело, для души необходимое, – благословил ее священник. – Храни вас Господь! С Богом, сударыни!
Он осенил прихожанок крестом, и в этот момент Софи очнулась – словно от удара изнутри: Никита ведь умер без соборования, без отпущения грехов! А он ведь верующий, бедный, как же он страдал! А может быть (что мы знаем о потустороннем мире?), он и сейчас страдает от этого? Если какая-то часть, если душа Никиты осталась здесь или где-нибудь еще после исчезновения его физической сущности, если то, что он являл собой как творение Божие, не кончилось с разрушением плоти, значит, она не могла бы обрадовать его больше, чем когда закажет и сама панихиду по усопшему…
Софи села в коляску успокоенная. Сознание того, что она еще способна хоть чем-то помочь Никите, стало для нее поддержкой, которую она уже не рассчитывала получить, на которую и не надеялась. Она решила, что завтра же переговорит об этом с отцом Виссарионом.
Коляска тронулась с места, блестящая от влаги, колеса ее были густо опутаны водорослями. От влажных лошадиных попон шел пар. Наконец они добрались до вершины холма, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Это и была конечная цель прогулки. Дамы пришли в восторг и раскудахтались. Мария Волконская набрасывала в альбоме пейзажик, – по возвращении она покажет его Николаю Бестужеву. Одна Софи не восхищалась красотами природы, ее совершенно не интересовал открывшийся ландшафт: она была в церкви, она была с Никитой.
Для возвращения в Читу они избрали другую дорогу: ту, что шла мимо Чертовой могилы. Надо было проехать там, застать мужей на рабочем месте было единственной возможностью лишний раз увидеться с ними. Появление дам было встречено восторженными приветствиями. К ним, побросав лопаты и заступы, устремилась толпа землекопов, любому ведь хотелось приложиться к ручкам нежданных гостий. Сбитые с толку охранники их пропустили. Вскоре вокруг каждой из дам образовался кружок из влюбленных в нее работяг. Софи заметила, что всем ее подругам, даже самым серьезным из них, не хватает естественности среди такого количества мужчин. Они напропалую кокетничали, они выламывались, они притворялись царицами бала… Николай взял Софи за руку и увел на опушку леса. Сначала расспросил о прогулке, затем – о том, чем она занималась накануне, наконец – совсем застенчиво – о ней самой: как себя чувствует, какое настроение… Выражением лица он с каждым вопросом все больше напоминал провинившегося ребенка.
– Софи, я ужасно страдаю, я несчастен! – вдруг прошептал он. – Ты так переменилась!..
И, храня все то же выражение, стал ждать наказания.
– Да нет, чтобы…
– Да! Да! И я знаю, почему это случилось… Ты попросту очень впечатлительна, чересчур впечатлительна. Тебя донельзя разволновала пережитая Никитой пытка… Увы, не пережитая, – поправился Николай. – Ты же француженка, и, естественно, тебе не под силу выносить некоторые наши обычаи… Еще в Каштановке ты слишком близко к сердцу принимала вещи, которые меня затрагивали куда меньше… Наверное, в глубине души ты всю Россию обвиняешь в том, что сейчас произошло… и меня заодно… Только ты подумай, дорогая: при чем же тут я…
Она приложила руку ему к губам: замолчи! Он мгновенно схватил ее запястье и жадно впился губами в испещренную тонкими линиями горячую ладонь. Пораженная молниеносностью движения и страстью, с которой муж целовал ей руку, она растерялась и замерла, не понимая, что же делать теперь. В памяти всплыла лошадь с нежными черными губами, лошадь, которая осторожно брала хлеб с этой же руки… Но как всплыла, так и исчезла: Софи опомнилась, ей стали отвратительны щекотные прикосновения мужа, и она руку отдернула. Оттолкнула Николая. Тот посмотрел на нее злыми и жалкими глазами, опустил голову и молча ушел. Обернувшись, она поняла, что остальные дамы издали наблюдали за ними. Все время, пока разыгрывалась сцена.
* * *
Всю ночь шел дождь, утром продолжался, и лейтенант Ватрушкин, отменив работы на Чертовой могиле, разрешил заключенным делать что угодно. Некоторые, взяв книгу, так и остались валяться в постели, другие, уже одевшись, вернулись на кровать, чтобы заняться письмами или игрой в шашки. Третьи посасывали трубку и мечтали. А в камере под названием «Москва» шла тем временем двенадцатая лекция Одоевского по курсу русской литературы. «Профессору» заглядывать в свои заметки не потребовалось: встав на стол, он по памяти излагал факты и цитировал даже самые длинные фрагменты текстов. Напомнив собравшимся творения Сумарокова, Александр Иванович с огромным волнением произнес фамилию своего тезки – Грибоедова, убитого в прошедшем году в Тегеране мусульманскими повстанцами… Когда-то Грибоедов был дружен со многими декабристами, его комедию «Горе уму» запретила цензура, но каждый культурный человек знал из нее хотя бы несколько стихов наизусть.
– Он, вместе с Пушкиным, одним из первых отказался от выспреннего стиля писателей ушедшего века, заменил на театре декламацию отражением повседневной жизни, – говорил Одоевский. – Благодаря двум этим гениям русская литература перестала быть ряженой, став естественной, а русский язык перестали делить на части: вот тут – благородные, высокие слова, ими следует пользоваться, когда пишешь, а вот тут – низкие, такие – только для разговора…
Николай обычно старался не упустить ни слова из лекций Александра Ивановича, но на этот раз с трудом следил за ходом мысли оратора: его собственные мысли то и дело сворачивали совсем на другое, и ему было очень трудно сосредоточиться на том, что слышит. Он все пытался объяснить себе, почему Софи ушла в себя, почему отталкивает его, старался оправдать ее поведение горем, которое обрушили на нее два пришедших почти одновременно, одно за другим, печальных известия: о смерти родителей и о казни Никиты. Он уговаривал себя – твердил, что должен любить жену такой, какая она есть, а не такой, какую сам придумывает, что характер человека со временем меняется, что даже самое уравновешенное существо способно вдруг заболеть и с каждым может случиться душевное расстройство, а при такой последовательности событий любой бы сошел с ума… И как раз в ту минуту, когда Николай вот так убеждал себя отнестись к тому, что сейчас делается с женой, снисходительно, с сочувствием, как к временному недомоганию, он заметил, что сидящий неподалеку с альбомчиком для набросков на коленях Бестужев рисует именно его, – Озарёву это сильно не понравилось. Он помахал товарищу рукой, показывая – смотри, сколько народу вокруг, выбери другую модель, но тот продолжал, только теперь – исподтишка, поглядывать на Николая и сразу после этого карандаш его снова принимался шустро бегать по альбомному листку.
Раздосадованный «натурщик» встал и вышел – на цыпочках, чтобы не помешать ни лектору, ни аудитории. Ну, и что теперь делать? Куда податься? Дождь стучал по крыше. Николай вернулся в камеру, где царила тишина, и стал пробираться к кровати. На ней, спиной к нему, сидели и о чем-то тихонько беседовали Юрий Алмазов и Лорер. Приблизившись к ним, он услышал имя «Никита», и ему стало невыносимо стыдно – может быть, еще и потому, что одновременно со стыдом он ощутил гнев, справиться с которым было очень трудно. Это как надо понимать? Он что – из-за жены, оплакивающей забитого кнутом крепостного, стал уже притчей во языцех для всей каторги? Но каким же образом новость распространилась так быстро? Откуда они узнали – от Лепарского, его племянника, кого-то из комендантской свиты, может быть, от самой Софи? Ему ужасно хотелось исколошматить кулаками этих двоих, он еле сдерживался, а те, видимо, услышав шаги Озарёва, обернулись.
– Я занял твое место, – сказал Лорер и встал. – Кончилась лекция Одоевского, да?
– Нет, – предательски дрожащим голосом отозвался Николай. – Просто мне нужно кое-что сделать тут.
– И мне тоже. Домашнее задание по испанскому для Завалишина. Знаешь, он как педагог зверь, да и только – иначе не скажешь! Но ведь на что угодно согласишься ради удовольствия читать Сервантеса или Кальдерона в оригинале! Согласен?
Не дожидаясь ответа, Лорер удалился, Юрий тоже встал и собрался уйти, но Николай схватил его за рукав:
– А вот ты останься! Хотя бы ты один! Ты должен остаться, потому что ты… ты должен мне сказать… да-да! ты мне сейчас скажешь!..
Теперь он держал друга за руку, сжимая ее так сильно, что тот, поморщившись, вырвался и прошипел:
– Какая муха тебя укусила?
– Просто я слышал ваш разговор, – злобно произнес Озарёв.
– Ну и что?
– А то, что вы говорили о Никите!
– Разве это запрещено?
– Негодяй! – процедил Николай сквозь зубы. – Ничтожество! Ты притворялся другом, ты называл меня братом, а стоило мне отойти, за моей спиной клевещешь на меня, предаешь! Повтори, что ты сказал Лореру!
– Сказал, что этот несчастный Никита Муравьев показал себя полным идиотом, когда замахнулся в Петровском Заводе на двухэтажную домину с бильярдной, и что на самом деле эта прихоть его женушки будет стоить ему сумасшедших денег… – пожал плечами Алмазов.
Николай опешил, он и сам почувствовал себя полным идиотом, какое там – Муравьев, куда Никите до него… На что он так рассердился?! Вот уже и от гнева-то его праведного следа не осталось… Да это же просто-напросто мания преследования! Думая все об одном да об одном, он уже решил, что его крепостной – единственный Никита на всю Россию! Какие могут быть сомнения в искренности Алмазова? Какой прямой и нежный, какой встревоженный сейчас взгляд у Юрия, какие честные эти большие глаза под густыми черными бровями… Какая душевная улыбка!
– Не узнаю тебя, Николя! – сказал Алмазов. – С некоторых пор ты для меня – как чужой, незнакомый. Словно с другой планеты прилетел… Ты ведь обычно такой живой, активный, деятельный… У тебя какие-то неприятности? Ты что-то от нас скрываешь?
До чего же это трудно – держать все в себе! Озарёв так долго хранил секрет, что сочувствие друга стало для него искушением наконец открыться, рассказать о своей беде, о своей тревоге, переполнявшей его горечи, о невыносимой уже боли…
– С моей женой неладно… – прошептал он.
– Так я и думал, – отозвался Юрий. – Для жены каторжанина жизнь здесь не праздник… Надо это понимать.
– Так ведь сначала Софи выглядела счастливой, – вздохнул Николай. – И я надеялся, что она свыкнется, что все обойдется…
Они сидели на кровати рядом, в одинаковой позе: уперев локти в колени, сомкнув стопы. Так они привыкли, когда носили цепи. Несколько минут прошло в тишине, потом Николай ни с того, ни с сего стукнул себя сразу обоими кулаками по лбу, причем с такой невероятной силой, что на его бледной коже светловолосого человека между бровями немедленно выступили розовые пятна.
– Знаешь, наверное, это попросту черная полоса… – попытался успокоить его Юрий.
– Верно! Вот только она как началась, так все длится, длится, длится… Доколе же!
– А ты считаешь, когда она началась?
Николая на секунду вновь охватили подозрения, но перейти к недоверию оказалось слишком трудно, он поколебался, передернул плечами и ответил:
– Когда Лепарский вернулся из Иркутска.
– Николенька, – назвал его внезапно детским именем друг. – Николенька, ты можешь обо всем говорить открыто… Мы же все в курсе…
– Вы в курсе?.. Чего?
– Ну… того… того, в чем ты упрекаешь свою жену…
Николай побледнел:
– Я ни в чем ее не упрекаю!
Испугавшись, что сболтнул лишнего, Алмазов хотел было отступить на прежние позиции, но только подлил масла в огонь:
– Вот и правильно! Мало ли что рассказывают эти злые языки хоть в Чите, хоть в Иркутске… Кто им поверит? Да и ничего особенного нет в том, что она всю дорогу была одна с этим парнишкой, заботилась о нем, когда он болел, заказала панихиду за упокой его души… Любая женщина на месте твоей Софи поступила бы так!
Утешил… как обухом по голове утешил!
– Софи заказала панихиду за упокой его души? – еле выговорил он.
– Вроде бы… говорят…
– Когда?
– Брось ты, вполне может оказаться, что это просто слухи!
– Когда? – повторил Озарёв, схватив Юрия за плечи, и принялся трясти его как безвольную куклу.
Но тут же и оставил. Выскочил из комнаты и помчался в караульную к Ватрушкину, где стал умолять лейтенанта позволить ему выйти и отправиться в деревню, чтобы исповедаться у отца Виссариона – батюшка, дескать, ждет его.
Ватрушкин удивился, немножко подумал, но решил сыграть в доброго начальника и приказал двум солдатам проводить арестанта к священнику.
Тот, сидя за столом в большой чистой горнице, вместе со всем семейством лущил горошек, но, увидев декабриста, попросил жену и двух дочерей выйти и указал гостю на стул.
– Я хочу заказать панихиду об упокоении души моего слуги Никиты! – выпалил Николай на одном дыхании, даже не успев занять предложенное место.
– Поздновато вы пришли, – с доброй улыбкой ответил ему отец Виссарион. – Ваша жена вас опередила, она уже заказала литию об упокоении этой заблудшей души…
– Ах… – Пол под его ногами покачнулся, ему пришлось опереться рукой о столешницу. Горка зеленого горошка раскатилась по столу, некоторые горошины взлетели в воздух от удара.
– Госпожа Озарёва сделала это еще вчера, – продолжал священник. – Я сегодня уже служил панихиду об упокоении раба Божия Никиты…
– Благодарю вас, батюшка, – прошептал Николай.
Солдаты под проливным дождем отвели его обратно в тюрьму.
10
– Мне плевать кто тут что думает! – кричала Софи. – Тут вообще все только и делают, что шпионят и сплетничают! Так что же – мне из-за них отказываться от своих намерений?
– Не из-за них, из-за меня… – Николай, который до тех пор мерил шагами комнату, остановился. – То, что ты сделала, Софи, по меньшей мере, неприлично. Кто он тебе, этот Никита, чтобы ты бежала заказывать панихиду об упокоении его души? Муж? Сын? Брат?
– Преданный спутник во время долгого путешествия!
– Крепостной! Мужик!
– Да, крепостной крестьянин, но крепостной крестьянин, который умер в чудовищных мучениях.
– Только потому, что спешил к тебе!
– Вот именно. Значит, мы должны отдать ему последний долг. Я и ты.
– Ты еще куда ни шло, но уж никак не я, – Николай усмехнулся.
Софи рассердилась.
– А я говорю – ты еще больше, чем я! Сам подумай: если бы не Никита, я не смогла бы до тебя добраться! Он мне во всем помогал. Он меня защищал. Он… он… он был просто чудесный!
Голос ее дрогнул. Разговор о Никите будил в ней нежность и грусть, она уже готова была заплакать. Но Софи боялась расслабиться в тот момент, когда ей нужны все силы, нужна вся энергия, чтобы встать на защиту друга.
Николай, скрестив руки на груди, внимательно смотрел на жену, но, казалось, не слушал того, что она говорит. Когда запас слов иссяк и Софи умолкла, он проворчал:
– Подумать только, сколько времени я жил в неведении!.. Жил так беззаботно!.. И достаточно было Лепарскому побывать в Иркутске, чтобы мне просто все уши прожужжали… и всё насчет этих грязных тамошних делишек…
– Каких еще грязных делишек?
– Тебе-то они отлично известны!
– Не понимаю, что ты имеешь в виду!
Он минутку поколебался, не слишком ли серьезно обвинение, потом решился и с силой, помноженной на отвращение, бросил жене в лицо:
– Твою близость с этим мужиком!
– А ты подумал, прежде чем говорить? – холодно спросила Софи, не отводя взгляда от мужа.
Секунду они мерились силой, и Николай отвернулся первым. Она догадалась, что муж душу бы продал дьяволу, лишь бы обрести прежнюю уверенность в ее чистоте. А он, словно прочитав мысли Софи, избрал откровенность, для начала ответив на последний вопрос.
– Да, подумал. Я очень долго думал. И мне так хотелось тебе верить! – прошептал он. – Но твое поведение только все усугубляло… все подозрения, вызванные, как ты говоришь, сплетнями. Только ведь если бы тебе и впрямь не в чем было себя упрекнуть, ты предупредила бы меня… рассказала бы мне о том… хотя бы о том, что ходатайствуешь о приезде Никиты… А ты все скрыла, ты действовала в тайне от меня… Знаю-знаю, сейчас ты ответишь, что попросту забыла сказать… Ну и как, ты считаешь, долго ли я могу довольствоваться таким объяснением?..
Постепенно голос Николая крепчал, тон становился все резче – словно бы, выдвигая против Софи обвинения, он сам убеждался в том, что прав, тысячу раз прав. Теперь каждое слово, каждый высказанный им упрек становились как бы подпиткой для следующего взрыва ярости.
– Есть и другое, – продолжал он. – Есть и другое, куда как более тяжкое. Твоя ко мне холодность!.. Еще только приехав сюда, ты вела себя странно, ты была безучастна, как женщина, мысли которой заняты чем-то совсем иным… А когда узнала о смерти Никиты – вообще уже стала гнать меня или бежать от меня, как от зачумленного!.. Стоило мне приблизиться, в твоих глазах только слепой не увидел бы гадливости, они просто кричали: убирайся!
– Это неправда, – сказала Софи.
– Что значит «это неправда»! – Николай схватил жену за руки. Она стала отбиваться, вырвалась, оттолкнула мужа, отступила на пару шагов и стояла там, растрепанная, с трудом дыша.
– Вот видишь, – прошептал он. – Видишь, я прав!
Он явно чувствовал себя униженным, но торжествовал. Софи презрительно посмотрела на мужа и пожала плечами. Николай уловил это движение, и оно окончательно вывело его из себя, довело до бешенства. Черты лица заострились, глаза из-под сведенных бровей засверкали зеленым огнем:
– Та-а-к! Что ж, почему бы не пойти дальше! Признавайся теперь, что ты спала с ним! Тебе же это ничего не стоит!
Лучше бы он плюнул ей в лицо. Кровь в жилах Софи вскипела, но она и пальцем не пошевелила в ответ.
Тогда он повысил голос:
– Когда ты приехала, я был потрясен, я был растроган величием твоей души, величием души женщины, моей жены, бросившей все, чтобы последовать за мной в Сибирь! Но ты оставила Санкт-Петербург вовсе не из-за меня! Ты организовала это дальнее, долгое путешествие только затем, чтобы крутить любовь с собственным слугой сначала в дороге, затем в Чите. Мы под замком, а ты с ним в постели, такой был у тебя прицел, такой вариант тебя бы устроил, верно?
Шея Николая вытянулась, выступили жилы, лицо было искажено, губы дрожали. И вдруг Софи перестала его бояться. Ей даже стало легче, когда муж повел себя с ней так глупо и так грубо. Попусту обвиняя ее во всех этих гадостях, он сам помогает ей от него отдалиться и уйти в неземную любовь, которой никому все равно не понять.
– Как ты смешон! – свысока бросила она. Голос прозвучал фальшиво.
– А ты… а ты… ты омерзительна! Я больше смотреть не могу на тебя, так и вижу, как ты млеешь в грязных лапах этого мужика!
– Тогда не понимаю, что ты тут делаешь…
– Что?! Что?! – Николай вытаращил глаза и стал путаться в словах. – Ты… ты можешь… ты смеешь… да что ты себе вообра…
Он замахнулся. «Интересно, что будет, если он меня ударит?» – промелькнуло в голове у Софи, и она даже успела удивиться своей способности мыслить так ясно. Их взгляды встретились. В свой взгляд Софи постаралась вложить стальную непреклонность. Даже ресницы не трепещут, как обычно. На губы словно печать наложена. Она чувствовала, как где-то очень глубоко внутри ее неподвижного тела живет громадное сердце, и прислушивалась к тому, как мерно и сильно оно бьется. Прошло две или три секунды, длившиеся для Софи дольше вечности, и она увидела, как зашевелился, будто муж силится проглотить что-то, его подбородок. Зеленые глаза погасли. В углу рта забилась жилка. Он уронил руку, сел на кровать и спрятал лицо в ладонях.
– Господи, Господи, как такое возможно? – шептал он.
Ей совершенно не было его жалко, но почему-то расхотелось его выгонять. Она забыла все. Как странно… Ее тело плавало в пустоте, оно было совсем невесомое. Ей вдруг стали интересны бесконечно мелкие детали происходящего вокруг. Вот сюртук Николя – на нем не хватает одной пуговицы… Вот муравьи черной дорожкой стекают по оконному стеклу – надо сказать Пульхерии… Перемирие продолжалось – перемирие двух усталых животных, которые остались на поле брани, чтобы зализать раны, не понимая, хватит ли у них пыла начать все сначала. Николай неожиданно поднял голову, она увидела его лицо – искаженное, потерянное, взгляд блуждает, на щеках – слезы… Он простонал:
– Ты на меня сердишься?
Она не ждала этого вопроса, и вопрос ее озадачил, если не совсем сбил с толку.
– Ты должна понять меня, Софи! – снова заговорил он. – Я с ума сходил от одной только мысли о том, что ты способна изменить мне!.. Скажи, скажи, что я все это просто-напросто придумал!.. Навоображал невесть чего!.. Скажи – и я поверю! Клянусь тебе – поверю!
Поскольку она и тут промолчала, он продолжал, еще более покорно и униженно:
– На самом деле ты так отдалилась от меня только потому, что не смогла простить моей неверности, той, давней… ты сердишься на меня за ту глупую связь… Ты ведь такая гордая!.. Тебя так легко ранить такими вещами!.. Это я во всем виноват!..
Она совсем забыла про давнишние шалости Николая, и сейчас ее удивил намек на что-то подобное, когда он пытался объяснить случившееся какой-то «глупой связью», ясно же, что дело совсем не в том. Признавая, что из-за него пошатнулась прочность их семьи, он, наверное, надеется ускользнуть от другой опасности, более серьезной. Если кто-то из них двоих провинился, пусть это лучше будет он, так, да? Она улыбнулась про себя: надо же какая жалкая тактика… До чего она теперь далека от той юной супруги, которая когда-то ревновала мужа – да еще этакой здоровой и ядреной ревностью, какая способна только раздразнить влюбленную до беспамятства самку. Сегодня его мольбы ее трогают ничуть не больше, чем его оскорбления в ее адрес. Пусть себе говорит…
– Софи, ненаглядная моя!.. Забудь все, что я сказал!.. Я просто идиот!.. Давай начнем все с чистой страницы!..
Теперь он встал и надвигается на нее, протянув руки. Она знает, что за этим последует. Сбежать? Куда? Остановить его? Как? Озарение снизошло, когда она думала, что уже совсем пропала. Софи схватилась за дверную ручку и рванула к себе дверь. В проеме выросла фигура солдата в дурацкой позе: как будто он приклеен ухом к пустому пространству. Повисла пауза – все оцепенели. Озарёв замер с отвисшей нижней губой, дышит как-то хрипло. Вот, зашевелился…
– Ты чудовище, Софи! – сказал он. – Жестокое, черствое, до ужаса спокойное чудовище!
И быстро вышел.
* * *
Два дня Софи всячески избегала встреч с Николаем. Объяснение с мужем так хорошо вылечило ее от любых сомнений и любых угрызений совести, что ей казалось даже, будто дышать стало легче. Однако в следующее воскресенье, с приближением часа свиданий, она снова занервничала. Взяла роман Вальтера Скотта, попыталась, сев у окна, читать, но поминутно отвлекалась, вздрагивая от каждого шороха. Перспектива еще одной сцены со слезами и оскорблениями угнетала ее… К счастью, никто так и не показался. Она долго еще оставалась настороже и только тогда, когда поняла, что никто не появился и появиться не может, успокоилась и почувствовала себя прекрасно. Она испытывала к Озарёву благодарность за то, что он отказался от свидания. Лежащая на коленях книга внезапно стала бесконечно увлекательной. Софи безмятежно наслаждалась приключениями Роб-Роя и хотела, чтобы все это длилось вечно.
Под вечер кто-то постучал в дверь. Боже мой, неужели все-таки он? Сердце ее сжалось, она открыла. Какое счастье, всего лишь Полина Анненкова! Прибежала – вся такая разряженная, суетливая. Веселая – прямо из каждой поры радость ключом бьет.
– Муж сказал вам нашу новость? – закричала с порога.
– Я не виделась сегодня с мужем, – объявила Софи.
– Ах, Господи! Что же случилось? Он заболел?
– Нет.
Софи подумала, что жены заключенных, конечно же, знают обо всех их размолвках с Николаем, кто больше, кто меньше, но знают. И послали вот представительницу – застать ее врасплох… Впрочем, ей безразлично их любопытство. Она вовсе не обязана притворяться счастливой супругой перед этими жаждущими нескромных признаний самками.
– Мой муж в полном здравии, – сообщила она гостье. – Он не пришел, потому что мы с общего согласия решили отказаться от свиданий.
– Как? Правда? – Анненкова проглотила слюну и забормотала: – Ах, простите меня, простите, ради всего святого… я же не знала…
– Вы ни в чем не виноваты, – спокойно ответила Софи. – Но я думала, вы пришли с какой-то новостью…
– Я?
Растерянная – еще бы: услышать вдруг подобное! – Полина некоторое время вспоминала, с чем она пришла… Что-то ведь такое было… приятное…
– Ой, да, действительно! Это насчет Камиллы Ле Дантю, – наконец сказала она, и к ней вернулось прежнее возбуждение. – Представляете, Лепарский вчера вызвал Ивашева, чтобы показать ему два письма: одно – от его собственной матери, другое – от матери Камиллы, присланные вместе с высочайшего одобрения Бенкендорфа. Представляете? Это насчет его женитьбы. Ах, какие письма, какие письма!.. Говорят, они просто душераздирающие, такое в каждом слове благородство души! Этот милый мальчик был растроган до слез. Лепарский дал ему двадцать четыре часа на раздумья. Он только что просил передать генералу свой ответ: ДА!
Софи смотрела на искрящуюся весельем Полину пустым взглядом, что свидетельствовало о полном уходе в себя, но ту это ничуть не смущало, и она продолжала все так же радостно:
– Камилла, наверное, будет ужасно счастлива! Прежде мы с ней часто встречались. Да ведь все друг с другом знакомы в нашей маленькой французской колонии в Москве… Теперь у нас с вами тут появится еще одна соотечественница. Очаровательная, очаровательная, точно вам говорю! Именно такая жена, какая требуется Ивашеву! И готова побиться об заклад, что он больше и не думает ни о каком побеге!
Полина болтала безостановочно, так могла болтать разве что какая-нибудь продавщица. Да уж, она не дает забыть о своей работе в модном магазине!
– Очевидно, понадобится некоторое время на то, чтобы все уладить окончательно. И Камилла сможет тронуться в путь не раньше, чем через несколько месяцев. Думаю, свадьба состоится уже в Петровском Заводе. Не знаете случайно даты нашего переезда?
– Нет, – откликнулась Софи.
– Ах ты Боже мой, до чего же противно не иметь возможности хоть что-то решать самой! Всегда-то мы обязаны дожидаться приказа! Между прочим, мой муж твердит все время, что непослушание у меня в крови и я отродясь не знала дисциплины. Знаете почему? Потому, говорит, что француженка! А ваш тоже так говорит?
Полина остановилась и поднесла ко рту пухлую ладошку – словно желая извиниться за неуместность вопроса. Впрочем, нескромность ее, скорее всего, была намеренной. И вдруг она вскочила:
– Ой! Мне пора!
– Но я как раз хотела предложить вам выпить со мной чайку…
– Нет! Нет! – закричала гостья так, словно боялась ошпариться.
И двинулась к двери, щебеча всякие любезности.
Софи сделала несколько кругов по комнате, потом остановилась перед зеркалом – поправить растрепавшиеся волосы. Почему-то эта забота о себе показалась ей сейчас страшно важным делом. Только женщина способна понять желание быть красивой даже тогда, когда некого соблазнять. Красивой для себя самой. Или – для воспоминаний. Она распустила волосы, упавшие темным занавесом ей на плечи, взяла щетку и принялась медленно их приглаживать. И мечты овладели ею – так, словно она склонилась над рекой и смотрит на пробегающие мимо тихие волны…
* * *
Едва поднявшись с постели, Юрий Алмазов и Петр Свистунов принялись заниматься туалетом с рвением, совершенно необычным для обоих. Их боевой задор и стремление к элегантности удивляли соседей по камере. Особенно интересно стало всем, когда они, вымытые до блеска, гладко выбритые, аккуратнейшим образом коротко подстриженные стали явно томиться в ожидании часа, когда арестантов поведут на работу. Между тем объяснялось все очень просто. Накануне молодые люди свели у Чертовой могилы знакомство с двумя не слишком пугливыми крестьянками, которые пообещали на следующий день вернуться, и Юрий уже присмотрел на том берегу густой лесок, где вроде бы можно отлично потискать барышень. Алмазову казалось, что он уже целый век не занимался такими делами. «Я даже и не помню, хорошо ли от этого бывает», – растерянно повторял он. Рядом громко хохотали, хлопали себя по ляжкам, занимали очередь на случай, если девицы захватят с собой подружек, сторонники дородных блондинок спорили с приверженцами хрупких нервных брюнеточек, но было ясно, что как те, так и другие, ради утоления зверского своего аппетита, удовольствуются любой, какая подвернется. Спокойствие женатых мужчин выгодно отличало их от возбужденных холостяков. Ивашев, хотя только-только стал женихом, примкнул к лагерю, где собрались степенные «женатики». Сюда же примкнули бывший генерал Юшневский и бывший капитан Розен: их жены после многолетних ходатайств только что получили наконец разрешение ехать в Сибирь. Наблюдая со стороны за товарищами, Николай чувствовал себя одинаково далеким как от тех, кто кичился благоразумием, так и от тех, кто исходил жеребячьей радостью. После кошмарного объяснения с Софи он жил с ощущением, что тяжко ранен, и каждое неловкое движение причиняло ему нестерпимую боль. Весь день, переходя от бешенства к отчаянию, он не переставал думать о ней. То, убедив себя, что жена и впрямь изменяла ему с Никитой, мысленно бросал ей в лицо ужасные обвинения, страстно ее ненавидел, то с тою же силой принимался жалеть невинную женщину, винил во всем некие таинственные обстоятельства, причиной которых, возможно, был он один, эти обстоятельства, думал Николай, и убили их любовь… И тогда к его горю прибавлялась неуверенность: будучи не способен найти корень зла, он уже почти сожалел о том, что не имеет реального соперника, соперника из плоти и крови. Как бороться с покойником, призраком, тенью? Он видел Софи потерянной, потерянной навек и безвозвратно, а жизни без нее себе не представлял. Пережитой им унизительной сцены оказалось недостаточно для того, чтобы его отрезвить. Он сгорал от стыда и мечтал сжимать Софи в объятиях, упиваться ее поцелуями, силой взять ее тело и душу… В прошедшее воскресенье он еле удержался от того, чтобы снова пойти туда, – Господи, какую борьбу с самим собой пришлось выдержать! И что еще усугубляло его страдания – все же знали!.. Сочувственные взгляды товарищей были для него просто невыносимы. Хорошо, хоть сейчас они оставили его в покое. Николай улегся одетым на постель и отдался на волю своих невеселых мыслей…
Когда Лорер с Анненковым внесли корзину, полную кусков черного хлеба, и мешочек колотого сахара, шум еще усилился. Следом за ними два недавно выпущенных на свободу уголовника – теперь их использовали как прислугу на каторге для политических – втащили огромный самовар. Один из них – Алифаныч – был низенький, с рябинами на лице, в рыжих его волосах уже наметилась седина. У другого – Филата, мужика громадного роста, голова была плоской, а далеко выдвинутая вперед нижняя челюсть напоминала полуоткрытый ящик. У обоих выделялись на лбу красные метки – след, оставленный раскаленным железом. Именно Филат и помогал Ивашеву организовать побег.
– Ну что, барин, – сказал он, освободившись от самовара и подойдя к счастливому жениху, – неужто так и не жалеешь ни о чем? Подумай еще! Время-то есть пока… Кто женится, тот сам себе тюрьму строит!
– Может, оставишь его в покое? – проворчал доктор Вольф. – Раз в жизни человек принял мудрое решение…
– А если ты, Базиль, сбежишь отсюда, – радостно воскликнул Свистунов, – знай, что в Чите найдется немало охотников до твоей невесты! У нас тут не потерпят, чтобы женщина оставалась одинокой!
Николай стиснул зубы. В любой, самой безобидной фразе ему слышался намек на его беду. Кто-то передал ему кружку дымящегося чая и горбушку хлеба. Он пил и ел, как автомат. Разговоры умолкли, их сменили вздохи, причмокивания, посвистывания, цоканье обожженными языками… Вся камера насыщалась.
– Эй, поторопитесь! – сказал Юрий Алмазов. – Наши девчушки, наверное, нас заждались.
Он допил чай, растворил остаток сахара в теплой воде и смазал себе волосы получившимся сиропом. Вошел в сопровождении шести вооруженных солдат дежурный унтер-офицер.
– Господа, собираемся!
Обычно эту команду в камере встречали глухим ропотом, но на этот раз хор веселых голосов дружно ответил:
– Наконец-то! Поздновато сегодня!
Самые резвые первыми выбежали во двор. Те, кто ничего не ждал от этого дня, спокойно последовали за ними с книжками, газетами, шахматными досками, узелками под мышкой. Синее, дрожащее от зноя небо грузно висело над измученной жаждой землей. После переклички лейтенант Ватрушкин скомандовал:
– Отбой!
Каторжники обменялись удивленными взглядами: почему не дают сигнала к отправлению? Время шло, Юрий Алмазов заметно нервничал, Петр Свистунов грыз ногти. Вскоре раздались крики протеста:
– Да что такое происходит?
– Какого черта вы держите нас в этом пекле?
Бегом прибежали другие солдаты. Со стороны караульной послышалась барабанная дробь. И появился Лепарский – синюшно-бледный, с мертвенным лицом, но в треуголке с перьями.
– Господа, – объявил он, – у меня важное сообщение для вас. Мы перебираемся из Читы в Петровский Завод в начале августа. Расстояние между городами – около семисот верст. Нам понадобится добрых шесть недель на то, чтобы преодолеть его.
По рядам каторжников пополз шепоток, все были удивлены, но первым отважился задать вопрос князь Трубецкой:
– А на чем мы туда станем перебираться, ваше превосходительство? Какие транспортные средства будут в нашем распоряжении?
– Пешком, – лаконично ответил генерал.
– Да это же безумие! – закричал Муравьев. – Усталость от такого пути окажется просто смертельной!
Генерал покачал головой, вид у него был тоскливый.
– Не может быть и речи о марш-броске. Я предлагаю вам ряд коротких прогулок. Мы пойдем не торопясь. Мы будем останавливаться в красивых местах на отдых и на ночлег. Мы забудем, что такое тюремные стены. Разве не соблазнительна для вас такая программа?
– А наши жены? – спросил Анненков.
– Дамы поедут рядом с нами в экипаже.
Гигант Розен выступил вперед и заявил:
– Мы с моим другом Юшневским официально извещены о том, что наши жены выехали из России и направляются в Читу. Если мы уйдем отсюда в ближайшие дни, они по приезде никого тут не застанут. Это нелепо!
– На этот счет отданы особые распоряжения, – не теряя присутствия духа, ответил Лепарский. – Когда баронесса Розен и госпожа Юшневская прибудут в Иркутск, губернатор Цейдлер сообщит им о необходимости изменить дальнейший маршрут и направит прямо в Петровский Завод. Наверное, эти дамы окажутся там даже раньше нас.
– Сколько времени у нас есть на приготовления?
– Дней десять.
– Этого мало, ваше превосходительство!
– Насколько мне известно, у вас не так уж много багажа! Господа, господа, успокойтесь, хватит споров. Вы увидите, как это будет приятно!
Юрий Алмазов толкнул локтем в бок стоящего рядом друга:
– Ну, до чего же мне везет, Николя! Как тебе это нравится: только нашел себе подружку…
– У кого-нибудь есть еще вопросы? – поинтересовался Лепарский.
Все молчали. Даже семейным, которым будущее в Петровском заводе прежде казалось полным заманчивых обещаний, загрустили при мысли, что вот-вот расстанутся с Читой…
Часть II
1
7 июля 1830 года, под проливным дождем, первая колонна политических заключенных вышла из Читы. Руководил походом племянник Лепарского. Вторая колонна, вместе с которой двигался к Петровскому Заводу сам генерал, отправилась в путь еще через день на рассвете. Дождя уже не было, но дорогу развезло, и ветер, какой-то лихорадочно возбужденный, быстро гнал облака к линии горизонта. Николай, попавший во «второй состав», шел медленно, подставляя лицо резким, как удары, порывам воспаленного дыхания ветра, и ему доставляло горькое наслаждение ощущать на себе это знойное насилие, вполне отвечавшее смятению его собственных чувств. Вслед за шлепавшими по грязи и глухо ворчавшими по этому поводу каторжанами двигались телеги с багажом и съестными припасами, карета коменданта и тарантасы с дамами. Софи с Натальей Фонвизиной ехали в одной из крытых повозок, которые подпрыгивали на каждой колдобине, и Николай то и дело оборачивался, надеясь, что лицо жены мелькнет в просвете между двумя занавесками из вытертой кожи.
Миновали три версты. Теперь предстояло перебраться через разлившуюся, как в половодье, Ингоду. Конвой остановился на топком от грязи берегу. Пристань, к которой причаливал паром, осаждала толпа. Это были жители Читы, которые во множестве явились сюда, чтобы пожелать доброго пути «своим каторжникам», обеспечившим городу благоденствие. Некоторые дамы вышли из тарантаса – им хотелось еще раз попрощаться со слугами, поставщиками, соседями. Софи расцеловала в обе щеки рыдающую Пульхерию, у которой прожила так долго, пожала руку ее мужу Захарычу. «Как она добра к другим!» – подумал Николай, наблюдая за этой сценой издали. На жене было серое дорожное пальто, соломенная шляпа с вуалеткой. Он хотел подойти, потом передумал – зачем? Волнение отбывающих и провожающих все нарастало, дамские ридикюли снова и снова раскрывались, последовала новая раздача денег и всплеск ответных благодарных восклицаний.
– Благодетельница наша! Храни вас Господь! Что с нами без вас станется?..
Из всех декабристок самые большие толпы собирались вокруг матерей семейств: они поднимали на руках младенцев и с гордостью показывали их молитвенно сложившим руки почитательницам. В конце концов, дети устали от шума и толпы и принялись вопить на разные голоса. Подбежал Лепарский с выпученными глазами:
– В чем дело? Что случилось? Несчастье?
Генерала успокоили, и он вернулся к своим трудным обязанностям, принялся выкрикивать приказы кучерам и солдатам, бранить лошадей, угрожать реке… Добрая четверть часа ушла на ликвидацию хаоса, наконец, перевоз был организован. Николай уже находился на пароме, когда внезапно загремел гром, и небо прошила ослепительная молния. Посыпался теплый дождик, поначалу такой мелкий, что казался больше похожим на изморось. Однако капли все росли, увеличивались в объеме, и вода под их ударами словно бы строила гримасы. Пейзаж на берегу тоже исказился… Деревья, которые дождь безжалостно хлестал по стволам и кронам, сбрасывали листву, лица провожающих затуманились, дорога цветом слилась с рекой, река – с дорогой…
Николай ступил на противоположный берег Ингоды с ощущением, что продолжает плыть по течению. Паром отошел, приплясывая на желтых волнах. Внизу метались лошади, не способные шагу сделать по скользкой земле, уезжавшей у них из-под ног, им, наверное, казалось невозможным попасть на паром, но все-таки, в конце концов, удавалось. Было видно, как суетятся вокруг повозок, с которых ручьями текла вода, дамы в разноцветных, промокших насквозь платьях. Парому предстояло совершить не меньше дюжины путешествий с одного берега на другой, чтобы перевезти всех. А поскольку никакого укрытия не было, те, кто вынужден был оставаться у пристани, стоически не двигались с места, хотя на них обрушивался водопад. Когда последний солдат с обнаженным штыком в серебряных капельках, в накрытом чехлом кивере, сошел с парома, Лепарский перекрестился и сделал знак Ватрушкину начать перекличку. Никого не потеряли. Крестьяне с того берега, прокричав еще раз «Прощайте!» и помахав руками, начали расходиться.
И тут дождь взял да и кончился. В головокружительном вращении туч обозначился лазурный просвет. По мере того, как отверстие в облаках расширялось, синева неба становилась все ярче, все интенсивнее. Земля дымилась, листья на деревьях сверкали, блестящие, будто лаком покрытые, травы выпрямлялись, солнце посылало сквозь разбегающийся туман веера лучей.
Продолжился марш… Спины у всех были мокрые, штаны приклеились к ногам, с каждым шагом в башмаках хлюпала вода. Солдаты шли впереди и сзади колонны. По бокам ехали верхом казаки с пиками. Полсотни вооруженных луками и дротиками всадников-бурят кружили по обеим сторонам дороги: это были разведчики. Скрип осей казался оглушительным. Закрывая глаза, Николай ловил ощущение, будто слышит крики птиц, кружащих над кучей падали. Иногда появлялся генерал верхом на белом коне. Он проезжал мимо тарантасов и интересовался, все ли у дам есть необходимое или они испытывают нехватку чего-либо, бросал арестантам несколько по-отечески подбадривающих слов и исчезал в направлении своей кареты, поблескивая мокрым от пота лбом.
Ближе к полудню сделали короткий привал. Устроились на обочине дороги, перекусили чем Бог послал – а послал он по кусочку холодного мяса и кружке чая каждому. Дамы воспользовались остановкой, чтобы, выйдя из тарантасов, немножко просушить на солнышке одежду. Мокрые женские волосы, уложенные в замысловатые прически, чудесным образом оставшиеся словно бы и нетронутыми, сверкали, как благовещенские жаворонки, только что вынутые из печи… Все мужчины смотрели на дам с восторгом и вожделением. А вот Софи среди них не было…
Вторая половина этапа оказалась невозможно утомительной. Дорога шла в гору, самые слабые из декабристов задыхались, поминутно облизывали пересохшие губы, с трудом переносили вес с одной ноги на другую. Розен, назначенный товарищами дежурным по второй колонне, накануне отправился с несколькими солдатами готовить лагерь, где каторжники будут ночевать. К трем пополудни впереди показались крыши высоких шатров, которые выстроились рядком в неглубокой впадине. В колонне послышались радостные крики. Каторжники невольно ускорили шаг.
Только пришли – начался поспешный выбор бурятских юрт. Они были все совершенно одинаковые, в каждой помещалось по четыре-пять человек.
– Ты останешься со мной, Николай? – спросил Юрий Алмазов, положив руку на плечо друга.
Тот вяло кивнул: а куда денешься, приходится покоряться судьбе. С тех пор, как они вышли из Читы, Алмазов нянчился с ним, как с малым ребенком. Между тем другие женатые декабристы уже расспрашивали Лепарского, все ли сделано для того, чтобы они уже сегодня могли провести ночь с женами (те стояли чуть поодаль и прислушивались к разговору стыдливо, но с нескрываемым интересом). Генерал рассердился: естественно, никто ничего не предпринимал, семейные, как и холостяки, будут ночевать отдельно от жен, пока не прибудем на место, нет никаких оснований менять заведенный порядок! Ему указали на то, что он сам дал разрешение на совместное проживание супругов в новой тюрьме. Он же возразил на это, что пока они не в новой тюрьме, а в пути. Разгорелся спор на юридические темы. Узники, не слушая никаких аргументов, требовали, чтобы с того момента, как они покинули Читу, соблюдались правила, принятые для Петровского Завода, генерал же настаивал на том, что до момента, когда они прибудут в Петровский Завод, раз они еще не на новом месте, то и господствовать должен читинский регламент. Отголоски этой бесплодной дискуссии донеслись до Николая, и он с тоской подумал, что вот победят его товарищи в споре, и окажется он единственным женатым декабристом, который проведет ночь в мужской юрте… Тогда его беда выплывет на свет Божий… В глазах окружающих он будет выглядеть щенком, которого хозяйка, поглумившись над ним и предав его любовь, вышвырнула за дверь… Но эти тревоги оказались недолгими: в конце концов, Лепарский разъярился и приказал ходатаям не докучать ему бессмысленными вопросами. Женатые, ворча, разошлись. Озарёву стало легче, теперь он мог заняться своим устройством на ночлег.
Несколько палаток, стоявших поблизости от самой большой тканевой палатки, предназначенной генералу, были отведены дамам – видимо, Лепарский решил лично следить за их поведением. Устроили походную кухню, повара разложили костер. Лейтенант Ватрушкин расставил по периметру лагеря часовых. Больше всего суетились матери семейств: им нужно было поменять детям пеленки, покормить, уложить спать. Под деревьями расставили плетеные колыбельки и накрыли каждую кисеей от мошкары. Пока младенцы ворочались и агукали под своими прозрачными укрытиями, те, кто постарше, сновали туда-сюда на не очень еще окрепших ножках. Матери с умилением протягивали к ним руки, непослушных пугали: «Станешь плохо себя вести, генерал тебя съест!» – правда, материнские угрозы нисколько не устрашали шалунов, и те продолжали свое. Стоя на пороге юрты, Николай увидел, как мимо проходит Софи, держа за ручку дочь Александрины Муравьевой.
Приближался час ужина, к запаху травы все ощутимее примешивался аромат жареного мяса. Лепарский пригласил семейные пары разделить с ним трапезу. Озарёв опасался предстоящего испытания, но отказаться было невозможно.
Все разместились на подушках, пнях, больших камнях вокруг столешницы, уложенной на низкие козлы. Справа от генерала сидела Трубецкая, слева – Волконская, Софи устроилась между Муравьевым и Анненковым. Николай глаз не сводил с жены, злясь на то, что она так красива, так спокойна, так уверена в себе в то самое время, как он едва ли не корчится от стыда на своем краю стола. Несколько раз за ужином она обращалась к нему, улыбалась, интересовалась, что он думает по такому-то или такому-то поводу, словом, вела себя как ни в чем не бывало, но он, застигнутый врасплох, не знал, что ей ответить. Ее полуобнаженные плечи под шелковым голубым платочком напоминали ему о женщине, которую он так страстно любил, которую надеялся вернуть. Но для этого надо было, чтобы сама она сделалась прежней. Да, надо было вылечить ее, словно больную, одержимую навязчивой идеей. «Конечно, – думал Николай, – она говорит, двигается, ведет себя, как нормальный человек, но рассудок ее не в порядке!»
Он и не заметил, как ужин стал близиться к концу. Как много водки он выпил… Голова кружилась. Вечерело. Трава, деревья, камни – все вокруг становилось более темным, чернее, чернее… Одно лишь небо оставалось прозрачным и светилось, как озерная вода. Хворост в костре горел, потрескивая, и пламя отражалось на стенах палаток – казалось, те вот-вот вспыхнут, – огоньки поблескивали на гладких крупах привязанных к деревьям лошадей, на стволах составленных в козлы ружей, плясали на лицах и руках людей, возившихся с котелками – прислуживали у стола буряты и бывшие каторжники-уголовники. Лепарский предложил мужчинам тонкие сигарки. Затем, поскольку дамы сказались усталыми, все стали расходиться по юртам и палаткам. Чтобы не отстать в любезности по сравнению с другими мужьями, Николай проводил Софи до жилища, которое она делила с Натальей Фонвизиной и Елизаветой Нарышкиной. Софи протянула ему руку для поцелуя. Он поцеловал. Видимость полного семейного согласия, ну что ж…
Часовые затеяли перекличку, ответные голоса звучали монотонно и напоминали крики ночных птиц. На небо высыпали первые звезды. Туда-сюда в свете угасающих костров сновали тени свободных, праздных, околдованных красотой ночи людей. Озарёв натолкнулся на Юрия Алмазова и Петра Свистунова – товарищи возвращались откуда-то в свою юрту, он безмолвно последовал за ними. А после, вытянувшись на соломенном тюфяке, пытался заснуть и не мог – невольно прислушивался к похрапыванию соседей, временами заглушавшему доносившиеся извне звуки засыпающего лагеря. В конце концов, не выдержав, встал и тихонько вышел из юрты.
Теперь лагерь выглядел более просторным и более спокойным. Между юртами тускло светились догорающие головешки – казалось, будто некие исполины в клобуках, сблизив головы, о чем-то переговариваются при свете факелов. В рыжем тумане терялись длинные зубчатые тени. Кое-где сидели кружком на корточках буряты – одни спали, другие курили и перешептывались, верно, рассказывая друг другу какие-то истории из своей бурятской жизни. Крики часовых во тьме казались ужасно отдаленными, нет, они были такими… такими, будто во сне или мечте один остров перекликается с другим. Было холодно, даже морозно, пахло обугленным деревом и почему-то чабрецом. Николай брел, не выбирая дороги, уставившись глазами в пустоту. Споткнулся о лежащего на земле человека. Пригнулся, вгляделся: Филат – тот самый бывший каторжник, которого Ивашев выбрал в сообщники для побега. Филат приподнялся на локте, взял тлеющую хворостину, посмотрел на Озарёва и сочувственно покачал большой головой:
– Не спится, барин?.. Ишь, продрог весь! Да уж, ночка выдалась студеная. Сыграешь со мной в бабки?
Николай чувствовал себя сейчас таким одиноким, что чуть было не согласился. Но таинственная сила влекла его к центру лагеря.
– Да нет, не хочется, – сказал он. – Лучше пройдусь.
– Только в сторону часовых не ходи, – посоветовал Филат. – Они по ночам пугливые да лютые! Трава зашелестит – их страх берет, они и стреляют куда ни попадя.
Николай поблагодарил за совет и пошел дальше. Юрты, мимо которых он проходил, едва колыхались во сне, вздыхали и постанывали, как люди. Или это люди сотрясали их храпом?.. Оказавшись в зоне молчания, он понял, что здесь спят женщины, но никак не мог вспомнить, к которой из палаток провожал Софи, и несколько минут простоял среди спящих палаток, прислушиваясь и против воли воображая, какое счастье мог бы испытывать, найди он жену, и с ужасом понимая, что он потерял. Его охватило отчаяние, потом злость, он сжал кулаки. В конце концов, он опомнился и двинулся назад, обходя гаснущие костры, сам не зная как, нашел свою юрту среди многих одинаковых на вид, пробрался к тюфяку между двумя ворчавшими что-то во сне мужчинами и рухнул, надеясь все-таки заснуть.
* * *
На рассвете следующего дня барабанная дробь пробудила сонный лагерь. Под котелками уже весело трещал хворост, разгоралось пламя. Очень скоро все встали, оделись, почистились, пригладили волосы, подкрепились, согрелись… Словом, можно было выходить. Софи с Натальей Фонвизиной устроились в тарантасе и, наблюдая за немыслимой суматохой людей, которых сняли с места и гонят в дорогу, невольно посмеивались. Декабристы, накануне вымокшие до костей, с утра переоделись кто во что горазд и теперь в своих причудливых костюмах напоминали ряженых – прямо хоть колядки запевай… Степенный, хотя и низкорослый Завалишин нацепил на себя редингот и нахлобучил сразу же спустившуюся ему на уши похожую на квакерскую шляпу с широченными полями; в правой руке у него был страннический посох, под левой зажата Библия. Якушкин появился в чем-то вроде пасторского долгополого сюртука и островерхой шапочке. Волконский щеголял в женской кофте, Юрий Алмазов облачился в крестьянскую рубаху и портки, торс Фонвизина был затянут в мундир без эполет, Николай же оказался ни дать ни взять испанец – в облипающих ноги трико и куцей жакетке… Софи наградила его улыбкой, но, увидев, как засияли надеждой глаза мужа, снова насторожилась.
Мужчины прошли мимо повозок, которым, когда начнется марш, следовало ехать за колонной. Перед Софи в облаке желтоватой пыли выстроилась длинная очередь из ссутулившихся спин, Николай затерялся в этом овечьем стаде, теперь можно будет подумать о другом. Зеленые холмы здесь усыпаны какими-то странными цветами, правда, те из них, которые встречались чаще всего, она узнала: это были лилии, но ядовито-красного цвета. Иногда по небу молнией мелькала хищная птица, и буряты тут же вскидывали луки и стреляли. Убили на лету коршуна, вот только никому не удалось найти упавшую в чащу добычу. В ложбине паслись лошади, присматривала за ними бурятка с уродливой мартышечьей физиономией и обильно украшенными монетками черными косами. Стоило приблизиться декабристскому «каравану», погонщица испустила пронзительный вопль и галопом понеслась к горизонту, увлекая за собой весь табун: они давно уже исчезли из виду, но земля еще долго дрожала и стонала от бешеного топота копыт. Любая дорожная сценка, любой поворот напоминали Софи о проделанном ею раньше с Никитой путешествии через Сибирь. Еще ей казалось, что этот пейзаж не предназначен для человеческого глаза. Никому не принадлежавшие плоды, созревая, разливали аромат по всей округе, а стоило им поспеть – дерево роняло их в пустоту, так что непонятно, зачем и зрели… К середине дня воздух стал обжигать лица, белое, как алебастр, небо посылало на землю сухой жар и ослепляло путников нестерпимо ярким светом. Софи почудилось, что Никита идет впереди – в колонне арестантов, ей стало весело, она ощутила приятную нежную истому… Боже, что это? Безумие?
А между прочим, всем вроде бы очень нравится кочевая жизнь… Почему бы и нет? Собственно поход продолжался с раннего утра всего лишь шесть часов, затем, когда зной становился нестерпимым, останавливались передохнуть на каком-нибудь затененном участке берега реки, где тут же, подобно семейству грибов после дождя, вырастала «деревня» из юрт и палаток. Как только этапники распределялись и бросали вещи по старым-новым жилищам, они бежали купаться. После мужчин к реке шли за тем же дамы, и одеяла, натянутые между вбитыми кольями, защищали их на это время от нескромных взглядов. Накупавшись, все, в соответствии с приказом коменданта, расходились по своим палаткам. А дежурные пока кипятили чай и подавали его. Пили чай лежа, болтая, читая, играя в шахматы. Затем непременно полагался «тихий час», отдых продолжительностью в два часа, а когда солнце начинало склоняться к закату, арестанты выходили из-под пологов. Одни из них снова шли купаться в реке, другие отправлялись в степь – погулять, причем два бурята в качестве караульных следовали за ними по пятам, третьи занимались любимым делом: собирали гербарии, ловили насекомых для коллекции, рисовали… С наступлением ночи в лагере зажигали огни, и обстановка становилась на вид праздничной. Ужин готовился на свежем воздухе, и задолго до него заключенные начинали, принюхиваясь, бродить вокруг исходящих на кострах ароматным паром котелков. Буряты не питались вместе с этапниками – они садились в сторонке и ели только вяленое мясо, запивая его кирпично-красным чаем. Как-то в воскресенье они устроили для своих поднадзорных национальное действо: пели, плясали, демонстрировали чудеса конной акробатики и соревновались в стрельбе из лука, а Лепарский и дамы судили эти соревнования. Назавтра певческий вечер организовали декабристы – мужским хором, в который вошли все представители сильного пола, направляющиеся в Петровский Завод, дирижировал Вадковский, в программу входили исключительно церковные песнопения. Так потребовал генерал, которому вовсе не хотелось рисковать карьерой, аплодируя каким-нибудь таким вредным песням, смысл которых от него способен ускользнуть.
Когда хор грянул: «Воцарися Бог над языки, Бог сидит на Престоле святем Своем…»[4] – Софи вдруг прислушалась с величайшим вниманием и замерла, испытывая страшное сожаление: зачем она тут, среди женщин, рядом с Лепарским, а не одна где-то в отдаленном месте слушает это песнопение надежды… Два пылающих костра, в которые без конца подбрасывали сухие ветки, освещали снизу выстроившихся шеренгами мужчин, и лица их от этого выглядели странными, и казалось, будто хрипловатые звуки, вырываясь из груди, поднимались вместе с искрами прямо в небо и таяли там, у звезд… Трепещущее за их спинами зеленое кружево листвы довершало фантастическую, нереальную декорацию, по которой к тому же еще то и дело начинали мелькать, как безумные, летучие мыши. Николай стоял в первом ряду. Он пел истово, самозабвенно: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя…»[5] – и все пели так же, и красноватые от поднимавшегося от костров жара лица хористов, и мысли о смерти, и темнеющая вдали лесная чаща, и спокойствие вечернего неба… все это смешивалось в голове Софи, вызывая слезы, которые она силилась сдержать, а они все норовили пролиться… «Положительно, – думала она, – в одной только России возможны такие странности, такие сюрпризы. Здесь душа готова каждую минуту открыться, здесь чувства проявляют при всех, здесь никто не стыдится своего счастья, своего горя, своей вины, своей веры, своей нищеты, своей силы, своей слабости… И именно от этой сказочной наивности, от этого чисто христианского бесстыдства рождаются иногда – вот как сегодня вечером – самые прекрасные песнопения на свете…»
Хор допел и умолк. Лепарский бросился благодарить его участников, поздравлять их с успехом. Буряты стали кидать шапки в воздух. Глаза у дам были влажными. Наконец все разошлись, но каждый унес в душе частицу общего праздника.
Софи долго ворочалась, но поздно ночью поняла, что заснуть, конечно, не сможет, тихонько оделась и вышла из палатки. Тропинка привела ее к берегу реки – на то самое место, где днем она купалась. Вода, отливая темным блеском, быстро убегала вдаль между зарослями неподвижного тростника. Вдалеке мерцали огни их лагеря. Софи прислонилась к дереву, удивляясь тому, что не чувствует тела, совсем не чувствует, ей чудилось, будто она – вся, с головы до ступней, – превратилась в некий уголок, где привольно воспоминаниям… Плывут, плывут… Да, да, она – одна сплошная память теперь, ничего более… В этот вечер и эту ночь она как-то особенно думала о Никите. Она вспоминала его шестнадцатилетним, этаким мужичком – неграмотным, застенчивым, робким. Вспомнила, как учила его читать и писать, с каким будоражившим ее восхищением он смотрел на свою учительницу, стоило ей похвалить старательного ученика. А его ведь было за что хвалить! Такой умный, такой красивый и такой… такой юный!.. А какая страсть к знаниям и занятиям!.. Выходец из самых низов, просто никто по происхождению – он так быстро и с таким энтузиазмом воспитывался, образовывался… Ему ведь никаких усилий не понадобилось, чтобы подняться над своим сословием… «Ах, кем бы он мог стать под моим руководством!» – подумала она с печальной гордостью. Сквозь грезу она услышала шелест травы, обернулась. Перед ней стоял муж. Разумеется, встреча не случайна: он следил за нею, подстерегал ее, преследовал… Чего он хочет от нее? Сердце Софи забилось, ей стало тревожно.
– Какая чудесная ночь! – воскликнул Николай. – Я был уверен, что ты не сможешь заснуть. Тебе понравилось, как мы пели?
Он выглядел спокойным, в голосе звучала глубокая нежность.
– Восхитительно пели, – ответила она.
– А что тебе больше всего понравилось?
– Знаешь, вот эта песнь – к Богородице… где «Исцели, Чистая, души моей неможение…». Так, кажется, так ведь, да?
– Да… Да… Как же я рад, что тебе понравилась!.. Когда мы пели, я смотрел на тебя… Ты была такая красивая!
Софи прониклась состраданием к этому человеку – ведь одно ее присутствие оборачивалось для него новой мукой!
– Как это тяжко – жить без тебя! – глухим голосом подтвердил он ее невысказанные мысли.
– Но я же здесь, рядом с тобой, Николя! – откликнулась она. – Я так к тебе привязана, так тебе доверяю…
– К несчастью для меня, я знавал иные… иное отношение!
Она отвернулась. А он вдруг ощутил свое одиночество, нестерпимое одиночество, он был совсем один со своими переживаниями, некому было его понять… Сколько он мечтал ночами о такой вот встрече с женой! Но ни один из тщательно разработанных им тогда планов не осуществился, а если бы и осуществился… ничем ему уже не победить этого спокойного взгляда, этой отстраненной улыбки Софи! Неужели женщины так отличаются от мужчин во всем, что касается страсти? Неужели они в меньшей степени испытывают физическое влечение, неужели для них все это по большей части игра… игра воображения… Но даже если Софи довольствуется такой… такой фальшивой любовью, он-то все равно не способен отказаться от своих мечтаний о ней… от своих снов, повторяющихся снов… Теперь он желал Софи вдвое сильнее, чем раньше, когда она была с ним, когда он еще не потерял ее. В этом состоянии, с такими завышенными требованиями его не может удовлетворить никакая нежность, а уж тем более – никакая жалость! Впрочем, быть не может, чтобы Софи вот сейчас, вот этой волшебной ночью, не понимала, какое желание она в нем возбуждает! И если она вдруг умолкла, если она замерла, то наверняка для того, чтобы прислушаться к себе самой: как в ней растет волнение, от которого, как бедняжке казалось, она навеки исцелилась. Николаю почудилось, что тишина, возникшая между ними, длится долгие часы. Ночь скоро кончится, а он ничего так и не сказал, ничего не сделал, ничего из того многого, что должен был сказать и сделать. Он искал слов, фраз – умных и убедительных, искал и не находил, потому что обезумел от преклонения перед ней, от усталости, от надежд. Она пошевельнулась. Он решил, что жена собирается уйти, и внезапно даже для себя самого воскликнул:
– О, как я люблю тебя, Софи!.. Люблю, люблю тебя!.. И мне все равно, что ты скажешь!.. Я приму что угодно, понимаешь?.. Софи, Софи, умоляю тебя!.. Умоляю!.. Ты так мне нужна!..
Она попятилась, широко раскрыв глаза, глядя на него с каким-то леденящим ужасом, и это окончательно его распалило. Он неуклюжим жестом схватил ее в объятия, стал искать ее губ, все это неловко, словно бы неумело, она принялась отбиваться, и, в конце концов, они упали на землю и покатились по траве.
– Отпусти меня, Николя, – горячечно шептала она, – отпусти сейчас же!.. И уходи, уходи, а то я позову на помощь!..
– Нет, ты не осмелишься, – задыхаясь, бормотал он.
Он придавил ее весом своего тела и, чем сильнее она извивалась под ним, тем больше возбуждался, чувствуя жар, исходящий от разгоряченного в борьбе с ним тела жены. Пусть она была любовницей Никиты, пусть даже двадцати других никит или кого там, пусть… в эту минуту он все равно станет умолять ее отдаться ему, принадлежать ему, хотя бы сейчас, только сейчас… Хотеть женщину – значит забыть ее прошлое! Ему удалось расстегнуть платье, он разорвал сорочку, рука его коснулась нежной округлости… – и голова его запылала от счастья:
– Софи, любовь моя, иди ко мне, скорей!.. Софи!
Она наконец вырвалась и вскочила на ноги. Но он оказался быстрее и мгновенно уложил ее снова, так грубо, что Софи застонала. Ему захотелось выпить эту жалобу с ее губ, она бешено крутила головой, отворачиваясь, и вдруг ее пронзила мысль: «Если бы Никита попытался взять меня, я бы и ему отказала точно так же… Может быть, лишь потому, что он мужик, только лишь потому… Но его я любила, его я любила!..»
Их лица качались, сталкивались, отнимали друг у друга клочок пространства, еще разделявший эти лица, на краю света тягуче перекликались часовые, ржала лошадь, бренча пустым ведром, ветер шуршал густой листвой крон…
– Софи! – бормотал Николай. – Пойми меня!.. Так дальше нельзя! Нельзя… Нужно, нужно, мне, нам нужно…
Ее словно пригвоздило к земле, и теперь она, раскинув руки, только слабо шевелилась. На губе выступила капелька крови. Ухо горело, саднило. «Наверное, разодрала его, когда падала», – подумала она и сама удивилась, насколько трезво. Надо же, какое присутствие духа! А ведь силы на пределе… Он нависал над нею и сам себе казался убийцей, но это его не сдерживало, даже не волновало. Он впервые понял мужчин, насилующих женщину, впервые понял, как это – лучше взять ее полумертвой, чем отказаться от желания заполучить в свои объятия, сжать до хруста костей… Навалился на нее снова. Софи от отвращения дрожала, сквозь ее сжатые губы прорывались какие-то невнятные звуки, как будто она то ли зубами стучала, то ли плакала, как во сне. И вдруг она совершенно перестала сопротивляться.
Когда он быстро, молча овладел ею, то сразу же опомнился и попросил прощения. Она свернулась на земле в комочек, растерзанная, в измятой одежде.
– Никогда, больше никогда не хочу тебя видеть… Никогда… убирайся!
Воцарилась тишина. Софи не сводила с мужа горящего ненавистью взгляда.
– Софи, – прошептал он, – выслушай меня, пожалуйста…
– Убирайся! – закричала она.
Он ушел – похожий на тряпичную куклу: руки болтаются, голова безвольно склонилась… И только тогда она закрыла лицо руками и разрыдалась.
2
Барабанная дробь, пробудившая Софи, прокатилась по ее телу, словно тяжкий воз. Она открыла глаза – справа от нее Наталья Фонвизина, слева – Лиза Нарышкина, обе еще спят на своих тюфяках. В палатке ужасно воняет козлиными шкурами. У входа мужик… что он говорит-то? А-а-а, воду принес, наверное!
– Вот вам вода, барыня!
Каждое утро кто-то из бывших каторжников приносил дамам для омовения ведро воды.
– Ох, уже… – Нарышкина потянулась. Какие толстые у нее руки!
Наталья тоже проснулась, зевнула, как кошка, и принялась рассказывать сон, в котором какой-то незнакомец спасал ее во время наводнения, вот он затащил ее на плот, вот он сорвал с нее рубашку, чтобы сделать парус… Пока эта болтунья трещала, как сорока, Софи втащила ведро в палатку и, оставшись в нижней юбке и ночной кофточке, стала мыть лицо, руки, шею… Наташа так внезапно умолкла, что Софи невольно оглянулась. Лицо у Фонвизиной было испуганным.
– Ах, Господи! – воскликнула она. – Вы, кажется, поранились! Вон там, там – около уха…
Софи провела тыльной стороной кисти по щеке.
– А-а, это, это я знаю, – вяло отозвалась она. – Упала вчера вечером на прогулке, поцарапалась, пройдет.
– Ничего себе поцарапалась, – вступила в разговор Нарышкина. – Это, милочка моя, не просто царапина, вот сами поглядите!
И протянула Софи зеркало. В овальном стекле отразилось усталое лицо с запавшими красными глазами, на правой щеке – вздувшийся кровоподтек. Жалкий и вульгарный вид побитой мужиком бабы. Софи резко оттолкнула зеркало. Перед нею мгновенно встала вчерашняя ужасная сцена, и ее накрыла волна жгучего стыда. На этот раз Николай пал так низко, что больше ей мужа не простить! Но даже ненавидеть его было выше ее сил. «Чужой, чужой, – молча твердила она, – чужой! А собственно, разве он был для меня когда-нибудь кем-то другим? Вся жизнь – следствие одной ошибки! И эти люди, эти люди, которые меня окружают, которые меня судят, которых я не терплю и перед которыми обязана носить маску! Этот странный, этот идиотский караван – он приведет меня Бог знает куда!.. Этот эскорт из преданных женушек!.. Я с ума сошла или весь мир потерял рассудок?..» Между ею и двумя женщинами – о, какие любопытные у них мордочки! – встала плотная пелена слез… Ее слез…
– Надо бы вам приложить к лицу ломтики свежего огурца, – озабоченно посоветовала Наталья Фонвизина. – Помогает, проверено!
По телу Софи пробежала нервная дрожь. И она, думая только о том, как бы скорее избавиться от этих назойливых бабенок, пробормотала:
– Да-да… я сама знаю, что надо делать!..
– Господи, помилуй! Да чего ж вы сердитесь-то по пустякам? Я ведь только добра вам хочу! – плаксиво пропищала Фонвизина.
– Если вы желаете мне добра, оставьте меня в покое!
– Послушайте, Софи, если у вас такое дурное настроение после вчерашней прогулки, зачем срывать его на нас? – возмутилась Нарышкина. – И не спорьте, не спорьте: я слышала, как вы уходили!
– А я слышала, как вы вернулись! – вмешалась снова Фонвизина.
– Словом, вы по очереди за мною шпионили! – вскричала Софи.
Она распалилась и готова была к ссоре, но Наталья вдруг охнула, обернувшись к двери, стыдливо прикрыла полными руками распахнувшуюся на груди ночную кофточку и воскликнула:
– Ах, сударь, не входите, пожалуйста! Мы одеваемся!
Но лейтенант Ватрушкин уже стоял на пороге.
– Госпожа Озарёва, – сказал он, откашлявшись и приняв таинственный вид. – Генерал Лепарский просит вас немедленно явиться к нему.
– Что произошло? – удивилась она.
– Не могу знать. Но это весьма срочно. Извольте следовать за мной.
Софи подняла волосы, скрепила их на макушке гребнем, накинула пелерину и вышла из палатки. В утреннем тумане просыпался лагерь. Унтер-офицеры тормошили вялых, толком не проснувшихся солдат. Там и сям мелькали китайскими тенями буряты на своих маленьких лошадках. Добравшись до комендантской палатки, Софи прямо у входа наткнулась на Лепарского – одетого и обутого по всей форме. Взгляд у генерала был непривычно тяжелым, будто свинцом налитым. Лицо надутое.
– Мадам, – сухо сказал он, едва завидев Софи. – Мадам, ваш муж бежал сегодня ночью.
Софи застыла как громом пораженная, все мысли разом вылетели у нее из головы. Опомнившись, она пробормотала:
– Бог с вами, генерал, такого просто быть не может!
– Может-может, сударыня! Мы только что обнаружили его исчезновение. Его соседи по палатке Свистунов, Алмазов и Лорер клянутся, что не слышали, как он выходил наружу. Наверное, и вы станете утверждать, будто слыхом не слыхали о его планах?
– Но я и на самом деле ничего подобного не знаю!
– Когда вы говорили с мужем последний раз?
Она хотела было солгать, но передумала, решив, что кто-то, вполне возможно, видел ночью их с Николаем, и Лепарский, зная об этом, попросту ее испытывает. Высоко подняв голову, Софи отчетливо произнесла:
– Я встретила Николая Михайловича вчера вечером после сигнала ко сну на берегу реки.
Признание стоило ей дорого, теперь нужно было перевести дыхание, как после физического усилия.
– И ваш супруг ничего не сказал вам такого, что позволило бы вам предположить… – начал ворчливым тоном генерал.
– Нет, – перебила его она.
Комендант нахмурился.
– Вы лжете, сударыня! Ваш муж не мог принять такого решения, не предупредив вас! Либо он предлагал вам бежать вместе с ним, но вы отказались, либо бежал поначалу один, но сказал вам, где станет скрываться, дабы вы присоединились к нему спустя какое-то время.
– Что за чушь! – воскликнула Софи.
– Позвольте! Никакая не чушь! Напротив, все очень логично! Признавайтесь, мадам!
Чем громче говорил генерал, тем меньше слушала его Софи. Из всей этой суматохи ее интересовало только одно: Николай исчез. Сбежал. Скорее всего, потому, что она дала ему понять, насколько он ей отвратителен. Но она не сожалеет об этом. Вчерашним своим поступком (ее передернуло) он лишил ее способности к снисхождению. К прощению. Нет, она не простит! Сохраняя ледяное спокойствие, она пожелала в душе, чтобы мужа никогда не поймали и чтобы она никогда больше не услышала о нем. Ну а если он погибнет? Прислушалась к себе… Ничто в ней не шевельнулось, ни малейшего волнения она не испытала при этой мысли. Он сбежал, а она зато теперь чувствует себя свободной! Она, не дрогнув, выдержала взгляд генерала, и тот забормотал, едва ли не со слезами на глазах:
– Надо было тогда оставить всем кандалы! Как мне теперь оправдываться перед императором?.. Политический заключенный сбежал между Читой и Петровским Заводом! Каково!.. Кошмар, бесчестье для меня!.. Чем заканчивается моя карьера!.. Но мы его поймаем, пойма-а-аем! Я уже отдал приказ! Мы его схватим – живым или мертвым!.. Мне доставят его – живым или мертвым, слышите?
Софи не узнавала Станислава Романовича: неужели боязнь, что его уличат в служебном промахе, могла превратить такого умного и великодушного человека в тупого и бездушного администратора? Решительно, в России страх перед власть имущими стала ядом, разъедающим даже самые закаленные души…
– Вы поймите, сударыня, я ведь стараюсь узнать подробности в его же интересах! – продолжал настаивать Лепарский. – Хотелось бы избежать худшего!..
– Да успокойтесь же, ваше превосходительство, – поморщилась она. – И поймите, говорю же, поймите вы раз и навсегда: мой муж не предупреждал меня, что собирается бежать. Может, вам и кажется это странным, но, тем не менее…
– Тогда о чем же вы вчера ночью, так сказать, беседовали? – не унимался генерал.
Софи минутку поколебалась и ответила:
– Да так… поспорили… тягостный оказался спор…
– Еще бы! Если беседовать о побеге! – воскликнул комендант.
Она не ответила – какой смысл? Лепарский прикрыл глаза, веки у него были увядшие, в темных бороздках. Потом уставился на щеку Софи. Генерал внимательно смотрел на синяк и, скорее всего, припоминал все, что ему рассказывали в Иркутске по поводу этой молодой женщины и ее крепостного слуги Никиты. С лица его исчезло раздражение, во взгляде засветилось лукавство.
– Понятно-понятно… – прошептал он с таким видом, словно ему и впрямь что-то стало понятно.
Для Софи этот разговор становился все мучительнее. Но тут в палатку вбежал Ватрушкин. Наскоро вытянувшись и отдав генералу честь, как это положено у военных, страшно взволнованный на вид лейтенант заорал дурным голосом:
– Ваше превосходительство, один из бывших уголовников тоже исчез! Наверное, сбежал! И, наверное, они сбежали вместе где-то около часу ночи! Украдены съестные припасы из фургона с провизией!
Лепарский вмиг воспламенился снова. Теперь глаза его полыхали гневом.
– Усилить патрули! – взревел он. – Объявить общий сбор!
Ватрушкин развернулся кругом и с такой скоростью вылетел из палатки, будто его сдуло порывом ветра. Лепарский ссутулился, заложил руки за спину, уперся подбородком в грудь и принялся тяжелыми шагами мерить палатку. Порой он искоса бросал взгляд по сторонам и начинал пыхтеть в усы. На складном столике была разложена карта Сибири, по которой красным карандашом был вычерчен маршрут этапа. В глубине стояла походная, раскладная же, кровать, одеяло было откинуто, над кроватью к полотну, представлявшему собой стену палатки, было прикреплено католическое распятие.
– Я могу идти? – спросила Софи.
– Не-е-ет! – завопил Лепарский.
Она пододвинула к себе стул и села. Он продолжал бегать туда-сюда, похожий на молчаливого, но злобного и настороженного льва. Снаружи били в барабаны, отдавали приказы… Наконец вернулся Ватрушкин и доложил:
– Люди построены, ваше превосходительство.
– Сейчас поговорю с ними, – ответил Лепарский. И, повернувшись к Софи, добавил: – А вам, сударыня, следует оставаться здесь.
Они с лейтенантом вышли, генерал остановился на площадке, где были выстроены арестанты. С того места, где находилась Софи, ей через откинутый полог, обозначавший дверь палатки, было хорошо видно все происходящее: заключенные, стоявшие по стойке «смирно», их жены, собравшиеся в стайку справа от шеренг, позади всех – бывшие уголовные каторжники, которых использовали как слуг. Окружали площадку вооруженные солдаты.
– Господа, – начал комендант звучным голосом, – один из вас сбежал сегодня ночью. Речь идет о Николае Михайловиче Озарёве, в организации безумного своего предприятия положившегося на помощь бывшего заключенного по уголовному делу Филата.
В ответ на слова генерала по рядам декабристов прокатился удивленный шепоток. Мужчины склонили головы, опустили глаза. Женщины, напротив, выпрямились и засуетились, от чего взметнулись волны широких юбок, замелькали сборчатые рукавчики и гофрированные воротнички, заблестели под солнцем промытые волосы…
– Поиски Озарёва и Филата уже начались, – продолжал между тем Лепарский, – и я предлагаю сто рублей тому, кто поймает их, и по двадцать каждому, чья информация будет способствовать расследованию случившегося. Этот побег наносит урон чести вашего сообщества, потому долг любого из вас помочь мне найти беглецов. Вот какое решение я принял: мы остаемся здесь, в этом лагере, в течение двух суток, чтобы дождаться результатов первых облав. Если в течение сорока восьми часов Озарёв и Филат не будут пойманы, мы снова отправимся в путь, но буряты станут и дальше прочесывать окрестные леса, потихоньку двигаясь в арьергарде. Вплоть до нового приказа я запрещаю свидания жен с мужьями, равно как купанья в реке и прогулки за пределами лагеря.
Дамы запротестовали.
– Наши мужья не имеют никакого отношения к этому побегу! – кричала Мария Волконская. – При чем тут они, да и мы? Почему они, да и мы, почему все должны отвечать за совершенное кем-то одним?
– Если уж кто-то и мог бы отсоветовать кому угодно бежать, так это его жена! – добавила Полина Анненкова. – Следовательно, нет никакой логики в том, чтобы запрещать этим господам (она указала на строй декабристов) встречаться с нами!
– Но вы забыли, сударыня, что беглец именно что женатый мужчина!
– Как сказать… – вздохнула Елизавета Нарышкина.
– Да-да, мы-то надеялись, что ваше превосходительство способны понять различия между окружающими вас семьями! – подлила масла в огонь Мария Волконская.
Софи поняла, что с этого дня она окончательно превратилась для всей их маленькой колонии в паршивую овцу, но объявленная война показалась ей все-таки лучше той глухой враждебности, какую она чувствовала по отношению к себе до сегодняшнего дня, уже так долго…
– Не желаю слушать никаких комментариев! – ревел, налившись кровью Лепарский. – Лейтенант Ватрушкин! Сопроводите этих дам к их местам жительства и проследите, чтобы они не выходили за границу дозволенного им участка территории.
Затем, чтобы положить конец спорам и выяснениям, он повернулся и ушел в свою палатку. Проходя мимо Софи, генерал сделал вид, что ее не замечает. Сел на край кровати, охватил голову руками и весь обмяк, как будто от страшной усталости. Софи слышала, как он бормочет:
– Какой ужас!.. Какой ужас!.. Нет, это просто ужас…
Наконец, комендант поднял на нее безжизненный взгляд.
– А-а-а, вы еще тут? Можете уходить…
И позвонил в колокольчик. Явились два солдата и отвели Софи на отведенный женам декабристов участок.
Дамы, видимо, решили, что еще успеют насидеться в помещении, а пока они кучкой собрались на свежем воздухе у входа в ее палатку и издалека наблюдали за тем, как в сопровождении эскорта к ним подходит госпожа Озарёва. А она шла, словно подозреваемая в зал суда. Посторонятся ли они, чтобы освободить ей дорогу? Нет, сделала еще три шага – и ее окружили. Мария Волконская с горевшими праведным гневом глазами приняла царственную осанку и воскликнула:
– Ну что? Ваша душенька довольна? Из-за этого проклятого побега наше путешествие, которое могло быть для всех сказочным, волшебным, превратилось в бедствие! И, может быть, все наше будущее в Петровском Заводе теперь погублено!
– Я сожалею об этом, как и вы все, – сдержанно ответила Софи. – Но ответьте: разве не нормально, когда узник желает сбежать из тюрьмы?
– Нормально, если он ищет личной свободы, ибо стремится воспользоваться ею, чтобы служить своим политическим идеалам! К несчастью, здесь отнюдь не тот случай.
– С чего вы взяли?
– Да вы сами дали нам это понять!
– Я? Каким образом? Когда?
– Каждый день понемножку – всем своим поведением.
Софи отшатнулась, но тут же гордо выпрямилась, хотя снести оскорбление было непросто. Щеки ее слегка покраснели – так, будто она по нечаянности раскусила стручок кайенского перца.
– Вам просто нечем занять себя, – с негодованием сказала – как выплюнула – она, – вот потому и живете сплетнями да слухами!
– О-о-очень легко называть слухами истину, которая вам неудобна! – отпарировала удар Елизавета Нарышкина. – Между тем, все факты налицо!
– Хотела бы я знать, что за факты, – усмехнулась Софи. – Требую уточнений!
– Оставьте, Лиза! – сказала Александрина Давыдова. – А вам я скажу, что бывают такие мерзкие поступки, о которых ни одна порядочная женщина не станет говорить, чтобы не испачкать свой рот!
– Нет, я ей скажу все-таки, я скажу! – заволновалась Наталья Фонвизина. – Я ей скажу, что она сделала своего мужа несчастным! Бедный, бедный Николай Михайлович! Такой благородный, такой достойный человек! Кого же уважать, как не его!
– Побег Николая Михайловича – это не побег к надежде, а попросту акт отчаяния, – вздохнула Каташа Трубецкая, промокнув уголки глаз кружевным платочком.
– О да, о да! – поддакнула Полина Анненкова. – Он бежал так… так… как будто решил покончить с собой! Чтобы не терпеть больше непомерного горя, которое вы причинили ему своим равнодушием!
Нападали со всех сторон. Софи повернулась разок вокруг своей оси среди всей этой травившей ее дамской своры и подвела итог:
– Мои отношения с мужем – мое личное дело. Больше ничье!
– Ежели бы мы не были обречены на то, чтобы жить вместе, уж поверьте, я не стала бы вмешиваться в ваши грязные истории! – презрительно бросила Мария Волконская.
– Но нельзя же, право, допустить, чтобы ваши любовные разочарования отражались на судьбе всего нашего сообщества! – поддержала подругу Елизавета Нарышкина, делая акцент на каждом слове.
Ошеломленная яростью, с какой недавние приятельницы теперь нападали на нее, Софи плохо слышала суровые и пышущие ядом обвинения, которые сыпались на нее одно за другим. Да, впрочем, и не старалась услышать. Она с убийственным любопытством рассматривала этих фурий, на которых декабристы молились как на «ангелов», которых воспевали Пушкин и Одоевский. Конечно же, сложенные поэтами гимны вскружили им головы, и они стали и сами слагать легенды о себе – о примерных женах, о русских женщинах, способных вызвать один лишь восторг. Они выказывали свою преданность несчастным каторжникам, одним глазком постоянно заглядывая в будущее: а как их оценят потомки? И стали мегерами, желая выглядеть святыми подвижницами!
– Вы образцы добродетели, – прошептала она, – но, тем не менее, у вас нет права меня воспитывать и давать мне уроки нравственности!
– Никто из нас не претендует на то, чтобы служить идеалом, – холодно возразила Наталья Фонвизина. – Но мы, по крайней мере, не даем оснований сомневаться ни в нашей порядочности, ни в нашей верности мужьям. Мы всем ради них пожертвовали!
– О да! Вот это – конечно же! Всем! Включая даже детей! Ваших детей, которых вы бросили в России! – Софи так громко это крикнула, что едва не сорвала голос, ей показалось, что глотку-то уж точно ободрала. Но, найдя чем уколоть их, она уже не могла остановиться, она упорствовала, она была опьянена собственной смелостью, она кричала и кричала в каком-то исступлении с ощущением, что это она втаптывает всех этих самодовольных бабенок в грязь, а вовсе не они ее.
– Да! Да! Да! Вы побросали их там, а тут наделали новых! Запросто! С легким сердцем! Скорей, скорей, лишь бы скорей забрюхатеть! Разве не так, госпожа Муравьева, разве не так, госпожа Давыдова, а вы что скажете, госпожа Фонвизина и княгиня Трубецкая, разве не так? Может быть, я солгала?
Александрина Муравьева, единственная не выдвинувшая никаких обвинений Софи, ничем ее не оскорбившая, закрыла глаза и бессильно уронила голову на грудь. Маленький сынишка, которого она оставила в России, умер спустя год после ее отъезда, а две дочки – их растила бабушка – болели, судя по всему, из-за разлуки с нею, от сознания, что мать так далеко. Она сильно страдала, но предпочитала не жаловаться. Рождение в Чите третьей дочери ничуть ее не утешило. И не нужно было Софи хоть на нее-то обрушиваться…
– То, что вы говорите, свидетельствует о необычайной душевной низости, и потому я вынуждена сказать: все, что о вас говорили и чему я отказывалась верить, теперь наилучшим образом подтверждается! – воскликнула Мария Волконская, ее подбородок мелко дрожал.
А Софи, хоть и сознавала с некоторым сожалением, что перегнула палку, нападая на своих обидчиц, но в принципе была довольна, что отношения безнадежно испорчены. И что ей удалось создать ситуацию, которой уже не исправить. Пока она вызывающе смотрела в глаза окружавших ее дам – этих баб, с которых удалось сорвать маски, доказав, что они наслаждаются своей ненавистью к ней, Александрина Муравьева взяла себя в руки и выпрямилась. Нежное и печальное выражение ее лица резко отличалось от агрессивных физиономий ее подруг по несчастью.
– Какая отвратительная ссора, – со вздохом протянула Александрина. – Все мы расстроены и потому говорим ужасные, несправедливые вещи, произносим слова, извращающие наши мысли… Софи больше всех из нас пострадала и больше всех имеет право жаловаться на судьбу, потому что это ее муж сбежал!.. И нам не судить ее нужно, а помогать ей.
– Вы слишком добры, – бросила ей Софи.
Она все еще была распалена, никак не могла успокоиться. Вбежала в палатку, закружила по ней, словно бесноватая, пинала ногами тюфяки, испытывая непреодолимое желание сразиться с целым светом. Чтобы умерить гнев, она вывалила на постель все вещи из своего баула и уложила их по-другому. Пальцы ее дрожали, не слушались, глаза заволокло. Она с каждой минутой, нет, с каждой секундой больше и больше ненавидела этих верных женушек, этих мамаш с их плодовитыми утробами! На самом деле все женщины казались ей чудовищами – чудовищами, только и способными, что на ложь, тщеславие, хвастовство, низость, злобу! Что они могут? Делать одни лишь глупости! Эти ангельские личики, эти «сложные души», да уж, ничего не скажешь – слаа-а-абый пол, слабая часть человечества!.. «Ах, как же я сожалею, что сама – их роду и племени!» – подумала Софи. Мало-помалу биение ее сердца утихало, пламя покидало щеки… А вскоре она уже и не понимала, почему так вскипела. Какая ей разница, суетятся эти курицы в птичнике или нет, какое ей дело до их кудахтанья, даже если и клюнули – так что? Ее личные проблемы возвышали Софи над ними, ставили ее в центр вселенной. Бегство Николая говорит о его трусости и глупости, больше ни о чем! Она о нем не сожалеет, но у нее нет сил его обвинять… К облегчению, которое давало ей сознание, что Озарёв теперь так далеко, примешивалась неукротимая тревога. Ах, как же она сердилась на Николая: зачем заставляет все время возвращаться к мыслям о его поведении, когда ей больше всего на свете хотелось бы никогда больше не беспокоиться, да попросту забыть о существовании мужа! Но он не сможет долго оставаться на свободе: завтра, послезавтра его непременно поймают, найдут… Сквозь стены палатки проникали голоса, шепот… Эти женщины все еще говорят о ней!.. Критикуют, поносят, пачкают ее имя… В палатке царил полумрак, она вытянулась на постели… В полдень за ней зашла Александрина Муравьева, позвала обедать. Она отказалась.
И вот так – словно забравшись в нору, молчаливая, размышляя о своих бедах и заботах, вновь и вновь перебирая в памяти моменты своего стыда и бунта – она пролежала до вечера. К ужину тоже не вышла, ограничилась тем, что пожевала сухое печенье, которое нашлось в ее дорожной сумке. Позже Наталья Фонвизина и Елизавета Нарышкина тихонько пробрались в палатку, разделись и улеглись, не сказав ей ни единого слова.
Следующий день не принес никаких новостей о беглеце, в отношении дам к Софи тоже ничего не изменилось. А для нее самой результатом бессонной ночи стало решение: в конце концов, это просто недостойно – тушеваться перед такими ломаками! Только не хватало! Преодолев отвращение, она снова зажила жизнью лагеря. Никто, казалось, даже и не замечал ее присутствия. Жены декабристов предавались своим обычным занятиям под присмотром часовых. Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, к примеру, поставили лохани и стали стирать. Потом развесили белье по веревкам, натянутым между деревьями. Софи впервые подумала: что за неприличное зрелище – все эти открытые любому взгляду нижние юбки, сорочки, шемизетки, манишки, свивальники, пеленки… Никакого стыда! Александрина Давыдова уселась кормить младенца грудью, ее тезка Муравьева учила свою дочку ходить, держа ту за помочи, подбадривала ее… Как только один из арестантов удалялся на несколько шагов от своей юрты, охранники громко кричали, приказывая вернуться, однако, не обращая внимания на эти строгости, мужья все равно ухитрялись пробираться поближе к гинекею. Торопливо обменивались поверх какого-нибудь куста с женами хотя бы парой слов, старались пожать руку, передавали записочки. Дамы с таких свиданий возвращались порозовевшие, с блестящими глазами, и на лице каждой ясно читалось удовлетворение оттого, что вот, мол, есть у меня муж, мой собственный, ничей больше, и мне его совершенно не в чем упрекнуть, да и ему меня тоже не в чем. Софи подождала, пока Трубецкая с Волконской закончат работу, взяла ведро, в котором еще оставалось немного чистой воды, и принялась стирать носовые платки. Вода приятно холодила кожу рук. Она возилась с платками долго, с удовольствием, а за спиной все это время раздавалось кудахтанье ее врагинь. Казалось, каждая по отдельности и все вместе озабочены только одним: показать, что они куда больше переживают за исчезнувшего Николая, чем его законная жена.
– Как подумаю, что Лепарский именно бурят послал вдогонку за Николаем Михайловичем, прямо сердце щемит!..
– О да, они такие жестокие! Если настигнут бедняжку, можно ожидать худшего!..
– Мой муж говорит: скорее всего, он сделал плот и спускается теперь на этом плоту по Селенге!..
– А мой думает, что он вступил в шайку разбойников, которые бродят тут по окрестностям!..
Софи не позволяла себе волноваться из-за этих глупых сплетен, но думать ни о чем другом не могла. Она поминутно возвращалась к этой охоте на человека, в которой Николай исполнял роль загоняемой дичи. Когда Лепарский объявил, что завтра на рассвете они выходят в путь, Софи восприняла новость как смертный приговор.
* * *
Дорога вилась серпантином по подножию невысокой лысой горы. На каждом повороте перед Софи, глядевшей из тарантаса, открывался весь караван целиком – с солдатами, марширующими впереди, декабристами, уныло плетущимися за ними в облаках пыли, крытыми повозками, которые подпрыгивали и грохотали на выбоинах. Вроде бы ничего не изменилось, только теперь все это напоминало погребальное шествие. Каторжники шли молча, жара была нестерпимая, ноги у всех отяжелели, и было понятно, что нет в этапе человека, не думающего о сбежавшем товарище. Софи и самой казалось, будто она придавлена к сиденью тяжелым грузом, сковывающим все ее движения. Она смотрела прямо перед собой, но мысль увлекала ее назад, назад, к тому месту, где был разбит лагерь. Уйти и оставить Николая на волю судьбы, по ее мнению, было так же чудовищно, как отказать в помощи тонущему. Но, может быть, у него есть еще какая-то надежда на спасение? Рядом с колонной не было видно ни единого бурята… Значит, все они заняты только ловлей беглеца… Конечно, конечно, они его схватят, и скоро, совсем скоро!.. Нет, нет, пускай не надеются!.. Прошло слишком много времени, он уже далеко!.. Его не найдут. Он растворится в пространстве. Мертвый он или живой, никто никогда ничего о нем больше не услышит. «Совсем как о Никите! – подумала она. – Как о Никите…»
Наталья Фонвизина, сидевшая рядом, явно за ней наблюдала, и взгляд у нее был придирчивым и подозрительным, как у жандарма, конвоирующего злоумышленника. Женщины не изменили своего отношения к ней, все еще вооружены. И даже товарищи Николая, декабристы, и они тоже считают именно ее виновной в несчастье, которое случилось с Озарёвым. Ей так хотелось бы оправдаться перед Юрием Алмазовым, перед доктором Вольфом, перед Лорером… Но… но – зачем? Иногда Софи задумывалась о том, что сделают с ней самой. Придется ли ей покинуть Сибирь, раз ее муж теперь не на каторге, или прикажут остаться здесь, чтобы искупила его вину? В этой подчиненной абсолютной власти, верящей только в царский суд стране возможно и то, и другое решение. А сама она не знает, чего хочет, и в мозгу ее такое смятение, что хотя бы ради того, чтобы не сойти с ума окончательно, надо попробовать не думать о завтрашнем дне… Она неслась куда-то по миру, а смутные образы носились у нее в голове, и все было абсурдно, абсурдно, абсурдно – эта разноцветная процессия на фоне выхолощенного пейзажа и это утомительное движение к истине, которой не существует.
3
Филат положил остаток вяленого мяса в мешочек и закрыл складной нож. Николай остался голодным, он с радостью съел бы еще хоть кусочек, но ведь надо было растянуть припасы, чтобы их хватило на возможно более долгое время. Но чем же заполнить алчущий желудок? Наверное, стоит выпить воды – пусть даже прямо из горлышка фляги, вода свежая, прохладная. И отличное все-таки место они выбрали для стоянки: у скалы, под прикрытием дерева с раскидистыми ветвями. Солнце уже скрывается за горами, по розовым верхушкам поползли лиловатые тени… Из долин поднимается туман… Воздух перестал быть горячим, теперь он чистый и холодный, и ветер утих… Начинается их шестая бивуачная ночь после побега! До сих пор все шло гладко. Филат оказался деятельным и полезным спутником: он знал все тропинки, все повороты, все места, где можно спрятаться, все лесные родники. Это он предложил двигаться в сторону границы с Монголией, где, согласно его же хвастливым заявлениям, прекрасно сможет договориться с каким-нибудь кочевым племенем, которое и проведет их обоих по пустыне Гоби до самого Пекина.
Николай все время задавался вопросом о том, хватило бы ему мужества сбежать из лагеря одному или нет. Может, и хватило бы, но ведь наверняка его тут же и поймали бы, а благодаря находчивости старого каторжника вот уже почти неделю они идут туда, куда собирались… Филат сообразил, что лучше всего первые два дня переждать в укрытии неподалеку – буквально на расстоянии ружейного выстрела – от лагеря. Там и пересидели, пока недогадливые буряты обшаривали все далекие окрестности, а когда этап вышел в путь, сами сделали то же самое. Свобода! Правда, с некоторыми ограничениями: идти только лесом, никогда не зажигать огня, чтобы не выдать себя поднимающимся к небу дымом, делать, заметая следы, короткие перебежки зигзагами. И все время – к югу, к югу… Озарёв унес с собой компас, карту и четыреста рублей – деньги были спрятаны под подкладкой его шляпы. Он копил их в течение трех каторжных лет копейку за копейкой, теперь пригодятся, когда надо будет оплатить услуги монголов, согласившихся провести их по пустыне. Филат уже представлял, как обоснуется в каком-то из больших китайских портов – в Фу-Чжоу или в Гонконге – и станет вольным купцом.
– А ты, барин, сможешь там сесть на французский или английский корабль, – говорил он.
Но Николай так далеко не заглядывал, да и сбежал-то вовсе не потому, что стремился к некоей ясной цели, нет, сбежал в надежде разрешить этим ставшую запредельно кошмарной ситуацию. Каторгу для него олицетворял теперь не Лепарский со своими охранниками, каторгу для него олицетворяла разгневанная Софи с жестким, враждебным выражением лица. Достаточно было вспомнить их последнюю встречу, эту жалкую битву, это украденное наслаждение, этот навалившийся на него стыд – достаточно было вспомнить все это, чтобы бежать без оглядки, желая лишь одного: никогда в жизни не предстать пред глазами жены. Да как он мог, как он мог вот так вот изнасиловать ее, зная к тому же, что в мыслях у нее совсем другой человек? Но она же сама довела его до крайности… Была Софи ему неверна или осталась верна – в любом случае, вина лежит на ней. Николай ненавидел жену за то зло, что причинил ей, за эту дурацкую авантюру, которой обернулась вся их запутанная, несчастная и бесполезная жизнь.
– Спать-то не пойдешь, барин? – спросил Филат. – Надо тебе поспать: завтра день будет тяжелый. Покажи-ка свои ноги…
Николай разулся. По вечерам Филат растирал ему со слюной и травяным соком ноги до тех пор, пока снимет с них напряжение. Руки у старика оказались умелые, массаж был словно ласка, боль и усталость исчезали – будто дымок, развеянный ветром. А ведь этими самими благотворными руками двадцать лет назад Филат задушил капитана, у которого служил денщиком. Каторжник не любил рассказывать о давнем своем преступлении, но когда к нему начинали приставать с расспросами, признавался, вздыхая, что спал, дескать, с офицерской бабой, и это она, сучонка, подпоила его и заставила убить мужа… «Она получила вдовий пенсион, а я пятнадцать лет каторги!» – делал он горький вывод. Но это не сейчас, а сейчас Филат приподнял левую ногу барина, подул на подошву туда, где свод, – а дыхание у него было горячим! – и спросил:
– Ну как, нравится?
– Да, конечно, продолжай, – ответил Николай.
И вспомнил отца, который в былые времена заставлял няньку Василису каждый день перед послеобеденным сном чесать себе пятки. Господи, как он смеялся тогда над этой невинной, в общем-то, михалборисычевой неодолимой потребностью! А сегодня с ним делают почти то же самое, возродил, стало быть, семейную традицию, вот только у старой служанки, которая нынче стоит перед ним на коленях, низкий лоб, помеченный раскаленным железом, и весь его лекарь-знахарь зарос шерстью до самых кончиков пальцев…
– Настоящие барские ноги! – приговаривал Филат. – Ишь ты, три года на каторге, а они такие гладкие да нежные, прямо как масло!.. Что значит господская порода! Но знаешь, есть одна штука, которой я не понимаю. Чего вы, декабристы, на самом деле затевали-то? Чего вы хотели? Неужто и впрямь революцию, чтоб народ освободить?
– Да, – сказал Николай.
– Что, всех освободить?
– Естественно.
– Что ж, выходит, и каторжников?
Николай смутился.
– Ну-у… некоторых каторжников, конечно.
– Таких, как я? – с хитрым видом и подняв кверху палец, уточнил Филат.
– Ты уже искупил свою вину. Теперь ты не каторжник, ты ссыльный. И тебе, наверное, позволили бы вернуться в Россию.
– Вот! «Наверное»! Но не точно! А кто бы это решал, позволить или нет?
– Судьи.
– Говоришь о свободе и сразу – о судьях, что им вместе-то делать, а?
– Судьи должны быть и в свободной стране.
– И полицейские, что ли?
– Да.
– Ага… Стало быть, и тюрьмы пускай будут, и кандалы?.. – Филат расхохотался, потом снова стал серьезным и продолжил с силой: – Ох, барин, барин, неужто не понял: если б ты с твоими друзьями победил в этой вашей революции, для нас, для простых людей, мало что изменилось бы. Не вам, с вашими чистыми руками, делать счастье для народа. Нет уж, счастье для народа станет делом рук малых сих, тех, кто в грязи, кто крив и кос, кто ободран как липка… Вот если б я, например, взялся революцией управлять, то не стал бы поднимать толпы за идею!
– Но за что же тогда?
– За охоту, за то, что желанно! А когда я прошел бы с охотою через убийства, грабежи, разрушения, напился бы допьяна и нажрался до отвала, вот тогда б я нашел красивую идею и прикрыл бы ею обломки и мусор так, чтоб не видно стало… Не веришь разве, что, когда начинается большая стройка, сначала на площадку должны прийти те, кто снесут старое, а уж потом – инженеры, чтобы новое возвести? У вас, у господ, головы инженерские, ну а мы – что хошь снесем! Как снова чего задумаете такое, не забудьте поначалу нам дать сигнал – мы вам землю расчистим, нам это – одно удовольствие. А уж потом приходите, светлые, благородные – прямо как ангелы Господни, приходите тогда со своими теориями и стройте общество такое, какое надо…
Филат говорил, говорил, но не переставал при этом растирать ноги Николая, согревать их своими ладонями.
– А еще потом, – продолжил старик, поднимаясь, – еще потом окажется, что в этом, таком, как надо, обществе тоже есть богатые и бедные, увечные и здоровые, умные и дураки, а когда разница между ними всеми станет совсем уж громадной, самые несчастные пойдут войной на самых счастливых, обделенные на везунчиков. У этой революции номер будет другой и название другое, но на самом деле все пойдет в точности так же. Барин, а что ты станешь делать на свободе, за границей? Опять политикой займешься?
– Не знаю, – ответил Николай. – Возможно.
– А я в торговлю решил удариться. Накуплю дешевого товару, продам задорого, как прибыль получу – что захочу тогда, то у меня и будет! Стану жить в разврате, как скотина. Ух, приятно, должно быть! – Он зажмурился, расплылся в улыбке до ушей, и узкое лицо его вдруг сделалось поперек себя шире. – Ух, до чего приятно! – повторил он мечтательно.
Николай откинулся на спину, уронил руки вдоль тела. Над ним было небо – огромное, синее, усеянное звездами.
Филат же все не унимался:
– Слышь, барин, а старикашка Лепарский-то небось весь уже в пене от бешенства! И солдаты его в штаны наложили, со страху трясутся день и ночь. Из арестантов… кто не боится, тот, конечно, точно нами восхищается. А жена твоя, она что думает, интересно? А? Правильно ты сделал, барин, что ее бросил. Любая баба – черт в юбке. Я и знал-то одну, да и та меня на каторгу отправила! С бабой надо как? На спину ее повалил, сунул, вынул – и бежать! Бежать от нее куда подальше! И идти себе дальше своей дорогой…
Он на секунду умолк, затем проворчал:
– Похоже, тебе не нравится, когда я так говорю, точно, барин?
– Не нравится.
– Сердце у тебя больно нежное. Ну, ничего, это пройдет…
«Странно получилось: единственный друг, да и тот убийца… – думал Озарёв. – И никого, ни-ко-го теперь у меня нет, кроме Филата…»
Старик тем временем, как каждый вечер, закутал полушубком ноги Николая, сделал «подушку» из мха и листьев, подсунул ему под затылок. Он хлопотал в темноте, возился с «нежным» спутником, как с младенцем, непрерывно приговаривая:
– Ну что, барин, так хорошо тебе?.. Не холодно теперь?.. Ты, барин, не бойся, ничего не бойся, спи давай!.. У меня-то всегда ушки на макушке!.. Не бойся, барин, спи… Да хранит тебя Господь!..
– Спасибо, Филат. И тебя пусть Господь хранит.
Совершенная неподвижность листвы, тишина, уединенность этого обширного пространства рождали в Николае ощущение, что он живет какой-то ирреальной жизнью, а из прежней, настоящей – выброшен…
Филат свернулся клубочком под боком у Озарёва. Заснули они одновременно.
* * *
Проснувшись на рассвете и открыв глаза, Николай с изумлением обнаружил, что рядом с ним никого нет. Забеспокоился, позвал – сначала тихонько, потом громче. Никакого ответа. Встал, осмотрел все окрестные кустарники – никого. Вернулся на место ночлега и только тогда заметил, что нет ни мешка с провизией, ни фляги, ни компаса, ни его шляпы, под подкладкой которой были зашиты деньги. Нет, не может быть, чтобы Филат ограбил его и сбежал, не может быть! Но что может быть иное? Ясно же: именно так он и поступил! Именно эта ясность, очевидность того, что произошло, ослепила его, оглушила, придавила к земле… Как, как он мог, этот человек, все украсть, как он мог бросить его, Николая, которому еще накануне вечером выказывал такую преданность?! Что произошло за ночь в этом примитивном мозгу? Хотя… понимает ли он вообще, что такое предательство? Нет, пожалуй! Подобные люди обычно соскальзывают от добра к злу, ничего не рассчитывая, не обдумывая, у них не существует никаких угрызений совести – просто повинуются мгновенно возникшему импульсу. Они столь же искренне проявляют дружелюбие, сколь решительны становятся, если собираются навредить. Привязанность, которую они испытывают к какому-нибудь существу, в определенной степени даже помогает им уничтожить его. Сколько раз мы видели, как такой человек с нежностью поглаживает животное на бойне, ласкает его, прежде чем убить!
То, что Филат приговорил Николая к смерти, стало для последнего почти очевидным. Куда он пойдет – без проводника, без денег, без пропитания? Громады гор, которыми вчера еще он издали так восхищался, завтра его задавят… Он превратился в последнюю тварь на этом свете!.. Беглеца охватила паника, и он стал с сожалением вспоминать, какой отличный был разбит лагерь, как кипела в нем жизнь, какую варили на костре похлебку, какие надежные, внушающие доверие лица были у охранников… А что делать теперь? Продолжать, следуя разработанному Филатом маршруту, идти к югу, вдоль Яблоновского хребта? Тогда он, в конце концов, где-нибудь да наткнется на стоянку монголов. И, может быть, они даже без денег возьмут его с собой. Николай попытался убедить себя в этом, чтобы не растерять среди этого пустынного пейзажа остатки мужества.
Между тем есть хотелось все больше. Он принялся рвать чернику и горстями забрасывать в рот, надеясь обмануть волчий аппетит. Вокруг росли еще какие-то ягоды, какие-то кустарники, но неизвестные ему, и было страшно: а вдруг ядовитые? Сквозь облака пыли просвечивал ярко-красный фонарь поднимающегося солнца. А вот уже поток света хлынул на горные хребты и скатился по склону, чтобы заполнить впадины, где еще задержалась ночь. Птицы гомонили на разные голоса, их щебет доносился с любого дерева. Николаю казалось, что рассвет возбуждает, придает сил, просто-таки в спину подталкивает, и он, не обращая внимания на царапающие ему ноги низенькие кустики, быстро двинулся в сторону давно манившей его долины: чудилось, будто там поблескивает вода. Если он и впрямь увидит там реку и пойдет вдоль берега, то течение обязательно выведет его туда, где можно встретить людей. Ни о чем другом он сейчас не думал: Софи он больше не вспоминал. Как, впрочем, и Филата. Как и все его прошлое – любовь, политика, каторга… Он стал человеком без имени, без родины, без друзей и врагов – единственным его противником в нынешней битве стала природа.
Он страшно устал: походка его теперь была неровной, каждый шаг отдавался в голове, а вскоре ноги начали подгибаться в коленях. Но он упрямо продолжал идти, уставившись на покачивающиеся ветки деревьев и считая их вслух: так ему казалось, что у него здесь есть хоть какая-то компания. Он, обессиленный, еле передвигая распухшие ступни, спустился по склону, обогнул круглый холм, снова спустился и – очутился внизу. Но то, что он сверху принимал за реку, оказалось просто лужей со стоячей водой. Лужу окружали камыши. Что ж, тем хуже! Его так измучила жажда, что он готов пить хоть болотную жижу!
Николай встал на колени, набрал в сложенные лодочкой ладони этой самой болотной жижи, втянул ее губами. Никакая не жижа, вода! Ну, с позволения сказать, вода… Теплая и совершенно безвкусная, – но разве оторвешься, если так хочется пить! Потом он стал лить набранную из лужи воду на спину, окунул в нее исколотые, саднящие стопы, смочил ею грудь. Жажда отступила, зато появилось сожаление, что нет посудины, куда можно было бы набрать воды в дорогу. Впрочем, не исключено что дальше ему попадется родник, чем-то же питается эта лужа… То есть вода поступает из родника, просачиваясь сквозь слой почвы, из-под земли… ну, каким-нибудь образом…
Приободрившись, Озарёв снова вышел в путь. Долина расширялась, образуя нечто вроде изрезанного трещинами плато, которое окружали иссушенные солнцем холмы… Из галечника торчал поседевший чертополох… Солнце поднималось ввысь, зной становился все более нестерпимым. Над всем этим безрадостным ландшафтом повисло невнятное жужжание, и Николай не понимал, то ли оно исходит от насекомых, вьющихся невидимыми роями, то ли попросту это кровь с шумом бежит по его жилам. Он пошевелил языком и проглотил слюну, слюна была горькая. Ему снова мучительно захотелось пить – словно бы вся выпитая им из лужи вода внутри его и испарилась. К счастью, удалось найти еще черники, и он жадно проглотил довольно много ягод. И отправился вперед по расселине, и упрямо шел к неизвестной цели – с таким безумным упрямством, будто от этого зависело его спасение. А потом внезапно спустились сумерки, стало холодно, он рухнул на землю и забылся сном.
На рассвете Озарёв проснулся совершенно разбитый: кружилась голова, дрожали ноги. Тем не менее, ему хотелось использовать часы утренней свежести, чтобы продвинуться дальше. Ах, как же трудно, как бесконечно трудно ему сейчас переставлять ноги!.. Поставить левую впереди правой, потом наоборот, потом снова… Но, несмотря на это, несмотря на то, что были изодраны все подошвы, он не замечал, насколько твердая земля. Он спотыкался, пошатывался, походка была нетвердой, как у пьяного, и все-таки с тупой настойчивостью шел, шел, шел к линии деревьев с кронами, насквозь пробитыми яркими лучами, с листвой в солнечных пятнах. Около полудня он вошел в лес и повалился под вековым дубом, вокруг которого кружились желтые бабочки, – последнее, что успел заметить. Открыл глаза три часа спустя. В горле пересохло, по-прежнему нигде ни капли влаги. А так хотелось пить: в подлеске было жарко, как в печи. Огненные стрелы пронзали зеленую сень, пахнувшую мускусом. Он прислушался, удивился тому, что птицы молчат все до одной, вырвал из земли горсть мха и прижал к губам. В нос ударил острый запах земли – как хорошо!
Он прошел в прогалину между деревьями и оказался на голой равнине. Только на горизонте виднелись выщербленные скалы, но от него до них – огромное пустое пространство: ничего, кроме пожелтевшей травы и кривых деревьев с листьями, отливавшими металлическим блеском. Нет, он не способен, ему не под силу пересечь это пространство! А кто ему приказывает? Да никто! И все-таки надо, он должен пересечь его. Шаг за шагом – к свободе или к смерти. Он оступился, чуть не упал, и страшная боль скрутила живот. В кишках что-то бурлило, урчало, било ключом, сейчас из него выстрелит струя кипятка! Ему едва хватило времени ринуться обратно в чащу, спустить штаны и присесть. Вскоре он почувствовал облегчение, поднялся и решил продолжить поход. Не тут-то было! Еще минута – и снова по кишкам словно острым клинком прошлись. Он посмотрел вниз. Трава была вся в кровавых испражнениях. Что это? Как страшно! Да это же вода, болотная жижа! Он отравился!.. Хорошо, если это просто несварение желудка, а если нет? Во рту появился отчетливый привкус железа. По коже пробежала дрожь. От усталости он уже не мог двигаться, его тянуло к земле, небо придавливало сверху… Он дотащился до вершины пригорка, упал-таки наземь и решил заночевать тут. Но спать не мог. Едва он забывался, сразу же его начинала терзать очередная колика. Он мечтал освободиться, излить из себя эту огненную лавину, он весь сжимался, чтобы выпустить ее изнутри, он катался по земле, задыхался, стонал, – все попусту… и он снова падал на тот же склон, терзаемый болью, с пересохшим, будто клейким тестом набитым ртом…
До рассвета он боролся с диким зверем, который грыз его внутренности, все сокращая и сокращая интервалы между нападениями: теперь уже чудовищные атаки начинались после совсем коротеньких передышек. Язык превратился в кусок жареного мяса. Во всем теле не осталось ни капли жидкости. Ах, если бы проглотить хотя бы чуть-чуть ледяного питья, все равно какого, – боль бы сразу утихла! Он мечтал о роднике, об озере, о дожде, о стакане холодного чая… Тошнота сопровождалась ужасным головокружением, не позволявшим оторвать голову от земли. Небо над ним вращалось вокруг своей оси. Пропал счет времени, исчезло понятие пространства… Он помнил только, что спасение – где-то там, где-то внизу, на юге…
Весь день он метался в лихорадке, дрожал от озноба, обливался потом, умирал от жажды, корчился, неспособный думать ни о чем другом, кроме своего живота, где то и дело все вдруг вставало дыбом, кроме того, зачем ему так мучительно выкручивают внутренности, кроме этого ужасного, ужасного, ужасного поноса… В сумерках он собрался с силами и встал на ноги. Он сделал десять шагов, двадцать, но страдания достигли апогея, и он снова рухнул, свернулся в клубок, прижав колени к животу, излил новый поток жидкой гнили, подтянул брюки, пополз, потерял сознание, пришел в себя, и все началось сначала… Он встал и на шатких ногах двинулся вперед, устремив взгляд к ложбинке, заросшей кустарником.
Он добрался туда, когда в небе уже царила луна. Глядя на царицу ночи с круглым мертвенно-белым лицом, он понял, что пришел в мир, где радость и печаль, надежда и память – просто слова, слова, лишенные какого бы то ни было смысла, в мир, который находится между жизнью и смертью. Ледяной воздух этого мира всею тяжестью лег ему на плечи. Он застучал зубами. Но внутри все по-прежнему горело, бурлило, шевелилось, урчало: оказалось, что ночь дана лишь для продолжения все тех же кошмарных колик, все того же истечения тухлятины и кровавой слизи, которые швыряли его за границу бытия – в обморок… Когда все чуть утихло, когда стало немножко легче – он не понял: теперь он провалился в сон.
Через сомкнутые веки все равно было видно, что солнце красное и золотое, векам стало жарко и немножко щекотно. Он открыл глаза… он вытаращил глаза: нет, кажется, он еще не проснулся, кажется, сон продолжается! Потому что только во сне может привидеться между ним и сияющей бездной неба огромная голова бурята, его рот – растянутый в немом смехе…
Николай приподнялся на локте. Чуть в стороне стоял еще один бурят, точь-в-точь такой же, как первый. Поблизости, бок о бок, паслись две низкорослые лошадки… Николай вдохнул запах немытой шерсти, распространявшийся от человека, присевшего рядом с ним на корточки, – Господи, значит, никакой не сон, никакая не галлюцинация! Он задрожал он сумасшедшей радости. Кочевники! Братья!
– Ты говоришь по-русски? – спросил он, еле ворочая языком в пересохшем рту.
– Мало-мало, – ответил кочевник.
– Пить хочу!
– Дам тебе пить.
– Хочу сейчас!
– Вперед твои руки. Давай!
Николай протянул руки, бурят связал их веревкой.
– Это еще зачем? – прошептал Николай.
– Затем ты пленный. Веду тебя к главный. К большой тайша.
– Кто это – «большой тайша»?
– Генерал Лепарский. Даст сто рублей.
У Николая не было сил даже на отчаяние. Вода ему сейчас была нужнее свободы. Но слезы застилали глаза.
– Пи-и-ить… – простонал он.
– Говори, где другой! – потребовал бурят.
– Какой другой?
– Который с тобой убежал.
– А-а-а… Не знаю… Он меня бросил… Он ушел один, совсем один, понимаешь?..
Обессиленный, Николай откинулся назад. Сквозь дрожащие веки увидел бурята: тот протягивал ему флягу. Струйка воды коснулась его губ, увлажнила и оживила язык, принялась потихонечку, нежно пробуждать иссохшие слизистые. Однако почти сразу вода превратилась в огонь – словно внутренности пронзили кинжалом. Опять! Ему показалось, что снизу с дикой этой болью выливается все, что он выпил. Прижав ко рту кулаки, он взвыл, заухал, закряхтел и, наконец, расплакался, как ребенок, на глазах у двух озадаченных бурятов.
Они подняли его с земли и, как мешок, взгромоздили на лошадь, один из бурятов крепко-накрепко привязал его к седлу, другой сел сзади. Пустились мелкой рысью в дорогу. Николай привалился спиной к груди всадника. Тот придерживал его обеими руками, чтобы больной не терял равновесия. От каждого сотрясения в кишечнике пленника снова вспыхивал и начинал отчаянно пылать костер, на каждом ухабе из него изливалась горячая едкая жидкость. Он кричал, стонал сквозь сжатые зубы, он чувствовал, как липнут к телу брюки, через пелену тумана, застилавшую его усталые глаза, он смутно различал движущийся пейзаж, скачками надвигавшиеся горы, угрожающие ему лапы древесных веток… Позвонки его хрустели. «Пить… пить… сжальтесь, пусть будет хоть немножко тени… положите мне на живот что-нибудь теплое… положите камень, пусть он раздавит эти спазмы…» Стук копыт отдавался в черепе мучительным эхом… как болит голова… нет, живот, живот опять!.. еще более сильный, чем прежние, спазм судорогой прошел по кишкам… нервы были уже не на пределе – за пределом… куда они его везут таким ужасным образом?.. они хотят отвезти его в обоз?.. но это же дни и дни пути!.. он умрет, он не доедет… веревки врезались в кожу… в плоть… он открыл рот и стал вдыхать горячий воздух… как в печи… он отдал бы полжизни, чтобы оказаться в сырой пещере… в подвале… в камере Петропавловской крепости… да… да… а что – солнце никогда тут не заходит?.. два бурята что-то там говорят на своем языке, звуки то хриплые, то певучие… они довольны… удачная охота… они смеются… они так рады, что его поймали… его не надо было даже и ловить…
И вдруг голоса отдалились. Николай больше ничего не видел, на него навалилась и растеклась по всему телу какая-то ужасная, какая-то смертная истома… но ему хватило времени подумать, что он умирает, и это очень хорошо, – и он ушел в небытие.
Вскоре очнулся и почувствовал, что его качает, как в лодке. Это и есть лодка – они плывут по озеру. В бурю. Ах, какие громадные волны! Сейчас мы перевернемся! Эй! Внимание, мы же сейчас перевернемся! Внимание-е-е-е… Он с трудом разлепил веки и – понял, что ошибся. Никакого озера, никакой бури, никакой лодки… Его отвязали, а теперь несут на руках в темноту… а теперь укладывают, нет, почти швыряют на кучу тряпья…
Николаю понадобилось несколько секунд, чтобы определить: он находится в юрте каких-то местных жителей. Два «его» бурята-всадника, наверное, приволокли его сюда, к знакомому им племени, чтобы переночевал под крышей. Или – под присмотром? В центре юрты над разложенным прямо на полу костерком висел котел. Дым поднимался ровным прямым столбом и уходил в проделанную в крыше дыру. Вокруг очага сидели буряты, мужчины и женщины, с желтыми лицами, с раскосыми глазами. Сидели и тихо переговаривались между собой, занимаясь каждый своим делом. Некоторые дубили кожу, энергично пережевывая кусок за куском, от чего с двух сторон рта текли струйки коричневатой слюны. Другие валяли войлок, острили о камень стрелы, отливали пули… За спинами взрослых резвились дети: они голышом катались и валялись по разложенным мехом вверх шкурам. Сильно пахло свернувшимся молоком, копченым мясом, навозом… Пламя отбрасывало во все стороны от костра длинные нелепые тени – казалось, они живут своей собственной жизнью. Старуха разлила по деревянным чашкам кирпично-красный чай, Николаю она тоже налила и велела выпить. Он терпеть не мог национальный бурятский напиток: присоленную, приперченную, приправленную кобыльим молоком бурду, – но сейчас от первого же глотка почувствовал, что все тело наполняется приятным теплом. Опустошил свою чашку и попросил вторую, потом третью. Бурят, который взял Озарёва в плен, осклабился:
– С этим никогда больной не будешь!
Вдруг в животе, где-то сбоку, внутренности Николая раскололись – их будто бы разрубили ударом топора. Он вздрогнул, напряг все мышцы, ощутил, как некие шлюзы в нем с треском прорвались и… и из него вместе с обжигающим зловонным потоком стала уходить жизнь… Ему было стыдно, ему было больно, он дрожал от досады и лихорадки, но ничего не мог сделать, даже пошевелиться.
Подошел бурят, наклонился к нему, покачал головой, сказал:
– Плохо, барин… нехорошо!
Бурят был одет в сшитые между собой козьи шкуры, изо рта у него свешивалась длинная серебряная трубка, в расщелинах глаз плескалась темная, маслянистая жидкость.
– Плохо, барин… – повторил он. И добавил: – Ты, барин, давай не помирай. А то мне только половину дадут.
4
Станислав Романович Лепарский, кряхтя и отдуваясь, натянул левый сапог и, поскольку труд это был немалый, готовился приступить к правому с помощью ординарца, когда в палатку вбежал лейтенант Ватрушкин. Прихлопнув рукой еще подскакивавшие от быстрого бега ножны и приосанившись, он воскликнул:
– Имею честь доложить, ваше превосходительство, что политический заключенный Озарёв найден! Его ведут сюда два бурята. Один из наших патрулей встретил их и поспешил сюда, чтобы предупредить нас. Арестанта доставят с минуты на минуту.
Генерал так обрадовался, что у него даже сердце защемило. Не ответив ни слова, он повернулся к висевшему над его кроватью распятию и опустился перед ним на колени. За десять дней, в течение которых продолжались поиски, он уже потерял надежду настичь беглецов и жил с ужасным ощущением приближающегося конца света: ведь вот-вот ему придется писать рапорт о случившемся. Известить о том, что от него сбежал заключенный! Отправить это царю! Этих людей дали ему «под крыло» свыше, охранять их – то же, что соблюдать священные заповеди, и если кто-то один канет в неизвестность, он – обесчещен, все равно как если бы он украл бриллиант из царской короны… К счастью, все возвращается на круги своя… Равновесие восстанавливается. Наконец-то ночи обещают стать спокойными.
– Слава Богу! – сказал он вслух и поднялся. – Филата тоже арестовали?
– Нет, он сумел сбежать.
– Ладно, это не столь серьезно. Всего-навсего ссыльный из уголовников. В счет идут только декабристы!
Он сделал несколько шагов по палатке и поймал себя на том, что хромает: одна нога была в сапоге со шпорой, другая разута. Замер посреди палатки и вымолвил грозно:
– Я еще покажу ему, этому… этому… где раки зимуют!
Правда, угроза прозвучала даже для него самого фальшиво: как бы Станислав Романович ни раздувал ноздри, сколько бы ни бранился, настоящей ярости в адрес беглеца не испытывал. Коменданту приходилось сейчас даже сдерживаться, чтобы не благодарить от всей души виновника того счастья, какое обрушилось на него несколько минут назад, когда он узнал о поимке несчастного. Сделав над собой усилие, он спросил:
– Вы взяли с собой кандалы?
– А как же! Есть-есть, ваше превосходительство!
– Отлично! Он пройдет остаток этапа с железом на ногах. Один из всех! И отдельно от остальных!
– Выдержит ли он, ваше превосходительство? Идти еще так долго…
– Будет ему урок. И пример для других.
– Конечно, конечно, ваше превосходительство.
Наконец с туалетом генерала можно было покончить: он оделся, денщик помог ему натянуть и второй сапог, смахнул щеткой пушинки с мундира, протянул флакон одеколона: старик по воскресеньям всегда одной капелькой смазывал усы, еще двумя – за ушами.
– Идите, Ватрушкин, – махнул он рукой и принялся, надев парик, прихлопывать его ладонями на висках, чтобы не топырился. – Да! Проследите там, чтобы появление этого беглого каторжника осталось по возможности незамеченным. Поскромнее бы надо, посдержаннее…
Ватрушкин испарился, но тут же возник снова, не успев принять никаких мер.
– А вот и он, ваше превосходительство, – выдохнул.
За полотняными стенами палатки уже начался гомон. Похоже, не обращая внимания на окрики часовых, здесь собрались все декабристы. В жилье генерала вошли двое солдат с носилками. На носилках что-то лежало, какая-то кучка тряпок. За солдатами тихонько пробрались два унылых, понурых бурята. А где же Николай-то? Лепарский вопросительно посмотрел на опустившийся уже полог, огляделся по сторонам… Ему казалось, Озарёв войдет со связанными руками, оборванный, раскаивающийся, но в душе такой же мятежник. Но… Взгляд его упал на носилки, которые поставили на пол. Боже мой! Генералу показалось, что он узнает своего беглеца в этом существе, распростертом у его ног. Мертвенно-бледное, изможденное лицо со впалыми щеками, больше похожее на череп, неопрятная щетина… Он выглядит так, словно вот-вот умрет… Наверное, у него лихорадка: вон как блестят глаза меж набухших покрасневших век… А губы… губы все растрескавшиеся, побелевшие, и дыхание из них вырывается, больше на хрип предсмертный похожее… Лепарскому вдруг стало стыдно: ну и на кого я так взъярился? Он нахмурил брови и проворчал:
– Что с ним? Ранен?
– Нет, – ответил Ватрушкин. – Думаю, скорее, болен.
– А что – нельзя было меня предупредить?
– Но я сам только что узнал, ваше превосходительство!
– Буряты – что говорят?
Один из бурятов вышел вперед, поклонился на восточный манер, сложившись ровно вдвое, и забормотал:
– Моя таким его нашел… много ходил под солнце… но не мертвый, живой… не мертвый!.. Тайша дать мне сто рублей за живого!..
– Заплатите ему, Ватрушкин, – поморщился генерал. – И немедленно за Вольфом!
Ватрушкин вышел вместе с бурятами. Генерал взял табурет и уселся рядом с носилками. Решения, принятые им несколько минут назад, сами собой отменились – какие же цепи надевать на этого несчастного! Прикованного к постели не заковывают… и вообще никак не наказывают!.. Как там русский народ говорит?… Лежачего не бьют… Комендант рассердился: опять этот чертов Озарёв осложняет ему жизнь. Все получалось так правильно, в соответствии с порядком, корректно с точки зрения властей – так на тебе! Все это годилось, если бы беглеца взяли живым и здоровым. А теперь надо импровизировать с учетом обстоятельств. Сначала лечить, потом уже карать. В Петровский Завод должны явиться все без исключения заключенные. Наклонившись к Николаю, Лепарский спросил:
– Как вы себя чувствуете?
Ответом стал горячечный шепот:
– Я… хочу… умереть…
– Нет! Нет! – воскликнул генерал в суеверном страхе. – Господь с вами, Николай Михайлович! Я вам запрещаю! Слышите: за-пре-ща-ю! Скажите лучше: зачем вы бежали?
– Так… было… надо…
– Кто вам помогал?
– Никто…
– А Филат?
– Он… меня… обокрал… он… меня… бросил…
– Вы отдаете себе отчет в том, что сделали? Ваше поведение вынудило меня удвоить строгость в отношении ваших товарищей… а к вам самому…
Лепарский не закончил фразы: услышал, как нелепы сейчас выговоры, как смехотворны угрозы, обращенные к человеку, который, быть может, вскоре предстанет перед судом Божиим. От этого полутрупа уже поднимался мерзкий, тошнотворный запах.
Но остановиться ему было трудно.
– После всего, что я для вас сделал! – ворчал он. – Какая неблагодарность! Сами посудите, разве же я заслужил, чтобы вы так поступили со мной? Разве я мог быть причиной вашего бегства?
Опять он удивился своим словам и опять смутился.
– Простите меня, ваше превосходительство, – прошептал Николай.
И закрыл глаза. Ноздри его запали, из горла вырвался какой-то странный клекот.
– Николай Михайлович! – лепетал совершенно растерянный Лепарский. – Николай Михайлович! Эй! Эй! Что с вами, друг мой?.. Николай Михайлович!.. Прошу вас, прошу вас!..
«Он сейчас уйдет!.. Он умрет прямо тут, у меня на руках!» – в отчаянии подумал генерал. Мысль рассердила его, и он принялся кричать во все горло:
– Ватрушкин!!! Ватрушкин!!! Где он, этот дурак, черт его побери?! Вот послал Господь скотину на мою голову! Я же приказывал пойти за доктором Вольфом! А ну, кто там есть, – быстро! Быстрее, быстрее! Одна нога тут – другая там! Доктора сюда! Доктора!!!
Солдаты, которые принесли Николая и стояли теперь в стороне, глядя на происходящее со все возрастающим изумлением, бросились вон из палатки.
Доктор Вольф, войдя, нашел генерала присевшим на корточки у носилок. Станислав Романович пытался массировать руки умирающего, движения его были неловкими.
– Ох, доктор, ничего не получается! Сделайте что-нибудь!
Врач осмотрел больного, прощупал, послушал, взглянул на белье – все в кровавых испражнениях, выпрямился. Вид у него была крайне встревоженный.
– Ну что? – тоскливо спросил Лепарский. – Вы сможете его спасти?
На оплывшем лице старика с дряблыми щеками была написана поистине отеческая забота.
– Надежды мало, ваше превосходительство, – вздохнул доктор Вольф.
– Нет, это невозможно!.. А что с ним?
– Дизентерия. И запущенная. Слишком поздно…
Плечи Лепарского обвисли.
– Велите отнести его в вашу палатку, – сказал он. – А завтра, когда мы пойдем дальше, вы устроите Николая Михайловича в больничной повозке. Я рассчитываю на вас, Фердинанд Богданович, я надеюсь, что вы станете лечить его, как… как лечили бы меня самого!.. Ах, Боже мой, Боже милостивый, – бормотал старик. – Бедный мальчик!.. Но что же, что они все вбили себе в голову?.. Зачем бежать?.. Разве им тут плохо?.. Разве я не заботлив, не доброжелателен с ними…
Генерал умолк, подумал немного и добавил:
– Надо бы сиделку Николаю Михайловичу. Сейчас пошлю за его женой – госпоже Озарёвой передадут, чтобы к вам пришла…
* * *
Внутри тарантаса с поднятым верхом царил зеленоватый полумрак. Софи сидела на полу, прислонившись спиной к задней стенке, и смотрела на Николая. Он лежал рядом, укрытый коричневым шерстяным одеялом. Глаза были закрыты, и казалось, будто веки туго натянуты на глазное яблоко. Бледные губы приоткрывались, пропуская слабое, еле слышное дыхание. Выросла за это время бородка – густая, светлая… Стоило тарантасу дрогнуть на очередной колдобине, больной стонал – тоненько, словно ребенок. И каждый раз, как у него вырывался стон, Софи вздрагивала, словно в ней самой просыпалась боль. Она проклинала эту вечную для России пересеченную местность, эту изрытую ухабами дорогу, эту удушающую жару – проклинала все, от чего страдал ее несчастный муж. Со вчерашнего дня он находился между жизнью и смертью. Иногда открывал глаза, но вроде бы не узнавал Софи. Кожа у него была сухая, пульс редкий, слабый и неровный. Доктор Вольф лечил его каломелью, опийными клистирами, маковой настойкой, но понос все продолжался, кровавый, разрывающий внутренности. На лицо Николая то и дело садились мухи, и Софи рукой сгоняла их. Он поцокал языком – она поняла, дала ему пососать тряпочку, намоченную в рисовом отваре. Он принялся сосать эту ветошь – жадно, как младенец материнскую грудь, и видеть ввалившиеся щеки и выкаченные глаза было нестерпимо, сердце обмирало от жалости. Затем начался новый приступ колик. Когда это случилось при Софи впервые, ее едва не стошнило от зловония, но потом она преодолела брезгливость, сейчас она только обрадовалась тому, что муж избавился от еще одной порции мерзкого яда. Из него выходила, его покидала болезнь! Вот так постепенно… Она склонилась к мужу и стала вполголоса, как говорила бы с сыном, подбадривать его. Все мелкие чувства, и злость, и сожаления о былом отступили перед чудовищной угрозой конца, Софи думала теперь только о том, что не должна, не имеет права впустить смерть в тарантас. «Ты его не получишь, костлявая! – сказала она в сердце своем с яростной решимостью. – Слышала, ты, с косой? Не получишь!» В свете и тьме ее памяти перестала разыгрываться драма между ею и Никитой, истинная драма разыгрывалась здесь и теперь, ясным днем и на расстоянии вытянутой руки… Настоящее повелело прошлому умолкнуть…
Николай подтянул колени к животу, лицо его исказилось гримасой боли.
– Тихо, тихо, дружочек, сейчас пройдет…
Шепча, она гладила влажный лоб мужа.
Кишечник опустел, стоны прекратились.
Больной лежал на подстилке из травы, в пути ее было легче менять на свежую. Софи отогнула полог и подозвала двух бывших каторжников-уголовников, которые шли рядом с тарантасом. Они забрались наверх, один подхватил Николая под мышками, другой взялся за его ноги у бедер. Приподняли почти безжизненное и оттого казавшееся тяжелым тело. Одеяло соскользнуло, обнажилась плоть… хотя, на взгляд Софи, от плоти там мало что осталось: муж так похудел, что стал похож больше не скелет, чем на живого человека. Кожа буквально приклеилась к костям, не осталось даже намека на мышцы, вот – большая берцовая кость, вот – круглая, цвета слоновой кости, коленная чашечка, вот бедренная кость… едва дышащее пособие по курсу анатомии… Тарантас тем временем, покачиваясь, двигался дальше, и уголовникам было трудно устоять, даже расставив ноги.
– Эй, мадам, поспешите! – буркнул один из них.
Софи собрала грязную траву в мешок, выкинула из тарантаса и приготовила на досках свежую подстилку. Уголовники осторожно положили на нее больного и, переругиваясь, спрыгнули на дорогу. Им не нравилось выполнять эту работу – боялись подцепить «дурную хворь». А Софи даже и не думала, что можно заразиться, она была слишком поглощена борьбой со смертью, чтобы размышлять. Нынче на кон поставили жизнь, – и где уж там жмуриться при виде крови, где уж там морщиться от зловония! То, что зло со смрадом ретировалось из корчащегося, подвергаемого пыткам тела, выглядело для нее совершенно естественным, и ей не приходило в голову брезгливо отворачиваться. «Выздоравливай! Только бы ты выздоровел, остальное, что бы там ни было, мне совершенно все равно!» – шептала Софи, тыльной стороной руки возвращая сбившуюся прядь волос на висок. Ночь мешалась с днем, дни с ночами… Им достался, конечно же, самый скверный из тарантасов, движущихся в обозе! Еще несколько верст, – и он вообще развалится на какой-нибудь выбоине дороги. Голова Николая болталась туда-сюда и норовила свалиться с ее плеча.
В полдень, согласно предписаниям доктора, Софи дала больному погрызть древесного угля. Он скорчил гримасу отвращения, но послушался. Вскоре между зубами стала проступать черная слизь, и, когда с углем было покончено, Софи почистила мужу рот – как чистят младенцу. И тут снова из него хлынуло, Софи пришлось чуть податься назад. Но, слава Богу, на этот раз дело обошлось ерундой – было бы жалко снова поднимать и отчищать Николя, это для него слишком утомительно… Софи на минутку перегнулась за борт, вдохнула свежего воздуха, потом возвратилась обратно в зеленый полумрак и улеглась рядом с мужем. Ох, какой же здесь тяжелый воздух – прямо подташнивает, и как гадко трясет, шажок за шажком, толчок за толчком – так этот мерзкий тарантас ме-е-едленно продвигается вперед по зною… Николай что-то невнятно бормотал – слов не разобрать. Ей с трудом удалось бы найти в этом обескровленном, агонизирующем существе хоть что-то, что роднило бы его с полным желания и страсти мужчиной, который набросился на нее ночью на берегу реки. Все это происходило в другой жизни, между людьми, ее больше не интересовавшими. А ее настоящая жизнь протекала здесь, в повозке, которая тащится по сибирской дороге. Пометавшись, словно ненормальная, она снова обрела ясную цель. Последний ее шанс. Зачем она отрешилась от всего, что их связывало, зачем отказалась от Николя? Он был главным в ее женской памяти, главным в ее жизни женщины. Если она с кем-то и познала счастье, то именно с ним. Вот он перед ее глазами – худощавый, элегантный… его горделивая улыбка, его ласкающий взгляд… его веселость, его легкомыслие, его простодушие, его хвастовство, его ложь… и его мужество, его отвага!.. И, может быть, вот сейчас, на этой убогой подстилке, все это кончится, кончится после чудовищной этой икоты смертной судорогой!.. «Нет! Нет! Только не он!» Она принялась молиться Богу за своего мужа, как молилась когда-то – слишком поздно – за Никиту. Они были братьями по мукам. Она переходила от одного к другому, никого не предавая, никому не изменяя. Дорога поднималась в гору, оси скрипели, лошади спотыкались, потом тянули сильнее и пускались в облаке пыли едва ли не галопом. Внезапно Николай скорчился и зарычал так, будто его пронзили кинжалом.
– Господи! – не выдержала Софи. – Опять! Да что же это, Господи, конца, что ли, этому не будет?!
Она положила руки на живот больному. Он стучал зубами, закатывал глаза – оставались видны только полоски белков, открытым ртом хватал в приступе удушья воздух. Испуганная интенсивностью судорог, Софи приподняла полог и крикнула сопровождавшему их солдату:
– Скорее! Позовите доктора!
Прибежал доктор Вольф, на ходу вскочил в тарантас, взял руку больного, стал считать пульс. Минуту спустя Николай, вокруг которого теперь уже все было расцвечено кровавыми пятнами, успокоился, расслабился всем телом – слабый, бледный, ни кровиночки в лице, начисто обезвоженный – даже капли пота на лбу уже не выступали. Чтобы прибавить ему сил, доктор напоил его настоем дрока. Затем помог Софи переодеть мужа, помыть, сменить подстилку. Софи кусала губы, глаза ее были полны непролившихся слез.
– Скажите правду, доктор, – попросила она шепотом. – Скажите, положа руку на сердце, пожалуйста! Скажите – осталась ли у нас хоть какая-то надежда?
Он удивленно посмотрел на нее – посмотрел так, будто она была последним человеком на свете, кто имел право проявлять беспокойство. И ответил сухо:
– Пока не могу сказать.
– Но ему ведь не хуже?
– Нет. Но и не лучше. Состояние стабилизировалось. Вот только хватит ли у организма сил выдержать до конца…
– Я боюсь, что не все делаю как надо! Я не умею!..
– Ну что вы, мадам! Что вы – вы прекрасно со всем справляетесь.
Доктор вымыл в тазу руки. Даже в походе он ухитрялся выглядеть опрятным, свежим, с отлично подстриженными усами, ни одна пуговица сюртука не болталась на ниточке, ни одна не отсутствовала на своем месте. Софи нравилась его серьезность. Однако со времен побега Николая доктор, сохранив прежнее вежливое обращение, старался держаться на расстоянии. Вот и теперь, сказав любезность, он не продолжил разговора, а спрыгнул на дорогу и подошел к тарантасу, в котором ехали Александрина Муравьева и Полина Анненкова с детьми. Все знали, что Фердинанд Богданович питает слабость к нежной Александрине. Муж у нее человек мрачный, от него веет холодом, он наводит тоску, отчего бы и ей не… Но она понимает, наверное, что подобная идиллия никуда ее не приведет. Софи пожалела об этом. Почему? Вот на этот вопрос ей было бы трудно ответить, но чем дальше – тем больше эти женщины-ангелы, эти почтенные римские матроны ее раздражали. Она положила руку на лоб мужа. Николя больше не двигался. Без сознания… Отсутствующий вид, печать страдания в уголках губ… Минуты шли – одна, другая, вечность… У Софи затекла рука… Ах ты Господи, когда же кончится эта перевозка в несчастной колымаге, эта тряска, этот скрип колес?..
Половинки полога колыхались перед нею, и вдруг она заметила через щель между ними бурятов. Они верхом на лошадках обгоняли тарантас. Внизу, в лощине, стояли юрты с остроконечными крышами. Лагерь!..
* * *
– Ладно уж… Пусть дамы войдут! – вздохнул Лепарский, усаживаясь за складной стол.
И успел еще подумать: ну а чего они потребуют на этот раз? Дежурный откинул полог, закрывающий вход в «генеральный штаб», и посторонился, чтобы пропустить посетительниц. В палатке мгновенно стало тесно от широких юбок. Лепарскому показалось даже, что стало труднее дышать. Они все были здесь, кроме Александрины Муравьевой и Софи Озарёвой. Первой, гордо подняв голову, пошла в атаку смуглолицая и пламенноокая Мария Волконская.
– Ваше превосходительство! – воскликнула она. – Мы пришли ходатайствовать о том, чтобы нам, как было прежде, разрешили видеться с нашими мужьями!
Генерал выждал паузу.
– Нет, княгиня, – с силой ответил он, когда молчание стало нестерпимым.
– Интересно! Ведь беглеца уже поймали!..
– От этого ничего не меняется. Дисциплина ослаблена, все распустились. Я намерен восстановить ее во всей строгости.
– Ну, тогда для всех и восстанавливайте. Для всех! – закричала Александрина Давыдова.
– Кажется, я ни для кого не делал исключений!
– Хм, не делали! Делали, ваше превосходительство, причем для той, которая менее всего заслуживает вашей снисходительности!
– Да-да, что правда – то правда, – подхватила Наталья Фонвизина плаксивым тоном. – Единственная из всех, кому удалось получить от вас разрешение неотлучно быть с мужем, это Софи Озарёва!
От возмущения комендант даже вскочил.
– Сударыни, сударыни, – забормотал он, – неужто вы забыли, что Николай Михайлович в худшем положении, чем все, что он в очень тяжелом положении!
– А нечего было предпринимать попытку к бегству! – передернула плечами Давыдова. – Не то получается, будто вы благоволите… будто вы милостивы именно к тем, кто не подчиняется дисциплине! Премии даже даете – за ослушание, за побег и неверность! Поощряете, так сказать!
Лепарский замер. Замечание прозвучало странно и встревожило генерала: как могло прийти в голову, что его поведение можно рассматривать с подобной точки зрения! Поняв, что противник дрогнул, Фонвизина решила воспользоваться заминкой в свою пользу:
– Разрешите в таком случае сообщить, ваше превосходительство, что мой муж простудился и просит, чтобы я ухаживала за ним во время болезни!
– И мой! – поддержала инициативу подруги Екатерина Трубецкая. – Он страдает ревматизмом, это вам может засвидетельствовать доктор Вольф!
– А у моего такие чудовищные мигрени, – подхватила Полина Анненкова, – и все от перегрева в пути под этим ужасным солнцем!
– Ну и что? – проворчал Лепарский. – Болеют… но не при смерти же, как Озарёв!
Испуганные женщины перекрестились, но и эту информацию применили на свой лад, сообразно собственным интересам.
– Ах, если бедный Николай Михайлович умирает, – произнесла Давыдова, – то вам, генерал, следовало бы найти ему другую сиделку!
– Но что вы имеете против этой? В чем можете ее упрекнуть?
– Хотя бы в том, что именно она несет ответственность за состояние мужа!
Лепарский пожал плечами.
– Понятия не имею обо всех этих историях, да и знать их не хочу. Мне ясно одно: госпожа Озарёва – супруга больного, следовательно, ей за ним и ухаживать.
– Даже если она это делает плохо?
– На что вы намекаете?
– На то, что не доверяют уход за больным особе, которая только и мечтает от него избавиться! – выпалила Александрина.
Обвинение было таким дерзким и рискованным, что даже все дамы с удивлением посмотрели на Давыдову.
– Сударыня, – сказал Лепарский, – если у особы, о которой вы говорите, есть на совести какой-то грех, я убежден, что угрызения сделали из нее в настоящий момент лучшую из жен на свете.
– Слишком уж вы доверяете угрызениям совести и совершенно напрасно не верите в затаенную злобу, – с саркастической усмешкой отозвалась Александрина.
Мария Волконская, опасаясь, что комендант сейчас разразится гневом, немедленно вмешалась:
– Оставим это, ваше превосходительство, не стоит заходить так далеко. Но признайте, тем не менее: честным, порядочным женщинам, чьи мужья никогда не позволяли себе противоречить вашим приказам, тяжело чувствовать, что к ним относятся хуже, чем к женщине сомнительной морали, муж которой создал вам столько забот и неприятностей своим побегом… Вот уже целую неделю мадам Озарёва все время находится рядом со своим мужем. И мы просто-напросто просим установить равенство с нею в правах! Вы сами называете себя человеком сердечным и справедливым, а если это так, вы должны…
С минуту Лепарский сидел молча, оглушенный начавшимся гомоном, дамы кричали теперь все сразу, перебивая друг друга. Однако из всего, что он слышал, его задело только обвинение, выдвинутое Александриной Давыдовой. Сказанные ею жестокие слова отпечатались в его памяти, проросли в нем, проросли с болью – словно кустарник с ядовитыми шипами. Но вдруг эти женщины правы? Вдруг у Софи и на самом деле преступные намерения? Да нет, не может быть, просто дамочки свихнулись, начитавшись романов! И он не позволит управлять собой, своими поступками каким-то пансионеркам с разыгравшимся воображением! Только не хватало! Если сейчас не навести порядок, они в конце концов сядут ему на голову, сожрут с потрохами! Совершенно неожиданно для всех Лепарский закричал громовым голосом:
– Хватит, сударыни! Баста! Я сниму запрет тогда, когда найду нужным. А ваши упреки и обвинения вынудят меня только оттянуть этот момент! Прощайте! Извольте покинуть это помещение!
Дамы гуськом потянулись к выходу из палатки, все как одна – с обиженными физиономиями.
Оставшись один, Лепарский снова уселся за стол – изучать сметы, отчеты и прочие финансовые документы: администратор как-никак, комендант… Но сосредоточиться не мог: цифры плясали у него перед глазами. Единица – прямая, стройная и горделивая – напоминала ему Марию Волконскую, тройка с ее двумя полукружиями – пышногрудую Екатерину Трубецкую, совсем уж круглый ноль – толстушку Наталью Фонвизину… Наваждение! Наверное, слишком устал… Это путешествие оборачивается испытанием, превышающим его силы и возможности! Там, в Петербурге, начисто забыли, сколько ему лет! Вот уже восемнадцать дней они с короткими передышками движутся через Сибирь – в зной, по ужасным российским дорогам… Возможность для его маленькой колонии перебраться на новое место без помех и без потерь, успех этой трудной экспедиции казался просто чудом… «Может, орден дадут по такому случаю? – размышлял Лепарский. – Но зачем мне новый орден в мои семьдесят пять лет? Что с ним делать?» И тем не менее, мысль о том, что верная служба государю и отечеству будет по достоинству вознаграждена, грела ему сердце и пробуждала великую надежду… Только бы этот вертопрах Николай Озарёв не умер в пути! С ума можно сойти, стоит задуматься, от каких мелочей зависит успех всего предприятия! А доктор Вольф сегодня утром что-то не доложил, как там дела. День выходной… Лагерь наслаждается отдыхом на берегу реки… Лепарский внезапно почувствовал, что больше ни минуты не может оставаться на месте. Он надел перевязь со шпагой, перчатки, треуголку и вышел из палатки.
Не сделав и десяти шагов, наткнулся на доктора, тот как раз шел к коменданту с рапортом. Новость оказалась превосходная: больному удалось съесть легкий завтрак.
– Думаете, теперь выкарабкается? – прямо спросил Лепарский.
– Скажем, теперь смотрю в будущее чуть более оптимистично, – доктор, как обычно, проявил осторожность в прогнозе. – Но ведь усталость и тяготы путешествия не способствуют улучшению.
Генерал взял Вольфа под руку и прошептал:
– Скажите, а вы уверены, что ваши предписания исполняются совершенно точно?
– Не понимаю, что вы имеете в виду…
– Не проявляет ли госпожа Озарёва небрежности или недобросовестности?
– Что еще за ерунда? Откуда у вас такие мысли, генерал? Она просто образец преданности, усердия и терпения. Мое свидетельство тем объективнее, что я не питаю к Софи ни малейшей симпатии. Вы явно поверили россказням кого-нибудь из дам…
– Да, да, вы правы, доктор! – сокрушенно вздохнул Лепарский. И продолжил, словно бы не слышал последних фраз: – У меня точно такое же впечатление о госпоже Озарёвой. Ну вот, гора с плеч, даже дышать стало легче, – прибавил он. – Пойдемте-ка взглянем на вашего больного!
Доктор Вольф проводил коменданта к больничной палатке.
Николай лежал на складной кровати. Бородатый, неподвижный, с закрытыми глазами – он напоминал в профиль мраморную статую. Софи, примостившись в глубине юрты, стирала в лохани белье. Услышав шаги, она выпрямилась, вытерла о передник руки. Генерала потрясло строгое, усталое лицо женщины – такой он никогда ее не видел.
– Шел мимо и подумал, что пора навестить нашего пациента, – любезным, но подчеркнуто официальным тоном произнес Лепарский. – Отрадно убедиться, что ему стало лучше…
Сам он с трудом удерживал на лице маску суровой сдержанности. Но так было надо. Болезнь Николая ничуть не уменьшала вины его в глазах власти.
– Говорите, пожалуйста, тише, ваше превосходительство, – попросила Софи. – Он спит.
– Ах, простите, простите! – снизил голос генерал. И, Господь ведает почему, прибавил: – Скажете ему, что я заходил.
Когда комендант с врачом ушли, Софи села рядом с мужем. «Какой же ты все-таки красивый! – думала она, глядя на Николая. – Какой ты красивый!» Николай пошевелил губами – она дала ему выпить ложечку рисового отвара. Потом сменила согревающий компресс на животе.
Сейчас, в привычной уже темноте, куда он погружался, стоило сомкнуть веки, Николай начал испытывать приятное ощущение, и ощущение это постепенно разливалось по всему телу. Отступает, прячется в свою берлогу боль, и он сможет просуществовать несколько мгновений, нет, не просуществовать, прожить, он будет жить, пока она не вернется… Но устал, но измучен, так что непонятно даже – где границы его тела, есть ли оно вообще… Он плывет… он стелется по небу или по земле… он дымок среди других дымов… Даже его мысли какие-то больные…
Николай открыл глаза. Перед ним сквозь дрожащий легкий туман просвечивал – мир. Он – внутри палатки… тут белье сохнет на веревочке, тут какие-то банки, склянки… тут женский силуэт… Софи!.. Он вздрогнул. Из глубин памяти поднялось что-то… что-то постыдное… что-то его бесчестившее, позорное… уродливое… Никогда, никогда у него недостало бы сил такое вынести… Уснуть, забыть… Броситься назад – в черные волны… в воды Стикса… нет, не выходит… он не может… он… Софи ему улыбнулась.
– Мы где? – еле слышно спросил Николай. – Что со мной?
Софи приложила пальчик к его губам и, по-прежнему улыбаясь, шепотом приказала:
– Молчи-молчи-молчи! И лежи тихо! Ты ужасно сильно болел, а теперь тебе лучше.
Тут – как будто снизошло озарение – он все вспомнил! Вспомнил – и ему стало нестерпимо стыдно за свою немощь: за это вялое, дряблое тело, за этот вздутый живот, за эти обмороки, за эти смрадные потоки, что из него изливались… и за то, что ей, Софи, пришлось взять на себя грязную работу сиделки! Может быть, если бы она любила его, как раньше, он бы смог такое принять, но сознавать, что она делает все это лишь из сострадания, – это нестерпимо! Лучше уж тут была бы любая другая женщина… Собравшись с духом, он попытался высказаться:
– Не ты… нет!.. нет!..
И сразу же хлынули слезы. Мышцы ему не повиновались. Он был слишком слаб, чтобы справиться со столь серьезными проблемами, и ему хотелось, хотелось… ну, хоть немножечко тени на лоб, хоть глоточек воды – освежить пересохшие губы… Софи протянула ему ложечку простокваши. Он с наслаждением проглотил, попросил:
– Еще!
Но Софи покачала головой: нельзя. И не попросишь, раз так. Он в ее власти, он от нее зависит. Как всегда.
– Поспи теперь, – сказала она так нежно, что у него стало тепло на душе.
– Не могу, – пожаловался он.
– Надо, милый, поспи…
Вместо того, чтобы послушаться, он пристально смотрел на нее. Она показалась ему постаревшей, увядшей, но удивительно при этом похожей на ту юную особу, с которой он познакомился когда-то в Париже. Годы только прибавили ей красоты, именно с годами у нее появился такой проникающий прямо в душу взгляд, такая волевая складочка у рта, такая чудесная, такая волнующая сеточка морщинок вокруг век, такая гордая осанка, такой спокойный, задумчивый вид, – и от всего этого у него сердце замирает, он начинает сходить с ума и… и смущаться, как мальчишка. Получается, она с возрастом только хорошеет, его жена. И к тому же новый ее облик не стирает старого, тот, прежний, проступает сквозь приобретенные со временем черты: вот улыбнется – и в зрелой, взрослой женщине сразу угадывается девочка-подросток, и окутывает туманом зрелость, и все смешивается, становясь единым прелестным образом… Все это Николай ощущал с необычайной, просто-таки сверхъестественной остротой и силой. И вот так – в раздумьях ли, в грезах, этого он и сам не мог понять – его, как дрейфующее судно, постепенно отнесло к новому пику страданий, опять стало крутить, опять появились нестерпимые боли, но сейчас – впервые, инстинктивно – он схватил лежавшую на одеяле руку жены и изо всех сил сжал ее…
5
Николай выздоравливал так медленно, что Софи частенько задумывалась: неужели он когда-нибудь станет таким же сильным и крепким, как в былые времена, неужели к нему вернется прежняя энергия? Болей не стало, но слабость пока не позволяла ему ходить. Лежа в тарантасе, он даже не интересовался тем, что происходило снаружи. Доктор Вольф прописал ему «усиленное питание», основой которого было сквашенное кобылье молоко, кумыс. К тому же на каждой остановке ему следовало пить свежую кровь. Бурятский главарь пускал кровь лошади, сцеживал ее в чистый сосуд, затыкал надрез травой и относил полную до краев красной жидкостью чашку больному. Тот с отвращением принимался лакать и непременно проливал бы на траву в лучшем случае половину, если бы Софи бдительно не следила за процессом лечения.
С тех пор, как угроза смерти отступила, оба испытывали, стоило им оказаться наедине, все возраставшее смущение. Болезнь, сблизившая умирающего мужа и жену-сиделку, отступая, лишила их возможности оправдать внимание друг к другу, заботу одной о другом. Словно бы страшная угроза была для них неким «третьим», присоединившимся к их едва не рухнувшему союзу, помогая больному выжить, а вот теперь, когда все миновало, «третий» оставил их, оставил с впечатлением, будто они впервые оказались один на один, он – стыдящийся своего беспомощного состояния, она – сконфуженная своей услужливостью. Между ними установилось молчаливое соглашение – не говорить о прошлом. Но точно так же они избегали любого намека на будущее, которое не представлялось им даже смутно. Будто бы их семья должна существовать только до поры, пока длится путешествие. Будто бы дорожных происшествий и повседневных хлопот вполне достаточно для разговоров между ними. И все-таки, обмениваясь с мужем банальными, ничего не значащими фразами, Софи догадывалась о тайной надежде Николая. И – не в состоянии проанализировать это ощущение – была донельзя взволнована тем, насколько он нуждается в ее нежности, в ее ласке. Вот так, умалчивая о главном, о том, что таилось в самых глубинах их сердец, они приспосабливались к созданной ими же фальшивой ситуации, лавировали между рифами, только им и известными, и вкушали, лицом к лицу, счастье, срок которого легко было измерить, но отсроченная беда такому счастью помешать не способна…
Однажды Николай попросил жену приподнять полог – ему хотелось увидеть окружающий пейзаж. Она с радостью согласилась, увидев в этом знак того, что муж начинает выздоравливать. Дорога в это время шла берегом Селенги: слева – быстрые и прозрачные воды реки, справа – отвесные прибрежные скалы высотой не менее полусотни саженей…[6] Взгляд скользил по гранитным стенам с напластованиями красных, черных, желтых, серых слоев, скользил, подымался вверх и – терялся в синеве неба… Все это подействовало на Николая, как с непривычки – крепкое вино, он словно захмелел и вскоре почувствовал сильную усталость. Софи заставила его лечь и закрыть глаза.
Лагерь разбили, как обычно, на берегу реки. Следующий день был предназначен для отдыха. Некоторые из дам решили воспользоваться этим, чтобы снова обратиться к Лепарскому с просьбой разрешить встречи с мужьями, но получили отказ еще более категорический, чем при прошлом обращении. Прогулки и купания также были запрещены, и узники решили посвятить все время чтению и игре в шахматы. Вокруг каждого столика, где шла партия, собрались зрители. Даже буряты следили за ходом игры с видом крайне заинтересованным, порой начинали бурно переживать. Князь Трубецкой, забавы ради, предложил одному из них помериться с ним силами. Тот, истинный дикарь, с низким лбом и угрожающим взглядом косых глаз, явно неграмотный, неожиданно легко обыграл первого среди декабристов игрока.
– Где ты научился играть? – спросил князь, пытаясь скрыть досаду.
– Китайцы умеют все, – ответил бурят. – Китайцы испокон веков играют в шахматы, и нас обучили тогда, когда только мир начинался…
Юрию Алмазову пришла в голову идея организовать шахматный турнир между белыми и желтыми, но Лепарский отклонил предложение, мотивируя отказ тем, что подобные соревнования являлись бы нарушением дисциплины и порядка, установленных для каторжников на время похода. С каждым этапом путешествия нервозность коменданта возрастала – как и его тревожность, так и его несговорчивость. Декабристы поняли причину подобного его настроения, когда генерал сообщил им на вечернем собрании, что колонна вскоре подойдет к городу Верхнеудинску, где как раз находится прибывший туда с инспекцией генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский.[7]
– Всех нас, господа, ожидает нечто вроде экзамена, – сказал Лепарский. – Будьте уверены, что на самый верх пойдут после секретные доклады – как на ваш счет, так и на мой. Потому прошу вас: не выходите из рядов, не нарушайте строя, пусть походка ваша будет твердой, но не чересчур жизнерадостной, поскольку ваша судьба отнюдь не должна казаться завидной. Вам следует выглядеть печальными, покорными, может быть, даже несколько подавленными… но никак не хворыми, здоровье арестантов должно быть отменным!.. Понимаете, что я имею в виду?.. Кроме того – никаких нелепых, эксцентричных одеяний. Никаких трубок во рту и никаких кульков с конфетами в руках. Никаких цветов в бутоньерках. Физиономии солдат конвоя, в соответствии с моим приказом, будут суровыми и решительными, каковые и положено иметь строгим надсмотрщикам…
Пока комендант перечислял меры, необходимые для того, чтобы создать у начальства верное представление о состоянии дисциплины в подведомственном Лепарскому отделении сибирской каторги, узники с улыбками переглядывались. Генерал заметил на их лицах иронию и рассердился:
– Мои требования кажутся вам абсурдными, господа, так надо понимать? У вас, господа, сохранился фрондерский дух… Но давайте вспомним: однажды вы уже проиграли из-за этого! Вероятно, вместо того чтобы иронизировать, лучше бы поблагодарить меня за то, что хотя бы сейчас помогаю вам избегнуть подобной же оплошности!
Когда Лепарский вернулся в палатку, ему, чтобы успокоиться, пришлось выпить две больших кружки воды. Ну, как получается, что при любых обстоятельствах он выглядит смешным? Да что же это такое – стоит встать на защиту порядка, тебя сразу начинают критиковать! Но ведь, не будь установленного порядка, не было бы и никакого общества! Декабристы и сами признавали это – вот, например, в своем проекте конституции!.. Ах, Боже мой, правду говорят, что не бывает занятия более неблагодарного, чем руководить себе подобными! Дадут тебе или завоюешь ты крошечную возможность власти – вот на тебя сразу и смотрят косо… Можно подумать, должность человека обесценивает или, хуже того, опошляет его как личность!.. Нет, с точки зрения высшей Справедливости это и вовсе несправедливо!.. Подобные мысли Лепарского раздражали, как… как зуд… Но отделаться от них ему не удавалось. Четыре раза обойдя свою палатку по периметру, он бросился на кровать и принялся мечтать о проходе через Верхнеудинск как об апофеозе… то ли путешествия через Сибирь, то ли всей своей карьеры…
На последней стоянке перед Верхнеудинском он вечером снова собрал свою «паству» и повторил указания – всем: заключенным, солдатам, бурятам. Были подвергнуты тщательному осмотру одежда, оружие, лошади, повозки. Генерал зашел и в больничную палатку, чтобы напомнить Софи:
– Вы все хорошо поняли, сударыня? Можете показаться в своем тарантасе, но помните, что мною запрещены какие бы то ни было сигналы, знаки, улыбки и разговоры с зеваками. За малейшим нарушением последует строгое наказание!
Софи пообещала быть образцом мировой скорби.
– Будет вам! Перегибать палку тоже ни к чему! – усмехнулся генерал.
И удалился – снова став мрачным, приложив руку к сердцу: ни дать ни взять – смертельно боящийся сцены актер перед тем, как выйти на подмостки…
С рассветом следующего дня лагерь охватила лихорадка: все суетились, каждый делал что мог. Только Николай, которого снова устроили в тарантасе, и сидевшая рядом с мужем Софи издали наблюдали за суматохой. Солдаты брились, смазывали волосы ружейным маслом, наводили блеск на обувь, за неимением ваксы растирая тряпками смачные плевки; в уголке под деревьями шестеро барабанщиков репетировали воинственную дробь; конюхи чистили лошадей скребницами и щетками, чернили им варом копыта; невесть откуда взявшийся карлик бегал от повозки к повозке, ловко проскальзывая под днищем и между колесами, и смазывал жиром оси; одну за другой убирали палатки и юрты – забавно было видеть, как опадает целый «дом», будто проколотый иголкой; собирались в группки, как и было приказано – порознь, декабристы в лучших своих костюмах и дамы, одетые словно для выхода в свет… Полина Анненкова надела шляпку-капор из соломки, из-под которой с обеих сторон кокетливо выглядывали грозди мелких взбитых локонов; Елизавета Нарышкина нацепила тюлевый плоеный «ошейник» к зеленому платью с рукавами-фонариками; Мария Волконская увенчала гордо посаженную голову васильковым шелковым тюрбаном, воткнув в него перо…
Наконец появился и Лепарский – верхом на белом коне. Для начала отчитал женщин: чересчур, дескать, элегантны для дороги. Дамы наотрез отказались переодеваться: одни – под предлогом того, что больше им и надеть-то нечего, другие утверждали, что багаж уже собран, сундуки заперты и, мало того, погружены в тарантас. Не ожидавший такого дружного сопротивления и не желая лишний раз расходовать на никчемное препирательство время и силы, генерал предпочел ретироваться.
Как обычно, в последний момент Лепарскому показалось, что ничего не готово и никто не готов. Однако колонна помаленьку выстраивалась, вспотевший и сорвавший голос Ватрушкин бегал как заведенный туда-сюда и торопил солдат с разбором ружей, так и стоявших пока в козлах. Лошади уже переминались с ноги на ногу, потряхивали гривами, от чего сбруя тихонько, но весело звенела, и ржали, готовые в путь. Дамы перекликались от экипажа к экипажу, как поутру перекликаются соседки по кварталу – из окошка в окошко… «Главнокомандующий» привстал в шпорах, взмахнул в воздухе обнаженной шпагой и гаркнул:
– Вперед, ша-а-агом марш!
Прозвучала барабанная дробь, и караван стронулся с места. По мере приближения к Верхнеудинску пейзаж становился все более оживленным: по обочинам дороги появлялись мужики с приложенными козырьком ко лбу руками и раззявленными ртами. Некоторые из них снимали шапки и крестились – словно перед ними проходила похоронная процессия. Софи и Николай откинули верх тарантаса и, сидя на тюках соломы, смотрели во все глаза.
– Надел бы ты шляпу, – ласково посоветовала Софи. – Солнце сильно припекает.
Он поблагодарил жену, взгляд его был взволнованным, растроганным. Поначалу она забеспокоилась: вот уж чего ей не хотелось проявлять, так это чрезмерной любезности, она вообще ненавидела вежливость ради формы! Но, тем не менее, сказанное и в ней самой оставило след непритворной нежности, ей почудилось даже, будто, исцеляя мужа, она исцелялась и сама… Они вместе возвращаются к жизни!.. Да, да, именно так! Они теперь станут вместе заново открывать мир…
Вскоре показались купола собора, возвышавшиеся над россыпью крыш. Впервые с тех пор, как каторжники покинули Читу, впервые за четыре недели им попался на пути более или менее крупный населенный пункт. Уставшие от пустыни, изголодавшиеся по хоть какой-нибудь цивилизации, они жадно вглядывались в дома и хибары, теснившиеся по берегу Селенги. Подошли к шлагбауму, отмечавшему границу города. Снова примолкшие на время пути, но мгновенно обретшие обычное проворство палочки ударили по барабанам. Солдаты приосанились, подтянулись, принялись печатать шаг, грозно нахмурили брови. Декабристы, желая угодить своему старому генералу, скроили мрачные физиономии.
Ах, как же повезло верхнеудинцам, жизнь которых была не богата развлечениями! Праздник души, да и только: политических ведут! Все население высыпало на главную улицу, где над лавками было столько же вывесок на русском, сколько и на китайском. Толпа, собравшаяся вдоль дороги на деревянных тротуарах, выглядела пестро и причудливо: рядом с европейскими туалетами можно было увидеть азиатский халат, хорошо если не сибирскую доху или северную малицу… Чередовались белые и желтые лица… Мальчишки свистели в два пальца и носились вдоль колонны… В каждом квартале собаки принимались заново облаивать барабанщиков… Какая-то мамаша испуганно прижала к себе ребенка: вдруг каторжники отнимут! Другая, наоборот, указывала пятилетнему примерно малышу на колонну и что-то приговаривала, наверное: «Не захочешь быть умным мальчиком, будешь плохо себя вести, кончишь – как они!» Древний старик при виде грешников-нечестивцев истово крестился: чур-чур-чур меня! Буряты, ничего не понимая, пересмеивались. На каждом балконе собралась своя компания из принаряженных по-воскресному дам и местных денди, те и другие были одеты по моде, отставшей от столичной лет на пять, никак не меньше. Дамы обмахивались веерами, на проходящих наставлялись лорнеты, публика отпускала по поводу зрелища иронические или философские замечания… Софи казалось, что они участвуют в ярмарочном шествии. Смысл происходящего был яснее некуда: «Смотрите, люди добрые, вот что бывает с теми, кто ослушается царя-батюшку, кто осмелится пойти против власти!» Караван замедлил движение, ротозеи выпучили глаза, заметив Софи. Теперь они могли рассмотреть ее совсем вблизи – и рассматривали, как изучают диковинного зверя, придя в зоосад.
– Ой, глянь, глянь, ба-а-аба!..
– Должно, жена коменданта!..
– Да нет, преступника!..
– Спаси, Господи, ее душеньку!..
– Ишь, а одета-то, одета-то мадама эта до чего ладно!.. Неужто и впрямь – жена каторжника?!
Николай еле удерживался, чтобы не расхохотаться. Уже много недель, да каких там недель – месяцев, Софи не видела мужа таким счастливым. Она испытала странное облегчение и тут же объяснила себе новое ощущение: «Это потому, что ему стало лучше!» Они обменялись взглядами – глаза обоих смеялись.
Обоз двигался по улице, оси всех колес не в лад скрипели, небо было бледно-голубым, выцветшим от зноя… Должно быть, где-то поблизости находился рынок, потому что в тарантасе вдруг сильно запахло рыбой… Звонили колокола… Софи тут же вспомнила, как проезжала по этому же городку три года назад – по пути в Читу. В то время она путешествовала уже одна, Никита остался в Иркутске… А потом и он отправился в дорогу, чтобы нагнать ее, чтобы воссоединиться с ней, и жандармы схватили его, и… да-да, это здесь, где-то неподалеку… где-то в окрестностях Верхнеудинска он умер под ударами кнута… Умер… На этой мысли Софи споткнулась и – словно бы пробудившись из-за неловкого движения, печаль, так долго дремавшая в ее душе, накатила и разрослась до такой степени, что изгнала все другие чувства и мысли… Если есть на земле место, где у Софи есть надежда обрести Никиту хотя бы в мыслях, то именно здесь… только здесь… Она сосредоточилась изо всех сил, стараясь воссоздать в памяти его облик – тщетно: перед нею мелькали лишь какие-то размытые, бледные, не связанные между собой картинки… тени теней… Уличный шум, суета вокруг мешали думать… В конце концов, так и не сумев собрать воедино путаные мысли, туманные представления, она отказалась от погони за призраком, предпочла ей наблюдение за пестрой толпой живых. Лица все множились, люди теснились, как овощи на прилавке зеленщика… Позади пеших ротозеев образовался ряд зевак, пялившихся на даровое зрелище во все глаза, забравшись на повозки и телеги, и вытягивающих шеи оттуда. На перекрестке показались люди в мундирах – сюда явилась вся местная администрация во главе с генералом: это был, должно быть, сам Лавинский. Николай вздохнул и тяжело опустился на свое соломенное ложе. Светлая борода подчеркивала, как он исхудал, как заострились черты. Глаза горели…
– Что с тобой? – забеспокоилась Софи.
– Ничего… сам не знаю… устал очень сильно…
– Болит что-нибудь?
– Нет…
Софи сосчитала пульс мужа, дотронулась тыльной стороной кисти до его лба, но, несмотря на то что вроде бы все было в порядке, продолжала исподтишка наблюдать за Николаем, и во взгляде ее читалось сомнение. Теперь она сидела спиной к толпе и потому даже не заметила, что обоз выехал за город и двигался по равнине, где уже не было ни домов, ни зевак, ни офицеров, ни генерал-губернатора. А когда все-таки посмотрела вперед, то увидела на вершине холмика Лепарского. Тот сидел верхом на своем белом коне, треуголку надвинул на глаза, кулаком уперся в бедро и смотрел на продвижение своего маленького – разношерстного и прихрамывающего – войска с такой серьезностью, будто руководил парадом императорской гвардии на Марсовом поле…
Лагерь разбили в версте от города, и местные жители сразу набежали сюда – полюбоваться декабристами на привале, точно так же они повалили бы в передвижной зверинец… Часовые преграждали штыками дорогу расфуфыренным дамам и господам в накрахмаленных манишках, вопившим, что они родня губернатору и потому имеют право нарушить запрет на лицезрение арестантов. Однако их оттесняли к экипажам, и они отбывали весьма недовольные.
Помывшись и переодевшись, Лепарский снова отправился в город, обедать у губернатора с верхнеудинским дворянством. Вернулся к вечеру в отличном расположении духа: в течение всей трапезы он только и слышал, что комплименты облику, одежде и манере держаться как «своих» заключенных, так и стражников. Генерал-губернатор Лавинский заметил даже, что в жизни не попадалась ему каторга, столь опрятная на вид… И прибавил: несомненно, об успехах Станислава Романовича в содержании подведомственного ему пенитенциарного учреждения и управлении им будет тем или иным способом доложено императору.
Счастливо избежав неприятностей в связи с побегом Николая Озарёва, Лепарский снова обрел вкус к жизни. Совершенно очевидно: он был прав, когда скрыл от властей случившееся – все вышестоящие инстанции заинтересованы в том, чтобы Санкт-Петербург получил идиллическое представление о переезде каторги из Читы в Петровский Завод. Ну, а сам он – разве иначе? Движимый порывом великодушия, комендант собрал декабристов и объявил во всеуслышание, что доволен всеми. В награду за хорошее поведение в пути с завтрашнего дня он возвращает им право прогуливаться по лагерю, купаться, а женатым – встречаться с супругами, правда, под наблюдением. Все зааплодировали, а Мария Волконская от имени дам поблагодарила генерала. Сразу же после этого Лепарский отправился в палатку, где лежал под присмотром Софи Николай Озарёв. Тот, увидев генерала, хотел было подняться, но Станислав Романович жестом остановил больного.
– Почтеннейший Николай Михайлович! – обратился к узнику комендант. – С удовольствием отмечая появление первых признаков вашего выздоровления, я, тем не менее, вынужден напомнить, что этот процесс со дня на день вернет нас к чрезвычайно деликатной проблеме того, как вас наказать. Моим первоначальным намерением было – заковать вас в цепи и, едва вы сможете вынести подобные карательные меры, посадить в карцер.
Произнося эти слова, Лепарский в упор смотрел на декабриста, который казался совершенно спокойным, затем перевел взгляд на Софи, у которой, напротив, в глазах внезапно вспыхнула тревога. Волнение молодой женщины позабавило генерала.
– Уверен, вы и сами признаете, что заслужили подобное наказание! – воскликнул он.
– Не отрицаю, заслужил, – все так же безмятежно ответил Николай.
– Для меня это куда в меньшей степени наказание за прошлое, чем предупреждение на будущее, – сказал Лепарский. – Видите ли, мне ведь в точности неизвестны причины, по которым вы покинули нас… так внезапно… ни с кем не простившись… Но я полагаю, что, коли побег не удался, вы вполне сможете предпринять новую попытку…
Софи смотрела на мужа с тоскливым, умоляющим выражением, она была напряжена до предела, но Николай этого не замечал. Он сидел, понурив голову, на постели и размышлял – бледный, худой, похожий на изголодавшегося студента. Наконец он поднял глаза и прошептал:
– Нет, я не думаю, что стану предпринимать что-то подобное…
Лепарский только и ждал этой фразы.
– Можете дать мне честное слово дворянина?
– Даю.
Повисла пауза. Лепарский внутренне ликовал, а внешне был точь-в-точь рыбак, поймавший самую крупную на свете щуку.
– Раз так, – сообщил он торжественно, – я могу и пересмотреть свое отношение к вам!
И про себя подумал: «Исключив возможность продолжения этого дела, я исключаю и риск того, что о нем будет доложено государю! Или, по крайней мере, уменьшаю до предела…»
Лицо Софи просияло. Николай выглядел озадаченным.
– Когда выздоровеете, – продолжил генерал, – присоединитесь к своим товарищам и разделите их судьбу…
– Благодарю, ваше превосходительство, – пробормотал Озарёв.
Лепарский еще какое-то время пробыл в палатке, наслаждаясь собственной добротой, и ощущение было таким приятным, словно он в гамаке качается, затем вышел. На сердце у него было благостно, тепло – от такой-то своей снисходительности, такого всепрощения и дружелюбия, такой доброты! Он почти сожалел о том, что сейчас ему некого больше простить.
После того, как генерал удалился, Николай нерешительно взглянул на жену.
– Как же я рада! – воскликнула Софи. – И как боялась, что он прикажет бросить тебя в карцер, едва только выздоровеешь!
– Ох, наверное, лучше бы так… – вздохнул Озарёв.
– Почему?!
Он, ничего не ответив, снова улегся, а Софи не стала переспрашивать, опасаясь, что наконец-то обретенное ими равновесие может быть нарушено вырвавшимся у него искренним признанием…
* * *
Пройдя Верхнеудинск, караван сменил тракт, по которому ехали почтовые тройки, на извилистую, устремившуюся к югу дорогу. Равнина то и дело вздымалась довольно близко стоящими один к другому, поросшими лесом холмами. В небе собирались серые тучи. Потом начался дождь – мелкий, монотонный, пронизывающий насквозь. Скоро он полил как из ведра, и простор коричневато-зеленой глади почти сразу же прорезали сотни ручейков. Их светлые ленточки возникали в самом причудливом порядке, переплетались, весело растекались вширь и вдаль. Николая и Софи защищал от дождя непромокаемый верх тарантаса, но за поворотом им вдалеке открылась колонна: каторжники шагали под ливнем, меся ногами грязь и вжав в плечи головы, вокруг которых образовались нимбы из серебристой водяной пыли. Николаю стало стыдно: валяется тут в относительном тепле и сухости, а его товарищи все как один мерзнут и мокнут. Он уже три раза пробовал выйти из экипажа, чтобы присоединиться ко всем, но вынужден был возвращаться, потому что коленки не держали, голова кружилась, а сердце, готовое выскочить из груди, билось неровными сильными толчками. Софи потихоньку попросила доктора Вольфа выбранить мужа за легкомыслие, и тот с удовольствием выполнил просьбу, взяв после этого со своего пациента обещание не предпринимать больше никаких подобных действий. Тот изнывал от тоски, но лежал смирно и только глядел едва ли не с завистью на расплывающиеся вдали силуэты друзей. Конвоиры обмотали ружья тряпками и надели чехлы на кивера. В первой шеренге арестантов, как обычно, шел маленький Завалишин, весь в черном. Он нес огромный зонт, под который пристроились, с трудом уместившись в таком тесном пространстве, справа – княгиня Трубецкая, слева – княгиня Волконская, обе – замотанные в платки и пледы. Следом – под балдахином, представлявшим собой, впрочем, не что иное, как вытертое пикейное покрывало, поднятое на четыре палки по углам, – шествовал напоминавший восточного властителя гигант Якубович. Другие, не так стремившиеся выделиться, прикрывали голову от водяных струй самодельными навесами, сделанными из крышек от ящиков или простой мешковины, и только наиболее отважные рискнули двинутьcя в путь под таким ливнем, ничем не прикрывшись, а потому по головам их струились потоки, рубашки же так прилипли к телу, что, казалось, проберет несчастных до костей, и простуды неминуемы… Позади всех тащились повозки. На каждом ухабе, на каждой неровности дороги тенты, закрепленные над пассажирами, принимались мягко покачиваться справа налево и обратно на неустойчивых гибких дугах, напоминая чудовищных размеров кринолины…
– Знаешь, когда дождя не будет, я все-таки попробую хоть несколько шагов пройти в строю, с товарищами, – сказал Николай.
– Даже и не думай! – отрезала Софи. – Ты еще недостаточно крепок для пешего хода!
– Но как я выгляжу – в тарантасе, рядом со своей женой – в то время как мои друзья…
Он внезапно умолк, не закончив фразы, смущенный тем, что впервые решился произнести слова «моя жена», говоря о Софи. Впервые с тех пор, как… да, впервые… Софи же, догадавшись, чем вызвано смущение мужа, испытала разом раздражение и умиление. Что за странная смесь! Но столь прямой намек и ясный, светящийся любовью взгляд Николая мигом словно бы отбросили ее в те времена, когда семейный союз Озарёвых скрепляла чувственность, а казалось-то, казалось, будто она сама, во всяком случае, давно позабыла, что это было такое… Софи устыдилась вдруг пробудившегося желания, одновременно и разозлившись на то, что с нею подобное случилось, и растрогавшись: бедный, бедный, он ведь, этого не скроешь, настолько боится не угодить любимой женщине, что не решается даже посмотреть на нее откровенно по-мужски. Держится на расстоянии, подавляет, душит в себе все эмоции, донельзя счастливый уже оттого, что ему разрешено находиться рядом после такого ужасного преступления…
Остановившись в сырой лощине меж двух поросших ельником и серебрившихся водопадами холмов, разбили лагерь. Незнакомый бурят принес в отведенную под лазарет юрту деревянную мисочку со свежей лошадиной кровью, Николай, не поморщившись, но испытывая отвращение, как обычно, выпил все до дна. Красные капельки повисли на отросших светлых усах. Он вытер тыльной стороной кисти губы, затем провел ладонью по щеке… уже не колко: побег, болезнь – он даже и не подстригал бороды Бог знает сколько времени! Не меньше месяца…
– Надо бы побриться, – прошептал больной.
– Зачем? – удивилась Софи. – Так ведь намного лучше! Ты такой красивый с бородой! – выпалила она напоследок и густо покраснела, надо же так сболтнуть, не подумав. Но эти его зеленые глаза в сочетании с рыжеватой – смесь золота с медью – бородкой делали русского дворянина похожим на витязя из сказки. А эти длинные волосы!.. Точно такая стрижка была у Николя, когда они познакомились – в другой жизни, в Париже!.. Теперь смутилась она – как девушка, перед которой оказался прекрасный незнакомец. И от смущения принялась хлопотать – так легче взять себя в руки. Вынула зачем-то вещи из сундука, снова сложила, сбегала с кастрюлькой на полевую кухню: не пора ли дать больному ужин…
Ужин!.. Николай поедал свою жидкую рисовую кашку с трогательной жадностью. Попозже вечером к ним заглянул Фердинанд Богданович, осмотрел пациента и остался доволен тем, как выглядит больной, как идет процесс выздоровления. Дождь не переставал, в наступившей темноте по войлочным стенам юрты хлестали водяные струи, стены эти сотрясались от порывов шквального ветра. Софи взялась стелить: между раскладными кроватями супругов на ночь ставилась ширма, и они начинали существовать раздельно, так что, дав мужу лекарства и уложив его, можно было отправляться на свою половину, где спокойно раздеться и нырнуть под одеяло. Она успела это сделать как раз вовремя: тут же и прозвучал сигнал отбоя – пора было везде, по всем палаткам и юртам, гасить свечи…
В темноте они на расстоянии пожелали друг другу спокойной ночи. Теперь, когда Николай был вне опасности, Софи уже не боялась, что ночью ее разбудит его жалобный стон, сколько раз так бывало в начале болезни… Но она все равно долго не могла заснуть: прислушивалась к тому, как ровно и глубоко он теперь дышит, как слегка похрапывает – ну, до чего знакомые звуки!.. Софи улыбнулась. Лежа с открытыми глазами, она слушала дождь – теперь вода стекала по стенкам тише, слушала потрескивание шестов, поддерживавших крышу, ночные шорохи и шелесты возбуждали, подхлестывали ее фантазию, будили память… Вот скоро, уже совсем, наверное, скоро Николя выздоровеет, и он снова станет здоровым человеком, мужчиной… и он сможет встать, и он придет к ней вот в такую же темную ночь… и… и… и обнимет… и сожмет ее в объятиях так крепко… он снова будет такой сильный… А она? Ей как тогда поступить?.. Ей надо опять оттолкнуть его или?.. Нет, нет, нет, она не знает, чего теперь хотеть, чего опасаться…
На рассвете, с первой же барабанной дробью вдалеке, Софи вскочила на ноги. Выглянула из-за ширмы. Николя не шевелится, глаза закрыты, значит, еще не проснулся. Она может спокойно вымыться с головы до ног в тазике – вон целое ведро горячей воды, причесаться, одеться – тут, у себя, за ширмой. Плескалась она с какой-то удивившей ее самое веселостью, а когда стала укладывать волосы, – подумав, выбрала новую, виденную в свежем журнале мод прическу: заплела косы туже, чем обычно, и уложила тяжелым узлом сзади, почти на затылке… Посмотрелась в зеркало: хм, хороша, чертовка! Никаких следов бессонной ночи! И прическа эта ей явно идет… Дождь к утру прекратился, и она сменила свое обычное серенькое платьице на пунцовое с муслиновой безрукавкой. Ей показалось, что в этом новом наряде и дышится легче, и движения более свободны.
Софи на цыпочках вышла из-за ширмы и приблизилась к мужу. Он только что проснулся, волосы были растрепаны, зато губы в золотистом окружении бороды и усов расплылись в счастливой улыбке, белые зубы блестели.
– Какая ты красивая! – прошептал Николай.
Она притворилась, что не услышала комплимента и стала торопить его с умыванием, дала утреннюю дозу лекарств, помогла одеться. В соответствии с предписаниями врача и после всего этого ему все равно полагалось оставаться в постели. В путь они должны были отправиться только в два пополудни, иначе каретники и тележники не успели бы починить в повозках все, что вышло из строя на предыдущем этапе дороги. Слуга-бурят принес кипяток для того, чтобы можно было заварить чаю, и по три ломтика белого хлеба на каждого. Софи открыла баночку с вареньем, приготовила бутерброды и с нескрываемым удовольствием смотрела, как Николай уписывает их за обе щеки. Правда, спохватившись, сделала вид, что забавляется, глядя на мужа-обжору. Едва прикончили завтрак, на пороге возникла Александрина Муравьева – навестить больного и узнать о его самочувствии. Софи догадывалась, что эта умная, великодушная и сдержанная женщина сочувствует ей, что Александрина – союзница белой вороны, изгойки, каковой сама она, «подруга» крепостного, жена беглеца, с недавних пор стала в глазах остальных декабристок. Не прошло и десяти минут, и заглянул – якобы случайно – доктор Вольф. Фердинанд Богданович показался Озарёвым более живым и речистым, чем обыкновенно. Он постоянно косился или исподтишка бросал взгляды на Муравьеву, чтобы понять, одобряет ли она тот или иной анекдот. Их дружба куда больше напоминала любовь, хотя упрекнуть в чем-либо эту пару не решился бы и самый придирчивый моралист. Да и им самим вроде не в чем… Ушли они вместе, и Софи проводила их с порога юрты дружелюбным взглядом. Молодая женщина опиралась на руку доктора, они шли – в солнечных нимбах – по высокой траве, окруженные легкими облачками пара: земля курилась после дождя… Сердце Софи словно бы расширилось и забилось веселее, на нее словно бы снизошло вдохновение, она поняла, что хочет жить и радоваться жизни, она тоже… как другие!
Чуть позже она заметила, что к их юрте движется группка заключенных – все друзья Николая. Лепарский снял запрет на свидания, и они решили воспользоваться этим, чтобы навестить больного товарища. Софи смутилась, когда они зашли, не знала, как себя вести, принимая людей, только что осуждавших ее поведение. Но гости не проявляли по отношению к ней ни малейшей враждебности, никак не реагировали на некоторую нервозность хозяйки и вообще были исключительно любезны. А ведь мужчинам, конечно, хотелось поговорить между собой, им всегда этого хочется… Софи взяла книжку и уселась с ней на траву у входа в юрту. За стенкой она слышала грубые, хрипловатые голоса вперемешку со взрывами смеха. Явно делятся дорожными приключениями. А смеются так дружно, так весело и заразительно, что Софи и сама улыбнулась, глядя поверх оставленной страницы…
К обеду созвали очень рано, а пообедав, отряд снова двинулся в путь: этап предстоял коротенький, всего двенадцать верст, после него – селение Тарбагатай, где жила колония старообрядцев, которых называли еще староверами. Говорили, что предков этих людей изгнали из России в Сибирь царицы Анна Иоанновна и Екатерина Великая… Вытянувшись на дне катившего со скрипом и постаныванием тарантаса, Николай объяснял Софи, что люди, которых им предстоит увидеть в Тарбагатае, никакие не сектанты, а раскольники. Они отказались подчиниться проводившейся патриархом Московским и Всея Руси Никоном реформе, заключавшейся в том, чтобы исправить богослужебные книги по греческому образцу и установить единообразие церковной службы: двоеперстное крестное знамение заменялось на троеперстное, вместо «Исус» следовало говорить и писать «Иисус», наряду с восьмиконечным крестом признавать четырехконечный… Не такие уж серьезные меры, по существу, но раскольники не желали потерпеть и этого: для них даже ошибки переписчиков старинных книг были священны, потому как и на эти ошибки опиралась вера их предков. Отлученные от церкви, преданные анафеме, изгнанные царскими войсками с насиженных мест, тем не менее они продолжали селиться по всей обширной территории России. Воодушевление, с которым Николя излагал эти исторические факты, восхищало Софи и напоминало ей тональность их прежних разговоров.
В беседе они и не заметили, как была пройдена половина назначенного этапа пути, затем Лепарский приказал остановиться на берегу реки, которую нужно было перейти вброд. Пешеходы, всадники и первые тарантасы легко преодолели препятствие, но тяжело нагруженные повозки с багажом немедленно увязли в тине. Софи с Николаем спустились на землю и подошли к столпившимся на берегу арестантам. В самом критическом положении находилась застрявшая ровно посередине потока огромная колымага, на которой везли принадлежавшие декабристам фортепиано и другие музыкальные инструменты, – она покосилась набок, брезентовый верх срывало ветром, того и гляди, все рухнет в воду. Не лучше было положение и у стоявшего позади нее фургона, где поместили часть библиотеки. Бывшие каторжники из уголовных вместе с бурятами суетились вокруг, вода доходила им до бедер… А меломаны на берегу только что не рыдали:
– Они же не знают, как за это браться! Они все погубят! Они перевернут эту дуру! Сейчас все свалится в реку!
– Никогда, никогда нам больше не увидеть нашего рояля!
– А книги, книги! Господа, как же книги! – надрывался Муравьев. – О чем вы думали, когда грузили! Боже мой, Боже мой, как же мы теперь будем жить – без книг!
Лепарский метался по берегу и призывал всех этих перевозбудившихся умников к спокойствию. Некоторые из «умников», не обратив внимания на прочувствованные речи коменданта, засучили брюки и полезли в воду.
– Назад! – вопил генерал. – Не ходите туда!.. Там опасно!.. Там могут быть омуты! Водовороты!.. Господа! Господа-а-а!..
Никто его не слушал. Вскоре вокруг находившихся под угрозой сокровищ собрались почти все. Николай горевал, что не может принять участия в спасательных работах: Софи не пускала, повиснув на нем гирей. Там, в бурлящей реке, уже запрягли в перегруженные повозки по восьмерке самых могучих лошадей, животные тянули изо всех сил, люди упирались плечом в борта повозок, подталкивали их сзади… При каждом толчке звенели струны фортепиано и гитар, брякали медные тарелки… Можно было подумать, что маленький оркестр, закрытый в ящике, взбунтовался, не желая тонуть. После долгих и всеобщих мучений раздалась, в конце концов, победная какофония, в которой к уже привычной «инструментальной музыке» прибавился скрип осей и колес: колымага выбралась из топи и двинулась к берегу, за ней последовал и фургон с книгами. «Некоторые, те, что внизу пачек, должно быть, намокли, – тоскливо подумал Николай, но эту мысль тут же сменила другая, радостная: – На солнце они быстро высохнут и не успеют испортиться!»
Заключенные спешили вернуться на свои места в колонне.
Горы с голыми вершинами и покрытыми черным лесом склонами, занимавшие весь горизонт, постепенно стали ниже, исчезали из пейзажа крутые обрывы, скалы с острыми углами абриса… Холмы теперь имели мягкие очертания, казались пушистыми… Но вот за очередным поворотом дороги открылись подходы к селению, очевидно, богатому и процветающему: ухоженные поля с чередованием зеленых, желтых и коричневых прямоугольников; рощицы с удобными выгонами для скота и – новехонькая, чистенькая деревня с просторно расставленными избами, в которых поражали непривычно здесь высокие – без лестницы не дотянешься – окна. Не верилось, что ты в Сибири, в деревне староверов, вполне можно было подумать – в имении близ столицы, поместье с отлично налаженным хозяйством.
Было воскресенье. Все жители села, надевши праздничные наряды, вышли встречать каторжный караван. Бородатые мужчины в синих кафтанах, перепоясанных ярко-красными кушаками, дородные женщины в шелковых сарафанах, а поверх – в душегрейках с собольими воротниками, на головах национальные головные уборы – кокошники, шитые золотом и украшенные стеклянными бусинками, один другого лучше… Все молодец к молодцу, красавица к красавице – рослые, белолицые, румяные. Даже и не сибиряки на вид, а подмосковные или ярославские поселяне… Седобородый старик исполнил ритуал гостеприимства: предложил генералу Лепарскому отведать с деревянного подноса хлеба-соли.
Лагерь разбили на общинном лугу. Софи раскладывала по местам вещи в отведенной под лазарет палатке, когда туда быстрым шагом вошел комендант. Шляпу он держал под мышкой, в движениях был резок и что-то бурчал на ходу. Остановившись перед Софи, он объявил, что, судя по медицинским рапортам, больной больше не нуждается в услугах ночной сиделки.
– Стало быть, вы вернетесь к другим женам арестантов и будете с сегодняшнего дня ночевать в общей палатке, – заключил он.
Она на секунду замерла, не в силах понять смысла услышанного и масштабов запрета. В силу внезапности перемена в положении показалась ей мерой, призванной лишить ее чего-то существенного, ущемить в правах. И тут же она подумала о том, как ее встретят женщины, эти злобные и чванливые существа.
– Ну а днем… Днем я смогу видеться с мужем? – спросила она нерешительно.
– Естественно! – пожал плечами Лепарский. – Вы будете с мужем в дороге, будете ухаживать за ним, пока светло, но к вечеру, как только услышите сигнал «погасить огни», – отправитесь, как сказано, в общую палатку.
Наверное, ему пришлось уступить – а как не уступить, когда на тебя наседают эти ведьмы, все время чего-то требующие!
Комендант ушел, Софи подошла к мужу. У Николая были глаза обиженного ребенка. От его растерянного вида к ней почему-то вернулась веселость.
– Послушай, – сказала Софи, – но ведь ты действительно во мне уже почти не нуждаешься!
Он не ответил, только еще больше расстроился, даже лицом потемнел. А Софи стала с удовольствием поддразнивать его – вплоть до минуты, когда надо было расставаться. И только совсем почти на пороге у нее так нестерпимо сжалось сердце, что улыбка сама собой сползла с лица и не захотела возвращаться. Они долго простояли не шевелясь, молча, не сводя друг с друга глаз. В грустных этих «гляделках» победил Николай: не выдержав силы его взгляда, Софи отвернулась и перешагнула порог.
О ее сундуках еще раньше позаботился бурят, так что шла она налегке. Оказавшись перед бывшим своим пристанищем, увидела у входа и бывших сожительниц, как обычно, сидевших словно бы на завалинке и перемывавших косточки знакомым. Такие у них всегда вечерние посиделки! Софи не верила в их мирные намерения, улыбки на лицах дам казались ей фальшивыми, и она двигалась вперед настороженная, готовая к отпору сразу же, как ее царапнут их острые коготки. «Тихо сидят, никак себя не проявляют, смотрят с сочувствием…. Наверное, Александрина Муравьева, пока я иду, их урезонивает…» Подошла…
Дамы с таким участливым вниманием принялись расспрашивать вернувшуюся под общий кров подругу, что Софи подумалось, а не поднялась ли она в их глазах, ухаживая за Николя. Екатерина Трубецкая даже до того дошла, что поинтересовалась состоянием «ее» больного! Потом заговорили о будущем обустройстве в Петровском Заводе, который поставил перед большинством декабристок массу проблем. Принявшие решение не строить своего дома, обсуждали, смогут ли снять комнату или несколько комнат поблизости от тюрьмы и что там будут за условия. Софи не принимала участия в разговоре: она была слишком взволнована, ею владели слишком противоречивые чувства, чтобы она могла найти хоть какое-то решение столь серьезной проблемы. Впервые в жизни ей вообще не хотелось ничего знать наперед, пусть уж события сами продиктуют, как себя вести и что делать. Еще обсудили предстоявший вскоре приезд баронессы Розен, госпожи Юшневской и мадемуазель Камиллы Ле Дантю, невесты Ивашева. Решили, что все они – «прекрасные женщины», поскольку – подобно им самим, уже спустившимся с небес «ангелам», – не побоялись бросить все, пожертвовать всем, что имели, ради того, чтобы воссоединиться в Сибири с «мужчинами своей мечты». Но – разве можно в этом сомневаться? – правил без исключений не существует! Елизавета Нарышкина произнесла эти слова, выразительно поглядев на Софи. Укол был болезненный, но такой неуклюжий, что Софи не удостоила ответом. И до наступления ночи в ее адрес больше не прозвучало ни единого намека.
На небо высыпали мириады звезд, и, как это свойственно дамам во все века, подобное чудо мигом настроило женщин на романтический лад. Они замолчали, принялись дружно вздыхать, каждая ударилась в мечты, по возрасту, пожалуй, ни одной не соответствовавшие… Дети и мужчины давно уже заснули, огни лагеря постепенно угасали между палатками и юртами, где-то вдалеке перекликались часовые, с опушки леса донесся приглушенный вопль какого-то зверька… или даже зверя… Наконец, Мария Волконская поднялась и первой ушла к себе. Остальные последовали ее примеру. В темноте, на ощупь, разделись, задевая порой стенку палатки локтем или коленом, улеглись. Софи сделала это последней.
Лежа между Натальей Фонвизиной и Елизаветой Нарышкиной, она думала о Николае, который остался в палатке-лазарете один, только желтолицый бурят дежурил снаружи у входа на случай, если надо будет в чем-то больному помочь или чем-то ему услужить. Она попыталась убедить себя, что в нынешнем ее отношении к мужу нет ничего, кроме естественного участия, заботы, присущей любой сиделке, но тут же и почувствовала, как к этому естественному участию примешивается удивительная для нее самой, совершенно сумасшедшая нежность, как накрывает ее волной, затопляет… а вот и затопила совсем…
На рассвете, быстро одевшись и причесавшись, она побежала к мужу. Ну и чудеса! Николай поджидал ее, живой и на вид совсем здоровый, не способный скрыть бурной радости по поводу того, что снова видит Софи. Она немедленно замкнулась, ох, поистине это сильнее ее: всякий раз, как Николя делает шаг навстречу, она отступает ровно на столько же! Они вместе позавтракали, после чего, поскольку день был свободный от дел, вышли погулять по лагерю. Софи гордилась тем, что прохаживается под руку с Николаем – идет вот так на глазах у всех… у всех дам, которые так оскорбляли, так поносили ее.
Староста Тарбагатая пригласил заключенных посетить деревню, Лепарский не возражал. Вскоре на главной улице появился отряд любопытных, которым поход представлялся замечательным развлечением. Дамы с мужьями шли парами. Проводником вызвался быть крепкий сорокалетний мужик, но для проформы декабристов и их жен сопровождал конвой из шести вооруженных солдат. Тарбагатай оказался большим богатым селом с просторными домами, некоторые – в два этажа, кое-где дома были выкрашены веселой голубой краской. Многие дома с резьбой: разноцветными звездочками, квадратиками и репейками. Большие высокие окна с двойными рамами обрамлялись резными же, ярко раскрашенными наличниками и зелеными ставнями, крыши везде были тесовые, крыльца – крытые и тоже с резным орнаментом, ярко, пестро, радостно, но со вкусом разрисованные. Во дворах под навесами стояли кованые телеги, сбруя на конях виднелась сыромятная, сами кони выглядели крепкими и сытыми, шерсть лоснилась. Внутри домов настоящие горницы со сделанными, похоже, из теса, но навощенными, что твой паркет, полами, мебель стояла деревянная, тоже крепкая, как и ее владельцы, выкрашенная масляной краской. В любом, куда ни зайдешь, доме – печь-голландка с фаянсовыми изразцами.
Мужик, взявший на себя роль проводника, спросил, обратили ли гости внимание на то, как расположены дома, и пояснил, что искони старообрядцы уделяют выбору места особое внимание, полагаясь на советы священных своих книг, например, такой: «…дом не ставить туда, где может быть сильный ветер, поэтому лучше всего под горой в низине ставить, а не на самой горе, не в самой низине и уж не в темном овраге, но на месте таком, где дом овевает здоровый воздух и очищает все так, чтобы не было бед; да лучше бы место такое, где солнце стоит целый день, потому что тогда и черви, если они зародятся и нездоровая сырость распространится, ветер такой разнесет их, а солнечный жар уничтожит и высушит».
Однако при всем этом изобилии, при всей этой красоте гости увидели всего одну деревянную часовню уже где-то на околице села, и скромный ее облик поражал контрастом с богатством жилых домов. Проводник снова пустился в объяснения и сообщил, что у староверов не бывает священников, что они молятся по древним книгам, сохранившимся со времен до реформы Никона: «Что старо, то свято; что старее, то правее; что исстари ведется, то не минется; ветхое лучше есть», – для молитвы же оборудуют специальные дома, некоторые устраивают молельные комнаты в своих домах, что почитают они очень древние образа, что Крестный ход у них происходит в обратную сторону, а вместо попа выбирают они среди своих человека, который читает им вслух священные тексты. В дни, называемые «родительскими», женщины из каждого дома нагружают двухколесную тележку-одноколку печеным хлебом, булками, калачами и так отправляются в молельную. Здесь, после часов и панихиды, их ожидают старики и старухи победнее, иногда коренные сибиряки, иногда поселенцы, тоже с одноколками, но только пустыми, и им раздается все привезенное.
По правилам общины, никто не имеет права брить бороду, курить, пить вино или чай, принимать «химические снадобья», позволять делать себе прививку от оспы… Да им это и не надо, молитвою своей живут долго и в полном здравии, поддерживая свою крепость и силу постоянным трудом и здоровою пищей. Декабристы и их жены узнали, что местные жители в мясоед едят говядину или свинину, в пост – рыбу. Набожность, почитание всякой работы, умение правильно хозяйствовать и экономить привели к тому, что здесь не знают бедности, напротив, многие весьма зажиточны. «Не только в домах наших и амбарах видны довольство и богатство, – с гордостью добавил проводник, – но и в сундуках хранятся капиталы…» На вопрос, каким же образом староверы накапливают свои капиталы, он ответил: продавая китайцам звериные шкуры и зерно.
– Что же, все села поблизости так процветают? – спросил Николай.
– Староверские – процветают, – все с тою же гордостью ответил мужик.
– А другие почему нет?
– А другие не встают на зорьке, чтобы выйти в поле, потому что от кваса у них голова тяжелая, потому что время заполняют куревом, потому что не умеют откладывать гроши…
– Сколько же вас тут, староверов?
– Не знаю… Может, десять тысяч… может, двадцать… На полсотни верст в округе вы везде наших встретите!
Затем он рассказал, как старообрядцы боготворят землю-матушку, как исповедуются ей, как молятся ей: «Земле мы поклоняемся, земле хвалу поем, землю слезами мочим, земля нам поддержка во всем, только она нас держит, только она нас кормит, детей наших растит. От земли мы идем, к земле придем. Она одна наша надежда во всей жизни. Мы говорим: хвала тебе, труд! Ты нас держишь в жизни и кормишь, в тебе наше утешение от горя и страданий, ты погибель для всех, кто тебя не любит, ты радость для всех, кто с тобой дружит…»
Слова древнего предания «семейских», как называли себя местные староверы, произвели на посетителей сильное впечатление. Крестьяне охотно вступали в любые разговоры с ними, в том числе и религиозные – с теми из декабристов, кто хорошо знал церковную историю. Гостям стало известно также, что многие из зажиточных староверов выписывают и читают журналы, интересуются современностью.
Когда прогулка в Тарбагатай заканчивалась, здешние богачи пригласили гостей выпить вместе – нет, конечно же, не вина и не чаю, который считался тут дьявольским настоем, ведь сказано где-то в Писании: «Кто пьет чай, тот от Бога отчаен», – а хотя бы сбитня, горячего напитка на меду, который просто не может быть неугоден Господу. Декабристы разбились на шесть групп, и каждая под водительством одного из солдат-конвоиров отправилась в «свою» избу.
Николая и Софи принимал восьмидесятилетний старик по фамилии Чабунин. Его окружали сыновья, внуки и правнуки, младшему из которых было семнадцать лет. Всего в доме собралось двадцать пять бородачей, некоторые – с сединой или проседью, с лицами в морщинах, согбенными спинами, другие – розовощекие, с шелковистым пушком на подбородке. Все были похожи друг на друга: низкие лбы, курносые носы. За столом, кроме приглашенных, – никаких женщин. Дочери семейства, все в бантах и лентах, упитанные, потупив глаза, подавали сбитень в стаканах с серебряными подстаканниками. Однако пить никто не начинал – ожидали главу этого семейного клана. Когда он наконец появился, все встали. Это был отец хозяина дома – ста десяти лет от роду. Худое морщинистое лицо, длинная белая борода. Но шел, не опираясь на костыль или посох, за поясом был заткнут топор, хотя, как оказалось, старик давно уже не работал со всеми остальными, только будил на работу внуков.
Восьмидесятилетний сын уважительно поклонился и провел его на почетное место, старик иссохшей рукой благословил присутствующих, сел, поднял свой стакан и предложил выпить за здоровье скорбящих. Кто-то спросил, помнит ли он свой приезд в Тарбагатай.
– Да как же мне не помнить-то? – удивился старец, голос которого чуть дребезжал. – В 1733-м, когда моих родителей сюда прогнали из России, мне уже тринадцать сровнялось, – это при царице Анне Иоанновне было. Тогда целые деревни в наших краях отказались молиться по-новому, как Никон повелел. Ну и пришлось нам бросить все нажитое, погрузить какой-никакой скарб на телеги – и пешкодралом в Сибирь… Шли месяц за месяцем – конца не было видно нашей матушке России. А как до Верхнеудинска дошли, нам тутошний начальник, что от правительства сидел в городе, сказал, что вышло решение селиться нам по реке Тарбагатай и что нас освобождают от податей аж на четыре года. Мы пришли сюда – тут была пустыня. Построили дома, стали возделывать землю, семьи наши росли, и жили мы здесь, как Господь повелел. И Господь вознаградил нас: Господь вознаграждает всех, кто трудится. Когда мы только начинали тут все осваивать, за труд работнику платили всего-то по пятаку в день…
Он говорил долго, но ни разу не запнулся ни на цифрах, ни на датах. А потом внезапно глаза его погасли, подбородок мелко задрожал, и одному из сыновей пришлось увести старца в другую комнату.
Оказавшись снова на улице, Николай сказал Софи:
– Как ты думаешь, не знаменательно ли, что потерпевшие крушение встречаются здесь, в Забайкалье? Те, кто потерпел крушение из-за политических идеалов, с теми, кто, вопреки гонениям, остался верен своим идеям религиозным? Ведь в том и другом случаях речь идет о людях с совестью! Знаешь, мне кажется, что, вынося несправедливые приговоры, цари как нельзя лучше служат интересам Сибири, что и сейчас, в настоящем, обездоливая несколько десятков порядочных людей, государь способствует будущему процветанию целого огромного края, что, совершая, по мнению современников, ошибку, он выигрывает в глазах грядущих поколений… Разве можно взвешивать на одних весах величие государства и счастье его подданных? Возможно, сильной нация становится, лишь переживая беззаконие, давление, рабство? Возможно, ради того, чтобы Россия выполнила свое историческое предназначение, тысячи и тысячи таких, как мы, людей должны быть сосланы в пустыню? Но ведь это чудовищно, Софи!
Муж выглядел таким взволнованным и возбужденным, что Софи испугалась: первый выход из лазарета и без того должен был утомить его, еще только начавшего выздоравливать. А вдруг у него опять поднимается температура, вдруг его снова станет трепать лихорадка? Солдаты принялись строить арестантов, чтобы вести их в лагерь. Построились, двинулись. Софи взяла Николая за руку. Он постепенно успокаивался. Всю дорогу она исподтишка наблюдала за мужем – заботливая, встревоженная его состоянием, счастливая…
6
Лепарский уселся на траву под раскидистым дубом и пригласил дам занять места вокруг. Они засуетились, но вскоре все уже расположились, как кому удобно, приняв более или менее красивые позы и с любопытством глядя на генерала. Тот мигом почувствовал себя помещенным в центр невероятной клумбы: раскинувшиеся по кругу купола широких юбок, напоминавшие гигантские цветы разных оттенков, создавали именно такое впечатление… Очарованный этим красочным зрелищем, любуясь юными лицами, выражавшими напряженное внимание, Станислав Романович на минутку даже и забыл, что собирался сказать супругам «своих» арестантов, но потом все-таки взял себя в руки и произнес вполне официальным тоном:
– Сударыни, как вам известно, наше путешествие подходит к концу. Согласно моим расчетам, мы прибудем в Петровский Завод дней через десять. Потому мне как коменданту тюремного учреждения пора уже разобраться в некоторых проблемах, связанных с размещением заключенных и их семей. Кто из вас желает поселиться в камерах мужей? Сейчас я сделаю перекличку, и каждой из вас достаточно будет ответить «да» или «нет»…
Он вытащил из кармана исписанный листок бумаги и прочитал:
– Княгиня Волконская?
– Да.
– Княгиня Трубецкая?
– Да.
– Госпожа Муравьева?
– Да. Но, ваше превосходительство, это, конечно же, не помешает нам иметь дом неподалеку? Дом, где будут жить наши дети, куда мы сможем возвращаться, когда нам заблагорассудится…
– Разумеется, не помешает. Это четко определено регламентом нашего пенитенциарного заведения. Госпожа Анненкова?
– Да.
Кое-кто произносил это «да» стыдливо, другие – с гордостью. Софи ждала своей очереди.
– Мадам Озарёва?
Все взгляды обратились к ней, острые, словно булавки, нацеленные на подушечку, для них приготовленную.
Она постаралась усилием воли унять бешено забившееся сердце и сказала твердо:
– Да.
Комендант одобрительно улыбнулся, Софи в ответ слегка покраснела. Ее фамилия была записана последней, больше спрашивать было некого, и перекличка закончилась. Ни одна из дам не ответила «нет».
– Отлично, – сказал Лепарский, – нисколько не сомневался, что услышу именно такие ответы! Теперь нам остается урегулировать еще один вопрос. Некоторые из вас строят в Петровском Заводе дома, и им придется обставлять их, налаживать там хозяйство, другие захотят поставить в камере, которую станут делить с мужьями, для начала, по крайней мере, ту мебель, что везут с собой. Стало быть, вам самим, равно как и телегам, куда в Чите были сложены ваши вещи и все ваше движимое имущество, придется несколько опередить колонну, чтобы вы могли обустроиться к нашему приходу. Мы перестроимся, вы поедете впереди, я прикажу шести верховым казакам сопровождать тарантасы, которые вам оставлю, и телеги с багажом, а лейтенанту Ватрушкину будет поручено командование передвижениями.
Дамы пришли в восторг от услышанного. Хоть княгиня, хоть простолюдинка – любая женщина только и мечтает об уюте домашнего очага. И здесь тоже у всех сразу же загорелись глаза от перспективы снова заняться хозяйством, налаживать быт, и они принялись пылко благодарить генерала. Софи не разделяла общего энтузиазма, но подражала другим, чтобы не выделяться. А на деле с печалью думала о неминуемой разлуке с мужем из-за предложенного опережения. «Для них десять дней – пустяк, но не для меня же!..» – отчаивалась она в сердце своем, сама себе удивляясь. К ней будто бы молодость вернулась! Лепарский явно расцветал в кругу красивых женщин. Все встали. Мария Волконская взяла генерала под руку с одной стороны, Катерина Трубецкая – с другой. Первая была высокой и тонкой, вторая – маленькой и пухленькой. Зажатый между ними, комендант походил на самовар, поставленный между двух букетов. Вернулись в центр лагеря, чтобы объявить новость мужьям. Поскольку ни один из женатых декабристов не умел хозяйничать, да и не интересовался бытовыми проблемами, они не разделили восторга жен. Некоторые спрашивали даже, а зачем эта предварительная экспедиция, насколько она может быть полезна. Правда, получали в ответ такие аргументы, что умолкали, ибо возразить было нечего. Пока остальные спорили, Николай увлек жену за чью-то палатку и прошептал взволнованно:
– Ну а ты? Ты тоже с ними уедешь?
– Разумеется, – ответила Софи.
– Зачем?
– Странный вопрос. Нашу камеру тоже надо обставить!
– Значит… значит, ты будешь жить со мной?!
Софи собрала все силы, чтобы казаться естественной, и повторила с деланым безразличием:
– Разумеется…
– О! Софи!
Он схватил руки любимой и осыпал их поцелуями. Софи не отнимала рук, не мешала ему, глаза ее были полны слезами, она задыхалась, плохо понимая, что с ними происходит. Однако мгновение спустя громкие голоса вывели ее из оцепенения. Оказалось, что их, не переставая кудахтать и щебетать на все лады, окружили дамы. Николай с сожалением удалился. А Софи все-таки понадобилось еще несколько секунд, чтобы вникнуть в слова Александрины Муравьевой:
– Теперь мы поедем намного быстрее. Думаю, дня за два, за три доберемся до Петровского Завода. То есть у нас останется добрая неделя на то, чтобы подготовиться к приходу наших повелителей. А что нам тут-то делать? Нечего же! Ну так давайте и двинемся через час, Лепарский не возражает. Давайте, медам, поторапливайтесь!..
Софи молча кивнула, на душе кошки скребли, казалось, что удача семимильными шагами от нее удаляется. Но что она может – одна против всех этих женщин, которые так стремятся скорее уехать отсюда? Вскоре, против собственной воли, и она была втянута в вихрь дорожных приготовлений. Пока собирала вещи, которые могут понадобиться в пути и на месте, Николай ходил за ней по пятам. Горе, которого он даже и не старался скрыть, утешало ее: вот, не только ей нестерпима мысль о разлуке, и ему тоже! В конце концов, ее прорвало:
– Николя! Не убивайся так! Это же ненадолго! Увидишь!
Буряты разносили по повозкам довольно скудный личный багаж отъезжающих дам. Мужья крестили жен, целовали детей, которых матери держали на руках. Лица мужчин были серьезны, зато женщины, все как одна, выглядели веселыми: будто радовались домашним хлопотам и заботам, которые ждут их по приезде на новое место. По очереди они вырывались из объятий и садились в экипажи. Только Николя никак не мог выпустить рук Софи. А она внезапно сделала шаг вперед и потянулась к нему. Губы их встретились, он чуть не умер от удивления и счастья. Но вот она уже отвернулась, прошептав:
– Ах, Николя, Николя!.. До скорого! Выздоравливай тут без меня! До скорого, слышишь?
Он еще не успел опомниться, а она уже сидела в тарантасе между Натальей Фонвизиной и Елизаветой Нарышкиной, улыбаясь ему. Лицо ее было затенено полями соломенного капора, узкий белый кружевной воротничок оттенял чуть загоревшую шею… На него нахлынула такая волна любви и нежности, какой он раньше и не помнил. Теперь, после случившегося с ним чуда, теперь, когда он только что вновь обрел Софи, ему стало в тысячу раз страшнее ее потерять! Но не отвыкнет ли она от него за эти бесконечные десять дней разлуки? Люди вокруг него ходили туда-сюда, натыкались на него, толкали, он ничего не чувствовал. Лепарский отдавал последние приказания Ватрушкину, который отныне отвечал за жизнь и благополучие дам. Казаки на лошадях выстроились вдоль экипажей. Лошади ржали от нетерпения. Наконец был дан сигнал к отправке: генерал поднял руку и сразу же резко опустил ее, указывая пальцем вперед – так, будто командовал кавалерийской атакой:
– Вперед!.. С Богом!..
Ответом ему стал скрежет осей. Тарантасы и телеги сдвинулись с места. Дорога была хорошая, и они быстро набирали скорость.
Столпившись перед юртами и палатками, декабристы смотрели им вслед, смотрели, как отдаляются в пронизанном солнечными лучами облаке пыли все женщины лагеря… Дамы махали платочками. Их шляпы, украшенные бантами и перьями, подпрыгивали в такт тряске: ухаб – взлет лент, рытвина – взмах перьев… Вскоре даже самые хорошенькие личики превратились в едва различимые бледно-розовые пятнышки. Николай следил взглядом за Софи, пока ее не скрыла купа деревьев. Потеряв жену из виду, он почувствовал такую слабость, что с трудом устоял на ногах и подумал, не случился ли с ним паче чаяния рецидив болезни. Юрий Алмазов приобнял его за плечи и повел к палатке. Телеги, нагруженные баулами, предметами меблировки, музыкальными инструментами, ящиками и связками книг, вскоре тоже отбыли, и еще долго в лагере были слышны отголоски тяжелого их хода…
* * *
Теперь колонна декабристов шла по густо населенной местности, села были окружены отлично возделанными пашнями, и неудивительно – здесь на пути то и дело попадались старообрядческие деревни. Погода явно портилась, небо хмурилось, но дождь пока не начинался. Николай мог уже пройти с товарищами несколько верст пешком, а когда уставал, его отправляли в тарантас. Товарищи проявляли по отношению к нему, пожалуй, еще более дружеские чувства, чем до его неудавшегося побега и тяжелой болезни. Хотя все, кажется, и были в курсе его размолвки с женой, никто не задавал об этом вопросов. Впрочем, ему и самому теперь уже не верилось, что было ли такое несчастье. Его не покидала уверенность в том, что Софи не изменяла, даже и не думала ему изменять. Прилив любви, которую он чувствовал, служил лучшим доказательством его прежних заблуждений: сердце ошибиться не способно, ни в чем он не может заподозрить свою обожаемую женушку! Сегодня он мечтает о ней так, как мечтал о глотке воды, умирая от жажды на вершине холма. День и ночь, где бы он ни был, что бы ни делал, ее изящная фигурка легким призраком маячила у него перед глазами, и, в зависимости от состояния духа, он то взлетал на седьмое небо, пьяный от предвкушения ожидающего его в Петровском Заводе семейного счастья, то сокрушался, боясь, что Софи за время разлуки от него отвыкнет… Еще ужаснее было в минуты, когда его начинали одолевать кошмары: она ведь может заболеть, стать жертвой несчастного случая!.. Все эти разнообразные мысли кружились у него в голове беспрестанно, в конце концов образовав нечто вроде облака, где нежность смешивалась с желанием, а тревога с надеждой. Юрий Алмазов ни на шаг не отходил от друга. Но Николаю не хотелось исповедоваться, сколь бы преданным тот себя ни выказывал. Только раз, сидя перед бивуачным костром, он признался:
– Знаешь, мне кажется, я иду прямиком в рай!..
И Юрий вздохнул в ответ:
– А я тебе завидую!.. Между нами, я предпочел бы досыта настрадаться из-за жены, вообще из-за женщины, чем не иметь таковой вовсе!
Декабристы-холостяки были убеждены, что в Петровском Заводе, который куда значительнее Читы как промышленный центр, к их услугам будет множество девиц, готовых удовлетворить их все возраставшие аппетиты. Носились слухи, что там, на пустыре за литейным заводом, чего только не происходит!.. Передавая эти слухи, Алмазов посверкивал глазами, в которых загорались похотливые искорки. Николай огорчался, слыша игривые намеки, что, мол, там на всех хватит, ему вообще казалось, что он тут чужой, когда при нем велись разговоры о такого рода шалостях, а что странного: любовь для него находилась вровень с верой. Человек, отдыхающий на берегу, думал он, иначе относится к океану, чем тот, что заплыл достаточно далеко, чтобы уже не видеть земли, и барахтается в волнах…
По мере того, как обоз приближался к цели, нетерпение охватывало даже самых спокойных и уравновешенных из декабристов. Каждый надеялся, что в Петровском Заводе жизнь его пойдет по-другому, по-новому, каждый думал о том, какими будут перемены. Даже те, кого не дожидались там какие-либо существа женского пола, тоже вдруг стали чрезвычайно внимательны к своей внешности. Многие захотели побриться: в дороге порядком заросли щетиной. Но Николай сомневался, стоит ли сбривать бороду, ему казалось, будто так он больше нравится жене. И решил, в конце концов, что лучше уж он, пока Софи сама об этом не попросит, не тронет ни волоса на подбородке.
В шестидесяти верстах от Петровского Завода, согласно дорожному распорядку, колонна, во главе которой стоял Лепарский, соединилась с той, что шла под командованием его племянника. Надолго разлученные арестанты из разных этапов, соскучившись, с радостными криками бросились друг к другу. «Каторжный комплект» декабристов снова оказался под одним началом, к огромной радости узников и облегчению охранников. Декабристы из колонны, вышедшей ранее, рассказали «припозднившимся», что видели на дороге дам, проехавших мимо в тарантасах, и этот рассказ, образ летящих по дороге повозок с дорогими их сердцу существами, вызвал у каждого стремление быстрее дойти до цели. Но генерал, с присущей ему мудростью, отказался менять расписанную буквально по часам программу. Во время последнего ночлега (они расположились близ деревни Кара-Чибир) немногие путешественники, несмотря на усталость, смогли заснуть. Да какой там сон – просто глаз не сомкнули!
На рассвете следующего дня, 23 сентября, все вскочили еще до сигнала и ожидали приказа: «Вперед!» – умытые, одетые, веселые, ноги у них сами просились в дорогу… Быстрым маршем вошли в еловый лес. Лишайник свисал неопрятными, будто у лешего, бородами с высохших ветвей, убегавшая в чащу меж оголенных стволов тропа подозрительного вида, казалось, ведет, в лучшем случае, к избушке Бабы-яги… Постепенно она пошла под уклон, деревья словно бы раздвинулись, и тропа превратилась в дорогу, с обеих сторон которой росли уже не темные елки, а какие-то бесформенные, довольно безобразные кустарники. Но сейчас все, что приближало декабристов к месту назначения, им нравилось, их вдохновляло. А когда, еще ниже, им открылась трясина, откуда торчали лишь стебли камыша и остролистая сорная трава, из передних шеренг послышались крики:
– Смотрите! Смотрите! Там Петровский Завод!
Колонна превратилась в беспорядочную толпу людей, устремившихся к повороту дороги. Николай запыхавшись прибежал последним. У его ног расстилался будто из губки вырезанный пейзаж: в обширной впадине между холмов лежала равнина, разрезанная надвое голубой лентой реки, по одну и другую сторону которой были нанесены грубые штрихи глухо-зеленой и песочно-желтой краской… Посреди обширного этого пространства стоял городок из кирпичных домов, в небо поднимались заводские трубы. Отдельно от городской постройки высилось громадное строение в форме лошадиной подковы, стены – оранжевые, крыша – красная. Едва декабристы увидели это здание, они уже не смогли оторвать от него взгляда. Оно уродовало ландшафт, оно несло в себе какое-то мертвенное спокойствие. Николай прошептал:
– Неужели вот это – для нас?
– А для кого? – невесело усмехнулся Юрий Алмазов. – Разве не узнаешь архитектурный стиль? Простота и надежность. Непременно желтые стены, непременная будка в черно-белую полосу…
Все понурились, все были подавлены. Конечно, они знали, они ждали тюрьмы в конце пути, но за те полтора месяца, что они прожили на открытом воздухе, в условиях относительной свободы, само слово «тюрьма» стало для них пустым звуком, потеряло смысл. И, очутившись перед настоящими тюремными стенами, они пытались оценить степень своего невезения:
– Хм, нам не солгали: окон тут и впрямь нету!
– А почва какая болотистая!
– Комары даже сюда добираются!
– Бог знает что такое!
Нестройный хор жалоб и обвинений привлек внимание Лепарского. Станислав Романович прислушался и побагровел от гнева:
– Вам не совестно, господа? Это же просто замечательная тюрьма! Великолепная! Американцы, и те не построили бы лучше! Увидите, когда окажетесь внутри!..
Речь коменданта была прочувствованной, но никого убедить ему не удалось. Декабристы, уже без всякого куража, снова тронулись в путь. К несчастью, опасения насчет комаров и прочей мошкары оправдались. По мере того, как дорога спускалась вниз, к центру впадины, число насекомых возрастало в геометрической прогрессии. Вокруг каждого путника вилось собственное гудящее облачко, непрерывно слышались хлопки: декабристы шлепками били на себе мошку. Издали можно было подумать, что колонна идет вперед под нескончаемые аплодисменты. Внезапно все остановились. На них, летя к Ониноскому бору, стремительно надвигалась карета. Секундные сомнения, но тут же упряжка была узнана.
– Это наши дамы! – вскричал Юрий Алмазов.
И – ошибся! Две юные особы в нарядных туалетах, сошедшие на землю, были почти никому не знакомы. Сначала даже подумалось: совсем никому, но в эту минуту вперед с радостными воплями рванулись Розен и Юшневский: оказалось, это их жены, с которыми они не виделись больше четырех лет, приехали из Петровского Завода встретить колонну. Розен, натянув сюртук, быстро побежал навстречу, часовые хотели было задержать гиганта, но он стрелой пронесся мимо, схватил в объятия куколку в оборках розовато-лилового шелка, в той самой вуали, в которой он четыре года назад видел в Петропавловской крепости свою жену, и принялся кружить ее вокруг себя. Юшневский тоже прижимал к себе так, что едва ли не косточки хрустели, растерянное хрупкое создание, шляпа которого катилась по земле. Слезы, вопросы, поцелуи, ответы, все вперемешку – растроганным товарищам только и оставалось, что молча наблюдать за сценой встречи, дожидаясь, когда их представят новоприбывшим. Сначала дам познакомили с генералом, потом с каторжниками. Каждый, щелкнув стоптанными каблуками, поклонился и церемонно поцеловал протянутую руку дамы. Представление длилось четверть часа, и каждому узнику обеими женщинами были сказаны одни и те же слова:
– Я вас знаю! Мой муж так много рассказывал о вас в письмах, которые писала за него добросердечная женщина!
Дамы заверили также, что остальные жены декабристов живы-здоровы, чувствуют себя прекрасно и с нетерпением ждут, когда обоз доберется до Петровского Завода. Затем баронесса Розен достала из вышитого саквояжа кипу газет, показала всем и громко произнесла:
– Господа! У меня для вас великая новость! Во Франции свершилась революция!
Новость прозвучала как гром среди ясного неба. После минутного молчания, вызванного всеобщим потрясением, отовсюду раздались крики:
– Нет, не может такого быть!
– Когда?
– Как это произошло?
Баронесса Розен, явно взволнованная эффектом, который произвел припасенный ею сюрприз, проглотила слюну и ответила:
– Еще в конце июля! Карла Х свергли за то, что он покусился на свободу печати и распустил парламент![8] Трех дней баталий хватило! И теперь на троне – Луи-Филипп Орлеанский![9] И он пообещал окружить себя республиканскими институциями!
У Анны Розен был такой вид, будто она отвечает урок. Декабристы впитывали ее слова, наслаждаясь каждым. Потом они взялись за газеты: вокруг каждого листка образовался отдельный кружок. Заглядывая через плечо Алмазова, Николай лихорадочно глотал строчки, все мешалось в его голове, он не очень понимал причины, которыми были вызваны события, свершавшиеся за много тысяч верст от Сибири, но было так чудесно, что именно Франция, вдохнувшая когда-то в них самих страсть к свободе, снова показала пример успешной революции. Где-то на земном шаре люди восстали простив власти, и это лишь первый толчок, думал он. Целительный, благотворный, потому что им готовится сотрясение основ самодержавия в России! Один удар, второй… и постепенно трещина пойдет по всей Европе! И наступит день, когда русский царь, проснувшись, почувствует, что висит над бездной. Да, да, да, это прекрасно, что все исходит из далекой маленькой страны, славящейся красивыми женщинами, виноградниками и отличными книгами! В порыве благодарности Озарёв мысленно перенесся к Софи – так, словно и от нее зависела эта победа Справедливости. Он неизменно приписывал Софи долю участия в любых великих свершениях Франции. «Как она, должно быть, счастлива! – радовался про себя Николай. – Счастлива и горда!» Он мечтал сжать любимую в объятиях до потери дыхания, так, да, так, и прямо сейчас! И сам не заметил, как из его груди вырвался крик:
– Vive la France! Да здравствует Франция!
И хор товарищей немедленно поддержал его:
– Vive la France! Vive la France! Ура! Ур-р-рааа!!!
На их ликующие вопли прибежал, выпучив глаза, Лепарский:
– Вы что тут, все с ума посходили?! А если кто-то услышит?! Это же подрывная деятельность в чистом виде!.. Я требую тишины!.. В противном случае прикажу сейчас же разбить лагерь – здесь. И буду держать вас в этом бору, пока не успокоитесь. Весь день, всю ночь, если понадобится!..
У него на губах, под усами, даже пена выступила. Обе дамы, смутившись, вернулись в коляску. Крики утихли. Но совершенно бесстыдное удовлетворение политической своей акцией светилось в глазах всех декабристов. И по приказу: «Строиться! Ша-а-агом марш!» – они, вопреки обыкновению, когда собирались лениво, волоча ноги, – быстро разобрались по шеренгам и дружно шагнули вперед.
Безупречными и восторженно настроенными рядами они спустились с холма, обогнули церковь, прошли вдоль кладбищенской стены и перед зданием завода, рядом с которым высились две горы шлака. Воздух здесь пропах копотью и расплавленным чугуном, неощутимая черная пыль щипала глаза… Рабочие, многие из которых носили на лбу каторжную метку, столпились по обочинам дороги. Глава петровской полиции, надевший ради такого случая все свои регалии, приветствовал генерала как командующего шествием. Чуть подальше, сменив прокопченные насквозь бревенчатые дома и чахлые палисадники с облупившимися загородками, им открылись новые, блестящие от свежей покраски, деревянные дома. Одни пониже, другие повыше – все дома были похожи друг на дружку. Отнюдь не роскошные, но свидетельствующие о достатке владельцев, они были окружены ничем не засаженными участками земли вполне приличного размера: есть где устроить огород, разбить сад, возвести службы… Кое-где на крышах еще работали плотники. Перед каждым крыльцом стояла дама – жена декабриста: они выбрали этот способ встречать мужей, чтобы тем с первого же взгляда стало ясно, где чье гнездышко. Поднявшись на цыпочки, дамы изо всех сил размахивали платками.
Софи и Наталья Фонвизина, которым нечего было показывать, держались в сторонке, у склада досок. Счастье обрушилось на Николая, подобно оглушительному звону медных тарелок. Жена улыбалась ему! Его жена ему улыбалась! Не нарушая строя, он крикнул:
– Знаешь новости! Революция во Франции!..
– Да, да! – воскликнула она в ответ. – Это прекрасно!
Он, плохо соображая, что делает, но вне себя от любви и воодушевления, стал тихонько напевать «Марсельезу», вскоре гул распространился по всей колонне, затем голоса окрепли, и строй взорвался песней:
Allons enfants de la patri-i-i-e!..Лепарский, скакавший на своем белом коне, обернулся, на лице его было написано бешенство. Он только что не вываливался из седла, он выкатывал глаза, он отдавал взмахом руки узникам приказ сию же минуту замолчать, но те делали вид, что не понимают, чего от них хочет генерал, и продолжали петь. Солдаты, не знавшие, что повинуются ритму запрещенной музыки, приосанились и печатали шаг. Все дамы присоединились к шествию: они семенили рядом с колонной, подхватив юбки. Казаки образовали арьергард.
Наконец перед ними широко распахнулись обе створки ворот, часовые сделали на караул[10] в тот самый миг, когда декабристы запели:
В ружье, друзья! Сомкнитесь в тесный строй, Вперед за мной; Да враг бежит кровавою стезей!..Колонна влилась в окруженный высоким забором двор тюрьмы. Ворота закрылись. Николай услышал давно ставший привычным скрежет засовов, огромные ключи, клацнув, повернулись в скважинах. Вот и завершилась его мечта о небе и зелени: в воронке тюремного двора – как жадно она поглощала их строй!.. От восторга и воодушевления ни у кого не осталось и следа. Арестанты, тревожно оглядываясь по сторонам, разбрелись по новой территории. Лепарский тем временем спешился, счистил с мундира дорожную пыль, встряхнулся, как вернувшаяся из-под дождя собака, сделал строгое лицо, свысока посмотрел на подопечных и проворчал:
– Это было оскорбительно, господа!
– Вот те на! – притворно удивился Юрий Алмазов. – Какое же тут и кому может быть оскорбление – в том, что ведешь по улицам людей, поющих «Марсельезу»?
– Не возражайте! Мы пока в России, насколько мне известно! И этот проход по улицам города был не чем иным, как дерзким нарушением всех установленных правил! Я вам это еще припомню!.. Ах, как я вам это еще припомню!.. Осип! Отведешь заключенных в их камеры!
– А вы не пойдете с нами, ваше превосходительство? – как могла кокетливо спросила Мария Волконская.
– Нет уж, простите! Тогда у вас будет полная возможность петь все, что вам заблагорассудится. Ладно, хватит пререкаться. Осип, чего ты ждешь?
Племянник коменданта повиновался приказу. Он шел впереди толпы декабристов и их жен, пятясь вполоборота, с видом самым что ни на есть гостеприимным. Когда они вышли из большого двора, предназначенного для общего пользования, взорам открылся «архитектурный ансамбль» из восьми внутренних двориков, разделенных между собой заборами из кольев. В эти восемь двориков, замыкавшихся крылечками, вели двери из двенадцати секций собственно тюрьмы. От каждого крыльца внутрь шел коридор, с обеих сторон которого находились абсолютно одинаковые камеры – по пять или по шесть. Каждая размером семь шагов в длину, шесть в ширину, в каждой – полумрак. Окон не было вовсе, а свет проливался сюда сквозь небольшое зарешеченное отверстие, проделанное в верхней части створки.
– Да что ж это такое! Беда, да и только! Здесь же не прочтешь ни строки даже ясным днем! – стали возмущаться декабристы.
– Ох, и сам знаю, что освещение оставляет желать лучшего, – вздохнул Осип Лепарский. – Но что поделаешь! Так уж устроено. Зато в остальном… вы ведь согласитесь с тем, что камеры в целом достаточно просторны и комфортабельны, верно? Не можете не согласиться! Это же настоящие комнаты! У каждого – своя собственная! А когда вы их обставите… Предполагаю, сударыни, что вы-то уже начали обставляться?
– Разумеется, – улыбнулась Полина Анненкова. – Хотите посмотреть?
– Спасибо. Сам я не решался попросить об этом.
Перешептывающаяся группа экскурсантов направилась к расположенной на дальней оконечности здания двенадцатой секции, которую отвели под жилье для семейных пар. И вот здесь-то прозвучали слова восхищения, одобрительные возгласы, завистливые вздохи. Здесь каждая камера представляла собой оформленный со вкусом современный интерьер. За неделю дамы прибрали к рукам всех маляров и всех столяров Петровского Завода, опустошили немногие городские лавки. И теперь в комнатах стояли кровати, покрытые красивыми покрывалами в цветочек, удобные глубокие кресла, на маленьких столиках – вазы с цветами, по стенам хозяйки развесили гравюры, акварели, карандашные наброски… Дамы показывали обстановку, притворно скромничая:
– Ну, что вы, что вы… такая малость… приходится ведь обходиться подручными средствами…
Софи взяла Николая за руку и повела его в конец коридора, где открыла дверь в комнату с темно-розовыми стенами. Супружеское ложе из двух одинаковых кроватей, письменный стол красного дерева, плетеное кресло…
– Это наша, – только и произнесла она.
Ему показалось, что никогда в жизни он не видел такого прекрасного жилья. Оно было так прекрасно, так прекрасно – до слез!
– Спасибо, Софи, спасибо, дорогая моя! – прошептал Озарёв.
И дальше говорить не смог: на них с Софи нахлынула толпа, хозяйке пришлось, в свою очередь, показывать, объяснять, улыбаться.
Вскоре заторопились к себе холостяки, им-то ведь надо было устраиваться своими силами. Багаж неженатых пока свалили огромной кучей в коридоре, к разборке не приступали, и потому камеры – ровно полсотни – были еще не совсем готовы не только для экскурсий, но и для жизни. Перед тем как вселяться, одинокие декабристы потребовали у дам совета, как лучше обставить комнаты. Николай, которому больше всего на свете хотелось остаться наедине с женой, был вынужден отпустить ее. И – пошел следом, праздный, в блаженстве оттого, что они хоть так, да вместе. Переходя из одной одиночной камеры в другую, Софи брала на себя руководство расстановкой стульев, столов и кроватей, выданных администрацией. Охранники, в обмен на чаевые, служили помощниками новоявленного декоратора. Сбросив форменные кители, засучив рукава сорочек, они двигали мебель и открывали забитые гвоздями ящики. А Софи, стоя на пороге, командовала:
– Так! Чуть левее… Теперь ближе к центру!.. Нет, раньше было лучше!.. Переставьте-ка кровать туда, где стол, а стол – на место кровати!..
Полы были засыпаны соломой, пахло масляной краской и клеем. Нетерпеливые жильцы, взобравшись на табуреты, вбивали в стены костыли или большие гвозди, чтобы повесить полочку, картину… Вся тюрьма заполнилась стуком молотков и визгом пил. Солдаты подтаскивали недостающие материалы, в том числе – гвозди и болты. Один из стариков-инвалидов даже переходил из камеры в камеру с кисточкой и за полтинник подправлял, подмазывал стены, где потребуется.
До самого вечера тюрьма гудела, подобно переполненному трактиру, женщины старались превратить камеры в милые сердцу прибежища. Где-то закипал самовар, где-то ставили греться утюг, гремели кастрюли, сковородки… То и дело хозяйки одалживали друг у друга всякую утварь…
Лепарский не показывался – дулся: видно, не мог простить обиды, нанесенной пением «Марсельезы».
Матери семейств покинули тюрьму только тогда, когда пришла пора кормить и укладывать в новых домах детишек и давать рекомендации на ночь нанятым уже здесь, на месте, нянькам. У каждой из них теперь стало по две обители: обитель любви материнской и обитель любви супружеской, – и между ними отныне придется метаться, чтобы исполнить надлежащим образом все свои женские обязанности. Вернулись они к мужьям довольно поздно, зато со спокойной душой. Ужин ночной караульный подал на длинный стол, поставленный в коридоре. Похлебка оказалась холодной и невкусной, но никто не пожаловался: дорожная усталость, помноженная на новизну атмосферы сделали сговорчивыми даже главных придир. И потом… эта революция во Франции не переставала будоражить умы, за едой говорили исключительно о ней. Сожалея, что Три Славных Дня не привели к созданию республики с конституционным правлением, Софи утешала себя тем, что герцог Орлеанский, ставший королем Луи-Филиппом, всегда придерживался либеральных взглядов. Отец его, цареубийца, умер на эшафоте, сам он сражался при Жемаппе, а потом всегда демонстрировал враждебность к ультрароялистам. Рассказывали же, что самым первым его поступком, едва он вышел на балкон ратуши, стал вот какой: он прижал к сердцу французский трехцветный флаг и поцеловал Лафайета![11] Это ведь хороший знак… Но все-таки больше всего в свершившейся на родине революции Софи нравилось, что хотел ее народ и совершил ее народ. Если верить русским газетам, буржуа и рабочие сражались плечом к плечу: грабили арсеналы и оружейные лавки, строили баррикады… Успехом это предприятие увенчалось во многом и потому, что французы не повторили ошибки декабристов, затеявших переворот без участия всей нации. Софи осмелилась произнести эту свою мысль вслух, и мужчины присоединились к ее мнению. Зато дамы посмотрели на нее недоброжелательно – как будто, говоря с их мужьями о политике, «наша мадам» способствовала развитию у них неких дурных склонностей.
– Что удивительно, так это ярость царя в адрес Луи-Филиппа, столь популярного в народе… – задумчиво сказал Николай. – Видели в газетах? Издан указ о том, что все российские подданные должны покинуть Францию, наложен запрет на въезд французских подданных в империю, кроме того, запрещены трехцветные ленты, запрещено допускать в морские порты России французские суда с новым штандартом… Еще чуть-чуть, и Николай Павлович объявит Франции войну – за то, что она избрала себе короля, который ему не по вкусу!
– Может быть, мы и получили бы войну с Францией, если бы республика установилась сразу после Карла Х, – вмешался князь Трубецкой. – Тут другой случай: близость к народу у Луи-Филиппа чисто внешняя, а на деле он настоящий король, то есть монархия сохранилась целой и невредимой.
– На время, – ответил ему Анненков. – Правление Луи-Филиппа – переходное, сам он – лишь этап. Еще разок поднажать – и вот уже во Франции на его месте президент, избранный народом и переизбираемый им.
Софи слушала русских каторжников, рассуждающих о свободе Франции, и сердце ее сжималось оттого, что она так далеко от родины. И, скорее всего, никогда на родину не вернется! Что ж, надо смириться с этим и научиться воспринимать Францию только как копилку воспоминаний. Но ей вдруг показалось просто чудовищным, совершенно чудовищным то, что она вынуждена навсегда расстаться со страной, где родилась, где вот только что восторжествовали идеи, которые она всегда отстаивала, чтобы прожить всю оставшуюся жизнь в самой деспотической, самой замкнутой на себе из империй, в глубине Сибири, в тюрьме! На мгновение всплыла в сознании мысль: а что она делает тут, среди этих людей, всплыла на фоне родных пейзажей. Вот Иль-де-Франс… парижские улицы… набережные Сены… особняк ее родителей… лица отца, матери, умерших друг за дружкой за несколько месяцев… отца и матери, о которых она даже и не знала ничего в последние годы… Она совсем ушла бы в воспоминания, но Николай с другого конца стола смотрел на Софи так пристально и так нежно, что она оставила ностальгию и от всего сердца улыбнулась мужу.
А Николая тронуло это их молчаливое согласие. Конечно же, его возбуждала французская революция, но далеко не так сильно, как перспектива скоро, совсем уже скоро остаться с женой наедине. Наконец-то! Он надеялся, что Софи сможет забыть о политике, когда это произойдет. Вот только ужин никак не кончался! Теперь собравшиеся говорили уже не о Хартии, теперь они с тою же горячностью обсуждали меблировку и кухонные проблемы! Говорят, говорят, а сами в это время смотрят на жен, на своих «ангелов во плоти» с таким вожделением! Их можно понять: ведь каторжникам предстоит впервые за пять лет провести с женами ночь… И думая об этом, каждый становился все более и более нетерпеливым и в то же время все более неловким, неуклюжим… Вон как ерзают на скамейках, теряют тему разговора, умолкают на полуслове, катают в пальцах шарики из хлеба… А жены, наоборот, кокетничают вдвое против обычного! Бросают томные взгляды, воркуют, как голубицы, вздыхают, хлопают ресничками, болтают тоненькими голосами – ну, просто воспитанницы пансиона! Даже Софи принимает участие в этом устроенном женщинами представлении. Николай почувствовал ломоту во всем теле…
Наконец Полина Анненкова, сказав, что немыслимо устала, дала тем самым сигнал расходиться.
Мужчины тут же вскочили и засуетились. Наступала долгожданная минута! У женщин сделались и впрямь ангельские лица, и все как одна принялись тереть глаза и делать вид, что засыпают на ходу. Мужья шли следом за ними, демонстрируя деланое простодушие. Все пары пожелали друг другу спокойной ночи – совсем как путешественники в коридоре отеля. И – разошлись по камерам.
Софи закрыла дверь и зажгла свечу. Стенки тут тонкие, слышно каждое слово соседей. Николай, сгоравший от желания, стоял дурак дураком, повесив руки и не находя, что сказать. Софи сделала шаг в направлении к нему. Его окутал аромат ее волос. Она стояла спиной к свече, и он видел притемненное лицо в золотом ореоле – только белоснежные зубы светились. Застенчиво, пугливо он охватил ладонями гибкую талию. Она не отступила… Даже не пошевелилась… Огромные глаза смотрели ему в душу… Он не мог еще поверить в такую удачу. И пришлось ей самой прижаться губами к губам мужа, а после, ловко высвободившись, поманить его к постели.
Чуть позже они лежали рядышком на узкой кровати, одной из двух, стук сердец, дыхание их смешивались, а вдалеке сигналили, что пора гасить огни. У них свеча догорела сама собой, в комнате было темно, и Софи в этой черной ночи чувствовала себя по-животному счастливой и удивительно спокойной. Ей больше не хотелось обсуждать, что это за ощущение полного единения с природой или откуда другое ощущение: будто ее Николя – единственное на земле существо мужского пола, способное ее удовлетворить, подарить ей наслаждение. В коридоре послышались тяжелые шаги. Шаги приближались. Она прошептала:
– Кто это?
– Охранник.
– Зачем он тут?
– Наверное, запереть нас снаружи…
Действительно, брякнул засов, повернулся в замочной скважине ключ. Софи подавила дрожь во всем теле. Она заперта! Заперта вместе с мужем в камере, в тюрьме! Выйти невозможно, кричать бесполезно. Она еще сильнее прижалась к Николаю, а он прошептал:
– Люблю тебя!
Софи закрыла глаза, но спать совсем не хотелось. Они встретились только накануне. Она почти не знала его. Для них все начиналась сначала, возвращая силы и иллюзии, для них начиналась вторая молодость.
Шаги удалялись, смотритель переходил от двери к двери, а за каждой дверью была пара, были любящие мужчина и женщина, и они вздрагивали, услышав сухой щелчок повернутого ключа…
Часть III
1
Сидя за большим письменным столом в просторной комнате с голыми стенами, ставшей ему новым кабинетом, Лепарский терпеливо выслушивал жен декабристов, жалующихся на отсутствие окон в камерах. И снова, хотя голос Марии Волконской просто-таки пробивал барабанные перепонки, ему приходилось признавать, что правы в данном случае заключенные, а не правительство…
– Мы отказываемся жить в таких условиях, ваше превосходительство! – кипятилась Волконская. – Нам приходится либо откладывать чтение до вечера, либо зажигать свечи прямо с утра! Это бесчеловечно!
– Вот именно: бесчеловечно! У моего мужа слабые глаза! – вторила ей подруга, Екатерина Трубецкая. – За неделю, что он в Петровском Заводе, у него сильно упало зрение!
– Прямо хоть устраивайся для работы в коридоре, – вздыхала нежная Александрина Муравьева. – Но ведь там такие дикие сквозняки, и, едва похолодает, мы все простудимся…
– Добавьте еще к этому, – вступила в женский хор Полина Анненкова, – добавьте еще эту страшную сырость, которой тянет от пола! А стены какие! Стены уже растрескались! И печи не тянут! И полно насекомых – зверинец, да и только!
– О-о-о, какой стыд! Какой стыд! Вам должно быть стыдно, ваше превосходительство! – стонала в голос Наталья Фонвизина.
Атакуемый по всем фронтам генерал был вынужден спрятать голову под панцирем. Ну, конечно, дамы все еще полагают, будто он один несет ответственность за все их несчастья. Можно подумать, он тут царь и бог, он хозяин каторги! Да когда же они поймут, что Станислав Романович Лепарский – такой же узник, как их мужья, когда они это поймут?! Что значат мундир, эполеты, ордена, если свободы у него ровно столько же! Впрочем, на Руси и нет никого, кроме узников, – на любой ступени лестницы, которую представляет собой современное общество… Сверху донизу… Каждый узник высшего ранга оказывает давление на узников рангом пониже и использует их, те становятся начальниками менее привилегированных, эти – командуют находящимися на уровень ниже, и так далее – до самых обделенных, до последнего охранника и последнего каторжника… И никакой «Марсельезе» не пошатнуть этой человеческой пирамиды, вершина которой теряется где-то в облаках, в Санкт-Петербурге, а основание покоится на мерзлых грунтах сибирской каторги и утопает в каторжной грязи. Когда Лепарский дошел в своих размышлениях до этой точки, ему стало едва ли не физически плохо. О чем это он? Неужто декабристы заразили его своими революционными идеями, как корью? Хуже – черной оспой! Он сейчас – словно верующий, который вдруг ощутил, что былой веры ему не хватает, и впервые задумался об этом.
– Первое, что вам следует сделать, генерал, – пробился к нему голос Софи, – это приказать, чтобы прорубили окна.
Комендант вздрогнул, похлопал набухшими веками и пробормотал:
– Приказать! Приказать! Интересные вы делаете предложения, мадам! А вот это – видели?
Он встал и развернул на столе лист бумаги с каким-то планом. Дамы вытянули шеи.
– Вы видите тут хоть какие-то окна?
– Нет.
– Так как же, по-вашему, я могу их прорубать?
– Позвольте, ваше превосходительство! – воскликнула Трубецкая. – Позвольте! Насколько нам известно, вы – комендант этой тюрьмы, стало быть, все строения на ее территории в вашем ведении, а это значит, что вы наделены правом производить здесь любые работы, которые кажутся вам необходимыми!
Лепарский пожал плечами и ткнул пальцем в росчерк, находившийся в левом верхнем углу плана.
– Видно, не все вы рассмотрели, княгиня! Вот этой подписи не заметили? Между тем она означает одобрение и утверждение именно этого проекта самим императором. И если государь решил… если государь скрепил своей подписью документ, согласно которому в камерах не должно быть окон, мне ли, несчастному генералишке, находящемуся в двух шагах от отставки, противостоять его воле?
– Отлично! Значит, вы считаете, что нам следует смириться и жить как в муравейнике? – возмутилась Софи. – Отлично, говорю вам. И добавляю: если вы не исправите положения, наши мужья объявят голодовку. И умрут с голода, – закончила она еще более решительно: идея голодовки пришла ей в голову, когда она уже говорила, и еще подстегнула ее убежденность в своей правоте, а убежденность эта прозвучала с такой силой, что другие дамы в растерянности умолкли и только озадаченно, тревожно переглядывались.
Однако растерянность их длилась недолго. Сообразив, что тут всего лишь маневр, они дружно поддержали Озарёву:
– О да, отлично, ваше превосходительство! Терпение наших мужей на пределе!
– Если они пойдут на этот акт отчаянья, вся ответственность за его последствия ляжет на вас!
– Ах, какой же будет скандал! На всю Россию!
– Да, да, а главное, тогда ничего уже и не поправишь!..
Каждая, как бывало в подобных случаях всегда, старалась подлить масла в огонь, но сегодня случай-то был особенный, и обстановка накалилась особенно. Лепарский страшно растерялся, он знал, что эти люди способны на любую выходку, любую глупость. А эти жены – вот уж настоящие фурии! – вместо того, чтобы успокаивать мужчин, только их подначивают.
– Сделаем так, – наконец решил генерал, – я сегодня же вечером отошлю государю императору просьбу дать разрешение прорубить окна в камерах. Но и вас попрошу рассказать всем, с кем вы перепиской связаны: родственникам, друзьям, даже более или менее случайным знакомым, – поподробнее и покрасочнее (вы понимаете, что я имею в виду самые мрачные тона!) о том, в каких условиях приходится жить здесь. Письма я завизирую. Цензоры прочтут их и предоставят отчет царю. Такое количество протестов наверняка заставит его величество ответить на мое ходатайство положительно.
– А если откажет?
– Будем по-прежнему настаивать, используя все средства, до тех пор, пока государь не согласится, что окна в камерах необходимы. Но если вы хотите моей поддержки в этом предприятии, то и сами поддержите меня: уговорите ваших мужей сохранять спокойствие.
Дамы охотно пообещали. Соглашение было заключено. Полина Анненкова радостно предложила:
– Еще можно сделать вот что: мы попросим Николая Бестужева нарисовать акварелью интерьеры камер и разошлем в письмах друзьям! У него такие точные изображения. Никакое описание не может быть красноречивее!
– Замечательная идея! – воскликнул Лепарский. – Просто замечательная идея! И знаете что? Попросите об этом Николая Александровича от моего имени. Только пусть господин Бестужев не пишет камеры все подряд, их следует тщательно отбирать для нашей цели: если он изобразит одну из ваших, акварель вызовет, скорее, восхищение удобством и декором, чем жалость к обитателям.
Польщенные дамы разулыбались, а генерал почувствовал наконец твердую почву под ногами. И продолжил, сказав неожиданно:
– Наверное, ради такого случая интерьеры моего собственного дома тоже стоило бы нарисовать… Я бы и эти рисунки отправил в Петербург: сроду не селился в таком неприятном жилище!
– А чем вам не нравится этот дом? – удивилась Софи. – Такой просторный, светлый…
– Да вы, Станислав Романович, попросту не сумели его обставить так, как надо. Вот и все! – перебила ее Мария Волконская, внимательно посмотрев на выстроившиеся вдоль стен тяжелые кресла и маленькие одноногие столики, размещенные, подобно межевым столбам, по всем четырем углам кабинета.
– А ведь достаточно проделать совсем пустяковую работу… – вздохнула Александрина Муравьева.
Лепарский колебался, видимо, боясь потерять достоинство, если обратится к ним за советом, а дамы тем временем продолжали изучать обстановку, и взгляды их становились все менее и менее критичными и все более и более мечтательными. Можно было подумать, будто каждая мысленно вступает во владение домом. Коменданту почудилось, что он уже и не у себя, и он пробормотал:
– Я не решался попросить вас о содействии…
Они даже договорить ему не дали, сразу приступили к делу. Начали с кабинета, раз уж все равно там находились. Лепарский позвал на помощь гостьям четырех солдат, и начались перестановки. Естественно, вкусы оформительниц не всегда совпадали, по поводу каких-то деталей интерьера разгорались жаркие споры, но всякий раз находилось компромиссное решение, устраивавшее всех. Воодушевленные творческим трудом, дамы совсем позабыли о том, что Станислав Романович рядом, и говорили о нем так, будто он был вообще не способен высказать свое мнение.
– Работать ему, конечно, лучше здесь – спиной к окну… нет-нет-нет, чуть-чуть под углом… так… так… превосходно!.. свет падает слева… отлично… а этот секретер давайте-ка подвинем ближе, чтобы ему не нужно было вставать, если захочет взять какую-нибудь бумажку…
А комендант просто таял от счастья: надо же, эти дамы, годящиеся ему в дочери, так заботятся об удобствах для него!
Из кабинета перешли в большую гостиную, потом в маленькую, оттуда – в столовую, спальню, наконец, в канцелярию, где несколько писарей с выражением печали и опаски на лицах наблюдали за тем, как таскают по комнате их столы, стулья и папки. По всему дому словно ураган пронесся, однако после этого обстановка стала куда более приятной. Генерал переходил из комнаты в комнату следом за своими добрыми феями. «Может быть, следует пригласить их на ужин, – думал он, – надо же как-то отблагодарить этих милых дам за внимание! Ой нет… мне же тогда надо будет приглашать их вместе с мужьями… а их мужья – подведомственные мне заключенные… О Боже мой, это невозможно, это немыслимо!..»
Когда все перестановки были закончены, Лепарский приказал подать благодетельницам шампанского у себя в обновленном кабинете. Дамы согласились выпить по глотку вместе с ним. Одержав победу в борьбе с меблировкой, все они порозовели и казались генералу очень хорошенькими. После того, как декабристки его покинули, он уселся за стол и начал писать рапорт на высочайшее имя о недостатках в строительстве тюремного здания в Петровском Заводе.[12] Никогда еще за всю свою долгую карьеру не был он так строг и придирчив по отношению к ошибкам, совершенным властью. Иногда он останавливался, перечитывал написанное, его одолевал страх получить в ответ упреки или, того хуже, выговор, но ему тут же приходили на ум «его» дамы, и он снова со все возрастающей энергией брался за перо.[13]
* * *
Комендант отправил свой рапорт, дамы отослали жалобные письма с рисунками Николая Бестужева, и в ожидании ответа из Санкт-Петербурга жизнь в Петровском Заводе стала потихоньку налаживаться. Сигнал к подъему давали ровно в семь. Пока жены еще нежились в постелях, мужья умывались, одевались, звали охранника, и тот приносил чай и черный хлеб. Затем женщины помогали мужчинам прибраться в камерах и подмести полы, затем – дрожащие, едва видные в туманном предутреннем свете, по холодку, заставлявшему их поплотнее закутываться в плащи, увязая в грязи – бежали к построенным неподалеку домам. Им хотелось как можно скорее взять на руки детей, как можно скорее довершить свой туалет, привести себя в порядок: поскольку не удалось добиться от генерала, чтобы тот разрешил горничным приходить в тюрьму, приходилось самим торопиться домой, чтобы хотя бы там воспользоваться их услугами.
Софи арендовала в квартире заводского инженера две комнаты с полной обстановкой, наняла служанку и мужика для черной работы. Она уходила к себе, когда Николай отправлялся трудиться с товарищами. Впрочем, слово «трудиться» тут не очень соответствовало действительности, труд декабристов в Петровском Заводе был еще призрачнее, еще формальнее читинского. Для того чтобы хоть чем-то занять своих подопечных, Лепарский то направлял их в литейный цех – подталкивать вагонетки, но там рабочие жаловались на неловкость пришельцев, то посылал на мельницу, где не хватало зерна, чтобы занять всех… Оставались только мелкие поручения, как, скажем, подмести двор, вымести мусор из коридоров, завалить яму или насыпать кучу земли, в лучшем случае – возвести каменную кладку… В полдень «каторжные князья», как называли их в городе, возвращались в тюрьму пообедать. Здесь уже поджидали расфуфыренные жены. Обедали в коридорах – по секциям. Однако вместо привычной казенной пищи женатым декабристам подавали домашнюю. Слуги приносили еду, размещая кастрюльки в накрытых скатерками корзинах, ставили эти корзины в караульной будке, и уже отсюда дневальный приносил их семейным парам. Оставалось только подогреть кастрюли на печке, а печки были в каждой камере. Смешивались ароматы… Менялись блюдами… Дамы соревновались в кулинарных изысках, чей повар талантливее, чья стряпня вкуснее… Потом тот же дневальный относил грязную посуду ожидавшему на улице слуге.
С двух до половины пятого или до пяти арестанты снова выходили на работу. Потом они прогуливались по главному двору, пили чай, с шести садились за чтение при свечах, а к восьми снова объединялись, чтобы поужинать вместе. Сигнал отбоя звучал в десять. По субботам всех водили в баню, а по воскресеньям раздавали почту. По воскресеньям же приходил и священник: декабристам не разрешалось ходить в храм постоянно, за них это делали женщины, приносившие потом в тюрьму просфоры. Единственное исключение было сделано для Светлого Христова Воскресения: так же, как в Чите, декабристы присутствовали на Пасхальной службе и причащались. Конечно, им этого было мало, конечно, люди верующие, воцерковленные страдали оттого, что их лишают возможности пойти помолиться у святых икон, поставить свечки к образам тогда, когда душа просит, но Лепарский не мог взять на себя ответственность и, пренебрегая правилами, разрешить. Словно бы в компенсацию этого, он шел на уступки, причем значительные, в других областях жизни. Правда, любая такая уступка сопровождалась ограничениями, едва ли не сводившими на нет ее значимость. Так, позволив заключенным держать в камере бумагу, чернила и перья, генерал, как и в былые времена, запрещал переписку с близкими без посредников… точнее – посредниц. Или еще: согласно его распоряжению, дамы имели право оставаться в пенитенциарном заведении сколько их душенькам будет угодно, но вот мужу разрешалось навещать жену только в том случае, когда доктор Вольф удостоверял ее болезнь… И казалось, что все эти мелкие препятствия на пути к полному счастью и без того обездоленных узников выстраиваются комендантом не столько ради соблюдения дисциплины, сколько ради спокойствия за собственную участь, собственное благополучие. А может быть, они стали отражением последних, так сказать, всплесков профессионального долга… А может быть, генерал думал: «Если сейчас уступлю, меня мигом отправят в отставку»… Как бы там ни было, но и сейчас дамы записывали письма декабристов родным под диктовку – словно за годы заключения все мужчины забыли грамоту. А они не только не забыли, напротив, многие даже ударились в беллетристику и сейчас с неисчерпаемой энергией, порой лихорадочно, в любую свободную минуту принимались «пачкать бумагу». Они писали стихи, они занимались историческими, политическими, социальными исследованиями, они вели дневники. Николай Озарёв приступил к докладу об источниках революционного движения в России.
В казематской библиотеке насчитывалось уже больше четырех тысяч томов, книги присылали в каждой посылке. С разрешения Лепарского, артель заключенных стала выписывать себе не только все российские газеты и журналы, но и несколько иностранных: «Le Journal des Débats», «Le Constitutionnel», «La Revue encyclopédique», «La Revue de Deux-Mondes», «La Revue de Paris», английские, немецкие издания… Декабристы договорились между собой, что каждому читателю можно держать у себя свежую газету не более двух часов, а журнал – не более трех суток. Охранники переходили из одной камеры в другую со списком в руках, регистрируя день и час передачи того или иного печатного издания, его название, имя временного владельца, а при необходимости помогали обмену. Так же, как и в Чите, в Петровском Заводе декабристы читали лекции самой разнообразной тематики. И так же, как в Чите, любители ремесел оборудовали себе в отведенном под это служебном помещении мастерские: среди декабристов нашлись и плотники, и столяры, и токари, и переплетчики, и сапожники, и портные… Артель укреплялась, становилась многочисленнее по составу. Самые богатые из арестантов пополняли общую кассу солидными вкладами, чтобы те из товарищей, у кого средств не хватало, могли жить, ни в чем себе не отказывая. Организовалось даже нечто вроде системы взаимного страхования, и это позволило впоследствии обеспечивать небольшим капиталом каждого декабриста, покидавшего тюрьму, чтобы отправиться на поселение. Все счетные работы контролировались специальной комиссией, члены которой избирались голосованием. У артели был, как это и положено по уставу любой артели, староста, декабристы выбирали из своей среды казначея, ответственных за покупки и за огород, «смотрителей кухни»…
Дамы разнообразили стол не обзаведшихся семьей арестантов, угощая их приготовленными дома яствами. Некоторые обзавелись коровой, а то и двумя, другие устраивали птичники, кое-кто прикупил себе овец, образовалось небольшое стадо, и пришлось нанять крестьянина-пастуха. Из дому многим – кому официальным путем, кому тайком, при посредничестве путешественников или торговцев – посылали и передавали довольно крупные суммы. Софи в этом смысле была из наименее обеспеченных: деньги, прибывшие когда-то от свекра, так и составляли единственный материальный ресурс Озарёвых. Михаил Борисович с тех пор ничего не присылал – наверное, ждал, что к нему обратятся за помощью, но она была слишком горда, чтобы унизиться до подобной просьбы. А вот писал он ей, сообщая новости о том, как растет Сереженька, более или менее регулярно. Софи часто перечитывала его письма, пыталась представить себе, каким теперь стало дитя, оставленное ею в Каштановке, но никому не рассказывала о своей тоске по ребенку, по дому. Она была вообще не слишком склонна к исповедям, но все-таки период отчуждения, когда «мадам Озарёва» чувствовала себя гонимой, презираемой, давно прошел, теперь Софи была снова окружена подругами. Дамы вернули прежней отщепенке свою благосклонность без всяких объяснений, никакого внезапного перехода от одного состояния к другому не случилось, просто чем дальше, тем явственнее Софи ощущала, как изменилась, став теплой и дружественной, атмосфера, как – совершенно без всякого усилия с ее стороны, в самом деле, не станет же она кого-то завоевывать! – возвращается к ней всеобщее уважение. На время пошатнувшаяся женская «коммуна» возродилась преобразованной и даже укрепившейся свежими силами, чему поспособствовал приезд Анны Розен и Марии Юшневской. Те, у кого не было своего домика, тоже, в конце концов, поселились, по примеру Софи, в арендованных комнатах. Стремясь быть поближе к мужьям, все декабристки выбирали себе место для жилья вдоль дороги, ведущей в казематы, – и постепенно эта дорога, в прежние времена окруженная с двух сторон пустырями, превратилась в приятную для глаз улицу, заселенную женами узников. Местные жители окрестили ее Дамской улицей. Самым красивым оказался дом Александрины Муравьевой. Софи часто заходила сюда поболтать о том о сем с приветливой хозяйкой, ведь в обществе именно этой умной и сердечной женщины она в любые периоды своей сибирской жизни чувствовала себя проще и лучше всего. У Александрины были свои проблемы – ее невинный, целомудренный роман с доктором Вольфом стал всем известен: поскольку Лепарский разрешил врачу выходить из каземата в любое время, если надо навестить больного, Александрина могла видеться с Фердинандом Богдановичем в городе, и вскоре она приказала выстроить для него поблизости от своего дома небольшую лабораторию, где доктор сам изготовлял лекарства.
Почти каждый вечер женатые декабристы собирались в той или другой камере «семейной» секции. Мария Волконская, в конце концов, решила превратить камеру в подобие гостиной, обила бледно-желтым шелком стены своей темницы и выписала из Иркутска две кушетки красного дерева, книжные шкафы и персидский ковер. У нее поставили и приехавший с этапом из Читы рояль. После ужина и до самого сигнала гасить огни здесь играли Глюка и Бланджини,[14] декламировали стихи, обсуждали привлекшие внимание в газетах и журналах политические новости. Слыша доносящиеся от Волконских голоса, музыкальные аккорды, смех, декабристы-холостяки в своих одиночках печалились.
Во время таких сборищ Софи иногда казалось, будто она участвует в светском приеме, пришла в обычную милую санкт-петербургскую гостиную, где, как обычно, встретились близкие друзья. Однако солдат-инвалид, дежуривший по вечерам, разрушал иллюзию, просовывая голову в дверь, потряхивая связкой ключей и зычно объявляя:
– Пора расходиться, дамы и господа! Время! Время!
После чего запирал каждую пару в ее коробочке. Задвигал засов, два раза поворачивал ключ в замочной скважине, один раз в висячем замке… Оставшись наедине с мужем, Софи долго разговаривала с ним в темноте о тысячах пустяков, составлявших их повседневную жизнь. Они обсуждали будущее, предвидеть которое пока было невозможно: ни единого намека на то, что их ждет, ниоткуда не поступало. Николай подсчитал, что в ссылку его отправят самое позднее через четыре года, в 1834-м. Но Софи настаивала на своей версии: дескать, царь непременно облегчит участь декабристов и сократит все сроки по случаю какого-нибудь радостного события. Теперь, когда страсти после разлуки и встречи с мужем улеглись, она была с ним счастлива, просто счастлива… Нежное ровное тепло проникало в Софи и жило в ней даже в те часы, когда она занималась обычными хозяйственными делами, и будило такую нежность, какой она не испытывала никогда в жизни. Ей ужасно хотелось обладать более острым умом, более чутко улавливать рассыпанные щедрой рукой по территории каждого дня минутные наслаждения. Иногда она вспоминала Никиту – как далекую грезу, милую и беспочвенную. Ей казалось, что они были знакомы в совсем другой жизни – до того, как она узнала своего мужа, а настоящая жизнь, все настоящее – только тут, рядом с Николя. Никакие воспоминания не могут сравниться с живым присутствием. Она родилась для реальности, для материального мира, для вещей, которые можно потрогать, пощупать. И инстинкт неизменно возвращает ее к реальности, на землю, к мужу… Сколько раз она упрекала Николая в том, что он увлекается сумбурными, неопределенными политическими идеями, когда так много надо сделать здесь и сейчас, на этой земле, для этих крестьян! Он всегда гнался за химерами, а она, напротив, руководствовалась разумом, рассудком. И вот к ней возвращается ее прежняя роль. Ее истинная роль.
Поколебавшись, Софи все-таки решилась и попросила Николая сбрить бороду. Теперь он выглядел моложе, он такой сильный и красивый. По ночам, просыпаясь в одной постели с мужем, ощущая рядом его теплое тело, слыша его ровное дыхание, она снова начинала надеяться, что сможет родить от него ребенка…
* * *
И в декабре тоже, несмотря на посланные в Санкт-Петербург доклад, письма и рисунки Николая Бестужева, ни о каком разрешении царя пробить окна даже и слухов не было. Впрочем, как и о том, что государем это не разрешено. Окна в камерах мучили Лепарского в ночных кошмарах и преследовали днем. Эти окна приобрели для него таинственное, просто-таки метафизическое значение. Он видел в них теперь символ света, разума, веры… Отказать в них людям, казалось ему, почти так же кощунственно, как лишить их помощи религии. Правительство, приверженное к слепым стенам в тюрьме, не заслуживает ни любви Господа, ни Его милости.
Вот в таком расположении духа комендант Петровско-заводского каторжного острога узнал о восстании в Варшаве. Весть была неожиданной – просто-таки гром среди ясного неба. Возбужденные французской Июльской революцией польские повстанцы – студенты, подхорунжие, офицеры – убили генерала и префекта полиции, после чего великий князь Константин Павлович попросту сбежал от их гнева. Переговоры с польским Сеймом оказались невозможны, бессмысленны, и царь поручил фельдмаршалу Дибичу,[15] к тому времени уже успешно побеждавшему турок, пересечь со своими войсками границу и разгромить мятежников. Осознавая, каким безумием со стороны молодых людей, о которых говорилось в полученных им сведениях, было восстание против императорской власти, Лепарский, однако, не мог забыть, что они – его соотечественники. Как генерал русской армии, он должен был вынести суровый приговор подобному бунту, но как поляк – мог только восхищаться его главарями и сожалеть об их участи. Странное совпадение: этот мятеж тоже начался в декабре! Тоже ведь декабристы, только совсем иного рода…
А вот в среде каторжников мнения разделились. Симпатия, которую испытывало большинство по отношению к польским повстанцам, была, тем не менее, окрашена у многих некоторой неуверенностью, если не настороженностью: из-за того, что поляки хотели не только избавиться от царского гнета, но и – причем это требование было для них куда существеннее – отделиться от империи. А с таким ни один русский – будь он хоть трижды либерал! – согласиться не мог, разве что с огромным трудом. Кроме того, от исхода битвы зависела честь армии, и тут опять-таки большинство вспомнило: а ведь нынешние каторжники в основном – бывшие гвардейские офицеры… И все-таки Николай Озарёв утверждал, что он за победу поляков, потому что, скорее всего, она повлечет за собой изменение режима в России.
– Нам следует ставить свои республиканские идеалы выше своей национальной фанаберии, – сказал он как-то на вечерних посиделках в камере Трубецких.
Его заявление наделало шума, разгорелся бурный спор, но, в конце концов, Николаю удалось покорить аудиторию красноречием, и сердце Софи замерло от гордости за мужа. Правда, зимняя кампания 1831 года проходила с таким перевесом русской армии, что на успех поляков можно было надеяться лишь чисто теоретически. В первые дни февраля Дибичу удалось отбросить неприятеля к Варшаве, и, остановившись под ее стенами, он рассчитывал уморить мятежную столицу поляков голодом.
А в России в это время не по дням, а по часам росла эпидемия холеры. Начавшаяся на юге тяжелая болезнь распространилась до Петербурга, холера косила солдат и офицеров, уничтожала гражданское население по всей территории страны. И повсюду, на любой дороге, куда ни глянь, устанавливались холерные карантины.
Все это мешало мадемуазель Камилле Ле Дантю приехать в Петровский Завод, и потому ее жених, Василий Ивашев, страшно горевал. Лепарский горевал не меньше, но по другим причинам, его настроение омрачали суровая зима, дурные политические новости, а более всего – «дело об окнах». Утешение и поддержку Станислав Романович искал у своих подопечных, что ни день приходя в острог и подолгу оставаясь в камерах. Однажды вечером, когда Лепарский заглянул к ним на огонек, Николай и Софи заметили у него среди прочих новый орден – теперь на мундире генерала сиял крест Святого Равноапостольного князя Владимира. Они принялись поздравлять коменданта, а тот, смущенно посматривая на Озарёвых, объяснил, что удостоен этой высокой награды за руководство операцией по переводу декабристов из Читы в Петровский Завод. «Потому что ни один человек не потерян…» – залившись краской, прошептал он, но тут же взял себя в руки и с нажимом спросил, глядя прямо в глаза Николаю:
– Кажется, еще чуть-чуть, и не видать бы мне никакого ордена… Верно?
– Я бы сокрушался об этом, ваше превосходительство! – пробормотал Николай.
– Ну и напрасно! – Лепарский, к которому после минутного замешательства вернулось чудесное настроение, пожал плечами. – Напрасно сокрушались бы. Все это не имеет большого значения…
Генерал не кокетничал и не лукавил, ему была чужда ложная скромность, именно эта награда, такая почетная, такая при других обстоятельствах желанная, не произвела на него ровно никакого впечатления. Наоборот, он даже огорчился, получив ее, ведь государь сделал его смешным в глазах декабристов, выдав орден, которым можно было бы удостоить за успешную военную операцию, ему, всего-навсего проехавшему в экипаже рядом с колонной каторжников от Читы до Петровского Завода! Не зря некоторые из этих господ, встреченные им во дворе, по дороге в семейную секцию, с такой иронической усмешкой поздравляли его! Он смешон, действительно смешон! Лепарский с удивлением поймал себя на мысли, что мнение заключенных ему куда важнее мнения царя… Но он же не может снять, не носить этот крест! Императору тут же доложат… Ох, что будет: молния, гром, буря, мрак, падение в пропасть… Нет уж, лучше об этом даже и не думать!
– Как всегда – ни словечка об окнах, – заметил комендант, усаживаясь в кресло, которое ему предложил Николай. – Я уже отправил еще один рапорт…
– Наверное, у царя полно других забот, которые важнее для него, чем наши жалобы, – нахмурилась Софи. – А не написали ли вам чего-нибудь новенького о военных действиях в Польше?
– Никаких крупных сражений. Мятежники покусывают время от времени императорские войска, и, скорее всего, надо дождаться весны, чтобы возобновились масштабные операции. Боже мой, до чего это все чудовищно! Просто кровавая авантюра!.. Кровавая и бессмысленная!..
– Не соглашусь, ваше превосходительство. Вполне может быть, что не совсем бессмысленная или даже совсем не бессмысленная, – горячо возразил Озарёв. – Даже если так называемый бунт окажется подавлен, усилия и жертвы восставших не тщетны. Они пошли за нами. И эта, как вы говорите, авантюра готовит завтрашний день…
Лепарский покачал большой головою в поблекшем и несколько свалявшемся парике и проворчал себе под нос:
– Момент они выбрали неудачный! Надо было действовать в 1828 или в 1829 году… тогда, когда наши войска были заняты сражениями в Турции… – внезапно он понял, что в открытую выступает на стороне мятежников, и с ходу уточнил, более громко: – Разумеется, все это существенно лишь с точки зрения стратегии!
– Не выпьете ли чашечку чаю, ваше превосходительство? – дипломатично начала беседу заново Софи.
– Охотно, сударыня, – улыбнулся гость.
Какая умница эта Софи, как счастливо переменилась тема разговора! Между двумя глотками генерал пробежался взглядом по камере. На стенах уже проступили пятна сырости, потолок потрескался, изразцы на фаянсовой печке, похоже, один за другим отваливаются…
– Ну вот, все портится… – вздохнул он. – Эти архитекторы и строители запрашивают дорого, а работа их никуда не годится… Настоящие разбойники, их, а не… они стоят того, чтобы их посадить в темницу!
Свечи горели, потрескивая, в медных подсвечниках. Из коридора тянуло холодным ветром – там всегда гуляли сквозняки. Но в комнате было тепло. Софи поставила на стол печенье, которое испек повар Александрины Муравьевой. Лепарскому ужасно не хотелось уходить. Он ел, пил, расслаблялся, наслаждался ощущением, что живет семейной жизнью.
– Как хорошо… – прошептал Станислав Романович.
– Что именно хорошо, ваше превосходительство? – спросила Софи.
– Живете вы здесь хорошо!.. Простите, вам все равно не понять этого – чтобы понять, надо быть моего возраста, моего положения, в моей жизненной ситуации… Когда-нибудь все вы будете свободны… и все уедете отсюда… и я останусь один, – неожиданно закончил он свою прочувствованную тираду.
Лицо его над мундиром с новеньким сияющим крестом Святого Владимира омрачилось, он явно загрустил. Мысль о необходимости рано или поздно отпустить на волю своих заключенных его испугала. Что с ним станется, когда некого будет стеречь?
– Не волнуйтесь, ваше превосходительство, нас еще не скоро освободят, – с горечью сказал Николай.
– Ошибаетесь! Вот и ошибаетесь! – оживился Лепарский. – Вам точно смягчат наказание! Сначала вам, именно вам, потом и остальным! Лет через пятнадцать в Петровском Заводе не останется ни одного заключенного, вот увидите!..
Еще не договорив, он прикинул, что через пятнадцать лет его, скорее всего, не будет в живых. И глаза ему заволокло туманом печали.
– Последнее место моей службы, последняя должность… – тоскливо произнес он.
И подумал: «Здесь меня и похоронят… Но где мне может быть лучше, какое место подходит мне лучше кладбища на вершине холма, откуда открывается вид на тюрьму?..» Генерал выглядел теперь таким подавленным и унылым, что Софи принялась журить его. В эту минуту на пороге появились Полина Анненкова с мужем, за ними пришли Трубецкие и Волконские, привлеченные гулом голосов у соседей. Хозяйка пригласила Лепарского поужинать с ними. Тот, поколебавшись, словно в холодную воду бросился, – принял приглашение.
Они просидели, не замечая, как идет время, до десяти часов вечера. Когда пришел инвалид-надзиратель, позвякивая ключами, – пришел, чтобы замкнуть каждую пару в их камере, – самый виноватый вид оказался у генерала. Сигнал гасить огни застал его в коридоре, перед длинным рядом запертых на замки и засовы дверей. Он вышел, понурившись, из тюрьмы, кивнул в ответ на приветствия часовых и растворился в ночи среди крупных снежных хлопьев.
2
«Уважаемый Николай Михайлович!
С глубоким прискорбием вынужден сообщить Вам печальное известие: Ваш почтенный батюшка, Михаил Борисович Озарёв, скончался 18 февраля в Каштановке от холеры, которая выкосила всю нашу округу. Думаю, что смогу несколько утешить Вас в горе, сказав, что кончина его была христианской. Завещание, к сожалению, было составлено Михаилом Борисовичем не в Вашу пользу: рассудив, что Вы вели себя предосудительно, запятнали славную его фамилию и тем самым доказали, будто недостойны считаться его сыном, господин Озарёв лишил Вас наследства. Последней же волей Михаила Борисовича стало поделить все недвижимое имущество между его невесткой и несовершеннолетним внуком. Ваша супруга, пока она имеет статус осужденной по политическому делу, разумеется, не может вступить во владение этим имуществом, но мне как предводителю дворянства Псковской губернии поручено соблюдать интересы госпожи Озарёвой и высылать ей половину доходов от имения. Стало быть, я и перевожу на имя генерала Лепарского сумму в пять тысяч двести семнадцать рублей, в полном соответствии с прилагаемой ведомостью. Что касается Вашего племянника, воспитанием ребенка озаботится его отец, Владимир Карпович Седов. Впрочем, Владимир Карпович уже обосновался в Каштановке и взял в свои руки бразды правления. Сам Всевышний, в Его бесконечной мудрости, не мог бы вообразить решения, более удовлетворяющего всеобщим интересам. Полагаю, Вы согласны доверить управление хозяйством имения своему зятю. Впрочем, и мы с господином губернатором оказываем ему поддержку.
Соблаговолите принять, уважаемый Николай Михайлович, заверения в моей искренней Вам преданности, равно как и глубочайшие соболезнования.
И.В.Сахаров,Предводитель дворянства Пскова и губернии»Софи читала письмо из-за плеча Николая. Они вместе добрались до последней строки и переглянулись.
– Упокой, Господи, его душу, – прошептал Николай. – Никто не свете не желал мне зла сильнее, чем мой отец…
Он перекрестился.
– Но все-таки мне бы даже в голову не пришло, что Михаил Борисович способен лишить тебя наследства! – воскликнула Софи.
Николай пожал плечами.
– Почему? Я был в этом совершенно уверен. Отец до самого конца во всем следовал своей логике: и в своей ненависти ко мне, и в своей слабости к тебе. Не надо бы нам принимать эти деньги… но мы их примем, слишком уж нуждаемся в средствах… Как это ужасно, как печально!
Больше вроде бы сказать было нечего, и некоторое время Николай молча сидел в кресле, а Софи стояла рядом, опираясь на спинку этого, единственного в камере, кресла. Над ними нависла тень покойного. Николаю даже и глаза не нужно было закрывать, чтобы перед ним встало изрытое морщинами лицо с густыми бакенбардами, с низко спускающимися на глаза кустистыми бровями, из-под которых недобрым блеском сверкали искорки зрачков. Но его больше не страшило всю его юность наводившее на него ужас пугало в домашней куртке с брандебурами. И, как бы сильно ни ненавидел он отца, их связывало между собой слишком много воспоминаний, чтобы при известии о внезапной кончине Михаила Борисовича не почувствовать глубочайшего потрясения, чтобы известие это не всколыхнуло давно, казалось бы, позабытого, не вернуло его в детство. Малахитовая чернильница, запах табака, перевитая синими венами кисть старческой руки, сжимающая набалдашник трости, – лишь он один знал, какую тайную и могучую власть имеют все эти знаки над его душой. И если внешне он принял новость легко, то внутри его все протестовало, душа с трудом желала мириться с нею. Ощущение внезапно обрушившейся пустоты. Словно ряды пехотинцев, маршировавшие перед ним, вдруг все разом пали, и он оказался лицом к лицу с открывшимся ему неприятелем. Он подумал о Седове, и печаль его мгновенно обернулась бешенством.
– Достиг-таки своего, мерзавец! – пробормотал Николай, комкая письмо.
Ему была невыносима сама мысль о том, что этот негодяй, пытавшийся его шантажировать, доносчик, превративший в глазах Софи его мимолетную интрижку в серьезную связь, этот негодяй, доведший Машу до самоубийства, все запятнавший, все изгадивший вокруг себя, стал теперь хозяином в Каштановке. Ах, как он, должно быть, торжествует, как он смеется над Озарёвыми – он, кому Михаил Борисович раз и навсегда запретил приближаться к своему дому! С каким наглым сладострастием он нежит задницу в любимом кресле тестя, совершает обход поместья тестя, командует мужиками тестя, пьет его вино, лежит в его постели, тратит его деньги, охотится в его лесах, лезет под юбки его дворовым девкам! Где, где оно, Божье возмездие, где эта небесная справедливость, куда она скрывается, когда в награду за свои бесчинства подлец, ставший причиной несчастий целой семьи, получает все ее имущество?!
– Мне надо было найти его, вызвать на дуэль и убить, пока я был еще свободен! – воскликнул Николай.
– Господи, когда я думаю, что Сереженьку будет воспитывать это ничтожество!.. – тоскливо вздохнула Софи.
– Да! Да! Это самое ужасное! Надо что-то делать!
Софи покачала головой:
– Ничего тут не поделаешь, нет у нас никаких средств и никакой возможности для борьбы. Седов – родной отец мальчика и его официальный опекун. Стало быть, он и должен управлять имением, наполовину принадлежащим Сереже и наполовину мне…
– Но ты могла бы все ж таки…
– Говорю: ничего я не могла бы! Я, как и ты, лишена всех гражданских прав, в глазах закона меня словно бы и нет вообще, и мне приходится подчиняться…
Он столкнул между собой крепко сжатые кулаки:
– Какая низость! Ах, дорогая моя, милая, бедная… Сколько горя я тебе причинил, и конца этому нет!
Она взяла мужа за руку, сжав его руку так, будто хочет помочь ему без страха перейти через шаткий мостик.
– Перестань, пожалуйста, – попросила тихо. – Истинное счастье не зависит от обстоятельств!
– Если когда-нибудь я выйду на свободу и если только я вернусь в Россию…
– … ты будешь уже такой дряхлый, что сам не захочешь сражаться! – с улыбкой подсказала Софи, желая разрядить обстановку.
Николай встал, в его глазах, отражавших напряженную работу мысли, стояли слезы.
– Ты права, – с горечью произнес он. – Нам даже не стоит на это надеяться…
До вечера он находился в задумчивости, близкой к прострации. Лишь на следующее утро Софи удалось кое-как отвлечь его от мрачных мыслей, рассказывая о покупках, которые она намерена сделать, получив первые же деньги из наследства: кое-какая мебель, ковры, гравюры, книги… Николай кивал при всяком новом предложении жены, был согласен на все. Но она упорствовала в стремлении вернуть любимому вкус к жизни и все следующие дни то и дело втягивала его в обсуждение бесконечных подробностей их будущей жизни среди новых вещей.
Когда все уже вроде бы и смирились с тем, что окон не будет, Лепарский получил от Бенкендорфа письмо, где говорилось: император внял просьбе заключенных, разрешил прорубить окна, но только при условии, что они будут маленькими и зарешеченными, чтобы комнаты ни в коем случае не перестали выглядеть тюремными камерами. Весной начались работы. Несмотря на мольбы дам, рабочие совершенно изгадили стены, покрыв их пятнами, изодрали обивку, поломали мебель. Зато после их ухода в камерах стало немножко светлее. Правда, отверстия были проделаны так высоко («как в конюшне», – говорила Мария Волконская), что для чтения узникам приходилось взбираться на специально сделанные помосты. Николай Бестужев первый приспособил у себя в камере подмостки, с помощью которых – вместе со своими станками и приборами – поднимался наверх, к самому окну. Сидя и стоя на этих пьедесталах, арестанты напоминали то ли птиц на ветках, то ли выставленные напоказ экспонаты. Дамы снова пошли жаловаться коменданту.
– Господи Боже мой, сударыни, вы всегда всем недовольны! – застонал тот, увидев посетительниц. – Но, посудите сами, какой у меня выход: мне остается только подчиняться воле государя, я в рапорте говорил об окнах, мне дали согласие на это, но с точными распоряжениями, какие и где должны быть окна! И если я теперь изменю их в более выгодную для узников сторону, следующая же инспекция способна приказать вообще заделать какие бы то ни было отверстия в стенах.
– Вы отлично знаете, что не ездят сюда никакие инспекции! – воскликнула Софи.
– А вот и ошибаетесь, милейшая госпожа Озарёва! Уж поверьте моему богатому опыту – нет уголка в России, куда рано или поздно не нагрянула бы инспекция! И уж тогда – берегись!..
Генерал инстинктивно втянул голову в плечи, а Софи подумала: правда боится или комедию ломает? Она была уже недалека от мысли о том, что в страхе российских чиновников перед теми, кто стоит на ступеньку выше по иерархической лестнице, есть частица какого-то нездорового сладострастия…
Сквозь свежепробитые окошки в камеры проникало первое весеннее солнышко, вместо эры царствования снегов наступило время царства грязи. Склоны гор покрылись зеленью, а в долинах виднелись только обширные пространства вязкого коричневого заболоченного глинозема. Из почерневших заводских труб в нежно-голубое небо поднимался дым. Поперек улиц уложили доски, чтобы можно было перейти с одной стороны на другую, не утонув в грязи. Колеса тарантасов месили темную слякоть. Мошка тучами кружила над лужицами. Чиновники уже переоделись в белые летние мундиры, над тротуарами кое-где расцвели пестрые солнечные зонтики с бахромой по краю.
Декабристы трудились на мельнице: мололи зерно, вручную, подобно римским рабам, крутя жернова. Кроме того, они превратили большой общий двор в огород и с азартом выращивали самые разные овощи. По вечерам, собравшись на крылечках секций, обсуждали новости с фронтов. Там, после блестящих атак в начале военных действий, русская армия словно бы потерялась перед национальным характером польского сопротивления. Теперь восстанием была охвачена вся страна, повстанцы вели партизанскую войну, досаждая регулярным войскам, у которых и без того снаряжение, количество боеприпасов и провизии, санитарная служба оставляли желать лучшего и отнюдь не соответствовали обстановке. Ходили слухи, что у солдат, одетых в парадную форму, не было даже овчинных тулупов, чтобы накрыться холодными ночами. Наступления и контрнаступления чередовались на берегах Вислы, не принося никакого конкретного результата. Решающего сражения так и не случилось. В мае месяце поляки потеснили императорскую гвардию, заставив ее отступить. Тут маятник качнулся, и русским, правда, ценой огромных усилий, удалось чуть-чуть изменить положение в лучшую для себя сторону, снова отогнать противника к стенам Варшавы, но в это время один за другим от холеры умерли сначала генерал-фельдмаршал Дибич, после него – великий князь Константин Павлович, и командование взял на себя Паскевич.[16] «С ним-то все само собой пойдет! – утверждали некоторые декабристы. – Он уже показал, на что способен, под Ереваном!» Другие, среди них был Николай Озарёв, жалели, что Франция не оказала в конфликте военную поддержку полякам. А Лепарский только и думал, что о своей измученной потрясениями, залитой кровью родине, о тысячах молодых патриотов, сложивших головы на полях сражений, – и лицо его время от времени приобретало трагико-патетическое выражение. Генералу случалось теперь не слышать, что ему говорят, и говорившему тогда казалось, будто собеседник участвует в это время в другом, куда более важном, но никому, кроме него самого, не слышном разговоре. Заключенные находили своего коменданта постаревшим и очень усталым, а летняя жара, похоже, еще больше способствовала дурному самочувствию старика: цвет лица у Станислава Романовича стал землистым, глаза потускнели, вокруг них обозначились темные круги, он еле переставлял ноги и выходить стал только после заката. Тем не менее, Лепарский приказал обустроить сад, примыкавший к его особняку, как можно скорее украсить его целыми грядками цветов, поставить скамейки в деревенском стиле, сделать манящий к себе прохладой искусственный грот… Когда все было готово, дам пригласили приходить туда вместе с ребятишками, старик наблюдал из окна кабинета за тем, как мелькают в аллеях светлые платья, радовался звонкому детскому смеху, и сердце его таяло… Он не знал, что еще и придумать, чтобы удивить и порадовать гостий во время прогулок. Когда было не слишком жарко, он и сам выходил в сад, обменивался с дамами парой слов, трепал по щечкам малышей и возвращался к себе с ощущением, что день не потерян.
В то лето двух государственных преступников, которые шли по пятому разряду, – это были Вильгельм Кюхельбекер и Николай Репин, – перевели на поселение в отдаленные деревни. Для тех, кто оставался в Петровском Заводе, печаль от расставания с друзьями возместилась радостью встречи с прибывшей 9 сентября 1831 года Камиллой Ле Дантю. Невеста Ивашева прибыла в насквозь пропыленной, настолько требующей ремонта, что непонятно было, как она добралась до места, карете. Невесту сопровождали огненно-рыжая горничная и громадного роста крепостной мужик с топором за поясом.
Новоприбывшая сразу же отправилась к Марии Волконской, где по уговору должен был ждать ее жених. Тут собрались и все дамы, дома им не сиделось, поскольку все сгорали от любопытства. Поначалу встреча помолвленных не оправдала ожиданий: вместо того, чтобы броситься в объятия будущему супругу, девушка застыла на месте, и глаза ее налились слезами. Казалось, она – с немалым трудом – пытается отыскать в чертах зрелого, грузноватого мужчины с суровым лицом стройного, гибкого юношу, в которого она когда-то влюбилась. Да и он, вглядываясь в усталую путешественницу, очевидно, не узнавал в ней ту хорошенькую восемнадцатилетнюю гувернантку-француженку, что сохранилась в его памяти. Было ясно, что оба даже не разочарованы – почти испуганы увиденным. «Бог мой! Неужели поспешное решение, принятое легкомысленными детьми, может обязать совершенно чужих людей существовать бок о бок до конца жизни здесь, в Сибири? – думала Софи. – Может быть, лучше сразу признать ошибку, расстаться, вернуться – ей в Москву, ему в свое заточение? Нет уж, будь я на месте Камиллы Ле Дантю, немедленно бы уехала!»
– Камилла! – воскликнул в это время Ивашев с достойным одобрения пылом. – Любимая моя!
Глаза присутствовавших в комнате дам немедленно увлажнились, из ридикюлей выпорхнули платочки – наконец-то, наконец-то звучит признание в истинных чувствах!
– Ах, Базиль! – вздохнула между тем в ответ Камилла. – О! О! Какой счастливый день!
Она шагнула вперед и – в глубоком обмороке упала на грудь жениха. Предвидевшая такой исход княгиня Волконская уже держала наготове флакончик с ароматными солями. Девушка пришла в себя, огляделась с традиционным для таких случаев возгласом «где я?», немножко поплакала, поблагодарила дам, над ней склонившихся, – их был добрый десяток, ответила слабой улыбкой на их понимающие и сочувственные, после чего села рядом со своим Базилем, с душевным трепетом взиравшим на воскресшую из небытия возлюбленную.
Венчание состоялось через неделю, 16 сентября. В маленькой приходской церкви Ивашевых обвенчали, на церемонии присутствовали все декабристы, и, в отличие от, мягко говоря, странного венчания Полины и Ивана Анненковых, тут все прошло почти что обычным образом. Никаких цепей на ногах новобрачного, Лепарский – посаженый отец, Мария Волконская – посаженая мать. После того, как священник благословил молодых, княгиня пригласила в свой дом на Дамской улице[17] новобрачных и их друзей. Накрытый свадебный стол протянулся по анфиладе из трех смежных комнат. Белая парадная скатерть, цветы, свечи в канделябрах, бросающие на лица праздничные отсветы, хрусталь… За столом прислуживали пятнадцать слуг в красных рубахах. Все блюда – закуски, рыба, дичь, жаркое, сладкие пироги – были приготовлены дома. Вина выписали заблаговременно – с родины невесты, из Франции. К десерту участились тосты, зазвучали речи. «Председательствовал» за столом Лепарский: радостный, счастливый, с покрасневшим почти до багрянца лицом, он сидел между двумя княгинями. За четверть часа до отбоя генерал объявил, что вместо свадебного путешествия он дает молодым разрешение не разлучаться ни днем, ни ночью в течение целой недели! Известие о таком щедром подарке было встречено аплодисментами. Генерал раскланивался не хуже актера на сцене. Мундир его был расстегнут, глаза от шампанского сверкали. Племянник что-то прошептал ему на ухо. Лепарский отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Но Осип настаивал, не унимался, и в конце концов, буркнув ему: «Ох, до чего надоел! Всегда все портишь!» – комендант снова поднялся и нехотя произнес, повысив голос:
– Господа, через десять минут прозвучит сигнал гасить огни… Будьте любезны разойтись по камерам…
Все мужчины, кроме Ивашева, поднялись.
– Мне очень жаль, – добавил Лепарский, глядя на дам. – Уверяю вас, мне куда приятнее было бы продолжить это маленькое торжество!
– Но мы же пойдем с ними, – хором ответили дамы.
А комендант хлопнул себя ладонью по лбу:
– Да правда же! А я и забыл! Простите…
И он вместе со всеми вышел в прихожую, где приглашенных ожидали четверо вооруженных солдат, чтобы проводить арестантов на каторгу.
Назавтра, после шестичасового чаепития, узники собрались в большом дворе, чтобы обсудить поднятую князьями Трубецким и Волконским накануне, когда все выходили из церкви после венчания Ивашевых, проблему: раз уж власти отказывают заключенным в праве свободно посещать богослужения, может быть, можно вскладчину построить церковь прямо на территории каторги, расходы не превысили бы двенадцати тысяч рублей, а артель достаточно богата, чтобы позволить себе внести эту сумму. И какой же будет отклик в мире, если предприятие удастся! Вдруг царь расчувствуется, узнав о подобном благочестивом начинании? Предложение Трубецкого взволновало многих до слез, и даже те, кто не отличался особой религиозностью, казалось, были расположены к его идее. Декабристы перешли уже к вопросу о том, где именно возводить церковь, когда вмешался Николай Озарёв:
– А не боитесь ли вы, что, построив храм на территории тюрьмы, мы тем самым лишим себя последней ниточки, связывающей нас с внешним миром? Пока нам разрешено хотя бы раз в год смешиваться с местными жителями во время причастия, но мы потеряем даже этот крохотный шанс участвовать в жизни людей, если вас послушаемся…
– Да это же мелкое неудобство в сравнении с тем, какое утешение и какую поддержку получат все набожные члены нашего братства, если смогут ходить в церковь тогда, когда им хочется! По велению души… – ответил князь Трубецкой.
– Допустим. Но, вероятно, вы намереваетесь строить церковь из хороших материалов, чтобы она была прочной?
– Разумеется. Зачем нам деревянная хибарка вроде петровозаводской?
– Та-а-ак… Иными словами, строение проживет долго, куда дольше, чем мы сами… А не думаете ли вы, что, чем лучше будут условия на каторге, тем охотнее власти станут ею пользоваться?
Среди слушателей почувствовалось напряжение, все задумались.
– Но это же просто абсурд какой-то! – воскликнул наконец князь Волконский.
– Не такой уж абсурд… – отозвался Завалишин. – На самом деле чудовищно, что избытком религиозного рвения мы помогаем превратить эту временную каторгу в каторгу постоянную! Новые поколения заключенных будут вправе упрекнуть нас в этом!
– А кроме того, – снова заговорил Озарёв, – стоит нам построить церковь здесь, охранники мигом поймут, кто туда ходит, а кто нет. И таким образом, все атеисты и просто свободомыслящие окажутся выведенными на чистую воду. Их непременно возьмут на заметку.
– Господи ты Боже мой! – воскликнул Трубецкой. – Но зачем же подозревать Лепарского в том, что он способен на подобную низость!
– Я говорю не о нем. Я говорю о том коменданте, который рано или поздно сменит Станислава Романовича. Вы точно так же, как и я, знаете полицейские замашки наших властей. Ах, как они будут счастливы, когда получат – и прямо из наших рук – возможность рыться еще и в нашей совести!..
От этих слов энтузиазм большинства собравшихся снизился дальше некуда. Только князь Трубецкой, некоторое время помолчав, произнес сухо:
– Это предприятие нужно судить не с точки зрения рассудка, а в силу веры.
– Уж не хотите ли вы сказать, что я верю менее вас?!
– Все, что вы сейчас говорили, именно это и доказывает!
– Господа, господа! Помолчите минутку, прошу вас! – закричал низкорослый Завалишин, взбираясь на камень, чтобы его было видно. Он прижимал к сердцу Библию, с которой был неразлучен, развевавшиеся на ветру длинные волосы и борода придавали ему вид библейского пророка. – Не думаю, что вы можете назвать меня атеистом, – продолжал он. – Ну, так вот, при всем при том я считаю, что Озарёв прав! Религиозное чувство слишком интимно, слишком серьезно и слишком уважаемо всеми нами, чтобы сторонники постройки здесь церкви, пусть даже они в большинстве, получили право навязывать свою волю остальным. Действуя таким образом, они нарушают священный принцип свободы совести. А разве это не важнейший из принципов, за которые мы всегда вели борьбу?
Товарищи зааплодировали ему – почти все, воздержались лишь с десяток непреклонных, сгруппировавшихся вокруг Трубецкого и Волконского.
– Если вам хочется вложить деньги в богоугодное дело, я предлагаю вот что, – переждав аплодисменты одних и недовольный шепот других, снова заговорил Завалишин. – Как вы могли вчера еще раз убедиться, здешняя церковь просто разваливается. Так давайте же пожертвуем те самые двенадцать тысяч, о которых вы говорили, князь, на строительство не храма только для каторжников, а храма для всех, то есть вне каторги. Тогда наш поступок получится бескорыстным, будет истинно христианским поступком. И мы сможем гордиться тем, что, будучи каторжниками, изгоями, выстроили церковь для свободных людей! И этот Дом Божий, в который будет вложена наша лепта, станет памятником декабристам, который расскажет грядущим поколениям о нашем пребывании здесь…
– Ну и зачем нам памятник, который мы сами сможем посетить раз в году? – возразил Трубецкой. – Не слишком ли высокую цену мы заплатим за право бывать на Пасхальной службе?
– Не богослужение приводит человека в рай!
– Хотелось бы услышать мнение священника об этих ваших словах!
– Ни один священнослужитель не заменит вот этого! – Завалишин, сверкая взглядом, указал на свою Библию.
– Может быть, вы протестант? – иронически усмехнулся Трубецкой.
– Нет, православный, как и вы, но Дух для меня выше буквы, Евангелие выше попов!
– Господа, господа, не увлекайтесь дискуссией! Мы потеряли нить! – остановил спорщиков Николай. – Проблема сводится к одному-единственному вопросу: строить нам церковь в пределах каторги или за ее пределами. Предлагаю голосовать!
– Да! Да! Будем голосовать! – поддержали Озарёва несколько человек. – Иначе мы увязнем в этом обсуждении…
Юрий Алмазов сбегал за бумагой и карандашами, затем прошелся со шляпой, собирая в нее бюллетени, заполненные товарищами. Тут же подсчитали голоса и убедились, что предложение Завалишина поддержали двадцать семь человек, у Трубецкого же осталось только одиннадцать сторонников.
– Ну, что ж, – пожал плечами князь. – Подчинюсь мнению большинства. Раз вам так угодно, стройте храм для жителей Петровского Завода, но я продолжаю настаивать на том, что ваша щедрость совершенно абсурдна.
Когда декабристы обсуждали результаты голосования, явился Лепарский – запыхавшийся, прихрамывающий, в двурогой шляпе, низко надвинутой на лоб. Оказалось, что охранник известил коменданта о том, что в тюремном дворе происходит какое-то важное собрание, и он пришел потребовать объяснений. По мере того, как Завалишин рассказывал генералу о намерениях арестантов, лицо его, выглядывавшее из-под торжественного плюмажа, становилось все более озабоченным.
– Да… да… – сказал он в конце концов. – Намерение благородное, и я не премину подписаться под ним… Вот только не знаю, разделит ли мое мнение об этом губернатор Восточной Сибири… Опасаюсь, как бы он не увидел в вашем стремлении подарить городу церковь… как бы это сказать-то?.. ну, как будто вы кичитесь своей щедростью… подчеркивая, что город уж так обнищал, что сам не способен построить себе достойный храм…
– А разве это не так? – удивился Озарёв.
– Так не всякую же правду стоит высказывать вслух! И потом… потом… видите ли, меня самого несколько коробит от того способа, каким вы пришли к своему решению.
– Но мы же голосовали!
– В том-то и дело!.. Потому что не надо было… не надо больше… голосование – обычай республиканский… мне бы не хотелось, чтобы он утвердился здесь… особенно… особенно, если речь идет о таком благом деле… Понимаете, это… это выглядит кощунством… Всеобщее одобрение, народное представительство, воля большинства… еще немного – и вы приметесь у нас тут играть в конституционное собрание!.. Нет уж, оставьте это французам!..
Закончив речь, Лепарский тяжело вздохнул. А декабристы тем временем переглядывались: они не узнавали своего старика генерала в этом трусливом, малодушном представителе администрации. Николай догадался, что у того попросту сегодня день сомнений, угрызений и раскаяния. Иногда усталость и возраст брали свое, и, забыв, что от природы великодушен, Станислав Романович терялся, шел на попятную, блеял, начиная вдруг спешно пропагандировать официальную мораль, внушавшуюся ему в течение полувека, если не больше, государственной службы. Заметил ли он иронию в обращенных на него взглядах? Как знать, но внезапно он смутился и резко сменил тон:
– Отлично, посмотрим. Напишу рапорт. Надеюсь, ваша просьба будет удовлетворена. Позвольте откланяться, господа!
И удалился, чуть более сгорбленный, чем когда пришел. А назавтра арестанты узнали, открыв газеты, о капитуляции Варшавы. Наверное, Лепарский был уже в курсе событий, когда пришел к ним во двор… И снова образовалось два лагеря: одни декабристы радовались, потому что видели в падении польской столицы лишь викторию, торжество русской армии, других же опечалило поражение либеральной революции на окраине империи. «Варшава у ног Вашего Величества!» – написал генерал-фельдмаршал Паскевич в своем рапорте на государево имя. По слухам, царь получил донесение командующего, будучи в дороге, и, прочитав его, тут же бухнулся на колени прямо в грязь, чтобы возблагодарить Господа за эту добрую весть. Закончив молитву, император, должно быть, сразу же принялся размышлять о том, как получше наказать бунтовщиков, и можно было предвидеть, что кары будут чудовищными.
Несколько дней спустя в церкви Петровского Завода состоялось богослужение с благодарственным молебном. Все городские чиновники получили приказ присутствовать, причем в парадных мундирах, и явились в храм. Стоя на коленях в первом ряду, Лепарский слушал, как священник, не принадлежащий к его конфессии, прославляет Господа за помощь русским, сумевшим благодаря этой Господней помощи раздавить Польшу. Генерал крестился и думал: «Что я здесь делаю?! Какой стыд! На самом деле мне надо было закричать, бросить им все свои ордена, уйти… А я не могу. Мундир сильнее меня. Он прирос к моей шкуре, он меня поддерживает, он меня ведет… Если бы варшавяне меня видели сейчас!.. Меня – человека с фамилией Лепарский!.. Я предаю имя предков!..» В этот момент к растрескавшимся, выцветшим сводам церкви вознеслась торжествующая песнь. В облаках от кадильниц было видно, как головы рабов Божиих, все как одна, склонялись долу. Потом все прихожане разом поднялись с колен. Лепарский – тоже, как все. Кто мог бы его понять в этом сборище автоматов? У него болели колени, трясся подбородок, по морщинистым щекам катились слезы…
3
В любое время из одиннадцати дам, жен декабристов, обитавших в Петровском Заводе, по меньшей мере, какая-то одна была беременна. И все по очереди рожали: то Анненкова, то Волконская, то Ивашева, то Трубецкая, то Розен… Своим детям, родившимся отверженными, изгнанниками, в двух шагах от тюрьмы, матери старались дать нормальное, последовательное образование. Женщины лелеяли надежду, что их чада все-таки смогут когда-нибудь, пусть позже, много позже занять соответствующее их фамильной традиции положение. Вряд ли государь, думали они, станет исполнять свою угрозу и карать не только жен, но и детей декабристов рассматривать как потомков политических преступников, как государственных крепостных.[18] А в ожидании, пока судьба им улыбнется и они будут восстановлены в правах, ребятишки росли все вместе – с ощущением, будто принадлежат к одной большой семье. Самым старшим, дочерям Александрины Муравьевой и Полины Анненковой, было уже по три года. О том, чтобы объяснить таким малышкам особенность условий, в которых они появились на свет Божий, даже речи быть не могло. Для них то, что отцов запирают на ночь в тюремной камере, а днем за ними по пятам ходят охранники с ружьями, было нормальным явлением. У каждого из мальчуганов, у каждой из девчушек было столько дядюшек и тетушек, что они немножко путались в своих привязанностях. Во второй половине дня мальчики и девочки с мамами и нянями приходили в сад Лепарского: зимой там специально насыпали снежные горки, чтобы можно было кататься на санках, летом ставили качели, устраивали песочницы, был даже неглубокий пруд для пускания корабликов. У занятых воспитанием подрастающего поколения дам (а таких было большинство) времени скучать попросту не оставалось. Зато их мужьям, наоборот, чудилось, будто время тянется слишком долго. Резкий подъем интереса к интеллектуальным занятиям и учебе для многих сменился теперь периодом бесплодных мечтаний, праздности, опасных погружений в прошлое…
Но больше всех страдали от монотонности своего бытия холостяки. Некоторым так не хватало женщины, что это склоняло их к безрассудным действиям. Так Юрий Алмазов, постоянно окликавший местных девушек по дороге на мельницу, сумел познакомиться с одной из них, по имени Галина, и так завлечь красотку, что она пообещала по первому зову явиться к нему в тюрьму. Казалось бы, все отлично, вот только как же барышне проникнуть через ворота, пройти в камеру? Отвергнув несколько чересчур дерзких решений этой проблемы, Юрий вознамерился использовать в своих целях телегу водовоза. Тот, поторговавшись, за приличную мзду согласился, спрятал Галину в пустой бочке, завалив эту, ставшую не совсем пустой, бочками полными, и, как каждый вечер, нагруженный, подъехал к шести часам к караульной будке. Часовых подкупили, и они пропустили повозку, извлекли девушку из бочки и проводили в камеру Алмазова. Несколько холостяков выстроились на крыльце секции, поджидая чужую гостью: они таращили глаза, с трудом сдерживали смех. Прошло полчаса, дверь алмазовской камеры со скрипом, напоминавшим мяуканье, отворилась, и на пороге возникла блондинка – довольно хорошенькая, одетая по-крестьянски, с могучим крупом и толстыми ляжками. Вся измятая и растрепанная, она, тем не менее, окинула собравшихся мужчин дерзким, даже нагловатым взглядом. Свистунов, Соловьев и Модзалевский перегородили ей выход на улицу и стали что-то нашептывать на ушко. Девушка покусала стеклянные бусы, после чего дала, видимо, какое-то обещание, потому что троица просто взвыла от восторга. Между тем подъехал водовоз, выгрузивший к тому времени все полные бочки, и стал грузить опустошенные накануне. Галина юркнула в одну из них с улыбкой богини, поднимающейся на небеса, и позволила закрыть себя днищем.
Назавтра она вернулась и привела трех подружек – все они прибыли тем же путем. Девицы оказались сговорчивыми и не ограничились тем, чтобы дарить свои милости только пригласившим их заранее: хихикая и изображая смущение, они перебирались из камеры в камеру, достаточно было кому-нибудь из холостяков выйти на порог и сделать им знак. Торгаш с бочками терпеливо ждал, пока девушки удовлетворят всех клиентов, чтобы затем увезти их в обратном направлении. Женатые только издали следили за похождениями товарищей, ужасно боясь, что обо всем этом узнают их целомудренные супруги: ведь, если до них донесется слух, что девицы легкого поведения промышляют тут, в каторжной тюрьме, скандала не избежать! Да и вообще, как дворянин должен относиться к возможности для княгини Трубецкой, например, столкнуться лицом к лицу со шлюхой, только что выскочившей из чьей-то кровати?! Муравьев и Анненков даже отмечали, что получившая развитие в связи с противозаконной выдумкой Юрия Алмазова практика мало того, что аморальна, так еще и лишает всех декабристов части воды, на которую они имеют право. Число бочек день ото дня не менялось, и ровно столько бочек, сколько занимали эти проститутки, прибывали на тюремный двор без воды! Жажда жажде рознь, говорили они, и та, что испытываем мы, заслуживает куда большего уважения, чем та, которую холостяки пытаются утолить с этими безнравственными созданиями. Николай Озарёв, более снисходительный к слабостям друзей, уверял недовольных, что с наступлением морозов, разумеется, сократится количество посещений водовоза и, следовательно, доставляемых им девиц тоже. Однако выпал снег, замерзла река, начали топить печи, из труб повалил дым, а потребности холостяков в «питьевой воде» ничуть не уменьшились, и удовлетворялись они столь же активно. В середине января 1832 года торговцу водой пришлось даже удвоить число бочек, иначе ему было не выполнить всех заказов. Женатым это надоело, и они внезапно решили, что пора выяснить отношения. С виновниками беспорядков было назначено совещание в сарае для садовой утвари – естественно, тайком от дам. Первым взял слово от имени женатых князь Трубецкой, но не успел он начать, как был прерван Юрием Алмазовым.
– Почему это у нас одни женатые имеют право развлекаться в своих камерах? – вскричал он. – Мы годами молча терпели перед глазами зрелище вашего семейного счастья, да-да, терпели и молчали, хотя нам самим, фигурально выражаясь, в это самое время нечего было на зуб положить! А теперь, когда мы изобрели наконец способ и самим немножко порадоваться жизни, нам начинают читать мораль!
Князь Трубецкой был так возмущен, что его крупный нос, казалось, задрался кверху.
– Как вы можете сравнивать достойную жизнь, которую мы ведем с нашими супругами, с… с совершенно… непристойными отношениями, что вы тут развели, приводя уличных девок!
Алмазов усмехнулся.
– При всем почтении к вашим замечательным супругам, как-то не могу я забыть, что и они прежде всего – женщины. И, даже если между ними и нашими гостьями больше нет ничего общего, я, тем не менее, полагаю, что…
– Молчать! – зарычал Трубецкой. – В ваших словах заключено оскорбление этим восхитительным, этим безупречным дамам, этим ангелам во плоти! Как вы смеете! Нет, я не желаю этого терпеть. Вы должны немедленно передо мной извиниться.
– С чего бы это? – маленький хрупкий Алмазов смертельно побледнел от ярости. – Я вас не оскорблял!
– Оскорбляли! Выражаясь так, как вы выразились, вы нанесли мне личное оскорбление!
– А я так не думаю…
– Значит, вы отказываетесь признать свою вину?
– Еще бы! Разумеется, отказываюсь!
– В таком случае я требую удовлетворения! Можете считать, что я дал вам пощечину, сударь!
– К вашим услугам, князь!
Собравшиеся, вертя головами туда-сюда, не успевали следить за обменом «любезностями». Казалось, все забыли, что двое мужчин, договаривающихся о дуэли, каторжники и что единственным их оружием могут быть карманные ножи, утаенные от бдительности охранников. Николай опомнился первым.
– Господа, господа, возьмите себя в руки, – прошептал он. – Мы все-таки на каторге!
– А разве это причина для некоторых из нас вести себя подобно невоспитанным и не слишком чистоплотным хамам? – отпарировал князь Трубецкой.
– Если вы опасаетесь, что ваши жены в один прекрасный день откроют, что у нас происходит, посоветуйте им жить в другом месте, – лукаво сказал Свистунов. – У каждой из них есть свой дом в городе!
– Не говорите глупостей! – взорвался и Николай. – Все, о чем вас просят, это – чтобы вы были чуть более сдержанны и скромны в способе принимать этих… барышень!
– Да они же в бочках приезжают! Куда скромнее?
– Если бы вы их еще принимали по одной…
– Нет, так не пойдет! – отрезал Алмазов. – И следующий раз водовоз приедет завтра, как обычно!
Князя Трубецкого скривило от отвращения. Он пошмыгал носом, попыхтел и сказал, обращаясь к женатым декабристам:
– Пойдемте, господа! Тут слишком дурная для нас компания!
Озарёву было ужасно жаль, что между женатыми и холостяками обозначились такие непримиримые противоречия. Он думал о том, что в Чите никогда бы такого не случилось. Там не могло быть вражды. Узники здесь жили бок о бок, в больших общих камерах, не было различий ни по богатству, ни по бытовым удобствам, ни по социальному положению. Если кто-нибудь и жаловался, что ему не хватает одиночества, то уж чего-чего, а недостатка в дружеской привязанности, проявлявшейся с утра до ночи, он, напротив того, ощутить не мог. В Петровском же Заводе улучшение условий содержания заключенных подчеркнуло разницу между ними. У каждого теперь была своя отдельная камера, и каждый обставлял ее по своим силам и средствам. Те, кому родственники не присылали денег, жили словно монахи – в келье с голыми стенами, те, кто побогаче, обитали среди ковров, картин, безделушек. Из двух друзей, осужденных на равном основании, один ходил в лохмотьях, другой в элегантном наряде с иголочки. И каждый у себя постепенно привыкал жить только для себя. После эры согласия и взаимопомощи началась эра эгоизма. Размежевание еще усугубилось с водворением в исправительное заведение дам. Само их присутствие в тюремных помещениях разжигало ревность, приводило к ссорам. И под влиянием жен бывшие товарищи по оружию стали собираться в компании в зависимости от более или менее знатного происхождения, от положения в свете. С другой стороны, холостяков необычайно возбуждали постоянно мелькающие рядом с ними юбки. Даже если бы они и хотели оставаться благоразумными, им все равно помешали бы постоянные перемещения женщин. В любой момент встреченная во дворе или коридоре дама напоминала всякому о его навязчивой идее. Скандал, устроенный князем Трубецким из-за визитов девиц легкого поведения, был просто первым следствием распада коммуны, и Николай с тревогой ждал развития событий.
Назавтра после размолвки ровно в шесть часов вечера водовоз въехал со своей телегой на территорию тюрьмы. Солдаты, посмеиваясь, сопровождали его. Юрий Алмазов и еще несколько холостых декабристов собрались у сарая, чтобы присутствовать при разгрузке. Николай стоял среди них, слушал, как они шутя заключают пари, в каких бочках есть девушки, в каких нет… Наконец появились барышни – водовоз с трудом освободил их из «плена», и только они стали расправлять помятые юбки, как лица всех перекосились от страха. Из-за угла показалась фигура Лепарского! Кто известил генерала? Трубецкой? Нет, Николай не мог в это поверить! Он охотнее готов был предположить предательство со стороны охранника. Станислав Романович был в такой ярости, что девицы поспешили вернуться в свои бочки. Комендант же обошел повозку, ударяя кулаком по бокам бочонков: некоторые отзывались глухо, другие – звонкой пустотой и мышиным писком.
– Ах ты, мерзавец! – закричал Лепарский, хватая водовоза за грудки.
Тот – высокий, крепкий, бородатый мужик – весь задрожал.
– Да я сам удивлен, сильно удивлен, ваше превосходительство! – пробормотал он. – Откуда бы они? А-а-а, я ведь беру воду из реки, так, может, и русалки с нею туда, в бочки, заплыли…
Поэтичное объяснение торговца водой окончательно вывело генерала из себя.
– Ты еще и смеешься надо мной, сукин сын! – завопил он не своим голосом. – Хорошо же, я прикажу, чтобы об тебя сломали розги покрепче!
Напуганный водовоз вскочил на сиденье, хлестнул лошадей и пулей вылетел из ворот, не оставив ни воды, ни девиц…
Когда двор опустел, Лепарский повернулся к декабристам и обрушил свой гнев на них:
– Блудодеи и притворщики! Я спешу сюда, чтобы сообщить о решении губернатора Восточной Сибири дозволить строительство вашей церкви, и застаю вас с этими шлюхами!
Комендант кричал минуты три, не меньше. Затем Юрий Алмазов тихо и почтительно объяснил ему, что холостякам, которые, как он сказал, ничем не отличаются от других мужчин, в их возрасте и с их физической формой, чрезвычайно трудно обходиться без женщин.
– Между прочим, до сих пор вы отлично без них обходились! – не уступал Лепарский.
– Да, но ценой каких страданий! – вздохнул Алмазов. – Доктор Вольф может сказать вам, насколько вредно для здоровья нормального индивидуума подобное воздержание. Ладно… Если вы не хотите, чтобы девушки приходили к нам сюда, разрешите нам отлучаться к ним, в город. Если угодно, можете давать солдата в сопровождение!
Предложение Юрия, сделанное наобум и совершенно, казалось бы, неприемлемое для генерала, неожиданно того успокоило. Если речь заходила об организации какого-то процесса, ему было легче почувствовать себя в своей тарелке. В любом случае прежде всего – порядок, систематичность во всем, пунктуальность. И никаких импровизаций – импровизаций он не любил. Если за арестантом по пятам следует охранник, арестанту заранее прощаются любые его выходки.
– Ладно, посмотрим, – ответил Лепарский куда более мирно, чем прежде. – Я разберусь.
И ушел, так и сяк прокручивая в голове новую ситуацию. А неделю спустя объявил, что отныне каждый из заключенных может, получив у него разрешение, отправиться под конвоем в город, «чтобы встретиться там со своими знакомыми». В первые дни холостяки едва ли не ссорились из-за того, кому ходить чаще, а кому можно и пореже, затем пылу у них поубавилось. Некоторые даже отказывались от возможности использовать разрешение: барышни, с которыми тут они с радостью встречались, в городе не слишком оправдывали надежды, к тому же в большинстве случаев солдаты, которые служили арестантам конвоирами, сразу после них шли к тем же девицам, причем за ту же цену! А кроме всего прочего, среди декабристов-холостяков появились больные, которых доктор Вольф, конечно же, лечил с присущими ему преданностью и усердием, но все равно вылечить мог только отчасти…
Воспользовавшись тем, что холостяки получили привилегии, женатые, в свою очередь, потребовали от Лепарского официального разрешения для себя навещать супруг в их домах на Дамской улице. Естественно, позволив одним, генерал не смог отказать другим, и вскоре стало не хватать солдат для сопровождения всех господ, жаждущих плотских утех. Некоторым было позволено гулять практически свободно, если дадут честное слово вернуться в камеру до сигнала гасить огни. Затем комендант разрешил семьям проводить вместе воскресные дни и закрывал глаза на то, что выходные у заключенных нередко продолжались до вторничного утра. Камеры первой и двенадцатой секций были почти всегда пустыми, зато на Дамской улице жили на широкую ногу, дома становились все комфортабельнее. У Волконских стало теперь десять человек прислуги, у Трубецких – восемь, у Муравьевых – семь. Из Санкт-Петербурга то и дело прибывали обозы с мебелью, коврами, картинами… Камилла, по примеру подруг, тоже построила себе дом, который, впрочем, называла «виллой». Вопреки прогнозам дам-декабристок, их союз с Ивашевым был или, по крайней мере, выглядел прочным и счастливым. Они часто показывались под ручку, смотрели друг на друга влюбленными глазами и повторяли всем, кому было угодно услышать, что ничего не стали бы больше просить у Господа, если бы Он послал им сына. В ожидании, пока Бог подарит ей дитя, Камилла купила корову, кур, кроликов и с наслаждением занималась животноводством.
Вскоре начались приемы то у одних, то у других, однако именитые горожане, видимо, не желая себя компрометировать, избегали компании каторжников и их жен, и те всегда оставались среди своих, хотя и окруженные всеобщим уважением. Один Лепарский не боялся этой заразы, превратившись словно бы в связующее звено между заключенными и «обществом». Но на самом деле «элита» Петровского Завода – губернатор, начальник полиции, директор завода, почтмейстер, инженеры и писари – порядком ему наскучили, он попросту томился в их компании, что же до жен и дочерей высших чинов, то находил их – всех как одну – уродливыми, глупыми, безвкусно одетыми и исполненными провинциальной спеси. В подчинении у этой небольшой группы администраторов было множество рабочих – свободных и бывших каторжников, занятых в литейном производстве, в этом аду. Внизу царили нищета и невежество, наверху – душевная черствость, недостаток воспитания, убожество, полное отсутствие идеалов. Какая разница с миром узников! Именно среди них Лепарский чувствовал себя наиболее свободно и легко. Злые языки в петровозаводских гостиных болтали, что генерал влюблен сразу во всех «сибирских дам»!
24 апреля, в День святой Елизаветы, госпожа Нарышкина отправила всем семейным и некоторым холостякам приглашения на именины. Передать их должен был лакей в ливрее. Жены декабристов договорились одеться в этот день «получше, чем обычно». Софи довольствовалась тем, что обновила свое розовое платье, подчеркнув цвет ткани черными бархатными бантами. И, войдя об руку с Николаем в гостиную Нарышкиных, сразу поняла, что выпала из общей тональности: у большей части женщин были высокие прически из кос, украшенные искусственными цветами и изящными гребнями, огромные декольте, тюлевые или креповые юбки, усыпанные разноцветными букетиками. Все туалеты были явно в спешке изготовлены дома, но все выдавали желание ослепить. Дамы обменивались комплиментами, восклицаниями, играли улыбками, глазами и веерами. Их усилия воссоздать в Сибири обстановку санкт-петербургского приема были настолько очевидны, что Софи ощутила раздражение и жалость одновременно. Она была абсолютно уверена в том, что этим маскарадом им не удастся обмануть даже самих себя, что все это веселье и для них припахивает тюрьмой…
– Дорогая! Ваше платье просто восхитительно!
– А ваша прическа, милочка! Совершенно необходимо, чтобы вы одолжили мне свою горничную! Знаете, что моя сказала?..
Мужчины в черных фраках и белых жилетах выглядели чопорно. Поскольку холостяков было куда больше, чем семейных, на одну представительницу прекрасного пола приходилось по десятку представителей сильного, и пропорция казалась угнетающей даже тем из дам, кто любил, когда их со всех сторон осыпали лестными словечками.
Станислав Романович из-за того, что страшно отекли ноги, вынужден был остаться дома. Маленький оркестр, составленный из крестьян-балалаечников, занял место на подмостках и заиграл под сурдинку. Обменялись первыми поздравлениями – и атмосфера сразу охладилась, повисла тишина, никто не знал, что еще сказать. Чувство, что все они выглядят ряжеными, отнимало у мужчин весь их ум, у женщин – непосредственность. Николай, чтобы спасти положение, затеял с князем Трубецким и доктором Вольфом политическую дискуссию. Луи-Филипп, король-гражданин, навел, дескать, во Франции порядок и использовал победу народа. В Польше царь уничтожил Сейм, армию, независимую администрацию, сослав главарей мятежа в отдаленные провинции и задавив своей пятой всю страну. Не приведет ли такая, явно излишняя суровость, к новым восстаниям? Дамы запротестовали:
– Нет-нет! Никаких серьезных споров сегодня вечером!
Они непременно желали танцевать – впервые за все время заключения мужей! Балалаечники удалились, и декабрист Алексей Юшневский сел к фортепиано. Пальцы его живо забегали по клавишам. Зазвучал вальс. Довольно долго озадаченные мужчины только переглядывались. Они не решались отдаться на волю этой веселой, словно бы призывающей их совершить святотатство музыке. Дело, которому они служат, наказание, которого они еще не отбыли, как им казалось, требуют от них достоинства, несовместимого с развлечениями подобного рода. Николай глаз не сводил с Софи, а она улыбалась мужу, молча призывала его. Свет канделябров золотил ее кожу, глаза казались еще более живыми и выразительными.
Князь Трубецкой склонился перед хозяйкой дома, и они открыли бал – с некоторой, правда, натянутостью в позах. Все наблюдали за ними, но никто не решался последовать примеру первой пары. Юшневский, склонившись над клавиатурой, разукрашивал мелодию трелями, арпеджио, сотнями фиоритур, от которых щемило сердце. Внезапно забыв о 14 декабря, революции, каторге, Николай бросился к Софи и увлек ее на середину зала. Движения их ног были слаженными, они неслись в легком, веселом кружении. Вот тут уже устоять оказалось невозможно, и вскоре у каждой дамы было по кавалеру. Тоненькая, изящная, словно устремленная к небу Софи с ее мягко округленными руками, прямой талией, плавной линией плеч, неотразимая, обворожительная Софи покачивалась, грациозно скользила по паркету и не сводила взгляда с лица мужа. Николай смотрел на нее серьезно и нежно. Они танцевали молча, но Софи знала, что Николя, как и она сама, погрузился в прошлое, что он думает об иных балах, об упущенных шансах и о любви, выдержавшей испытания временем. «Как тогда… Почти как тогда… Нет, может быть, даже лучше…» Зеркала, мебель, огоньки канделябров, фигуры гостей – всё вертелось вокруг них, а они были центром вселенной. У Софи вдруг закружилась голова, и она на секунду, с трудом переводя дыхание, прислонилась к груди мужа: в нем всегда была сила, которая успокаивала и придавала энергии. Не прекращая танца, Николай привел жену в глубину зала, где она опустилась в кресло и откинула голову на спинку.
– Отвыкла я танцевать! – прерывающимся голосом проговорила Софи.
Николай тоже едва дышал, совсем выбился из сил, но из мужского тщеславия сцепил зубы, втянул ноздри и пытался показать, что дышит спокойно. Капли пота выступили на его пересеченном синей веной лбу. Софи увидела, как он повзрослел, даже постарел, и почувствовала какое-то странное удовлетворение этим. Как будто легкое увядание мужа было ее собственной заслугой, как будто с тех пор, как у него появились морщинки вокруг глаз, он стал принадлежать ей полнее.
– Надо бы тебе пригласить хозяйку дома, – прошептала она.
Он скорчил гримасу невоспитанного мальчишки и пообещал пригласить Елизавету Нарышкину на ближайший контрданс. В эту минуту у дверей обозначилась какая-то суматоха, и внезапно в зале появился племянник генерала Лепарского Осип, страшно взволнованный – настолько, что Юшневский прекратил играть и, подобно всем остальным, замер, глядя на новоприбывшего.
– Простите, что нарушил ваше веселье, – мрачно произнес Осип, – но комендант прислал меня сюда с предупреждением: адъютант военного министра, генерал Иванов, неожиданно прибыл с инспекцией тюрьмы. И может отправиться туда в любой момент, прямо сейчас. Поторопитесь, господа, занять ваши камеры. Переоденетесь на месте. Да! Ни в коем случае не вздумайте, сударыни, сопровождать ваших мужей! Это произвело бы слишком неблагоприятное впечатление на инспектора. Быстрее, быстрее, господа! Только от вас сейчас зависит наше спасение! От скорости, с которой…
Он еще говорил, но поток декабристов уже устремился к выходу. Именинница была в отчаянии: люди с тревожным выражением на лицах мелькали перед ней так, словно в ее гостиной вдруг вспыхнул пожар. Некоторые даже забывали попрощаться, приложиться к ручке! И на столе осталось еще столько несъеденного, невыпитого! Николай поцеловал Софи, поклонился госпоже Нарышкиной и выбежал наружу. К счастью, тюрьма была совсем близко: только улицу перейти. И вот уже дружный отряд прожигателей жизни во фраках и белых жилетах быстрым шагом марширует перед караульными. Еще десять минут – и все они уже переоделись, превратившись из светских львов в убогих каторжников…
Однако генерал Иванов нанес им визит только на следующий день. Это был такой толстенный, надутый и увешанный орденами господин, что он и двигался-то с трудом. Инспектора сопровождал Лепарский – бледнее бледного, с искривленными от боли уголками губ. Он сильно хромал, но отказывался взять костыль или хотя бы трость. Время от времени он нашептывал инспектору на ухо объяснения, больше похожие на оправдания: вид у коменданта при этом был виноватый. Когда они вошли в камеру Николая, тот встал, приветствуя гостей.
– А это перед вами Николай Михайлович Озарёв, – представил Лепарский. – Никаких проступков, заявить не о чем.
Должно быть, ту же самую формулировку он повторял, характеризуя каждого из своих подопечных, но при этом выглядел таким раболепным и угодливым, что больно было смотреть. Николай слишком уважал Станислава Романовича, чтобы не страдать, видя, как тот унижен самим присутствием этого спесивого бурдюка. Господи, да о чем он так тревожится-то? Единственная отставка, которая может последовать в его возрасте, единственная ссылка – это в небытие, на тот свет! Но генерал не думает об этом… Он все еще ревностный служака!
– К какому разряду вы относитесь? – спросил инспектор.
– К четвертому, – ответил Николай.
– Есть ли у вас жалобы на помещение, на качество пищи?
– Никаких, ваше превосходительство!
– Чем вы заполняете ваш досуг?
– Чтением и самообразованием.
– Что именно изучаете?
У Лепарского стало такое выражение лица, будто он отец, ребенок которого у него на глазах сдает трудный экзамен. Он шевелил губами одновременно с декабристом, словно помогая ему правильно отвечать на все вопросы.
– Историю, политические науки, философию, – сказал Озарёв.
Генерал Иванов нахмурился и потемнел лицом. Жирные щеки отяжелели и застыли складками.
– Это неверное направление! – возмутился он. – Что за опасные науки вы избрали!
– Заключенный занимается также и физическим трудом, – заторопился Лепарский с уточнениями. – Столярные работы… кое-какие мелкие починки… Должен сказать, что вообще большая часть наших заключенных получает в условиях пенитенциарного заведения навыки ремесел: думаю, это сослужит им хорошую службу, когда они перейдут на поднадзорное поселение…
– А супруги заключенных где находятся? – сухо осведомился генерал Иванов.
Левое веко Лепарского задергалось. Он пробормотал:
– Они… они сидят по домам… время от времени эти дамы навещают здесь своих мужей, как дозволено правилами, но обычно… обычно они находятся у себя дома… Эти господа имеют право навещать их только… только в случае тяжелого заболевания… и всегда… всегда под конвоем… С ними обязательно идет вооруженный охранник… Тут я никогда не иду на уступки, ваше превосходительство, то есть… то есть… все, что угодно – только под наблюдением!
Генерал Иванов вышел, не прибавив ни слова. Комендант похромал за ним, бросив с порога Николаю трагический взгляд.
На следующий день инспектор отбыл, а Лепарский слег. Неожиданный визит начальства из Санкт-Петербурга его уже просто доконал. Сердце не переставало болеть, нервы окончательно сдали, и он решил подать императору рапорт об отставке. Упомянул об этом в разговоре с доктором Вольфом, а тот поторопился донести новость до товарищей. Что тут началось! Все растерялись, все чувствовали себя покинутыми, беспомощными. Приезд в Петровский Завод другого коменданта наверняка приведет к ужесточению дисциплины на каторге. Николай предложил тотчас же отправить к генералу делегацию.
Лепарский принял их, сидя в постели, на плечи его был накинут расстегнутый генеральский мундир. Никогда еще Станислав Романович не выглядел таким старым и таким усталым! Он несколько дней не брился, и от топорщившейся белоснежной щетины лицо казалось покрытым инеем. Правую руку он то и дело прижимал к груди, дышал с трудом, хрипло.
– Это просто невозможно представить, чтобы вы оставили нас, ваше превосходительство, – пролепетал Николай Озарёв. – Что с нами станет после вашего отъезда? Нас никто не будет так понимать, нам никто не будет так помогать, как вы! Если нужно, мы сами установим тот порядок, какой вы скажете, и сами станем следить за тем, как он выполняется, только не покидайте нас! Только останьтесь с нами!
Эта речь так растрогала коменданта, что все его морщины пришли в движение, отчего всем показалось, будто лицо Лепарского вот-вот развалится по кусочкам. На глазах старика выступили слезы, веки припухли. Он зашептал с придыханием:
– Вы такие хорошие мальчики… Спасибо… Но все это уже выше моих сил… Впрочем, от нас ничего не зависит. Так или иначе, через несколько дней император сам отправит меня в отставку!
– Откуда вы знаете?!
– Догадался по поведению Иванова. Он ничего не сказал мне, но в глазах можно было прочесть, какой рапорт напишет. Может быть, как раз в эту минуту назначают моего преемника…
– Господи, да подождали бы, пока вам хоть что-то скажут официально, Станислав Романович! – вырвалось у Николая.
– Нет уж, предпочитаю опережать события!
– Из гордости?
– Разумеется.
Вмешался присутствовавший при беседе доктор Вольф:
– Ваше превосходительство, вы сейчас не в том состоянии, какое способствует решению столь важных вопросов. Сначала надо выздороветь, а уж потом предпринимать решительные действия! – И, повернувшись к товарищам, добавил: – Господа, прошу вас покинуть больного. Его превосходительство нуждается в отдыхе.
Еще целый месяц декабристы прожили в тревоге. Лепарский не выходил из спальни. Он каждый день заговаривал о том, что вот сейчас напишет прошение об отставке, и каждый день доктор Вольф уговаривал его отложить это на потом. От такой повседневной борьбы силы больного быстро таяли. В том состоянии полного нервного истощения, в каком он находился, обычные препараты больше не действовали. Доктор Вольф рассказывал, что генерал часто приказывал принести ему какие-то древние папки с документами, свидетельствовавшими о его былых подвигах во времена Екатерины Великой, Павла I, Александра I, раскладывал на одеяле старые, порванные на сгибах, полустершиеся карты военных действий, часами рассматривал все это, и выглядел он тогда туповатым и словно бы одурманенным. Так старый воин в тишине проживал снова самые славные свои годы…
Однажды, собравшись во дворе тюрьмы воскресным утром, когда должны были привезти почту, узники заметили у ворот… привидение. Это к ним приближался Лепарский, опираясь на руку Фердинанда Богдановича. Когда генерал подошел ближе, стало видно, что дело вовсе не так плохо. Комендант был в парадном мундире при всех орденах, с парадной же перевязью, лицо его, по-прежнему бледное, тем не менее, посвежело, глаза сверкали так, словно к нему вернулась молодость.
– Господа! – сказал Лепарский, остановившись. – Имею честь сообщить вам, что на основании рапорта генерала Иванова государь император прислал мне личное письмо, благодаря за отеческую заботу о пенитенциарном заведении, которое мне вверено, и за ваше содержание и поведение во время пребывания здесь инспектора. Кроме того, Николай Павлович разрешил строительство церкви при условии, что ему будет послан на согласование ее проект.
– Урррааа! – закричал Юрий Алмазов.
Все поддержали его, над каторгой загремели виваты. Лепарский улыбнулся.
– Надеюсь, вы теперь и не думаете о том, чтобы бросить нас, ваше превосходительство? – спросил Николай Озарёв.
– Попробуем пройти еще кусочек дороги вместе! – подмигнув, проворчал комендант.
После его ухода доктор Вольф пожал плечами:
– Ей-богу, ничего не понимаю! Он был в ужасном состоянии, его мучили сердцебиения, ноги были, как подушки, не мог встать… Но получил письмо – и вот, пожалуйста, как по мановению волшебной палочки, отеки мгновенно спали, сердце забилось ровно! Я видел это чудо своими глазами!.. Нет, настоящий врач нашего старика вовсе не я, а царь! Это он исцелил генерала.
4
Капитуляция Варшавы снова пробудила в декабристах надежду на скорую амнистию, однако шли дни, недели – не было ни малейшего признака того, что царь вот-вот проявит к узникам милосердие. Суровости императора не смягчило и появление на свет Божий третьего царевича. И теперь, поскольку заключенным надо обязательно чего-то ждать, чтобы не потерять интереса к будущему, они решили: наверняка меру пресечения изменят по случаю десятилетнего «юбилея» их мятежа, 14 декабря 1835 года. Еще целых три года томиться в ожидании!
Лето кончилось внезапно, зной сменился обрушившимися на Петровский Завод с небосвода потоками ледяной воды и почти сразу же – обильным снегопадом. Небо стало совсем близко к земле. Город промерз насквозь и выглядел уныло.
В октябре у Александрины Муравьевой случился выкидыш, ставший причиной ужасной ее слабости. Чуть позже несчастная еще и простудилась, начала кашлять и, в конце концов, слегла в лихорадке. Доктор Вольф поставил диагноз: плеврит. Несмотря на все его усилия, стоило больной кашлянуть, нестерпимая боль пронзала ей грудь. Дышать стало трудно, казалось, что при вдохе ребра разрывают ткань легких. Лицо Александрины было смертельно бледным, со лба катился пот, черты обострились, глаза запали и резче выступили скулы. Вскоре она совсем перестала сопротивляться, понимая, что смерть на пороге. Ясность сознания умирающей пугала ее близких. Александрина исповедовалась, приняла святые дары, написала родным, попрощалась с мужем, а вот дочку попросила не будить, довольствовавшись тем, что прижала к себе ее куклу и, уже не сдерживая слез, осыпала горячечными поцелуями эту тряпичную фигурку. Дамы стояли вокруг – безмолвные, онемевшие от ужаса, они наблюдали за агонией подруги. Она нашла теплое слово для каждой, задержала возле себя Софи.
– Я так боялась когда-то, – задыхаясь, прошептала Александрина, – что вы с мужем расстанетесь!.. Вы созданы друг для друга!.. Оставайтесь вместе… навсегда… навсегда…
Софи стоило громадных усилий сдержать слезы: уходила ее лучшая подруга, единственная из всех, кто ее понимал, кто ее защищал. Комнату освещали две свечи. Голова умирающей упала на подушки. Кожа ее была прозрачной, губы приоткрывались, пропуская хриплое дыхание. Александрина испустила тяжелый вздох, глаза ее закатились, и она упокоилась навеки…
Никита Муравьев бросился к телу жены, плечи его содрогались от рыданий. С другой стороны постели стоял, опустив голову, доктор Вольф: он так любил Александрину, а спасти ее не сумел. Врач закрыл глаза покойнице. Лепарский явился слишком поздно. Ему помогли встать на колени, и он долго простоял так, то ли молясь, то ли размышляя перед этим изваянием из хрусталя и мрамора, этой статуей, не имеющей возраста, не имеющей в себе уже ничего человеческого, неуловимой, непостижимой…
Прощаться с Александриной пришла вся каторга. Люди проходили молча, многие плакали. Покойница, одетая в самое нарядное свое платье, казалось, смотрит сквозь опущенные веки на эту бесконечную череду людей, чью судьбу она делила столько лет.
Николай Бестужев сам сделал гроб, сам обил его кремовой тафтой. Каторжники-уголовники смели снежные заносы и вырыли в заледеневшей кладбищенской земле могилу. Все узники со свечами в руках присутствовали на отпевании. В церкви было так холодно, что у Софи, неспособной пошевелиться, так она застыла, как ей казалось, и мозг тоже совершенно вымерз. Священник размахивал кадилом, катафалк окружило голубоватое облачко. Софи смотрела перед собой и смутно, беспорядочно вспоминала собственных ушедших, горевала о том, что упокоились их души так далеко от нее, что не смогла попрощаться как следует. Думала о матери и об отце, чьи образы в памяти постепенно заволакивались туманом; о Маше, которая скончалась так рано, будто и вовсе не жила… Даже Никиту с течением времени она уже не представляла себе так ясно, как прежде, со всей его теплотой, всей человеческой истинностью, от всего этого осталась только тайна, недосказанность… Единственным из всех покинувших этот свет знакомых ей людей и до сих пор видевшимся ей так же четко, как при жизни, оказался ее свекор, Михаил Борисович. Наверное, его дикий нрав и резкие черты лица позволяли старику сопротивляться медленной эрозии забвения. Она перестала его ненавидеть, но вспоминала порой со страхом, словно бы и из могилы он может ей навредить. Отзвучали последние заупокойные молитвы, шестеро декабристов подняли на плечи гроб и вышли из холодной церкви на совсем уж заледенелую улицу. За ними двигался, как автомат, Никита Муравьев, спина его была согнута, будто он за несколько дней состарился на много лет. Софи смотрела на него с мучительным удивлением: волосы Никиты стали седыми.
Назавтра Николай Бестужев соорудил над могилой маленькую часовенку. Первая смерть больно ударила по декабристской общине. Дамы, сообща воспитывавшие сиротку, думали, что и они могут вот так же внезапно умереть, оставив детей – ровесников малышки. «Что станет с ними без нас?» – этот вопрос превратился в навязчивый для всех. Они обменивались торжественными обещаниями, доверяли детей подругам завещанием, старались одеться потеплее, чтобы не подхватить простуды, и укладывались в постель при малейшем недомогании. Доктору Вольфу пришлось даже выбранить некоторых за то, что стали горстями глотать лекарства.
Несмотря на великую печаль, омрачившую конец года, во всех домах, где подрастали дети, к Рождеству поставили елки. Жители города отправлялись прогуляться по Дамской улице, специально чтобы полюбоваться в окна на украшенные лакомствами и золотыми бумажными звездами деревья. Сплющив носы о стекло, дети рабочих разглядывали детей каторжников и завидовали им.
Главную раздачу рождественских подарков решили устроить у Полины Анненковой. Софи с Николаем присутствовали на празднике. Принаряженные детишки, один за другим, подходили к хозяйке дома, сидевшей возле горы обернутых в голубую и розовую бумагу свертков, получали свой гостинец и бежали в уголок, чтобы поскорее содрать красивую упаковку и посмотреть, что же там внутри. Маленькая Саша Трубецкая только что села со всего размаху на попку, пытаясь изобразить изысканный реверанс, и все умирали со смеху, когда дверь распахнулась и в гостиную влетел Юрий Алмазов. Глаза у него были безумными. Он размахивал, как знаменем, газетой и кричал:
– Послушайте!.. Все, все слушайте!.. Пришла почта!.. А тут такая новость!.. Великая новость!.. Амнистия!!!
Смех тут же умолк, все кинулись к новоприбывшему, образовали тесный кружок, центром которого стал Юрий. А он выложил на стол газету «Русский инвалид» от 25 ноября 1832 года, которая целый месяц путешествовала по стране, пока добралась до Сибири. Опубликованный там декрет оказался датирован 8 ноября – днем, когда четвертый сын императора, великий князь Михаил Николаевич, получил святое крещение. Государь пожелал по такому случаю проявить монаршую милость к государственным преступникам и приказал снизить сроки наказания многим из них. К царскому указу был приложен список имен. Приговоренным по трем первым разрядам срок сокращался на пять лет, а тех, кто отбывал наказание по четвертому разряду, как Николай Озарёв, должны были немедленно выпустить из тюрьмы и перевести на поселение, под строгий надзор, или, если они того пожелают, отправить в действующую армию на Кавказ простыми солдатами. Николай задыхался от счастья. Он схватил руку Софи и поднес к губам. Вокруг них перешептывались женщины с сияющими лицами, они смеялись, плакали, крестились – всё разом, мужчины выхватывали друг у друга газету, чтобы увидеть своими глазами собственное имя в списке…
Камилла, соединив руки на огромном животе – ей скоро пора было родить, – вздыхала:
– Ребеночку, которого я ношу, будет уже три года, когда мы уедем отсюда! Базиль, Базиль, помолимся, вознесем Господу наши молитвы!
– Нам остается еще девять лет, – подсчитала, в свою очередь, Каташа Трубецкая. – А вам, Полина?
– Больше пяти…
– Время пролетит быстро!
– Слава Богу! Слава Богу! – повторяла Наталья Фонвизина, не сводя глаз с висевших в гостиной икон.
Вне себя от радости: надо же было случиться такому неожиданному подарку от царя на Рождество! – они совершенно забыли о детях, которым страстно хотелось продолжения раздачи игрушек. Девочки и мальчики на какое-то время замерли, не понимая, почему взрослые вдруг заговорили все одновременно и чему они так радуются, а потом одни, застенчивые и робкие, начали хныкать, а другие, более смелые, хватать пакеты, предназначенные вовсе не им. Из-за кукол и деревянных свистулек разгорались нешуточные драки, но вопли и слезы малышей совершенно не трогали родителей, которые так и продолжали смеяться, обниматься, поздравлять друг друга по необъяснимой для ребятишек причине. Поскольку от ссор и драк поднялся шум, прибежали нянюшки, им пришлось растащить эту кучу-малу и увести своих питомцев, зареванных и уже вполне безразличных к сокровищам, прижатым к сотрясающейся от рыданий груди.
Когда все наконец-то и не по одному разу прочитали газету, князь Трубецкой предложил отправиться к Лепарскому и узнать, известно ли ему императорское решение. Вместе с дамами, столь же нетерпеливо ждавшими разъяснений, образовалась группа человек в тридцать, которая немедленно двинулась под неутихающим снегом в направлении генеральского дома. Генерал встретил всю компанию приветливо, поздравил с тем, что удостоены царской милости, и сказал, что сам узнал о ней, как и они, из газет. Добавил, что, получив официальную инструкцию насчет мест ссылки пятнадцати приговоренных по четвертому разряду, тут же их известит. Несколько декабристов заявили, что хотят на Кавказ. Решительнее всех выступал тут князь Одоевский, и Софи показалось, будто ее муж смотрит на него с завистью. Наверное, не будь он женат, тоже пошел бы сражаться с черкесами! На минуту ею овладело беспокойство, она подумала, что грузом висит на Николя, что мешает ему жить так, как хочется, но он подошел и прошептал:
– Свободны, мы вот-вот будем свободны, дорогая! Ты отдаешь себе отчет в происходящем?
– Конечно, – улыбнулась она. – Но куда же нас отправят?
– Какая разница! Не имеет ни малейшего значения! С тобой я готов жить посреди пустыни в палатке! А главное – пройдет несколько лет, и нам разрешат вернуться из Сибири домой, в Россию! Увидишь! Ты только верь!
Они касались друг друга плечами, опущенные руки соединились, пальцы сплелись в живой узел.
Лепарский приказал подать шампанское: не слушая предостережений и упреков доктора Вольфа, старик завел обычай глотнуть любимого напитка по случаю какого-нибудь «великого события». Вот и теперь, подняв бокал, комендант воскликнул помолодевшим от радости голосом:
– Дамы и господа! Предлагаю выпить за здоровье государя императора, который только что доказал всем вам свою безмерную доброту!
Бокал, однако, он поднял в одиночестве: все лица вокруг генерала, как по команде, замкнулись. Женщины выглядели еще враждебнее мужчин. Глаза Лепарского мгновенно опечалились: снова между ним и заключенными образовалась пропасть. Наверное, ему суждено было попасть в единственное место в России, где никому не хочется поддержать подобный тост! И настаивать бесполезно… Он одним глотком опустошил свой бокал и велел денщику налить снова. На этот раз слово взял князь Трубецкой:
– Ваше здоровье, Станислав Романович!
– Да! Да! За вас! Будьте здоровы, ваше превосходительство! Живите долго и счастливо! – подхватили хором декабристы, делая шаг вперед.
Лепарскому пришлось нахмуриться, чтобы скрыть нахлынувшие на него чувства. Эти неизлечимые либералы выбрали его главным. Если бы царствовал он, никто бы не стал бунтовать 14 декабря. Мысль эта показалась ему ужасно странной: не перебрал ли он шампанского, надо же, что в голову приходит! А шампанское покалывало язык, глаза увлажнились.
– За нашу дружбу! – ответил он внезапно охрипшим голосом.
И потянулся бокалом к бокалам декабристов и их жен. Все стали чокаться.
* * *
Шли дни, а приказа об отъезде из столицы не присылали, и энтузиазм приговоренных по четвертому разряду сменился почти унынием: теперь они смотрели в будущее с тревогой. И, кроме того, их раздирали противоречивые чувства: все настолько привыкли за шесть с лишним лет жить одними мыслями, одной судьбой с товарищами, что теперь заранее страшились того, как будет, когда они расстанутся, расстанутся, скорее всего, навсегда… К горю разлуки прибавлялась еще странная паника перед масштабами и законами мира, начинающегося за пределами каторги. В тесном мирке общины, артели, закрытом, теплом, основанном на братстве, недостаток свободы возмещался ощущением полной безопасности. Здесь никто не мог быть предоставлен сам себе, при малейших трудностях, моральных или материальных, немедленно приходили на помощь соседи. И те, кто познал эту атмосферу достоинства, увлеченности, великодушия, щедрости, политического согласия, естественно, побаивались оказаться не сегодня завтра выброшенными в круг «нормальных людей». Вместо того чтобы закалить декабристов, их жизнь в замкнутом пространстве сделала их только более уязвимыми. Если они многое узнали из книг или прослушанных лекций, то в искусстве жить не продвинулись ни на шаг, и как тут было не ощутить себя безоружными, беспомощными среди людей, не способных тебя понимать, да и не стремящихся к этому… Среди людей жестоких и расчетливых, заменивших для себя любовь к ближнему страстью к деньгам! Среди людей, наверное, никогда и не слыхавших о 14 декабря 1825 года.
Николай постоянно прокручивал все это в голове, ничего не говоря Софи, чтобы не пугать, не обескураживать жену. А она, со своей стороны, прикладывала все усилия, чтобы выглядеть храброй, бодрой, уверенной в лучшем будущем. Даже стала продавать кое-какую мебель и подкупать теплую одежду. Подорожная пришла 15 февраля, пока в направлении Иркутска, а там уж генерал-губернатор Лавинский распорядится, куда, в какое место ссылки податься каждому. Лепарский возмущался тем, что Бенкендорф не счел возможным известить коменданта о судьбе его подопечных. «Можно подумать, речь идет о государственной тайне! – гневно восклицал он. – Что они там, в Петербурге, усомнились во мне, что ли?!» Из дам только Софи, Наталье Фонвизиной и Елизавете Нарышкиной предстояло тронуться в путь вместе с мужьями. Определенный властью порядок предусматривал, чтобы все уезжали в разное время, через день по одному человеку или одной семье.
Последний вечер Софи и Николая в Петровском Заводе получился грустным. Они обошли по очереди все камеры и распрощались с теми, кто оставался. Поцелуи, объятия… Затем они отправились к Полине Анненковой, которая устроила ужин по случаю их отъезда. Тут был и Лепарский: угрюмый, надутый, но с мокрыми глазами, выдававшими печаль расставания. В конце трапезы он взял слово, чтобы пожелать отъезжающим доброго пути. Речь прозвучала высокопарно, стало понятно, что генерал приготовил ее заранее и выучил наизусть. Однако ближе к финалу голос его оборвался, он потерянно огляделся вокруг себя, опустил голову и пробормотал в усы:
– Будьте счастливы, дети мои! Не забывайте старика, которому вы осветили последние годы! Не знаю, сумел ли я хоть как-то скрасить ваше существование, но, поверьте, старался от всей души!..
Комендант высморкался в огромный красный носовой платок, вздохнул и снова взял в руки вилку с ножом, хотя тарелка его была уже пустой. Когда все встали из-за стола, князь Трубецкой отвел Николая в уголок и сказал:
– Значит, нам придется строить церковь в Петровском Заводе без вас – а вы ведь так рьяно, с таким красноречием защищали эту идею! Ах, если бы люди знали, сколько обстоятельств способны изменить их намерения, наверное, они поостереглись бы задумывать что-то существенное… Однако так лучше. Завидую вам, друг мой! Выйти из тюрьмы на волю – все равно что заново родиться на свет. Теперь вы начнете жить!..
– Да… – согласился Николай со вздохом. – Да, конечно, но – среди каких людей? Мне кажется, у меня нет ничего общего с большинством моих соотечественников. Отправили бы меня на Северный полюс, к белым медведям, с ними я и то чувствовал бы себя не таким потерянным!..
На рассвете следующего дня Николай и Софи вышли из дому. У порога были приготовлены сани: одни ждали их самих, в других уже сидел унтер-офицер Бобруйский, которому было поручено сопровождение ссыльных. Когда слуги почти уже приладили багаж, в дальнем конце улицы показались и стали, покачиваясь, приближаться огоньки. Это несколько дам под водительством Марии Волконский явились сказать на прощанье несколько теплых слов отъезжающей подруге. Кое-кто из рано вставших заключенных, выскользнув из ворот тюрьмы, присоединился к ним. За стеклянными стенками фонарей мерцали желтые язычки пламени, временами бросая отблеск на взволнованные лица. Вокруг кружился, завиваясь небольшими вихрями, снег. Стоял трескучий мороз. Заиндевелые лошади казались одной серебристой масти. Софи с трудом верилось, что те самые женщины, которые сейчас плачут, разлучаясь с нею, совсем еще недавно были ее злейшими врагами.
– Пишите нам, Софи!.. Может быть, нам повезет, и мы окажемся в ссылке поблизости от вас!.. Доброго пути!.. Храни вас Господь!..
Затем к ней подошел Юрий Алмазов и прошептал в самое ухо:
– Позвольте поцеловать вас напоследок!
Софи посмотрела на него: маленький, тощий, с темными глазами, сверкающими из-под густых черных бровей…
– Я никогда не осмеливался сказать вам, – продолжал между тем Юрий, – что вы очень часто мне снились. Я завидовал… да я и сейчас завидую Николя, и я буду страшно несчастен оттого, что нельзя будет больше вас видеть!..
Она наклонилась к нему, и Алмазов осторожно коснулся губами ее щеки. Другие мужчины тоже подошли поцеловать Софи. Силы у нее стремительно убывали, решимость слабела, растерянность, наоборот, нарастала. Она чувствовала себя настолько опустошенной, что готова была закричать: «Мы остаемся!» Николай помог жене сесть в сани.
– Прощайте, друзья мои, дорогие мои друзья! – воскликнула она. – Прощайте!
Перед нею заскользили дома Дамской улицы. Прижавшись к Николаю и накрывшись вместе с ним медвежьей полостью, она смотрела, как удаляется, удаляется, удаляется от них этот маленький дружеский круг, этот милый сердцу мирок, которого, вполне может быть, они никогда в жизни больше не увидят. Люди были там, уже довольно далеко, в неясном мареве света, они размахивали руками, посылали им вслед прощальные сигналы белых платочков… Сани проехали мимо дома генерала Лепарского. В окне его кабинета светилась лампа. Неужели встал в такую рань? Лошади пошли шагом, колокольчики слабым звоном нарушали молчание оледенелого воздуха. Снег на земле почернел и стал серым, даже с каким-то свинцово-оловянным отливом, и сразу же почувствовался запах расплавленного металла – это они приблизились к литейным цехам завода. Из высоких труб в небо уходили столбы дыма, а время от времени сыпались красные искры. Торопившиеся на смену рабочие с фонарями в руках расступались перед санями, некоторые из горожан снимали шапки. Софи обернулась и несколько минут с бесконечной нежностью и печалью глядела на этот ряд светлячков в предрассветной мгле. Дома стали реже и беднее на вид: нищие грязные хибары…
Дорога поднималась вверх, снег скрипел под полозьями. Впереди возникла церковь – дряхлая, утонувшая по пояс в сугробах, только веселые купола выглядывали из тумана, как разноцветные шары. Сбоку – кладбище. Среди сотен грубо сколоченных, покосившихся деревянных крестов, выделявшихся на белом снегу, виднелся склеп, где покоилась Александрина Муравьева, выстроенный как часовня со святым образом на фронтоне и лампадкой, горевшей за закрытой решеткой. Кучер и Николай перекрестились. Унтер-офицер, следовавший в отдельных санях за Озарёвыми, последовал их примеру. Софи слегка поклонилась и благодарно помянула усопшую, а потом еще долго думала об их такой робкой, такой нерешительной, такой незавершенной дружбе – пока мысли ее не смешались, звон колокольцев не заполнил всю голову и она не забылась, отдавшись движению. Николай обнял жену за плечи. Перед ними расступился лес. На скрещенные ветви легла золотая пыль: вставало солнце…
5
Стук копыт по мерзлой земле, тени лошадей ложатся косо и искажаются, когда попадают на кочку. Софи глядит прямо перед собой и не видит ничего, кроме заснеженной равнины и – в самом ее центре – спины кучера, огромной, угрюмой и косматой – он в волчьей шубе… Желтое солнце плывет в молочно-белом небе. Николай вздремнул, голова его покачивается. Сани только что выехали из Верхнеудинска, и упряжка несется теперь к озеру Байкал.
Они уже шесть дней в дороге, они меняют лошадей и кучеров на каждой почтовой станции, их подорожная с тремя печатями дает им преимущество по сравнению с обычными путешественниками. Легкий ветерок касается земли и вздымает снежные султаны. В воздухе мерцают тысячи блесток. Межевые столбы, расставленные вдоль дороги, пропадают в их кружении. Солнце скрывается. Мороз щиплет щеки. Кучер рывком оборачивается. Он замотал лицо тряпьем, чтобы в рот и нос не набилась снежная пыль, – теперь видны только его глаза под шапкой. Он кричит сквозь это тряпье, и голос его кажется лишенным окраски:
– Сделайте, как я!.. Иначе у вас в груди скоро будет снежный ком!..
Софи разбудила Николая. Они закрыли рты платками и поглубже забились под медвежий мех. Метель становилась все сильнее, и вскоре в двух шагах от лошадей взгляд стал натыкаться на белую стену. Несмотря на то, что кожаный полог был опущен, порывами ветра к путешественникам заносило снег. В этом туманном, с опаловым отливом, ледяном небытии женским голосом выл ураган. Но Софи не боялась – Николай ведь рядом, а с ним ее ничем было не устрашить!
К ночи они добрались до почтовой станции. Пустая деревня, сугробы до окон. Лошади устремились во двор станции и остановились – замерзшие, хоть и быстро бежали, со встрепанными гривами – у деревянного крылечка.
В зале, где полагалось ждать смены лошадей, было жарко и влажно, словно в парильне. Человек пятнадцать уже дремали по лавкам у стен, свесив головы и вдыхая смешанный запах отсыревших валенок и щей. Лошадей на смену не оказалось, но стоило рассерженному унтер-офицеру Бобруйскому закричать на смотрителя и сунуть ему под нос подорожную с тремя печатями, как тот сразу же припомнил, что на конюшне есть еще одна свежая тройка. А дальше уже оставалось только наспех подкрепиться за общим столом, проглотить стакан обжигающего и сдобренного ромом чая и снова уйти в ночь, где танцуют бледные светлячки снега…
Этап за этапом – и вот перед ними Байкал. Громадное озеро замерзло, и потому можно было перебраться через него, не покидая саней. Ветер стих. Багровое солнце прожигало остававшиеся еще на небе последние лоскутки туч. В полыхании этом четко обозначились яркие, как васильки в ржаном поле, вершины синих гор, плотным кольцом обступивших громадное зеркало застывшего сибирского внутреннего моря… Шестьдесят верст до ближайшей станции. Когда сани спустились с берега на ровную поверхность бесконечной белой пустыни, сердце Софи сжалось: до нее доносились слухи, что иногда едва припорошенный снегом ледяной панцирь не выдерживал веса саней. Лошади, сознавая опасность, неслись как угорелые, просто-таки летели, и летели за ними гривы, и вытягивались шеи, и ноги мелькали так, что и не заметишь копыт… Дорожные рытвины и ухабы остались позади, теперь сани плавно скользили, до странности равномерно, как бывает, когда во сне паришь между небом и землей. Солнце поднялось в зенит, все краски мигом исчезли, и Софи почувствовала себя замкнутой внутри хрусталя. Мороз пронизывал до костей. Ноздри превратились в два твердых бесчувственных рожка. С дыханием изо рта валили клубы пара, впрочем, дышать было почти невозможно на этой скорости. Несколько раз Софи казалось, будто она вот-вот ослепнет от сияния льда, от нестерпимого блеска вокруг, и она закрывала глаза, а открыв, видела все ту же не просто безлюдную, но никем не населенную, абстрактную, геометрическую вселенную, и всякий раз заново очаровывалась ею, да так, что не хотелось выходить оттуда. Николай протянул жене фляжку с ромом, и они принялись глотать из нее по очереди. Скоро силы начали восстанавливаться.
– Как тут прекрасно, Николя! – прошептала путешественница. – Как красиво! До чего же мы счастливые!
Послышался глуховатый треск, и по льду, накрывшему озеро, поползла трещина. Поначалу тоненькая, зеленоватая, она бежала наперерез саням, останавливаясь, умненько примериваясь, куда чуть свернуть, так, словно поставила себе задачей перегородить им дорогу. Кучер хлестнул лошадей, те рванули и перескочили за трещину. Полумертвая от страха Софи обернулась: все в порядке, вторые сани тоже на нашей стороне! А вот за ними отрезанная от основной массы льда площадка вращалась, лениво покачивалась, и движение ее сопровождалось угрюмыми, зловещими шлепками по стылой воде. Кучер перекрестился. Впереди, пока еще довольно далеко, обозначилась, тем не менее, кромка берега. Странно было видеть после этой сверкающей, ослепительной белизны грязно-коричневую землю. Подступы к пристани охраняли заиндевелые камыши. Несмотря на только что пережитое ощущение счастья от красоты вокруг, Софи была не менее счастлива увидеть твердую землю: «переход» через Байкал занял почти три часа.
На почтовой станции предъявленная Бобруйским подорожная снова сотворила чудо, и поздно ночью, когда спали все, включая часовых, двое саней пересекли границу Иркутска. Куда было идти дальше в это время, то ли слишком позднее, то ли чересчур раннее? Софи, ни минуты не колеблясь, назвала адрес Проспера Рабудена.
Им пришлось очень долго стучать, пока отупевший от сна слуга согласился приотворить створку двери. Впрочем, это ничему не помогло: еле ворочая языком, парень сообщил, что в гостинице не осталось ни одной свободной комнаты. Но и тут им повезло! На шум явился хозяин – не менее слуги заспанный, в красновато-коричневом с золотистым отливом халате, на голове ночной колпак, в руке дубинка. Однако стоило Просперу узнать Софи, как румяное лицо его просияло, щеки заколыхались, словно блюдо студня, по которому побарабанили пальцами, и он закричал:
– О Господи! О Боже правый! Кого я вижу?! Что за радость видеть вас снова! Быстрей, быстрей заходите, что же вы на морозе! Для вас у меня всегда найдется место! Но как случилось, что вас отпустили сюда, в Иркутск?
– У моего мужа – разрешите представить вам Николая Михайловича Озарёва – окончился срок каторжных работ, и нас переводят на поселение под надзор полиции, – ответила Софи. – Пока мы еще и сами не знаем, где будем жить.
– Вот чудеса! – восхитился Проспер. – Какая честь для меня, месье Озарёв! Но вы, по крайней мере, ужинали?
Софи призналась, что нет, и через минуту гостеприимный ее соотечественник уже усаживал дорогих гостей на краешке длинного стола перед горой холодных мясных закусок. Унтер-офицер из скромности устроился поодаль и, сгорбившись, начал пожирать все подряд с такой жадностью и скоростью, будто опасался, что у него отнимут еду прежде, чем он отведает каждого яства и насытится. Проспер Рабуден не сводил глаз с Николая, одновременно расспрашивая Софи о жизни на каторге. А она не могла отделаться от неприятного ощущения, ужасно ее стеснявшего: тысячи подробностей первого ее пребывания в Иркутске буквально осаждали ее память. Эти украшенные французскими гравюрами стены, эта тяжелая мебель, эта лестница наверх – среди них бродил призрак юного крепостного со светлыми волосами и крепкими, как железо, мышцами… Она мысленно следила за тем, как привидение бесшумно передвигается по дому. Знает ли Проспер Рабуден, чем все это кончилось? Побег, арест, гибель под кнутом… О да, его ведь наверняка допрашивали во время следствия!.. Господи, хоть бы он не заговорил с нею об этом!.. Достаточно ведь одного намека, чтобы ранить Николя, задеть его самолюбие… Софи вся дрожала при мысли о том, что одним неловким словом этот человек может погубить все. Зачем она дала адрес этого постоялого двора? Вот уж последнее место, куда ей следовало привозить мужа! Над дверью – лист бумаги с надписью: «Il n’est bon bec que de Paris!».[19] На буфете стояла тарелка с остатками пирога.
– Французская выпечка! – похвастался Рабуден, подмигнув гостье. – Хотите отведать?
– Спасибо, нет, – отказалась Софи.
Она напробовалась уже в былые времена этих его сластей, после которых долго нельзя было избавиться от приторного вкуса во рту. Но он настаивал:
– Только один кусочек, маленький кусочек, в память о прошлом!
Пришлось покориться. Рабуден ужасно беспокоил ее своей болтовней, и она с фальшивым оживлением принялась рассказывать о Чите, о Петровском Заводе – о чем угодно, лишь бы помешать Просперу заговорить на опасную тему, и ей уже казалось, будто она выиграла партию, когда тот, воспользовавшись крошечной паузой, сказал с самым невинным видом:
– Но вы, должно быть, сердиты на меня за то, что ни разу не ответил на вопросы, которые вы задавали в своих письмах. Поймите, я просто не мог этого сделать, не рискуя навредить вам самой и вашему крепостному, который покинул меня, даже не предупредив!..
– Да знаю я, знаю… – попыталась отмахнуться Софи.
Она бросила взгляд на Николая. Он не пошевелился, бровью не повел, но явно наблюдал за нею. Пристыженная, теперь уже действительно рассерженная, она в растерянности не знала, как выйти из положения. А трактирщик продолжал свое, и на толстощекой его физиономии было написано туповатое сочувствие:
– Что за чудовищная трагедия!.. Если бы он доверился мне, если бы попросил совета, я бы удержал его!.. Но он сбежал тайком, будто внезапно помешался!.. Ах, молодость, молодость!.. Наверное, вы сильно, очень сильно горевали, милая моя дама?..
– Да, – коротко ответила она. И добавила сразу же: – И не будем больше об этом.
А про себя подумала: «Он все испортил! Уже сегодня ночью Николя не будет таким, как прежде!»
– Наверное, ты устала, Софи? – странным тоном спросил Николай. – Что, если нам пойти лечь?
– Сейчас, сейчас провожу вас в ваши покои! – засуетился хозяин.
Проспер, сделав постояльцам знак следовать за ним, двинулся по лестнице, наверху остановился, толкнул одну из дверей. Софи показалось, будто она вновь оказалась в той самой комнате, где когда-то жила, и невольно посмотрела на красные доски пола, охваченная суеверным страхом, что вот сейчас на них проявится скорчившееся от боли тело Никиты. Нет, слава Богу, красные доски не захотели играть с ней в эту злую игру! Духи покинули жилье. Проспер Рабуден зажег две свечи, пожелал Озарёвым доброй ночи и на цыпочках удалился.
Наконец Софи осталась с мужем одна, ей было тревожно, а он, стоя напротив, внимательно вглядывался в ее лицо, однако вовсе не было похоже, будто он что-то подозревает или в чем-то сомневается, нет, он вглядывался со спокойным восхищением. И она раз и навсегда поняла, что Никита больше для него ровным счетом ничего не значит. Ей сразу же стало легко, она забыла об усталости и даже развеселилась. Резким, но гибким движением выдернула из прически шпильки, волосы рассыпались по плечам, и Николай, приблизившись, обнял ее с такой силой и такой нежностью, что у нее не осталось больше сомнений: ее любят, ее понимают, она желанна, она под надежной защитой.
* * *
Назавтра они отправились к Александру Степановичу Лавинскому, генерал-губернатору Восточной Сибири. Это был человек высокого роста, с лицом тяжелым, но кротким и безмятежным. Поприветствовав посетителей и расспросив их о том, как поживает «этот славный старик Лепарский», он открыл лежащую на столе папку, помусолил палец, перевернул несколько страниц и сказал со вздохом:
– Прежде чем назвать место вашего поселения, хочу предупредить вас, что выбирал его не я. Мною получен от правительства список населенных пунктов, и пришлось бросить жребий, именно таким образом определив, куда направить того или иного из приговоренных по четвертому разряду. Если бы я сам составлял этот список, в нем фигурировали бы города или, по крайней мере, крупные селения, но в Санкт-Петербурге, увы, Сибири не знают – просто смотрят на карту, которая, в общем-то, ничего не говорит, да и не всегда верна, предполагая, что маленький черный кружочек с названием означает, что это большое село.
Софи с Николаем обменялись беспокойными взглядами.
– Спешу сказать, однако, – продолжал губернатор, – что вам повезло. Очень повезло! Уголок, который достался вам по жребию – Мертвый Култук, – это одно из самых живописных мест на берегу Байкала. Прелестная деревушка, просто мечта, да и только! Есть где вволю поохотиться, половить рыбу. И у вас будет пятнадцать десятин хорошей земли, чтобы заняться хозяйством.
– А наши друзья? – спросил Николай. – Они будут где-то поблизости?
– О нет! – вздохнул Лавинский. – Я получил приказ расселить освобожденных каторжников по всей Сибири. Даже братья не имеют права жить вместе. Счастье еще, что не додумались разлучать семейные пары!
– Не понимаю, – прошептала Софи, – не понимаю, какая тут опасность: поселить рядом старых товарищей, с которыми был вместе в заключении…
Генерал снова вздохнул, и губы его обиженно надулись.
– Этот вопрос не в моей компетенции. Однако хочу заметить, что мы чахнем, общаясь постоянно с одними и теми же людьми. Уму требуется освежиться, так сказать, проветриться, – не случайно же мы тасуем карты перед тем, как начать новую игру! – Он назидательно поднял палец и закончил торжественным тоном: – Для вас начинается новая игра. И прекрасно, что вы приступаете к ней, полностью забыв о прошлом. Уверяю, в Мертвом Култуке вы будете очень, очень счастливы!
– А где мы будем жить? – спросил Николай.
– В доме одного ссыльного. Я уже предупредил его, чтобы приготовил для вас одну или даже две комнаты.
– Но если нам не понравится у этого человека?
– Что ж, вы можете построить собственный дом, чуть подальше. Уж чего-чего, а места у нас тут хватает…
– Когда же мы должны тронуться в путь?
– Завтра. Я пришлю вам в трактир, где вы остановились, письмо с подробными указаниями, касающимися вашего пребывания на поселении. Сопровождать вас до места будет казак из моих людей. Советую сделать до отъезда кое-какие покупки.
Генерал поднялся, показывая, что аудиенция закончена. Софи и Николай, растерянные и встревоженные, вышли в прихожую. Они не знали, радоваться им такому распределению или печалиться по этому поводу: Бог весть, как там будет, так далеко от всех. Некоторое время Озарёвы стояли, не понимая, куда идти и что делать, но вдруг Софи вспомнила лейтенанта Кувшинова, который помог ей когда-то разобраться с местными властями, и попросила позвать его. Тот появился десять минут спустя. Вежливо поклонился Софи. За четыре с половиной года Кувшинов продвинулся по службе и сильно поправился, теперь это был толстощекий, толстопузый и толстозадый капитан, к тому же еще и рано облысевший. Он принимал посетителей в новом кабинете – огромной комнате с огромным же портретом императора, под которым был поставлен письменный стол. Но что это? Почему он столь нелюбезен? Дело в новой должности или в том, что с нею Николай? Кувшинов сухо объяснил, что не имеет о Мертвом Култуке никаких сведений, кроме самых благоприятных для новых поселенцев, и показал на карте, которая висела на стене, точечку на юге, неподалеку от границы с Китаем.
– Это здесь.
Когда Софи застенчиво спросила, а не могут ли они рассчитывать, что с его помощью получат другое назначение, ближе к Иркутску, капитан набычился и ответил еще более сухо:
– Приказы из Санкт-Петербурга не обсуждаются, мадам. Сожалею…
И уткнулся в бумаги.
Софи подумала, что, будь она одна, смогла бы его переубедить…
Они вышли, и ее оглушил перезвон церковных колоколов. Нигде, подумала она, колокола не звучат так ясно и так красиво, как в Иркутске. Наверное, дело в том, что воздух при тридцати девяти градусах ниже нуля становится просто-таки идеально чистым… Краски тут тоже чистые, яркие: небо ярко-синее, снег ослепительно белый…
На улицах было полно народу. В витринах и на прилавках – горы продуктов, хочешь – европейских, хочешь – восточных, порой – весьма странных для глаза чужака. Уже много лет Николай и Софи не видели настоящих магазинов – разве найдешь в убогих лавчонках Петровского Завода подобное разнообразие товаров? Меха, платки, обувь, ткани, посуда – и все казалось Софи прекрасным, ей хотелось покупать все подряд. Но рассудок помогал бороться с расточительностью. Она составила список самого необходимого в глуши и объявила Николаю, что будет строго его придерживаться: сахар, соль, мука, рис, чай, свечи, бечевка, топор, лопата, ножи… Они бегали из магазина в магазин, вполголоса обсуждали увиденное, уходили, решив, что «тут все слишком дорого», возвращались, потому что «тем не менее это нужные вещи», просили отправить покупки в трактир и, едва отделавшись от этой заботы и подведя баланс, не в силах устоять против искушения, немедленно пускались в новый обход центра города. За день было истрачено больше двухсот рублей ассигнациями, Николай пришел в ужас от таких расходов, но Софи ему объяснила, что они «как раз уложились», и он успокоился. Обсуждение нового места житья-бытья продолжалось, и то Николай принимался переживать за их будущее, а Софи его убеждала, что все будет отлично, то, наоборот, она признавалась, что Мертвый Култук вовсе ее не вдохновляет, а он ворчал: зачем, дескать, так вот сразу падать духом, даже не поглядев…
На рассвете следующего дня за ними явился молодой казак с двумя санями. Проспер Рабуден позаботился о том, чтобы его гостям было удобно в дороге, укутал их получше и снабдил провизией как минимум на неделю. Казак – рыжий парень с курносым носом – объявил, что приказано доставить их по назначению в течение двух суток.
– А ты бывал там, в этом Мертвом Култуке, знаешь его? – спросил Николай.
– Нет, – ответил сопровождающий. – Товарищи мои были. Говорили, что дорога никуда не годная. Еще рассказывали, что будто бы там в окрестностях бродят медведи. Но вы не бойтесь, я хорошо стреляю.
Он уселся во вторые сани – туда, где был сложен багаж, Проспер Рабуден проронил две слезы, помахал платком, и упряжки тронулись с места.
* * *
С каждым часом еловый лес, через который они ехали, казался все гуще, все темнее. Путешественники углублялись в какую-то бесконечную колоннаду. Холодно было – как на Байкале. Свернувшись в клубочек под боком у Николая, Софи ощущала, как у нее застыло все: и тело, и мысли. А сосредоточенность на цели была у нее такова, что даже на почтовых станциях, когда меняли лошадей, она не выходила из оцепенения. Наступила ночь, но лошади продолжали бег все так же – по лесам, только теперь дорога пошла в гору. Тишина – ни ветка не хрустнет, ни птица не свистнет, ни зверь не даст о себе знать… Время от времени в просветах между кронами показывалась звезда на шелке темно-синего неба, лошади сопели и позвякивали колокольцами.
Измученные бессонницей, Николай и Софи смотрели, как занимается день в тайге. Их лица были скованы морозом, превратились в ледяные маски. Внезапно деревья обернулись золотистыми скелетами, огородными пугалами в пурпурных нарядах. Солнце, вынырнув из-за линии горизонта, зажгло подлесок пламенными стрелами. Все грани кристалликов снега, все чешуйки веток, все острия еловых иголок засверкали разом. Неподвижный воздух наполнился тысячами световых отблесков, и теперь приходилось жмуриться, чтобы не ослепнуть. Но мало-помалу солнечные лучи становились не такими яркими, за головокружительными ярусами ветвей возникло пространство немыслимой лазури. Сани, подгоняемые ветром, взлетели на холм, затем начался крутой спуск – полозья скрипели… И вот уже деревья расступились, на горизонте показались куполовидные горные вершины в вечных снегах, и кучер, указав на них кнутом, прокричал:
– Хамар-Дабан![20] Там, за ним, Китай!
За поворотом открылся пейзаж, постепенно он стал все больше проясняться… Вот, далеко внизу, показался сверкающий заиндевелый панцирь озера Байкал, а чуть в стороне от него – несколько черных точек: бурятские юрты.
– Мертвый Култук, – сказал возница.
Николай с силой сжал руку жены. Тревога сдавила горло, и они не могли произнести ни слова. После многочасового молчаливого скольжения они достигли подножия горы, миновали юрты и остановились у стоящей отдельно избы. Седобородый старик-крестьянин с выдубленной кожей вышел на крыльцо и согнулся в глубоком поклоне.
– Добро пожаловать, гости дорогие! – обратился он к будущим своим постояльцам. – Губернатор предупредил меня, и я могу уступить вам половину своего дома, нам со старухой хватит и второй половины. И это обойдется вам всего в пять рублей за месяц.
– Отлично, – сказал в ответ Николай. – Впрочем, насколько я понимаю, у нас ведь и выбора-то нет?
– Ну да, нету. Если только вам захочется обосноваться у бурят.
– Вы что – единственные русские здесь?
– Ну да, мы со старухой…
Он улыбался. На коричневой щеке было заметно розовое углубление – знак, что мужик – бывший каторжник. Николай помог жене вылезти из саней. Она с трудом держалась на закоченевших, затекших ногах, в ушах звенело. Несколько мгновений она стояла, словно окаменевшая, перед своей новой судьбой, не в силах поверить, что вот эта вот затерянная в тайге хижина и была целью их путешествия. В самых страшных снах о будущем она не видела такого одиночества, такой заброшенности, не могла бы себе этого представить! Отчаяние затопляло ее, сокрушало, как ураган – дерево. Она вся дрожала от усталости, от разочарования, от страха, слезы душили ее.
– Нет, это невозможно, Николя, – наконец пробормотала она. – Мы не сможем тут жить, надо что-то сделать!
Муж сжал ее руки, сам настолько подавленный, что не нашел ни единого словечка в утешение. Рядом с хозяином дома показалась маленькая беззубая и сморщенная старушка.
– Это моя жена, Перпетуя, – представил ее старик. – А меня зовут Симеоном. Будем счастливы вам помочь. Комната ваша готова. Извольте следовать за нами…
Прибывшие пошли в дом за хозяевами, те проводили их в чистую квадратную комнату, где стояли кровать, стол, скамья и деревянный сундук. От изразцовой печки тянуло приятным теплом. На неровном полу лежали волчьи шкуры. Три маленьких окошка, затянутые рыбьими пузырями, пропускали дневной свет, казавшийся здесь желтым и мутноватым. Под иконами в красном углу теплилась лампадка. Кучер и конвоир внесли багаж, но у Софи не хватало мужества начать распаковывать вещи. Она села на сундук, опустив голову. Перпетуя принесла ей кружку с чаем. Она набросилась на нее, вдруг поняв, как ее мучит жажда, и распространившееся по телу нежное жжение успокоило нервы. Николай тоже пил чай – долгими, с прихлебыванием и присвистыванием глотками. Старуха смотрела на них с каким-то лукавством в глазах, морщины на ее лице составляли странный узор…
– Вот увидите, – сказала хозяйка, нарушив молчание. – Вот увидите, тут у нас очень хорошо живется. Мы со стариком уже сорок лет тут живем – нас сюда императрица Екатерина Великая, царствие небесное, сослала после десяти лет каторги. А на каторгу Симеон попал из-за меня – парня одного убил, ненарочно, по нечаянности… Да… и я была не без греха-то… У меня такие были глаза – на весь мир открытые, а ему, моему Симеону, это не нравилось… Не знал он тогда силы своей настоящей, ну, и… Как говорят, ошибки молодости, вот только за глупые эти ошибки мы потом всю жизнь и расплачиваемся… Правда, ухажер мой был не из простых: коллежский асессор он был, вот кто!.. Это нас и сгубило… А вас-то, барин и барыня, за что сюда сослали? Вы такие на вид милые люди, не верится, что на совести какие преступления!
– Оставь господ, дура! Слышь, что говорю? – вышел из себя Симеон. – Чего людям досаждаешь? У каждого своя болячка болит… Чего болтать зря, если помочь все равно ничем не можешь?
– Мы политические, – объяснил Николай.
– Это как? – не поняла старуха. – Кому ж вы навредили-то?
– Никому.
– Тогда за что вас наказали?
– За то, что мы хотели свергнуть царя и освободить народ.
– Го-о-осподи помилуй: царя-батюшку скинуть хотели! – ужаснулся Симеон, крестясь. – Да уж, это тяжко, это похуже будет, чем коллежского асессора порешить. – Он снова перекрестился и, немножко успокоившись, продолжил: – Я вот только не пойму, что ж вы летом-то делать станете. Мы со старухой, как снега сойдут, подаемся в леса – соболя бить. Я бы вам предложил, конечно, пойти с нами, однако там мошка… мухи такие мелкие, злые очень. Даже если рожу прикроешь, все одно кусают, ничем не спасешься. У нас кожа дубленая, нам не так страшно, но с вами не так… у вас, с вашей нежной кожей, недели не пройдет – смертная лихорадка начнется!
– На сколько же времени вы уходите? – поинтересовался Николай.
– Так на много месяцев! До конца осени. А потом едем в Иркутск шкурки продавать, пошлину платить, едой запасаться. Да уж, мы, хоть и ссыльные, имеем право малость перемещаться. Только с первыми холодами домой возвращаемся. Вот так вот и живем, господа хорошие!
Озарёв подумал, что вынести жизнь в Мертвом Култуке без Симеона и Перпетуи будет легче. Какими бы славными людьми они ни были, а этого у них не отнимешь, все-таки они слишком просты, чтобы, подолгу живя бок о бок с нами, нам не надоели. Лучше уж одиночество, чем такая теснота!
– Отлично, – произнес он вслух. – Значит, пока вас не будет, мы станем охранять избу и постараемся возделать наши пятнадцать десятин земли.
– Храбрые вы люди! – уважительно сказала Перпетуя. – Бог в помощь! Только будьте настороже: летом с гор спускаются беглые каторжники, варнаки, и все они проходят тут…
– Да ну тебя, старуха, – вмешался Симеон. – Вовсе они и неплохие ребята, эти варнаки. И всего-то просят накормить их. Вот ежели не покормишь, тогда, конечно, могут и разграбить тут все, и избу сжечь…
– Хорош языком-то чесать! Только людей пугаешь, – перебила его жена. – Случаи такие реже некуда. Мы сроду с ними и не поспорили даже! Но я-то сейчас уже старая стала… А прежде пряталась, едва они придут. И вам, барыня, такой свеженькой да хорошенькой, тоже советую прятаться, а то ведь не ровен час, им лукавый нашепчет, тогда уж – только держись… Беречься вам надо, барыня!
Говоря, старуха неприятно хихикала, тряся бородавками на физиономии. Николай взглянул на Софи. Одна только мысль о том, что над его любимой могут надругаться лесные разбойники, наводняла душу страхом. Он сразу вообразил, как его, спящего, срывают с постели, бросают на пол, как связывают ему руки и ноги и заставляют смотреть на… на… Ужас от представленной в подробностях сцены насилия над женой, видимо, отразился на лице декабриста, потому что доброжелательная Перпетуя поспешно сказала:
– Да вы не тревожьтесь так, барин! Если в Бога веруете, то ничего такого с вами и не произойдет. Лучшее средство жить спокойно в Мертвом Култуке – икона над дверью да кружка воды с горбушкой хлеба на крыльце. Варнаки съедят хлеб, запьют водой, перекрестятся на икону, да и пойдут дальше своей дорогой. И все довольны, всем хорошо.
Николай, с трудом дослушав, побежал из избы: ему надо было срочно найти казака-конвоира. Оказалось, тот под навесом режется в карты с возницей.
– Ты когда должен назад ехать?
– Завтра с утра.
– Хорошо. Дам тебе с собой письмо к генерал-губернатору Лавинскому.
Десять рублей, засунутые в карман славного парня, удвоили его рвение. Николай вернулся в дом, где Софи уже принялась распаковывать вещи: посреди комнаты стоял раскрытым самый большой баул. И, как только она нашла чернильницу, перья и бумагу, Озарёв уселся за письмо. Ему казалось, что, отправляя их с женой в столь отдаленное место, Лавинский попросту был не предупрежден о тех опасностях, какие тут подстерегают человека. Даже не просто казалось, он был в этом уверен. И постарался в сухом деловом стиле описать условия, которые они обнаружили в Мертвом Култуке, трудности с провизией, угрозу нападения варнаков, а описав – стал умолять губернатора, взывая к его милосердию, переменить им место ссылки.
«Никогда не осмелился бы жаловаться Вам, Ваше превосходительство, будь я холостяком. Но как мне не тревожиться о спокойствии, чести, да просто самой жизни женщины, за которую взял на себя ответственность перед Богом, зная, какие испытания ей, возможно, придется здесь перенести?»
Софи одобрила тон и содержание письма, согласившись, что Лавинский не может остаться безучастным к их жалобам. Несчастные дошли уже до такой степени тревоги и усталости, когда рассудок, пометавшись во все стороны, готов принять как опору любую надежду, лишь бы хоть немножечко отдохнуть.
Перпетуя тем временем приготовила ужин: квашеная капуста, черный хлеб и простокваша. Они с аппетитом поели и сразу же улеглись. В постели, прижавшись друг к другу, чувствовали себя потерянными в этом мире, абсолютно одинокими и незащищенными, как дети. Бревна, из которых был сложен дом, потрескивали на морозе. При малейшем шорохе у Софи волосы становились дыбом от страха, и, несмотря на полное изнеможение, ей не удалось хотя бы на минутку заснуть до самого рассвета…
Назавтра Николай отдал письмо молодому казаку, и двое саней отбыли в обратном направлении: к Иркутску. Зазвенели колокольцы. Стоя на крыльце, Софи смотрела, как, отдаляясь, становятся все меньше и меньше упряжки, и думала. Вчера, под влиянием Николя, она смогла ненадолго поверить, будто их ходатайство к чему-то приведет. Теперь – при свете дня – поняла всю тщетность, более того – всю абсурдность их надежды: кого, какое непостижимое, недоступное простым смертным существо мог достичь этот глас вопиющего в пустыне? К тому времени, как последние сани, обратившись в черную точку, исчезли в снежном мареве, она убедила себя, что никто никуда не везет никаких посланий, что Николя ничего не писал и что все это был лишь сон, от которого она только что пробудилась.
6
Симеон рассказал, что унтер-офицер каждый месяц приезжает из Иркутска с проверкой и привозит почту. Но миновало уже шесть долгих недель – и никакой посланец губернатора не показывался. Очевидно, не поступило почты для ссыльных, думал Николай, а мое прошение так и останется безответным… За прошедшие годы нигде – ни в Чите, ни в Петровском Заводе – не было у него подобного ощущения, будто одним махом их с Софи отрезали от всего мира. Он не решался высказать вслух то, что его томило, чтобы не опечалить Софи, но сам не переставал со страшной тоской в душе представлять, как через тридцать, а может быть, сорок лет, когда они с женой состарятся, будут доживать свой век ссохшиеся, очерствевшие, одинокие, забытые всеми. Вроде этих Симеона и Перпетуи.
Тем временем Софи, казалось, уже начала приспосабливаться и мужественно принимала участие в хозяйственных заботах, во всем помогая Перпетуе, наверное, это скрашивало монотонность тяжелой жизни в Мертвом Култуке. Постепенно и Николай нашел себе занятия: старик обучал его искусству укреплять крышу, чинить сани, ловить рыбу в проруби, ставить силки. Теперь дни мелькали быстро, и между двумя семейными парами росла и росла взаимная симпатия. Неважно, что эти двое так отличаются от них самих происхождением, воспитанием, образованием, можно даже преодолеть до сих пор возникающее желание, чтобы они оставили своих постояльцев наедине, – как Софи, так и Николай учились любить этих милых, спокойных трудолюбивых людей. Иногда казалось даже, что они не могут быть простыми крестьянами. Впрочем, их хозяева и были не из обычных крестьян: родились в Нижегородской губернии и долго жили свободными хлеборобами на принадлежащем им участке земли. Все их имущество было конфисковано и продано после завершения судебного процесса над Симеоном. Когда срок каторги Симеона закончился, жена приехала к нему в Мертвый Култук. И они жили там, не имея никаких известий от своих оставленных на родине пятерых детей: трех сыновей и двух дочерей, которым всем уже теперь перевалило за сорок лет… Поскольку ни старик, ни старуха не умели писать, они и представить себе не могли, что сталось с их потомством. Софи предложила, что напишет от их имени в деревню Нижегородской области, откуда они родом. Но старики отказались: «Если уж жизнь так обернулась, зачем прошлое ворошить? Лучше уж пусть нас попрочнее забудут!» Старея вместе, постоянно лицом к лицу, изолированные от всех и составившие неразрывное целое, они, в конце концов, стали и внешне походить друг на друга. И характеры от постоянного трения один об другой стали ровнее, обкатались почище байкальских камешков. Что бы по какому-то поводу ни сказал муж, было понятно: жена сказала бы точь-в-точь это самое, и наоборот. Они никогда никуда не торопились. В том возрасте, когда другие только и сетуют, что молодость прошла и впереди ничего уже не светит, эти двое, казалось, видели перед собой долгое будущее. Их ничто в мире не могло испугать: ни одиночество, ни мороз, ни разбойники, ни волки, ни болезни, потому что все зависит от Господней воли. Во вселенной, которая выглядела для них чистой, словно в первые дни творения, никакой труд не становился для них наказанием. «Посмотри на горы – и почувствуешь себя богатым», – часто повторяла Перпетуя.
По вечерам обе пары собирались на общий ужин, садились за один стол. Симеон рассказывал охотничьи истории, потом Софи вспоминала о лучших днях на Дамской улице, а хозяева с интересом слушали, как легко с ее уст срываются имена князей и княгинь. Словно в волшебную сказку переселяла этих жителей глухого сибирского уголка. И сама, увлеченная собственным красноречием, невольно начинала причислять годы каторги к счастливейшим периодам своей жизни. Чего бы она ни отдала, лишь бы увидеть сейчас на пороге избы Лепарского: шляпа с пером под мышкой, суровый взгляд, ласковая улыбка из-под седых усов! Она думала о старике так, будто он и был ее родным отцом. А другие – что с ними стало? Доктор Вольф, Юрий Алмазов, Полина Анненкова, Мария Волконская… Столько людей было вокруг нее, и вот – ни единого! Никого, никогошеньки до самого горизонта… Софи написала всем дамам по письму и ждала приезда из Иркутска унтер-офицера, чтобы отправить эти письма, но с течением времени этот унтер-офицер превращался в фигуру мифическую, на прибытие которой всегда надеешься, но этого никогда не происходит.
К середине апреля потеплело, снег начал таять, темнеть… Симеон и Перпетуя готовились в поход. Она укладывала в мешки провизию, он чистил ружье, точил ножи, лил пули, смазывал салом веревки… Вокруг избы образовались проталины, появлялась первая травка, запели ручьи. Ночью, когда царила тишина, было слышно, как трескается лед на Байкале. Последний вечер дома получился грустным. Уходившие вновь и вновь повторяли советы и благословения остающимся. Выпили по стакану самогона, Симеонова изготовления. Хозяин оставил Николаю бочонок с этой самодельной водкой, пистолет, топор, а на рассвете следующего дня укутанные в меха, нагруженные мешками, связками веревки, свертками, путешественники взгромоздились на лошадей. На Перпетуе были кожаные штаны, сидела она по-мужски. Сухое сморщенное ее личико наполовину скрылось под громадной лисьей шапкой. Она улыбалась, не стесняясь черной дыры от стершихся или сломанных передних зубов.
– Храни вас Господь! Свидимся зимой.
– Удачи! – кричала им вслед Софи. – До свидания!
Горечь подступила к горлу, как тяжело оказалось это расставание… Всадники удалялись, копыта их лошадей чавкали по грязи. Софи долго глядела им вслед – таким странным милым людям со старческими лицами, а со спины, в седле, выглядевшим совсем юными. Они пустили лошадей рысцой, они удалялись, земля под копытами почти вся уже освободилась от снега, только редкие белые островки еще задержались в буйной поросли лесных цветов и разнотравья, они удалялись, а когда оказались уже совсем почти не видны, Николай взял жену за руку и повел ее в дом. Здесь они обнялись. И на обоих нахлынуло ощущение, что жизнь теперь станет куда более трудной.
* * *
Николай быстро отказался от мысли возделать все пятнадцать десятин земли, пожалованной ему губернатором, и удовольствовался тем, что приводил в порядок маленький огородик Симеона. Чтобы скрасить себе монотонность существования, иногда он ставил силки на дичь, иногда ходил на Байкал ловить с бурятами рыбу. Озеро манило его, околдовывало!.. Он любил прогуливаться по кромке воды, болтать с местными жителями, помогать им в починке сетей. Всякий раз, как ему случалось отплыть с ними от берега в лодке, день превращался в праздник. Софи тихонько завидовала мужу: надо же было сохранить такой интерес к жизни и такое количество энергии после стольких испытаний! Получается, ему больше всего подходит именно жизнь на свежем воздухе… Николай здесь сильно загорел, движения его стали гибкими, глаза сияли, и она с удивлением ловила себя на мысли о том, как муж становится все более красивым с возрастом.
В сумерках они запирались в избе, поставив на крыльцо для варнаков кружку с водой и положив хлеба. Софи часто просыпалась по ночам: ей чудилось, будто кто-то бродит вокруг избы. Насмерть перепуганная, дрожащая, она трогала Николая за плечо, тот приподнимался и, в свою очередь, прислушивался, но свечи на всякий случай не зажигал. Как правило, это оказывался шелест листвы под ветром, или стук дождевых капель по крыше, или далекий крик ночной птицы… Но однажды, выйдя утром из дома, они увидели, что хлеб исчез, а кружка пуста, – и кровь заледенела в жилах Софи. Она смотрела на следы грязи у крыльца – и вся тряслась от ужаса. А потом много ночей не могла заснуть. Однако беглые, вторжения которых она так опасалась, должно быть, проходили мимо: приготовленное для них оставалось нетронутым. Затем как-то утром они снова обнаружили отсутствие хлеба и воды. Потом опять. И в конце концов привыкли к этим ночным визитам. «Разбойники» возвращались теперь довольно часто, но она думала о них со страхом, смешанным с любопытством, как о лесных зверях, которые тоже порой подходили к самому порогу.
23 мая наконец прибыл унтер-офицер с почтой из Иркутска. Он привез письмо Николаю от генерал-губернатора Лавинского, который сообщал, что прошение о перемене места ссылки передано в Санкт-Петербург по всем иерархическим ступенькам, как положено по субординации, и послание от предводителя псковского дворянства, в котором, кроме тысячи рублей, содержались приятные новости о племяннике. Софи очень хотелось задержать курьера до ужина. Он был молоденький, глупенький и самовлюбленный, но каким бы он ни был, все-таки новое лицо! Он приехал из города! Совсем еще недавно он видел настоящие дома, магазины, прохожих! Она жадно расспрашивала унтер-офицера, затем объяснила ему, почему так страстно желает уехать из Мертвого Култука, – так, будто этот ничтожный тип способен повлиять на судьбу озарёвского прошения. Он слушал с важным видом и пил за четверых. Спать его, пьяного в стельку, уложили в постель Симеона. Когда гость пробудился, Софи отдала ему письма для дам, оставшихся в Петровском Заводе, Николай добавил к этому новое прошение – теперь на имя Бенкендорфа. Унтер, заспанный, помятый, с трудом продрав глаза, поклялся, что вернется, день в день, ровнешенько через месяц. Очутившись в санях, он снова заснул мертвым сном.
После отъезда курьера Николай наконец вздохнул с облегчением: он боялся, что этот болван тут задержится и сорвет его планы на рыбалку. Напрасно Софи убеждала мужа, что погода портится, темнеет, скорее всего, к дождю, – упрямец твердил одно: в ненастье легче взять осетра… Она проводила его до селения, состоявшего из бурятских юрт, посмотрела, как он садится в парусную лодку – вместе с четырьмя аборигенами, суетившимися и гримасничавшими, словно обезьяны, Николай пообещал вернуться до темноты, и лодка стала удаляться, приплясывая на мелких, увенчанных барашками пены волнах. Стоя на корме – с растрепанными волосами, белозубой улыбкой на почти коричневом от загара лице – он помахал рукой. Среди низкорослых бурятов он казался особенно высоким. Софи махала в ответ до тех пор, пока лодка не скрылась из виду.
Когда рыбаки были уже далеко, Софи отправилась в обход селения, переходила из одной юрты в другую, говоря всякие приятные слова их обитателям. Всего здесь было восемь семей, примерно шесть десятков человек. Общение с ними было затруднительным – и не только из-за того, что буряты еле-еле лопотали по-русски и оставались безразличны к соблазнам опрятности и ума, но главным образом потому, что, живя в точности так же, как тысячу лет назад, они опасались любого, кто захотел бы изменить, пусть даже в лучшую сторону, их участь. Женщины были особенно подозрительны по отношению к Софи, поскольку она интересовалась их детьми. А она, не подозревая об этом, пыталась завоевать сердца этих милых ребятишек с круглыми загорелыми смуглыми личиками, раскосыми глазами и серьезным видом, изготавливая для них тряпичных кукол. Дети подарки принимали, но мастерица ни разу не видела, чтобы они играли этими куклами. Единственным человеком, с которым ей удавалось почти нормально поговорить, был Ваул, вождь племени – маленький, кривой на один глаз, со словно бы присобранной вокруг большого рта с покрытыми черным лаком зубами рожицей. Вот и сейчас Софи задержалась в его юрте, где пахло странной, но привычной для жилищ монголоидов смесью запахов протухшего мяса, грязи, нищеты и пота. Ваул посасывал оправленную в серебро трубку, и ей тоже пришлось раза три затянуться и выпустить из нее три облачка дыма. Когда она возвращала трубку хозяину, тот сказал:
– Теперь ты из моего дома. Можешь приходить, когда захочешь. При мне с тобой не случится ничего плохого. Знаешь, я немножко шаман: умею говорить с духами земли и воды…
Софи поблагодарила его и отправилась домой: ей казалось, там полно работы, но, очутившись в своей комнате, поняла, что не знает, чем заняться, и слонялась без всякого дела. Николай оставил на столе тетрадь, куда записывал свои размышления о политике, Софи взяла ее в руки, полистала, глядя с нежностью, как мать на дневник сына. Как легко его узнать, читая эти строчки! Ни одной затасканной мысли, ни единой банальности! Как и прежде, он верит, что в конце концов свобода одержит верх над деспотией, верит, что предназначение народа – счастье. Несмотря на неудачный опыт декабристов, он сохранил какое-то изначальное простодушие, спасавшее от полного отчаяния. В другой тетрадке оказался подробный рассказ о событиях 14 декабря. Для кого он пишет эти воспоминания? Если бы еще у них был ребенок…
Софи немножко помечтала, вздохнула, снова взялась за чтение. Потихоньку смеркалось, в комнате стало почти темно. Она вышла на крыльцо. Небо на западе затягивалось облаками. Вершины гор скрылись в предгрозовом тумане. Тяжелые лиловатые тучи собирались над Байкалом. Начал моросить дождь. «Ну! Я же ему говорила!» – подумала Софи с легкой досадой. Но, увидев висящий на гвозде у двери плащ мужа, начала злиться всерьез: «Хуже мальчишки! Хорошо еще, если не схватит простуды!» До наступления темноты приступы злости чередовались у нее с подступавшей время от времени тревогой. Вечером она не выдержала, завернулась в накидку, взяла плащ Николая и спустилась к берегу. Остановилась. Всмотрелась в горизонт. Никакой лодки видно не было. Ветер хлестал почем зря. Волны с нарастающей яростью накатывались на каменистый, усеянный галькой берег. А когда сходили, клочья желтоватой пены оставались все дальше и дальше, вплоть до подножий юрт. Голенькие черноволосые ребятишки, не стесняясь своей наготы, бегали вокруг и развлекались тем, что позволяли бурунам уносить себя. Странные молчаливые дети: ни возгласа, ни смеха… Вдалеке туман встал колонной и протянулся от поверхности взбаламученной воды до низкого неба. Упала густая тень, и кипение воды в озере осталось единственным звуком во тьме ночи.
В поселке никто не тревожился, старый Ваул, подойдя, сказал Софи:
– Наверное, они где-то пристали к берегу переждать непогоду. Ничего, разобьют лагерь…
Софи возвращалась домой, думая о том, какое огромное удовольствие это приключение доставит мужу: он так любил всяческие сюрпризы. Непоследовательность в поведении Николая как-то сразу и очаровывала ее, и раздражала. Она рисовала в воображении его образ – вот этот большой ребенок присел на корточки у костра, вот он протянул руки к огню и слушает рассказы бурятов о сбывшихся предсказаниях, о колдовстве…
Всю ночь дождь барабанил по крыше, а над озером завывал ветер. Софи лежала и слушала. Бревна избы потрескивали, засов еле удерживал дверь, норовившую распахнуться при особенно сильных порывах ветра, деревья страшно скрипели, словно угрожая расколоться пополам. Ей казалось, что озеро решилось взять побережье приступом. На рассвете все успокоилось, и, когда Софи вышла на крыльцо, она увидела, что природа тиха, у мокрых деревьев вполне невинный вид, Байкал сияет ангельской безмятежностью. Солнце рождалось одновременно на суше и на воде. Облака медленно рассеивались в небесной сини, и даже величественные горы, казалось, готовы раствориться в прозрачном воздухе… Николаю со спутниками легко будет вернуться сюда – ветер попутный… Софи умылась, оделась, выпила чашку чаю и отправилась к бурятам. Ваул встретил ее, выражая всяческую готовность услужить, и пригласил войти в юрту, но ей хотелось остаться на берегу, чтобы видеть, когда причалит лодка.
– Не торопитесь так, – сказал старик. – Может быть, они используют хорошую погоду, чтобы еще порыбачить…
Софи возмутилась:
– Как это так! Он же знает, что я беспокоюсь, что я жду!..
– Стоит начаться клеву, женщины уже не в счет!
Ваул рассмеялся, и морщинки разбежались лучиками по его лицу. Софи тоже усмехнулась, хотя сердце отнюдь не лежало к веселью. Шли часы, и ею все больше завладевала тревога. Иногда ей мерещилось, что вдали, в мерцании волн, показался парус, но иллюзия быстро рассеивалась, и всплески надежды становились все глуше и глуше, пока совершенно не иссякли, обернувшись давящей пустотой внутри. Софи заметила, что бурятские женщины, чьи мужья ушли на рыбалку вместе с Николаем, стали часто появляться на берегу, и лица у них были озабоченные. Несколько раз она пыталась заговорить с ними, но они не отвечали – напряженные, с пугливым взглядом, нахмуренным лбом. Только теребили амулеты своими черными от грязи пальцами – почти непрерывно. Похоже один только Ваул сохранял незыблемое спокойствие:
– С ними не может ничего случиться! Они отлично управляются со снастями…
Поначалу его безмятежная твердость успокаивала и Софи, потом стала выводить из себя, и с наступлением темноты она взорвалась:
– В конце концов, нельзя же так сидеть с утра до ночи сложа руки и ждать!
Ваул подмигнул левым глазом – правый, бледный и выпуклый, напоминал белок сваренного вкрутую яйца.
– Будь спокойна, я поговорил с духами, они за нас. К завтрему все уладится. А пока – не жди здесь, отправляйся домой. Тебе надо покушать и отдохнуть. Выспаться. Если будут какие новости, скажу.
Но Софи наотрез отказалась. Ей не хотелось уходить от озера. Буряты принялись разжигать костры, чтобы рыбакам лучше был виден берег. От мокрых поленьев повалил густой дым, потом появилось и пламя, язычки его весело заскакали во тьме. Ночь сразу стала более живой, на волнах закачались золотые отблески.
Наступило время ужина, и семьи собрались по своим логовам. Сев в кружок, мужчины, женщины и дети ели вяленое мясо, запивая его плиточным чаем. Софи не могла есть, не могла спать. Ей даже и не хотелось. Тем не менее, она согласилась лечь на подстилку в юрте вождя. Сам он, его жена и четверо детей мгновенно уснули, и старик захрапел, то рыча, то повизгивая, то со свистом. Вонь стояла невыносимая. Ночью страхи Софи приобрели уже просто неимоверные масштабы, но еще увеличивались с каждым биением сердца. Ей слышались шаги по прибрежным камешкам, плеск от удара весла о воду, вздохи, стоны… Она бросилась на берег. Никого. Костры угасали. Вдалеке черные волны с белыми гребешками совершали свое мерное, бесконечное движение. Она, как полоумная, вертела туда-сюда головой в надежде хоть что-то разглядеть во мраке, ее трясло от холода и от страха. Вернулась в юрту, прилегла на подстилку: старик прав, надо отдохнуть хоть несколько минут. И ее навязчивая идея была так сильна, что и во сне ей казалось, будто она стоит на берегу озера и до боли в глазах вглядывается в бегущие волны.
Внезапно в ее сон ворвался солнечный свет. Софи вскочила на ноги, убедилась, что юрта пуста, побежала к Байкалу и увидела там, что Ваул садится в утлый челнок с двумя гребцами.
– Наверное, они остановились где-то, чтобы починить свою лодку! – крикнул старик, завидев Софи. – Пошел искать их по озеру! А другие мужчины пока – верхами – обыщут берега. Верь: все мы вместе обязательно их найдем!
В стороне буряты верхом на низкорослых лохматых лошадках цепочкой приближались к тростникам. Гребцы взмахнули веслами, и лодка стала быстро удаляться от берега. Защитившись рукой, чтобы солнце не било в глаза, Софи смотрела, как эта черная муха с большими лапами барахтается в сиропе озерной воды. Лодка уменьшалась с каждым взмахом весел, вскоре она превратилась просто в черную точку, скользящую по зеленой тени. А после вообще ничего не стало – только безбрежная гладь воды. «Интересно, мог Николай сбежать, как тогда? – подумала Софи. – А вдруг я получу от него известия из Китая или с Аляски?.. Бог мой, что за дурь мне приходит в голову! Я совсем сошла с ума! Это просто безумие, безумие! Он вернется! Он непременно вернется!.. Он уже возвращается!..» Она повторяла себе это, зажмурив глаза и цепляясь за свою иллюзию, как порой потерявший все игрок упрямится и не желает признать себя побежденным. Она изнемогала от непрерывных смен надежды и сомнения. Душа и тело ее слились, превратившись в натянутую тетиву ожидания. Она даже не чувствовала, как солнце сжигает нежную кожу ее лица. Подошла жена Ваула, протянула какую-то еду, она молча помотала головой.
* * *
Всадники, посланные Ваулом на поиски рыбаков, вернулись к закату солнца. Едва показались на горизонте их темные силуэты, Софи помчалась им навстречу. Они ехали шагом вдоль берега. Последние солнечные лучи весело, как ни в чем не бывало, гуляли по черной поверхности воды. От всадников падали косые тени и тащились за ними по прибрежным камням. Приблизившись, Софи увидела, что они везут большие завернутые в брезент свертки, положив их поперек седел. Один из бурятов, умевший говорить по-русски, медленно произнес, увидев почти обезумевшую женщину:
– Мы нашли троих из пяти. Волна их выбросила на берег.
Под ногами Софи разверзлась бездна. Она почувствовала, что силы от нее уходят окончательно, что вся дрожит. И внезапно из ее глотки вырвался крик:
– Николя-а-а-а!!!
– Думаю, этот, – бурят указал на одно из тел, привезенных ими. – Хочешь посмотреть? Погоди, сейчас отвяжу.
7
Ей казалось, что комья падают на крышку гроба с оглушительным грохотом. Каждый удар болью отдавался в груди. Она опустила голову. Она представляла себе Николая лежащим между досками и слушающим в ужасающей тьме этот звук. Звук, с которым сыплющиеся пласты земли и камешки отделяют его от мира живых. Никак не удавалось привыкнуть к мысли, что он мертв. Умер. Погиб. Утонул. Даже теперь она хранила если не надежду, то сомнение. Николай не мог перестать жить, просто он сейчас в другом месте. Еще два трупа нашли на следующий день, вместе с обломками лодки: легкий кораблик натолкнулся на прибрежные камни, возвращаясь во время бури. Своих буряты просто положили в землю, для Николая сколотили ящик. Софи переживала из-за того, что поблизости нет священника, который мог бы прочесть заупокойные молитвы, и, прежде чем ящик с телом зарыли, прочитала молитвы сама – те, что знала по-русски. «Отче наш, иже еси на небесех…» Прочитала с таким чудовищным акцентом, что, наверное, Николай улыбался, только не было видно из-за этой страшной маски утопленника. Конечно, маска, не лицо – громадная, тусклая, раздутая, с каким-то идиотским оскалом… Нет-нет-нет, это не он, это не он!.. Ящик глухо резонировал… А вот его уже и не видно… Все буряты, мужчины и женщины, стояли вокруг двоих могильщиков. Место было выбрано удачно: недалеко от дома, с видом на озеро. Железо лопат сверкало на солнце. Когда яма была засыпана, в рыхлую землю воткнули крест, сделанный из обломков лодки. Вот и все. Кончено. Буряты проходили мимо Софи и кланялись, прижимая руку к сердцу. Вождь племени остановился перед ней и сказал:
– Я пошлю своего человека в Иркутск, чтобы известить губернатора о смерти твоего мужа.
Софи поблагодарила его и пошла домой. Дом был еще полон Николаем: его одежда, его бумаги, его книги… Слишком много вещей призывает его здесь – он вернется, сегодня же вечером и вернется. Доказательство? Если бы Николя на самом деле умер, она чувствовала бы себя куда более несчастной. А она не страдает. Она совсем не страдает, потому что ее больше нет. Вместо нее теперь бездумное существо, и оно действует бессмысленно и педантично. Существо прибралось в комнате, вынесло на крыльцо хлеб и кружку с водой для варнаков, заперло дверь на ключ, легло в постель и задуло свечу.
Посреди ночи она проснулась. Одна в большой кровати. Ее рука пошарила между простынями, коснулась подушки Николая. Пусто. Холодно. Этот холод навсегда. То, что отказывался понять и принять ее мозг, сразу стало понятно телу. И вот тогда она зарыдала. Она плакала и вспоминала, вспоминала, вспоминала… Восемнадцать лет вместе, восемнадцать лет любви, печали, ревности, ссор, планов – и вдруг, одним ударом, больше ничего. Ни-че-го. Слезы душили ее. Она забылась в изнеможении.
Утром она обнаружила, что хлеба нет и кружка пуста. Это не бродяга приходил ночью, это Николай! И она его не пустила… Нет, она никогда отныне не станет запирать дверь на ключ! Думала и понимала, что мысли эти – чистый абсурд, что она бредит, сходит с ума, и эта двойственность рассудка была для нее одновременно пугающей и приятной. Она парила между небом и землей.
Проходили дни, но она этого не осознавала. Она не задавалась вопросом, что с ней будет. Она часто садилась на камень у могилы Николая и бездумно на нее смотрела. Жить? Зачем? Разве не выполнена ее земная задача? Она отдала лучшую часть себя. Теперь ей нечего сказать людям. Круг ее интересов сместился, теперь он не здесь, теперь он в королевстве неясного, в царстве невозможного…
Спустя неделю после похорон вернулся посланный в Иркутск бурят, он несся во весь опор с сообщением о том, что сюда вот-вот явится «большой офицер». И действительно, через два дня этот «большой офицер» прибыл – в дрянной повозке, которую тащила четверка лошадей. Он оказался простым лейтенантом, которого прислал генерал Лавинский, чтобы провести расследование на месте. Софи сразу же поняла, что этот молодой блондин с большой головой, посаженной на маленькое тельце, станет ее врагом. Его фамилия была Пузырев, и недостаток роста он компенсировал самодовольством, вынуждавшим его говорить, высоко задирая подбородок и раздувая ноздри. Усевшись в избе Озарёвых за рабочим столом Николая, он поочередно допросил всех бурятов, выясняя обстоятельства несчастного случая и аккуратно записывая показания в тетрадку. Потом, оставшись наедине с Софи, предложил ей «изложить свою версию событий».
– Мне нечего добавить, – сказала она. – Мой муж ушел. Началась буря. Его привезли мертвым.
Лаконичность рассказа была Пузыреву не по вкусу. Ему явно хотелось найти противоречия в разных свидетельствах, обнаружить психологические несообразности, разгадать какую-то тайну, чтобы возвыситься в глазах начальства.
– Значит, по-вашему, все было так просто? – криво улыбнулся следователь.
– Увы, да, сударь, – ответила Софи.
– Надеюсь, что власти также признают это дело простым. Но вы должны согласиться, что я не могу вынести официальное заключение по поводу смерти вашего мужа, не имея возможности его смерть констатировать лично.
– Вы приехали слишком поздно.
– Не отрицаю, мадам. Но оттого моя миссия становится только еще более деликатной. К несчастью, я обязан произвести эксгумацию трупа.
Он произнес эти слова тихо, словно нехотя, пристально глядя на Софи холодными голубыми глазами. Секунду она не понимала, о чем идет речь, затем внезапно содрогнулась. Нет! Она не допустит! Потревожить эту священную землю, нарушить покой Николя, надругаться над его останками, подвергнув их последнему полицейскому контролю – никогда!
– Я запрещаю вам! – она захлебнулась криком.
Пузырев приосанился.
– По какому праву? Вы забываете о вашем положении, сударыня. Ваш муж был государственным преступником. Он находился в Мертвом Култуке под полицейским надзором. Кто мне докажет, что он попросту не сбежал, симулируя утопление во время бури? Кто мне докажет, что эта смерть не инсценировка? Что могила не пуста?
Софи могла подумать о чем угодно, только не о таком предположении – гротескном и оскорбительном!
– Сударь, сударь… – залепетала она, – неужели вы думаете, что я, жена Николая Озарёва, могла бы принимать участие в такой гнусной комедии!.. Если я поклянусь вам, что узнала в… в утопленнике моего мужа, что я помогала укладывать его в… в гроб, что…
Ей не дали закончить слезы…
Пузырев поднялся и сказал:
– Я здесь по служебной надобности. И каковы бы ни были мои чувства, я обязан выполнить полученное мной задание. Полученный мною приказ.
Он направился к двери. Софи загородила ему дорогу.
– Умоляю вас, лейтенант, не делайте этого!
– Но, сударыня, поскольку я должен удостовериться для рапорта…
– Хорошо, удостоверяйтесь в чем угодно, только не трогайте могилу моего мужа!
– Вы призываете меня, мадам, солгать моим начальникам?!
– Нет… просто очень прошу: ведите себя как подобает благородному человеку!
Он молча отстранил ее и вышел на крыльцо. Там, перед домом, его ждали буряты – неподвижные, безмолвные, все как один в остроконечных шапках.
– Идите за лопатами, – распорядился Пузырев.
– Не ходите! – отчаянно закричала Софи. – Он хочет заставить вас выкапывать мертвецов!
Лицо ее было смертельно бледным, глаза красными.
– Она правду говорит? – поинтересовался Ваул.
– Я не трону покойников из вашего племени, – пообещал посланец губернатора. – Но мне нужно засвидетельствовать смерть государственного преступника Озарёва. Вот и все!
Старик помотал головой и буркнул:
– Не проси нас об этом, начальник. Только не нас. Это против нашей веры. Когда для человека начинается Великий Покой, ни один бурят не имеет права его тронуть. Если хочешь, мы дадим тебе лопату, и копай сам…
Глаза Пузырева едва не выкатились наружу и засверкали гневом:
– Вы отказываетесь подчиниться приказу губернатора?! Это вам дорого обойдется! Я об этом сообщу!.. Я сообщу об этом куда следует… Сюда пришлют войска!.. И вас силой заставят подчиняться бес-пре-ко-слов-но!.. Нечестивцы!.. Безбожники!..
Буряты обменялись взглядами, они были явно растерянны. Ваул почесал в затылке, поежился, гримасы выдавали его колебания. Еще минута – и он бы сдался. Софи, словно во внезапном приступе безумия, сорвалась с места, пробежала через огород, схватила в сарайчике для утвари лопату и помчалась с нею к могиле. Если уж кому-то придется потревожить вечный сон Николя, то пусть это будет не чужой человек, а она, его жена перед Богом и людьми! Она шептала:
– Я это сделаю сама… я одна…
Ноги ее запутались в юбке. Она вздохнула и с силой вонзила лопату в землю. Так, словно вонзила ее в живую плоть. Страшная отдача от удара пробежала вдоль рук Софи и достигла сердца. Слезы вновь хлынули из глаз, но она повторяла упрямо:
– Это сделаю я! Это сделаю я!..
И лопата второй раз вошла в рыхлую землю. Софи всем телом навалилась на черенок, желая продвинуть штык лопаты дальше, глубже. В этот момент ее схватили сзади жесткие руки. Она стала отбиваться со стоном:
– Пустите, пустите меня!..
Но буряты уже держали ее с почтительной твердостью. А перед нею возник бледный не хуже нее самой Пузырев, бормотавший:
– О, мадам… мадам… Боже, какая нелепость!.. Хорошо… хорошо… возьмите себя в руки!..
Она дрожала и стучала зубами, не в силах понять, что с нею происходит. У нее отобрали лопату, ее отвели в избу, ее усадили в кресло, ей подали чашку горячего чая… Затерянная в тошнотворном тумане, она – словно сквозь пелену – видела, как Пузырев собирает свои бумаги и складывает их в красную кожаную папку. Буряты исчезли как не бывало. Не отправились ли они разрывать могилу? Встревожившись, она вскочила:
– Где они?.. Я не хочу…
– Успокойтесь, сударыня, – сказал Пузырев. – Мы не станем прибегать к эксгумации. Я напишу в своем донесении, что все действия, необходимые следствию, осуществлены, и, по моему убеждению, все в порядке… Хм… Это же просто формальность, не правда ли, сударыня?.. Нас обязывают…
Он говорил с Софи с подчеркнутой предупредительностью, как говорят с людьми не совсем нормальными: совершенно очевидно, опасался нового припадка, и это склоняло его к поспешности. Пузырев отвесил два поклона, пятясь, вышел из дома, и его повозка тронулась в обратный путь.
Когда звон колокольцев затих вдалеке, Софи огляделась вокруг себя, и на нее с новой силой нахлынули горе и ужас. Хорошо, что наедине с собой самой ей не нужно их сдерживать! Пустота комнаты страшила ее. Глухой хрип вырвался из ее груди. Она больше не плакала, она икала и взвизгивала вперемежку. Мышцы ее непроизвольно сокращались, диафрагма то западала, то выпячивалась, и она ничего не могла сделать, чтобы укротить эти не зависящие от нее содрогания. Так, будто тело отделилось от нее и живет само по себе.
Софи долго сражалась с безысходностью, и, в конце концов, силы ее совсем оставили. Она выплыла из бури с пустой головой и разбитыми членами. Наступило затишье, наступил покой. Ей казалось, что отныне уже никакому удару судьбы ее не затронуть, что вся она, вплоть до поверхности кожи, уже не способна испытать никакой боли, вообще никаких ощущений. Пусть ей сожгут руку – она не дрогнет!
Достигнув этого состояния полной апатии, она удивилась тому, что так страдала, так плакала на глазах этого офицеришки, присланного из Иркутска разрыть могилу: она же отлично знает, ее Николя отнюдь не покоится там, под землей… Она ведь ни разу не ощутила его присутствия, когда сидела у подножия креста. И она подумала, что и впрямь, если бы Пузырев открыл гроб, то никого бы там не обнаружил. Надо было позволить ему сделать это! Ее Николай ушел рыбачить на озеро и еще рыбачит там… Последний его облик, живущий в ее памяти, вовсе не обезображенный труп, нет, это человек живой, радостный, стоящий на корме парусной лодки, машущий ей рукой и смеющийся во весь рот. И зубы такие белые-белые. Если она хочет с ним встретиться, ей тоже надо отсюда уехать. Бежать из этого угла, куда он никогда не придет. Вернуться в Россию… Теперь ей не могут отказать, теперь – когда муж ее умер. Это ведь его, а не ее приговорили всю жизнь до конца провести в Сибири. Ну, разумеется, она возьмет с собой этот гроб, чтобы захоронить его в Каштановке. Там ему будет хорошо. В тени большого дерева. На семейном погосте – между отцом и сестрой.
Она встала, чрезвычайно возбужденная новой идеей, и отправилась на могилу – посоветоваться. Сознание ее работало какими-то беспорядочными скачками. То она рассуждала как вполне разумный человек, то в голове ее словно что-то смещалось, и она подчинялась бреду, строя самые невероятные предположения, уводившие ее от реального мира и переполнявшие ужасом и ликованием.
С горных вершин на Мертвый Култук опускался вечер. Грубо сколоченный крест в сумерках казался безликим надгробием. Софи смотрела на него и не получала ответа. Минуть пять она просидела так – перед незнакомцем, которому нечего было ей сказать. Ну и понятно: он так и будет безмолвствовать, пока не вернется в Каштановку. Она машинально потерла ладони одна о другую, потом отправилась на берег озера, переливавшегося зеленью и синевой, как павлиний хвост. Бледная луна смотрела с еще светлого пока неба, как она очень-очень серьезно вглядывается в линию горизонта, ожидая возвращения кораблика, унесшего ее Николя. В этой темной и светящейся бездне возможно все. Но наконец настала ночь…
Софи пришла домой, немножко поела, не понимая зачем, легла и приготовилась к бессоннице. Несмотря ни на что, упрямая мысль пробивала себе дорогу сквозь все препоны. Уехать из Мертвого Култука с этой обманной могилой, добиться от генерал-губернатора Лавинского подорожной, вернуться в Каштановку, туда, где они с Николя были так счастливы… Там, в кругу самых дорогих ее сердцу воспоминаний, она станет растить маленького Сереженьку. Маленького… Теперь ему уже восемь лет, но она видела его таким, каким оставила: пухлым младенчиком в пеленках, с мордочкой, измазанной молоком, и большими карими глазами, в которых сверкают смешливые искорки… На нее нахлынула волна нежности. Ах, взять его на руки, прижать к себе, обогреть, защитить, лелеять эту жизнь в самом ее начале! Быть снова полезной! Конечно, там, в Каштановке, есть Седов. Но она ему заплатит, и он уедет. Этот человек всегда готов продаться. Достаточно назначить хорошую цену. А она богата, потому что ей принадлежит половина поместья. А когда Седов уберется, Сережа будет принадлежать только ей одной. Ей и Николя. Они вместе займутся ребенком. И воспитают его в духе своих идей. Они сделают его своим собственным сыном. Это странная уверенность стала для Софи источником новой радости. Она вновь обрела надежду. Она наметила цель – дальнюю: старый каштановский дом, с розовой штукатуркой его стен, с его светло-зеленой крышей, с четырьмя колоннами у парадного…
Всю ночь она мечтала, охваченная лихорадочным и восторженным возбуждением. На следующий же день она попросила Ваула отвезти ее в Иркутск. Старик ответил, что ему как раз пора вскорости ехать на ярмарку, чтобы обменять меха и рыбьи пузыри на плиточный чай, хозяйственную утварь и животный жир, и, если она может подождать примерно две недели, он возьмет ее в свою повозку. Она поблагодарила и призвала себя к терпению.
Накануне отъезда, поскольку была уверена, что никогда больше не вернется в Мертвый Култук, Софи распределила между бурятскими женщинами все свое немудреное хозяйство – вот уж в чем она больше не нуждалась.
8
– Признаюсь, меня крайне удивляет то, что я вижу вас здесь, сударыня, поскольку не давал разрешения на ваш приезд, – сказал генерал Лавинский, указывая Софи на кресло перед своим письменным столом.
Путешествие в повозке с бурятами истощило силы Софи. Откинувшись на спинку кресла в надежде унять боль в спине и дать отдых плечам, она посмотрела прямо в глаза губернатору и прошептала:
– Мне казалось, что после смерти мужа лично я не привязана к месту ссылки…
– Смерть вашего мужа ничего не меняет в ваших обязанностях по отношению к властям, – отозвался он, нахмурив брови. – Из сочувствия вашему трауру я, так и быть, закрою глаза на противозаконность вашего появления в этом городе, обещаю не вменять этого в упрек тем, кто привез вас сюда, но хотелось бы также иметь гарантию того, что подобные фантазии больше не взбредут вам в голову!
Она не ожидала такого выговора и немножко растерялась: во что же теперь выльется эта встреча. А он держал томительную паузу. Но затем лицо его утратило напряженность, и тон стал почти по-отечески заинтересованным:
– Мне кажется, что только очень серьезная причина могла заставить вас приехать в Иркутск по собственной инициативе… Расскажите, что случилось?
Софи набралась храбрости и приступила к заготовленной речи. Сбивчивый рассказ о том, в каком отчаянии она находится после смерти Николая и насколько ей невозможно жить одной в Мертвом Култуке, губернатор слушал с явным сочувствием: кивал головой, вздыхал вслед за ней и, казалось, проходил вместе с нею шаг за шагом все испытания, выпавшие на ее долю. Теперь уже можно было поверить, что партия выиграна.
– Мой муж погиб, и у меня нет больше никаких причин оставаться в Мертвом Култуке, ваше превосходительство, – заключила она. – Мне хотелось бы вернуться в Россию, перевезти на родину тело и захоронить его на семейном погосте в нашем имении, Каштановке Псковской губернии. Может быть, вы посодействуете мне в хлопотах об этом?
Лавинский как-то весь подобрался и возвышался теперь над столом, как мраморный бюст. Бледные его глаза округлились под арками вскинутых бровей. Казалось, его удивление перед странной, ни в чем не сомневающейся посетительницей только возрастало с каждой ее фразой. Господи, Боже мой, да она преподносит сюрприз за сюрпризом!
– Глубоко сожалею, что вынужден разочаровать вас, сударыня, – произнес наконец губернатор. – Но, во-первых, запрещено перемещать останки тех, кто был приговорен по политическому делу, а во-вторых, вдова такого государственного преступника не имеет права покидать Сибирь.
Софи замерла, сообщение генерала оглушило ее, но – подобно раненому, в первое мгновение не ощущающему боли, она не осознавала еще до конца, какой страшный удар ей нанесен. Неожиданно даже для самой себя она пробормотала:
– Но это немыслимо, ваше превосходительство! Вина моего мужа умерла вместе с ним! Меня же саму никто не приговаривал, и, наверное, я могу ехать куда хочу!
– Разве, уезжая на каторгу к Николаю Михайловичу Озарёву, вы не подписали бумагу с согласием разделить судьбу государственного преступника? – спросил Лавинский.
– Подписала, – тихо ответила Софи.
И кровь в ее жилах заледенела. Она сидела в этом торжественном кабинете, в этом царстве бронзы, красного дерева и суровой власти и чувствовала, как постепенно теряет связь со всем, что только есть на свете человеческого.
А генерал тем временем продолжил:
– Люди никогда не осознают значения подписи, которую ставят под документом, – сказал он. – Особенно дамы! Впрочем, его величество недавно прямо высказался на заседании Совета министров по поводу интересующих вас прав. Заседание состоялось несколько недель назад, а точнее – 18 апреля 1833 года. Недурно бы вам было ознакомиться с официальным отчетом об этом заседании.
Губернатор достал из папки лист бумаги, заполненный почерком с завитушками и носящий, как Софи разглядела, номер 762.
– Можете пропустить преамбулу, – посоветовал он, протягивая документ посетительнице. – Вот отсюда читайте. – И обозначил пальцем нужный параграф.
Софи прочитала:
«После смерти государственных преступников их вдовы, не замешанные в преступлениях мужей, но разделившие их судьбу, восстанавливаются в правах с возможностью управлять своим состоянием и пользоваться им, но только в пределах Сибири. Разрешение вернуться в Россию может быть получено вышеупомянутыми вдовами государственных преступников только при наличии исключительных обстоятельств и только с особого соизволения императора».
Она положила бумагу на стол. Разочарование было таким сильным, что даже голова закружилась. Лавинский, окно, картины – все дрожало и вращалось у нее перед глазами. Значит, столько долгих недель она жила уверенностью в возможности вернуться в Россию, а ей отказали даже в такой нищенской победе над судьбой, даже в этом! И снова ее будущее зависело от воли царя. Неужели этот человек испытывает коварное наслаждение, держа свою жертву в когтях и то чуть отпуская ее, то снова, в тот момент, когда она почувствует облегчение, усиливая хватку? Неужели это помогает ему убеждаться в своей власти?
– Вы можете послать прошение на имя его величества, – с непонятным выражением произнес генерал.
– Конечно. Но какова надежда на благополучный исход дела?
– Сомневаюсь, что есть шансы. Вряд ли его величество захочет создать прецедент.
Презрение и ярость охватили Софи, нервы ее были напряжены до предела. Иллюзии, до тех пор еще дремавшие в ней, окончательно рассеялись, и она почувствовала себя лишенной уже просто всего – хуже, чем в недавнем прошлом. Ее поражала злобность представителей власти. Она думала: «Россия – одна из редких в мире стран, где все иностранцы готовы любить народ и ненавидеть правительство. Но что же теперь делать?» Она искала ответа в себе самой, она искала хотя бы нужного слова, хотя бы намека на направление, в каком двигаться, но открывала в душе и сознании лишь одиночество, лишь беспомощную слабость…
– Не могу поверить, ваше превосходительство, что в чьих-либо интересах до бесконечности задерживать меня в Сибири, если я не сделала ничего, за что бы могло последовать такое наказание, – начала она. – Я одинокая женщина и не представляю никакой опасности для кого бы то ни было!
– Разумеется, – ответил Лавинский, но улыбка его была холодна как лед. – Только вы напрасно относитесь к Сибири как к стране ограничений, годной лишь в качестве наказания. На этой прекрасной русской земле можно жить весьма счастливо. Я знаю многих людей, которым ни в коем случае не хотелось бы перебраться отсюда в другие края!
Она не слушала. Все по-прежнему кружилось в ее мозгу, мыслей было не собрать. И вдруг ей просияла надежда!
– Ваше превосходительство! – воскликнула Софи. – Есть одно обстоятельство, о котором вы забыли! Очень важное обстоятельство! Я француженка!
– Ну и что в этом?
– Там же, в вашем документе, есть уточнение: вдовам может быть разрешено вернуться в Россию, если имеются важные для этого причины! В исключительном случае! Так вот: я могу получить это разрешение, если не по причине своего несчастья, то – благодаря своей национальности!
Лавинский подумал и процедил сквозь зубы:
– Что ж… действительно. Советую вам непременно указать на это в вашем прошении… Возможно, это послужит…
Софи не дала ему договорить:
– Вот! Вот видите!
Он гримасой изобразил сомнение.
– Завтра же, – продолжала посетительница, – я принесу вам ходатайство о перенесении останков мужа и о моем собственном отъезде отсюда. А пока мы станем ждать ответа императора, вернусь в Петровский Завод, под крыло генерала Лепарского. Он был всегда так добр ко мне! И все мои друзья остались там! Среди них я буду чувствовать себя не такой потерянной!
Софи собралась уходить, но Лавинский медленно покачал головой и сказал:
– Если вам угодно, можете принести мне завтра это ходатайство, но я не могу разрешить вам жить в Петровском Заводе.
– Почему?!
– Потому что это место предназначено для каторжников и их жен.
– Мой муж был каторжником!
– Но перестал им быть к моменту своей смерти.
– А что это меняет?
– С той минуты, как он получил свободу и уехал из Петровского Завода на поселение, вы тоже рассматриваетесь как свободная гражданка и не можете находиться среди людей, еще отбывающих наказание.
Все, что сказал губернатор, было настолько абсурдно, что поначалу Софи решила, что Лавинский шутит.
– Но Петровский Завод в сравнении с Мертвым Култуком – просто рай для меня! – почти закричала она. – Вам ведь не нужно, генерал, чтобы я, будучи, как вы только что сказали, свободной гражданкой, чувствовала себя хуже, чем в те времена, когда мой муж был в заключении? Вместо того чтобы стать проявлением императорской милости, ссылка превратилась бы в еще худшее наказание!
Слушая ее речи, Лавинский, казалось, все больше замыкался в себе, словно бы стеной отгораживаясь от упрямой просительницы. Взгляд его из-под сдвинутых бровей стал жестким. Теперь перед нею находился не стареющий офицер, украшенный орденами и источающий приветливость, а окаменевшее существо, не признающее возражений и донельзя тупое. Истинная загадка власти!
– Может быть, в вашем случае, и так, – вымолвил он в конце концов, – но я не имею права делать исключений. Не имея больше ничего общего с вышеупомянутыми политическими преступниками, вы не должны жить рядом с ними. Различные категории смешивать не дозволяется. Есть места, где содержатся заключенные, и есть места, предназначенные для ссыльных. Если каждый ссыльный станет сам выбирать себе место по вкусу, вы можете себе представить масштабы беспорядка.
– Не поняла, чего же вы от меня требуете! – выдохнула Софи.
– Вы отправитесь в Мертвый Култук, завтра же офицер отконвоирует вас туда.
– Но, может быть, я могу вернуться туда с теми же бурятами, которые меня привезли?
– Нет, сударыня. Это грубое нарушение регламента. Когда у меня будет подтверждение того, что вы снова находитесь там, где положено, я смогу обратиться к центральной власти с просьбой назначить вам менее изолированное от людей место ссылки: Курган, Туринск, может быть даже, Иркутск…
Она пожала плечами.
– Теперь, когда есть шанс вернуться в Россию, мне все равно, где отбывать ссылку.
Лавинский медленно поднялся. Ироническая улыбка начальствующего, превосходящего по всем статьям, промелькнула под усами. Он поцеловал руку Софи и пожелал на прощанье доказать всем, что лучше быть француженкой, чем русской, когда хочешь заслужить монаршего снисхождения.
– Но вы поддержите мое ходатайство, генерал? – спросила она напоследок.
– О, разумеется!
И она поняла, что Лавинский не сделает ни-че-го.
* * *
Сидя в коляске рядом с Софи, лейтенант Пузырев ни на минуту не сводил с нее глаз. Пока они не доберутся до Мертвого Култука, ему не успокоиться! Лошади одолевали последний этап, между стволами деревьев уже виднелся Байкал. По мере того, как путешественники приближались к месту ссылки, к разочарованию Софи примешивалась какая-то странная, непонятная ей самой нежность. До чего же этот край, который Софи так хочется покинуть, стал все-таки дорог ее сердцу! Когда она заметила вдали, в зеленоватой низине, бурятские юрты, ей почудилось, будто грядет возвращение к семье. Как будто кто-то ждет ее там в молчаливом нетерпении. Ей захотелось сразу же, как приедет, побежать на могилу к Николаю. Сколько ей надо ему рассказать! О своем путешествии, о разговоре с Лавинским, о ее планах возвращения в Россию… Ей это удастся, удастся! Они уедут отсюда вместе!.. Звон привязанных к упряжи бубенцов отдавался в ее голове, ее трясло на ухабах, тени деревьев серыми перьями скользили по ее лицу. Потом они выехали на открытое место, под жаркое полуденное солнце. Перед ними до горизонта расстилалось озеро – безупречная изумрудная гладь воды.
– Ну, держитесь! – закричал возница.
И лошади помчались по спуску.
Послесловие автора
Легенды о мятежниках, вышедших на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года, появились очень рано. Самые великие русские поэты – от Пушкина до Некрасова – воспели мученичество этих героев, этих поборников свободы и их восхитительных жен. Таким образом, от поколения к поколению формировался миф о том, что жизнь декабристов в изгнании была настоящим адом. Но, как бы это было ни обидно слышать особо чувствительным душам, в действительности все было совершенно иначе. И отличие чудовищного «Мертвого дома», где Достоевский находился в цепях среди убийц и воров, от каторги «для господ» в Чите и в Петровском Заводе, где первые русские революционеры пребывали в приятном обществе, под крылышком по-отечески относившегося к ним генерала Лепарского, – разительно. Конечно, моральные муки узников и их подруг имели место, и душевные терзания были глубоки, часто непереносимы, но материальное их существование постепенно становилось все более и более комфортным. Они сами рассказали об этом в своих мемуарах, словно бы предвидя предстоящее им прославление, и сделали все, что могли, для того, чтобы потомки не питались измышлениями.
Принципом этой моей работы было максимально широкое использование именно свидетельств этих – совершенно исключительных – каторжников. Условия их содержания в каторжных тюрьмах Читы и Петровского Завода, планы побега, пеший переход из Читы через Сибирь на новое место – везде я подчинялся исторической правде. Только приключения Софи и Николая Озарёвых придуманы мной от начала до конца.
* * *
Трудов, в которых исследуется дело декабристов, бесконечно много. Читатель найдет ниже список наиболее важных из них. За небольшими исключениями, речь идет о публикациях на русском языке.
GRUNWALD Constantin de. Alexandre Ier, le tsar mystique. Amiot-Dumont, 1955.
– La vie de Nicolas Ier. Calmann-Lévi, 1946.
OLIVIER (Daria). Les neiges de décembre. Roman. Édition Robert Laffont, 1957.
– L’anneau de fer. Roman. Édition Robert Laffont, 1959.
WALICHEWSKY K. Le Règne d’Alexandre Ier. 3 volumes. Librairie Plon, 1925.
АННЕНКОВА П.Е. (Полина). Записки жены декабриста. Москва, 1923.
БАСАРГИН Н.В. Записки Н.В. Басаргина. Ред. и вступ. статья П.Е. Щеголева. Пг., 1917.
БЕЛЯЕВ А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1888.
БЕСТУЖЕВ Н. Статьи и письма. М. —Л., 1933.
БЕСТУЖЕВЫ Н.А. и М.А. Воспоминания братьев Бестужевых. М. —Л., 1951.
БУЛАНОВА-ТРУБНИКОВА О.К. Три поколения. М., 1928 («Роман декабриста: Ивашев». М., 1933?).
ВОЛКОНСКАЯ М.Н. Записки. СПб., 1904.
ВОЛКОНСКИЙ С.Г. Записки, СПб., 1902.
ГАЛИЦЫН. Воспоминания сибирского изгнанника.
ГОЛУБОВ С. Н. Из искры – пламя. Роман. М. —Л., 1940.
ГОРБАЧЕВСКИЙ И.И. Записки и письма (?). М., 1925.
ДЕКАБРИСТЫ-ЛИТЕРАТОРЫ. Литературное наследие. Том 59. Декабристы-литераторы. Том I. 1954. Том 60. Декабристы-литераторы. Том II. В двух книгах. 1956.
ДЕКАБРИСТЫ И ИХ ВРЕМЯ (статьи и материалы). М., 1925.
ДЕКАБРИСТЫ НА КАТОРГЕ И В ССЫЛКЕ. Сб. М., 1925.[21]
ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТОВ. Сб. ст. М., 1906.
ЗАВАЛИШИН Д.И. Записки декабриста. М, 1906.
КОТЛЯРЕВСКИЙ Н.А. Декабристы. СПб., 1907.
ЛОРЕР Н.И. Записки декабриста. М., 1931.
ЛУНИН М.С. Письма из Сибири. М.: Наука, 1987 (Лит. памятники).
МАКСИМОВ С.В. Сибирь и каторга. Роман в трех частях. СПб., 1871.
МЕРЕЖКОВСКИЙ Д.С. «Александр I» и «14 декабря». Романы. 1918.
НЕЧКИНА М.В. «14 декабря 1825 года». «Движение декабристов». В 2 томах. М., 1955.
ОБОЛЕНСКИЙ Е.П. Воспоминания. Опубликованы впервые в журнале «Будущность», СПб., 1861. № 10–11.
ОДОЕВСКИЙ А.И. Полное собрание стихотворений и писем. (Русская литература). М. – Л., Академия. 1934
ПОДЖИО А.В. Записки, письма. (Полярная звезда). Иркутск. Восточно-Сиб. кн. изд., 1989
ПУЩИН И.И. Записки о Пушкине, письма. Государственное издательство художественной литературы, 1956.
РОЗЕН А.И. Записки декабриста. СПб., 1907.
ТРУБЕЦКОЙ С.П. Записки князя С.П. Трубецкого. Издание его дочерей. СПб., типография «Сириус», 1906.
ТЫНЯНОВ Ю.Н. Кюхля. Роман. 1925.
ЦЕТЛИН М.О. Декабристы: судьба одного поколения. Париж, 1933.
ШИДЛЕР А. Император Николай I. В 2 томах. СПб 1903.
ЩЕГОЛЕВ П.Е. Декабристы. М.—Л., 1926.
ЯКУШКИН И.Д. Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., Издательство АН СССР, 1951.
Софи, или Финал битвы
Часть I
1
Дверь перед Софи распахнулась, и она, подгоняемая вьюгой, пошатываясь, шагнула за порог. Ветер и снег ворвались в прихожую с такой яростью, что Наталье Фонвизиной, чтобы закрыть дверь, пришлось изо всех сил упереться ногами. Ее полное тело окутывал желтый фланелевый халат. Толстощекое лицо раскраснелось от усилия. Пока хозяйка дома запирала дверь, Софи стояла рядом, прислонившись к стене и прижав обе руки к груди. Она едва дышала, голова ее клонилась под тяжестью лисьей шапки. Постояв так немного, она выпрямилась, устремила на Наталью удивленный взгляд и спросила:
– Как, вы еще не готовы?
– Я не думала, что вы придете в такую вьюгу! – вздохнула Наталья.
– Одевайтесь же скорее! Нам пора идти!
– В такую вьюгу? – повторила Фонвизина. – Это было бы безрассудством! Мы пойдем туда завтра!
– Завтра будет слишком поздно! Разве вы не послали Матрену туда, в тюрьму?
– Конечно, послала! Она, должно быть, уже там с припасами. Но это ровным счетом ничего не значит. Увидит, что нас нет, все поймет и вернется домой…
Софи разозлилась – как можно быть такой вялой, нерешительной, изнеженной? Сама она, приняв решение, уже не могла от него отступить, а если все же приходилось отказаться от своего намерения, испытывала настоящую физическую боль.
– Ну что ж! Тогда я пойду одна, – сказала она, направляясь к двери.
– Нет-нет! Подождите меня! – воскликнула Наталья. – Я через пять минут буду готова!
И убежала к себе в спальню. Софи пошла следом, чтобы помочь ей одеться. Женщины вышли из дома вместе, рука об руку, сгибаясь чуть ли не вдвое, чтобы устоять против ураганного ветра.
Колючая снежная крупа носилась по воздуху и впивалась в щеки, словно шрапнель. От мелькания снежинок затуманивались глаза, и невозможно было хоть что-то различить в десяти шагах, но и та и другая хорошо знали дорогу, по которой шли, и не опасались заблудиться. Как можно сбиться с пути, если они так часто туда ходили! Всякий раз, когда конвой узников, направлявшихся на каторгу, останавливался в Тобольске, жены декабристов, живших в городе на поселении под надзором полиции, исхитрялись передать каторжникам немного денег и еды. Полиция мирилась с этими проявлениями милосердия, пока они были обращены к осужденным уголовным преступникам. Сегодня же впервые речь шла о преступниках политических: на каторгу отправляли группу молодых безумцев, которые годом раньше – четверть века спустя после восстания декабристов – посмели организовать заговор против царя. Их руководитель, Михаил Петрашевский, был, как говорили, социалистом, фурьеристом. Несчастные – к ним был заслан для слежки чиновник особых поручений Министерства иностранных дел, который и собрал сведения, послужившие причиной их ареста, – были, подобно предшественникам, брошены в темницы Петропавловской крепости и после восьми месяцев тюремного заключения приговорены к смертной казни. Однако правительство разыграло зловещую комедию, и в последнюю минуту, уже на эшафоте, осужденным объявили о том, что казнь заменяется каторжными работами. Эта чудовищная история тронула сердца уцелевших участников восстания 14 декабря 1825 года, и, едва до них дошла весть о прибытии узников в Тобольск, они тотчас стали искать способ как-нибудь обменяться весточками с заключенными. А поскольку Матрена, бывшая кормилица детей Фонвизиных, состояла в наилучших отношениях с унтер-офицером, сторожившим арестантов в их временной тюрьме, Наталья ей и поручила добиться для хозяйки и для Софи Озарёвой разрешения увидеться с теми, кого молва уже успела окрестить «петрашевцами». Если же у Матрены ничего не получится – вот тогда они обратятся к кому-нибудь чином повыше.
Наталья споткнулась о какую-то обледеневшую кочку и упала, больно ударившись коленом о твердую землю.
– Держитесь! Мы уже почти добрались до места! – попробовала подбодрить спутницу Софи, помогая той подняться на ноги.
– Все равно мы там ничего не добьемся, вот увидите, – охая, отозвалась Наталья.
– Вы боитесь туда идти?
Фонвизина, обидевшись, гордо выпрямилась, вскинула голову, поправила съехавшую шляпку и, наконец, сказала:
– Пойдемте-ка дальше!
И они снова упрямо двинулись вперед, сгибаясь под ледяным ветром, от которого перехватывало дыхание. Дома теперь попадались реже, стояли поодаль один от другого, придавленные заваленными снегом, отяжелевшими под его пеленой крышами. Наконец, сквозь завихрения снега можно стало различить бесконечно длинную кирпичную стену: перед женщинами была цель их путешествия – крепость, тюрьма… Софи почувствовала, как учащенно забилось сердце. И сама удивилась тому, что после стольких выпавших на ее долю испытаний еще способна так волноваться. С тех пор, как семнадцать лет тому назад погиб Николай, она скорее терпела свое существование, отбывала срок жизни, словно наказание, чем по-настоящему в ней участвовала. Но всякий раз, как Софи начинала погружаться в бездну беспросветного отчаяния, благодаря внутренней дисциплине ей удавалось встряхнуться, она осматривалась вокруг себя и изо всех сил старалась отыскать новый смысл существования. Наилучший способ стряхнуть вялость и оцепенение одиночества – обнаружить, что кто-то в тебе нуждается. И если что-то в эту минуту и влекло ее к политическим заключенным, которых везли через Тобольск, то отнюдь не их политические взгляды (Софи давным-давно отошла от либеральных причуд), но мысль о тех страданиях, какие ожидали нынешних узников на каторге. Жалость, которую она испытывала к ним, помогала забыть о собственном горе.
Правда, по отношению к ней, Софи Озарёвой, власть выказала себя весьма снисходительной, этого нельзя было не признать. Конечно, несмотря на то, что она засыпала императора письмами, так и не удалось добиться, чтобы ей разрешили вернуться в Россию. Но из уважения к горю вдовы ей позволили хотя бы покинуть затерянную в тайге деревушку Мертвый Култук и поселиться на первых порах в Туринске. Из Туринска пятью годами позже ее перевели в Курган. Из Кургана еще десять лет спустя в Тобольск, где Софи с глубокой радостью снова встретилась с несколькими давними товарищами Николая по каторге и их женами. Здесь оказались на поселении Иван и Полина Анненковы, Михаил и Наталья Фонвизины, Свистунов, Семенов, Юрий Алмазов, доктор Вольф… Все они собирались дружеским кружком то у одного, то у другого, делились воспоминаниями о Чите, о Петровске, передавали и пересказывали друг другу письма от декабристов, разбросанных по огромной территории Сибири. Все они к этому времени уже отбыли свой срок каторги и теперь старели, наполовину свободные и относительно счастливые, под неусыпным полицейским надзором. До чего унылое существование – и это после такой пламенной страсти и такого испепеляющего отчаяния, какие им довелось узнать! Софи казалось, что даже самый пылкий нрав и самый неукротимый характер не могут сопротивляться невероятной силе поглощения, способности растворять в себе, свойственной этому краю. Когда она думала о Сибири, ей сразу представлялась губка, которой медленно проводят по акварели, и краски на листе блекнут, исчезают одна за другой. Да разве сама она не может служить примером этого таинственного обесцвечивания души!
– У меня впечатление, что они удвоили количество часовых! – остановившись, произнесла Наталья.
– Они всегда так делают, когда прибывает новая партия, – ответила Софи, снова беря подругу под руку.
Женщины прошли через сени и оказались в помещении караульного поста. Здесь было темно и пахло квашеной капустой. У печки сидел краснолицый унтер-офицер с закрученными усами, словно подпиравшими отвислые щеки. Нянька Матрена, крепкая и розовощекая, стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу. Она была одета в отороченную мехом душегрею, в каждой руке – по корзине. Солдаты с жадностью разглядывали гостью, но было ясно, что ее благосклонностью пользуется один только унтер-офицер.
– А вот как раз и дамы, о которых я говорила! – воскликнула Матрена, низко поклонившись хозяйке и ее спутнице. – И эти барыни вам скажут то же самое, что и я: если они сюда пришли, то только из милосердия.
– Из милосердия, из милосердия… – проворчал унтер-офицер. – Как это понимать? Когда бы вы, как обычно, попросили пропустить вас к уголовникам, то и я, как обычно, слова бы против не сказал. Но раз тут речь идет о политических, мне положено быть суровым!
– Мы хотим только передать заключенным немного еды и вручить каждому Евангелие, больше ничего, – объяснила Софи.
– И вы не станете разговаривать с ними по-французски? – подозрительно спросил унтер-офицер, вмиг насторожившийся, стоило ему услышать акцент просительницы.
– Это я вам твердо обещаю, – сказала та.
– Потому что французский – это, знаете ли!.. О-ля-ля, мадмуазель!
Произнеся последние слова по-французски, тюремщик расхохотался во все горло, явно очень довольный собой. Но вскоре его смех оборвался, лицо приняло мечтательное выражение, рот приоткрылся, взгляд устремился к потолку. Софи поняла, что настал подходящий момент, и уронила на стол сложенную вчетверо десятирублевую бумажку. Унтер-офицер, притворившись, будто не замечает денег, повернулся к Матрене, которая жеманно перебирала обеими руками край своего вышитого передника.
– Ну, так что же вы решили, Никифор Мартыныч? Мы, слабые женщины, полностью в вашей власти!
– Хорошо, впущу, – произнес тот. – Только будете там не больше десяти минут. Сейчас позову кого-нибудь, чтобы вас проводили.
С этими словами он проворно схватил десятирублевую купюру и сунул ее в карман.
Один из сторожей пошел впереди, чтобы открывать двери. Все три женщины поспешили следом. Пройдя через двор, они оказались в собственно тюремном здании, где опять гуськом двигались за сторожем уже по коридору; остановившись у одной из дверей, их провожатый погремел засовами, дверь распахнулась, и внезапно вся троица оказалась в битком набитой людьми полутемной комнате с низким потолком. В тусклом свете, падавшем из забранного решеткой окна, копошилась толпа разновозрастных, но все как один истощенных, бледных, бородатых и оборванных мужчин. Пахло зверинцем, к горлу Софи подкатила тошнота. Она обвела глазами лица теснившихся перед ней людей. Каждый раз, как ей доводилось видеть каторжников, она испытывала одно и то же мучительное чувство жалости, к которой примешивался стыд. У осужденных на пожизненную каторгу полголовы было выбрито «вдоль», от лба к затылку; тем же, кто был осужден на определенный срок, выбривали половину головы «поперек», от уха до уха; но и у тех, и у других на лице каленым железом было выжжено клеймо, означавшее, что все они – уголовные преступники. Тщетно Софи старалась отыскать хоть на одном лице проблески ума – но нет, на всех без исключения лежала печать глупости, порока и нищеты. Должно быть, политических поместили отдельно. В гудение голосов, сливавшихся в неясный шум, вплетался звон цепей, волочившихся по полу. Стоило Софи услышать этот привычный звук, и все ее прошлое разом всплыло в памяти. Первые годы на каторге… Николай стоит перед ней, на ногах у него кандалы… При каждом движении мужа тяжелые цепи, соединявшие между собой железные кольца на его лодыжках, отзываются слабым звоном… И тут ее посетило куда более определенное воспоминание, от которого ей стало жарко, она раскраснелась.
За столом у окна сидел писарь с клеймом на лбу – значит, поняла Софи, сам из бывших каторжников, – перед ним лежала большая тетрадь, он помечал галочками имена в списке. Сторож что-то сказал писарю на ухо, и оба они засмеялись – хрипло, словно горло у них заржавело. Отсмеявшись, писарь спросил:
– Кого вы хотели видеть?
– Петрашевского, – ответила Софи.
– Он в лазарете.
Софи на мгновение растерялась – больше ни одна фамилия ей на ум не приходила. Пришлось призвать взглядом на помощь Фонвизину. Та, поколебавшись, залилась румянцем и слабым голосом проговорила:
– Ну, тогда… тогда Дурова!
– Кого?
– Дурова! – уже более твердо повторила Наталья.
И, чтобы просьба звучала более убедительно, прибавила:
– Он доводится мне родней!
«До чего она неумело лжет!» – растроганно подумала Софи.
– Дуров! Дуров! – твердил писарь, ведя толстым грязным пальцем по левому столбцу списка. – Ага! Вот и он! Камера номер два.
Казалось, он и сам удивился тому, какой порядок царит в его бумагах.
– У меня здесь все! – снова заговорил он, хлопнув ладонью по тетради. – Все записано! Дайте мне тысячу иголок – я их тоже все подсчитаю, разложу и запишу, ни одна не потеряется!
Сторож выпрямился, повернувшись к толпе каторжников, и крикнул:
– Эй, вы, там! Посторонитесь-ка!
Каторжники послушно расступились перед посетительницами, давая им дорогу. Женщины, не поднимая глаз, быстро проскользнули между двух рядов закованных в цепи оборванцев. Софи чувствовала на себе неотрывные взгляды всех этих мужчин, они тянулись за ней следом, словно, перемещаясь, она растягивала сеть, в которую была поймана. А этот их запах! Запах бедности, запах тюрьмы, запах русского народа… Она узнала бы его из тысячи других! За ее спиной слышался шепот, такой невнятный, что и не разберешь, проклятия звучали ей вслед или мольбы. Торопливо порывшись в сумочке, Софи выхватила оттуда пригоршню монет и наугад раздала, стараясь не смотреть на тех, кому подавала милостыню.
И вот они снова идут по коридору… Теперь сторож остановился у другой двери, отпер замки двумя разными ключами.
– Дуров! – заорал он. – Тут спрашивают Дурова!
Затем посторонился и предложил женщинам войти. Они опасливо переступили порог. Камера была погружена в полумрак. Мужчины лежали на убогих подстилках вдоль стен. Один из них поднялся и направился к двери, гремя цепями.
– Мы пришли как друзья, хотели навестить вас, – сказала Софи. – Вы ведь господин Дуров?
– Да, – пробормотал тот.
Голову ему не обрили. Он был высокий, худой, с лихорадочно блестевшими глазами, с выражением усталости и покорности на лице.
– А вы, сударыни? Могу ли я узнать, кто вы? – спросил Дуров. – Почему вы мной интересуетесь?
Софи назвала свое имя, затем представила Наталью.
– Как вы сказали? – воскликнул Дуров. – Озарёва и Фонвизина? Стало быть, вы и впрямь существуете? Я так много слышал о декабристах и их удивительных подругах, что, в конце концов, они стали для меня кем-то наподобие героев легенды! Если бы вы только знали, как вас почитают в России, как вам поклоняются! И теперь вы – здесь, передо мной! После двадцати пяти лет мученичества вы явились на помощь тем, кто пришел вам на смену! Спасибо! Спасибо вам!
Больше петрашевец говорить не мог: его душили слезы. Молча склонившись перед обеими женщинами, он целовал им руки. Софи, у которой тоже перехватило горло от волнения, думала: «Боже мой! До чего же он молод, совсем мальчик!» Когда она шла сюда, ей почему-то представлялось, что она увидит мужчин примерно того же возраста, что и она сама, увидит ровесников, а перед ней оказались мальчики, которые годились ей в сыновья. «Николай был такой же, ничуть не старше, когда его арестовали», – подумала она еще. И все жилки в ее теле затрепетали. Между тем четверо товарищей Дурова, привлеченные его восклицаниями, приблизились к нему, и только один остался лежать на своей подстилке.
– Позвольте представить вам Спешнева, Львова, Григорьева, Толля, – произнес Дуров. – Нас всех вместе арестовали и всех вместе судили. Однако нам, в отличие от ваших мужей, не выпало счастья отбывать каторгу среди политических заключенных – нас для этого оказалось недостаточно много. И нас скоро отправят в какую-нибудь крепость вместе с убийцами и ворами!
Лицо молодого человека судорожно подергивалось.
– Мы хотели бы чем-нибудь вам помочь, – сказала Наталья. – Что мы можем для вас сделать?
– Ничего не надо, ничего!.. Вы пришли к нам – этого уже так много, это просто невероятно!.. Дошли ли сюда вести о том, как нам вынесли приговор, о том, какое подобие казни устроили для нас 22 декабря прошлого года? Войска, выстроенные в каре на площади. Петрашевский, Момбелли, Григорьев привязаны к позорному столбу, на голове капюшон, закрывающий глаза. Солдаты целятся. И внезапно – отмена приказа. Не стрелять! Нам зачитывают новый императорский приговор. Вместо смерти – Сибирь…
– Да, мы все это знаем, – ответила Софи. – Друзья написали нам, как все произошло.
– Уже? Как же они успели?
– В Сибири вести доходят быстро, при условии, что их не доверяют почте!
– Когда меня отвязали, я был словно помешанный, – признался Григорьев. – Я думал, что потеряю рассудок. То смеяться начинал, то плакать…
– А я, – перебил его Спешнев, – жалею о том, что меня не расстреляли на месте.
– Как ты можешь такое говорить? – закричал из своего угла заключенный, оставшийся лежать на подстилке. – Это глупо и подло! Жизнь, какой бы она ни была, остается удивительной и чудесной. Жизнь – повсюду жизнь. Жизнь – в нас самих, а не в окружающем нас мире!
Софи украдкой бросила взгляд на незнакомца и нашла, что вид у него болезненный и лицо непривлекательное. Всклокоченные светлые волосы, некрасивый нос, жидкие усики. А тот продолжал говорить. Но теперь он встал с подстилки и приблизился к остальным, одной рукой приподняв свои цепи и удерживая их на высоте колен.
– Позвольте представить вам моего товарища Федора Михайловича Достоевского, – сказал Дуров. – Его ждала блестящая литературная карьера. Может быть, вам довелось прочесть его повесть «Бедные люди»?
– Нет, – ответила Софи. – К сожалению, нет…
– Сударыни, – вмешался сторож, – поторопитесь. Нехорошо, если надзиратель вас здесь застанет.
Наталья сделала знак Матрене, и та раскрыла обе свои корзины. В одной лежали колбаса и печенье. В другой – книги: Евангелия, как и сказала Софи унтер-офицеру.
– У меня их только пять, – огорченно произнесла Наталья, – а вас здесь шестеро!
– Не беспокойтесь, я атеист и прекрасно обойдусь без Евангелия! – поторопился утешить ее Спешнев.
Остальные же с радостью приняли подарки. Достоевский прижал священную книгу к груди. Его взгляд был почти нестерпимо пристальным и ясным, трудно было выдержать свет этих глаз.
– Там в прорезях обложек вы найдете деньги, они вам пригодятся, – прошептала Наталья, стараясь, чтобы не услышал сторож.
А сторож явно начал терять терпение, и узники, понимая, что он вот-вот поднимет шум, как ни трудно им было произносить такие слова, сами попросили неожиданных, но оттого еще более дорогих сердцу посетительниц своих уйти.
Выйдя за ворота тюрьмы, женщины долго молчали: они были слишком взволнованны для того, чтобы говорить. Каждая молча еще раз переживала свои впечатления. Вьюга к тому времени утихла, и теперь на серо-белый город сыпался тихий, мелкий снежок. Вдали, то здесь, то там, тускло высвечивалось золото куполов. Внезапно замерев на месте, Софи спросила:
– Ну, а сейчас что вы думаете о нашем походе?
– Вы были правы! – с жаром воскликнула Наталья. – Тысячу раз правы! Я чувствую такой восторг! И ни малейшей усталости!
– Нам надо как-нибудь устроить свидание с ними в более спокойной обстановке. Может быть, поговорить об этом с Машей?
Маша – Мария Францева – была дочерью тобольского прокурора. Она очень сочувственно относилась к декабристкам, дружила с ними и неизменно им помогала, поддерживая в делах милосердия.
– Да, конечно же! – откликнулась Наталья. – И как только мы раньше об этом не подумали? Она поговорит с отцом, и, если он согласится замолвить словечко тюремному надзирателю…
Они радостно переглянулись и, воодушевившись, с новыми силами двинулись дальше. Матрена шла позади, пустые корзины покачивались у нее в руках.
Мария Францева жила неподалеку от городского сада.
* * *
На следующий день, получив на это благословение прокурора, тюремный надзиратель предложил госпоже Фонвизиной и госпоже Озарёвой встретиться с политическими осужденными в его собственной квартире. Свидание проходило под неприметным надзором офицера, который притворялся, будто интересуется исключительно тем, что происходит за окном. Было в высшей степени странно видеть в уютной провинциальной гостиной каторжников в лохмотьях и с цепями, лежавшими между изогнутых ножек кресел. Охрипшие голоса звучали поначалу робко, но, когда офицер вышел из комнаты, петрашевцы осмелели. Софи стала их расспрашивать о политических взглядах. Ответы привели ее в полнейшую растерянность: совершенно другое понятие о революции, чем у тех, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь. Для петрашевцев речь шла уже не только о том, чтобы освободить крепостных и установить в России конституционную монархию, нет, они намеревались вообще уничтожить частную собственность, создать общество, в котором каждый работал бы на всех и все работали бы на каждого, они намеревались дать народу возможность самому собой управлять… Эти идеи развивал перед нею, главным образом, сам Петрашевский, черноволосый бородач с огненным взглядом, который к этому времени вышел из лазарета и выглядел совершенно здоровым. По любому поводу Михаил Васильевич цитировал Шарля Фурье, Прудона, Сен-Симона, Герцена, Бакунина… Его товарищи слушали, одобрительно кивая. «Они еще более безумны, чем были мы в свое время!» – решила про себя Софи.
Но тут вернулся офицер, и разговор из осторожности переменили. В четыре часа жена надзирателя велела подать чай. Появление на столе кипящего самовара произвело ошеломляющее впечатление на людей, давным-давно позабывших о домашнем уюте, о радостях семейной жизни. Дуров приглушенно всхлипнул. Достоевский поспешно отвернулся. Спешнев проговорил сквозь зубы:
– Вот это совсем ни к чему, это они напрасно…
Наталья Фонвизина и Софи разлили чай по чашкам, принялись наперебой предлагать печенья.
– Вы очень мало себе положили, Федор Михайлович, возьмите еще хоть немножко.
Замерзшие, изголодавшиеся каторжники изо всех сил старались вести себя благопристойно, не забывать о хороших манерах. Они заставляли себя пить медленно, есть как можно меньше. Достоинство, которое им удалось сберечь в их бедственном положении, пробудило жалость в душе Софи. Она подумала, что ни в одной другой стране мира подобная сцена не могла бы разыграться.
Из всех узников наиболее привлекательным казался Дуров, у которого были правильные черты лица и мягкий, ласковый взгляд. Любопытная подробность – среди петрашевцев не оказалось ни одного аристократа, ни одного потомка знатного рода. Дух эмансипации спустился этажом ниже по социальной лестнице. Может быть, когда-нибудь либеральные идеи, пришедшие с высот, проложат себе путь еще дальше, до низших слоев человечества. И тогда народ, для которого наконец-то все разъяснится, не станет перекладывать на других труд по совершению революции. Надо ли было на это надеяться – или же, напротив, следовало этого опасаться?
Наталья Фонвизина предложила чаю дежурному офицеру, и тот с жадностью выпил два стакана подряд. Затем, должно быть, желая отблагодарить дам за проявленное к нему внимание, снова покинул комнату. Едва дверь за ним затворилась, Петрашевский принялся рассказывать о том, какую счастливую жизнь люди будущего могли бы вести в фаланстерах, где труд превращается в радость, а повиновение оборачивается свободой. Эти пламенные речи лишь удручали Софи, и она сожалела о том, что не способна обманываться, не может ими увлечься. Собственная недоверчивость напомнила ей о ее возрасте. Кто она такая в глазах этих мальчиков? Старая дама, в былые времена верившая в революцию, но за двадцать три года, проведенных в Сибири, подрастерявшая прежний энтузиазм, утратившая восторженность. Ее взгляды должны казаться этим юным борцам за справедливость такими же устаревшими, как ее одежда. Молодые теперь носят свободу другого фасона.
Десять минут спустя надзиравший за ними офицер снова появился в комнате. На этот раз он пришел за узниками, которых следовало отвести обратно в тюрьму. Арестанты покорно встали из-за стола. Дамы поспешно стали набивать им карманы печеньями и конфетами.
– Храни вас Господь! Мы вам напишем!
Звон цепей, удаляясь, затихал в коридоре. Софи и Наталья остались одни. Они сидели, понурившись, за опустевшим столом. Жена тюремного надзирателя, войдя в гостиную, со светской улыбкой осведомилась, все ли хорошо прошло. Поблагодарив ее за гостеприимство, они, в свою очередь, поторопились уйти – их с нетерпением ждали у Анненковых с отчетом о сегодняшней встрече.
* * *
Едва войдя в прихожую, Софи первым делом пристально оглядела вешалку. Среди нескольких безликих пальто, рядком висевших на крючках, она высмотрела шубу доктора Вольфа и обрадовалась. Нежная дружба, завязавшаяся между ними с тех пор, как Софи перебралась в Тобольск, хоть немного, а все-таки согревала ее жизнь. Наталье не терпелось войти в гостиную, она торопила подругу, но та снова и снова придирчиво рассматривала свое отражение в зеркале. Лицо, которое она видела перед собой, не слишком ей нравилось: щеки запали от усталости, глаза пристально и сумрачно смотрят из-под увядших век, на губах печальная улыбка, из-под меховой шапочки спускаются гладко причесанные темные волосы, в которых уже появились серебряные нити. К счастью, талия осталась все такой же тонкой и нисколько не изменилась гордая посадка головы. В пятьдесят семь лет Софи просто невозможно было дать больше сорока пяти. Она выпрямила шею, расправила плечи, дождалась, пока глаза загорятся, хотя и себе самой не призналась бы, что этот блеск в глазах вызван бессознательным желанием нравиться, – и, взяв Наталью под руку, шагнула в гостиную.
Здесь обеих тотчас же окружили знакомые лица: у Анненковых собрались в этот вечер все ссыльные декабристы, которые обосновались в Тобольске. Полина Анненкова повела новоприбывших к накрытому столу. Все остальные, грохоча стульями, с шумом рассаживались вокруг них. Софи и Наталья тщетно пытались объяснить: мы только что от стола, недавно напились чаю, – никто не слушал, их слова тонули в потоке вопросов, раздававшихся со всех сторон:
– Ну, что? Какие они? Что они вам рассказали?
И дамы, переполненные свежими впечатлениями, принялись рассказывать, перебивая друг дружку, о своей встрече с петрашевцами. Пока длился рассказ, Софи глаз не сводила со смуглого лица доктора Вольфа. Усы у него седые, а вот брови остались черными. Глаза из-за круглых стеклышек очков смотрят умно и ласково. Софи не раз ощущала между ним и собой мгновенное и отчетливое, словно просверкнувшая искра, соприкосновение мыслей. Когда она заговорила о политических воззрениях Петрашевского, мужчины оживились и стали вслушиваться в ее рассказ с удвоенным вниманием. Должно быть, некоторые слова до сих пор сохранили способность их волновать. Они прислушивались к отзвукам баталий своей молодости. И внезапно все они показались Софи очень старыми. Все, даже доктор Вольф не стал исключением. Она никогда их такими не видела. Иван Анненков с годами превратился в полного, праздного, ленивого, неразговорчивого господина; Юрий Алмазов, с его треугольным лицом и наполовину облысевшим черепом, сделался похож на мумию; у Петра Свистунова выпали все передние зубы, и рот воронкой уходил вглубь между острым носом и выдвинутым вперед подбородком. Софи задумалась о том, каким был бы теперь Николай, если бы не утонул, когда ему было тридцать девять лет от роду. Может быть, для их любви, для них обоих так лучше – она не видела его постаревшим, он не увидел, как стареет она? Застигнутая врасплох этой мыслью, она совершенно выпала из разговора, предоставив Наталье говорить за двоих. А страсти между тем накалялись, голоса звучали громче, общий тон заметно изменился.
– Теории этих несчастных ближе всего к самому что ни на есть утопическому социализму! – невнятно проворчал Иван Анненков, отправляя в рот полную ложку варенья.
– Вот именно! – с горячностью подхватил Свистунов. – Мы все-таки были намного ближе к русской действительности!
– Русская действительность, – заметил Юрий Алмазов, – это сильная власть, управляющая слабым народом. И это задано уже самими географическими условиями нашей страны, выхода из этого положения нет и быть не может!
– Стало быть, вы полагаете, не следовало даже и пытаться что-то изменить? – с насмешливой улыбкой поинтересовался доктор Вольф.
– Вполне возможно! Мы все ошибались! И петрашевцы ошиблись. И, между нами говоря, не вижу, с какой стати мы должны испытывать к ним благодарность. Их заговор привел только к тому, что усилил недоверие царя по отношению ко всякой либеральной идее. Если у нас и оставалась до сих пор туманная надежда в один прекрасный день вернуться в Россию, теперь мы можем с ней распрощаться!
– Что ты такое болтаешь? – закричал Михаил Фонвизин. – Уж не сделался ли ты клевретом самодержавия?
– Господа, господа, дайте же мне сказать, наконец! Я требую слова! – повысил голос Семенов, стуча ложкой по краю стола.
Внезапно Софи с необыкновенной ясностью и отчетливостью представила себе Николая принимающим участие в этом споре: лицо разгорелось, белые зубы сверкают. Затем все вокруг нее померкло. Юрий Алмазов совершенно прав: уже и без того революция сорок восьмого года во Франции, народные восстания в немецких государствах, безумная затея венгров, решивших сбросить с себя австрийское иго, убедили царя в том, что яд новых веяний угрожает распространиться и в России. И, обнаружив в Санкт-Петербурге еще одно тайное общество, он мог лишь проявить еще большую непримиримость по отношению к тем, кто еще оставался в живых из первых заговорщиков. «Мне до конца своих дней придется оставаться в Сибири», – подумала Софи. После многих лет негодования, охватывавшего ее при одной только мысли об этом, она начала постепенно привыкать к ней и, в конце концов, смирилась с таким вот безрадостным убеждением. Внезапно ход ее мыслей прервался, она почувствовала благоухание чая и приторный аромат варенья, от которого ее стало слегка подташнивать. Полина Анненкова хотела наполнить стоявшую перед гостьей чашку, но Софи отказалась, пробормотав:
– Нет-нет, не надо, благодарю вас.
Она посмотрела на доктора Вольфа, но их взгляды не встретились. Он внимательно слушал Михаила Фонвизина, который с жаром говорил, комкая салфетку:
– Во всем этом меня утешает лишь мысль, что мы не напрасно принесли себя в жертву! Некоторая польза все же была! У людей нового поколения взгляды, может быть, более передовые, чем у нас, пусть они будут социалистами, коммунистами, фурьеристами, кем угодно, но они не были бы ровным счетом никем и ничем, если бы мы четырнадцатого декабря 1825 года не стояли бы на Сенатской площади против пушек великого князя Николая Павловича!
– Да, – с горечью откликнулся Юрий, – мы оказали им большую услугу, проложив дорогу в Сибирь.
– Другие подхватят факел, – зевая, проговорил Иван Анненков.
– Несчастные! – жалостно вздохнула Полина.
Она сильно располнела с годами. Ее маленькие глазки, казалось, утонули в пышном тесте лица, словно две изюминки.
Свистунов расхохотался:
– Похоже, вы вполне убеждены в том, что революционеров в России всегда будет за что пожалеть!
– Ну да, конечно… А что, разве я не права?..
– «Совершенно необязательно надеяться для того, чтобы начать, равно как и преуспеть для того, чтобы упорно продолжать!» – нравоучительно произнес доктор Вольф.
– Какие прекрасные слова! – воскликнула Наталья.
– Они принадлежат не мне!
– А кому же?
– Вильгельму Оранскому, если память мне не изменяет.
– И он преуспел?
– Да, в том, чтобы приобрести множество врагов и пасть от руки убийцы.
– Доктор, вы все так же невозможно язвительны! – упрекнула Полина, погрозив ему пухлым пальчиком.
Доктору Вольфу, похоже, льстило, что он, несмотря на свои годы, сохранил все ту же репутацию. У Софи, когда она смотрела на своих друзей, создавалось впечатление, что все они играют роли, выбранные еще в молодости, хотя ни внешность, ни характеры их уже не подходят для привычных когда-то амплуа. Однако, подобно тому как завсегдатаи того или иного театра не замечают морщин на лицах актеров, которые в течение четверти века выходят на сцену, исполняя все те же роли влюбленных все в тех же пьесах, тобольские декабристы оттого, что постоянно встречаются и вместе перебирают воспоминания, по-прежнему видят друг друга такими, какими давным-давно перестали быть. Софи было мучительно сознавать, что на фоне этой всеобщей иллюзии лишь она одна сохраняет ясность ума и трезвость взгляда. Ей приходилось делать над собой усилие, чтобы попасть в тон остальным. Оторвавшись от своих размышлений, она услышала, что Наталья Фонвизина теперь рассуждает о возможности писать петрашевцам и сделаться для них своего рода «крестной».
– Надо, чтобы везде, где они окажутся, они находили декабристов, которые могли бы им помочь. Хорошо бы нам создать такую благотворительную цепочку…
– Вы просто святая! – пробормотал Свистунов.
Комнату заполнили синие сумерки. Лица теряли четкость очертаний, в полумраке только вспыхивали время от времени позолоченные оклады икон да поблескивал пузатый самовар. Служанка вошла, чтобы зажечь лампы. Поскольку было уже довольно поздно и на улице совсем стемнело, доктор Вольф предложил Софи проводить ее до дома.
2
Через полчаса после того, как подруги выехали из Тобольска, сани остановились в чистом поле. Ветра не было, однако мороз пощипывал довольно сильно. Прижавшись друг к дружке под полостью, Софи с Натальей не отрывали глаз от белой дороги, убегавшей вперед и где-то там, вдали, терявшейся в тумане. По сведениям, которые им удалось раздобыть накануне в пересыльной тюрьме, первый конвой с политическими осужденными должен был этим утром, в восемь часов, отправиться в Омскую крепость. Сопровождавшие заключенных жандармы, получив хорошие деньги, смягчились и пообещали не препятствовать дамам в последний раз перемолвиться словом с узниками где-нибудь у обочины. Софи толком и не знала, зачем ей непременно надо было еще раз увидеть этих молодых людей перед долгим путешествием, которое на многие годы отрежет их от остального мира. Она смутно чувствовала, что исполняет некий не совсем понятный ей самой долг по отношению к петрашевцам. Словно в какой-то мере несет ответственность, пусть даже и косвенную, за чужие политические грезы, за последствия чужой деятельности. Испытания, которые им с Николаем пришлось перенести, сделали ее навеки солидарной со всеми, кому в России приходится терпеть страдания. И только смерть, думала она, сможет избавить от этой обременительной, всепоглощающей жалости.
Ее глаза устали всматриваться в расстилавшуюся вокруг снежную равнину, в пустынный, однообразный пейзаж. Ямщик сгорбился, стараясь хоть как-то защититься от холода. Из двух впряженных в сани лошадей одна бежала спокойно и ровно, вторая фыркала, упиралась, встряхивала головой и выпускала пар из ноздрей. В неподвижном воздухе мерцали серебряные блестки. Софи ощутила, что лицо медленно немеет, будто отнимается по частям. Она энергично потерла нос и уши, чтобы согреть их и вернуть им чувствительность.
– Что-то долго они не едут! – волновалась рядом Наталья. – Неужто мы должны часами их тут ждать!..
– Послушайте! – воскликнула Софи. – Бубенцы!
И в самом деле, в тишине послышался легкий звон, словно постукивали одна о другую льдинки. Едва слышный поначалу звон нарастал, приближался, становился все отчетливее, наконец, сделался оглушительным, и одновременно с этим из мглистой пустоты вынырнули две бешено скачущие тройки.
Поравнявшись с дамами, тройки остановились. Каждая везла сани с одним из узников и сопровождавшим его жандармом.
Софи вслед за Натальей выскочила из саней, и, проваливаясь в рыхлый снег, женщины приблизились к путешественникам. Те, в свою очередь, тоже вылезли из саней, придерживая руками кандалы. Когда арестанты подошли поближе, стало видно, что это Дуров и Достоевский. Оба в коротких арестантских полушубках, на голове – треух. У Дурова заиндевела борода, на бледном лице Достоевского выделялся совершенно синий от холода нос. Тот и другой бросились целовать протянутые к ним руки.
– А где же ваши товарищи? – спросила Наталья.
– Нас будут увозить постепенно, в течение нескольких дней, – объяснил Дуров. – Постарайтесь свидеться с ними тоже. Мы осведомлялись, и, к сожалению, оказалось, что вам не дозволено будет нам писать…
– В первое время, должно быть, да, – сказала Софи. – Но потом дисциплина начнет слабеть…
Наталья подозвала одного из жандармов и передала ему письмо, адресованное в Омск – князю Горчакову, губернатору Западной Сибири. Фонвизина была с князем в дружеских отношениях и нисколько не сомневалась, что тот проявит доброжелательность по отношению к молодым людям, которых она ему рекомендовала. Жандарм дал клятву, что послание будет передано адресату в собственные руки, и тотчас стал просить дам распрощаться с заключенными, чем быстрее, тем лучше.
– Храни вас Господь! – произнесла Наталья, перекрестив Дурова и Достоевского.
Те склонили головы.
– Спасибо, спасибо вам за все, – осипшим голосом твердил Дуров.
Арестантов стали поспешно рассаживать по саням. Софи прокричала:
– Не теряйте веру! Может статься, еще увидимся!..
Голос у нее сорвался. Она перестала понимать, в какой поре своей жизни оказалась. Не декабристов ли это снова увозят на каторгу? Лошади, пробудившиеся от удара кнутом, рванулись вперед, покачивая крупными темными головами. Из-под копыт полетели комья снега. Над задками саней, выкрашенными синей краской, показались обращенные назад лица. Софи и Наталья долго махали петрашевцам вслед, затем, устав прощаться с пустотой, уныло побрели к своим розвальням.
– Теперь обратно в город? – спросил ямщик.
– В город, – ответила Наталья. – Да поскорее! Я совсем закоченела!..
И они тронулись в обратный путь. Кони бежали резво, сани летели по снегу, и после десяти минут этого стремительного бега у Софи внезапно в голове словно бы вспыхнул ослепительно яркий свет. Очевидность, с которой она так долго не хотела мириться, которую так долго не хотела замечать, явилась ей без усилий, без боли, с безмятежной ясностью восхода солнца над снежной равниной. До этой минуты она считала, будто поселилась в Тобольске лишь временно, едва ли не проездом. Не веря по-настоящему в то, что ее вскоре отзовут из ссылки, довольствовалась, тем не менее, убогой избой на самом краю европейской части города. Едва ли не радовалась тому, что разместилась в таком неудобном жилье, – так, словно, отказываясь устроиться поудобнее, не обживаясь по-настоящему на новом месте, заклинает судьбу, которая старалась удержать ее в этих краях. И только появление в городе петрашевцев помогло ей избавиться от иллюзий. Разговоры с ними не только отняли у Софи надежду на возвращение в Россию, но и лишили всякого желания туда вернуться, ей даже думать об этом не хотелось. Впервые с начала своей ссылки она сознательно выбирала Сибирь. Больше того – она даже с оттенком гордости сказала себе, что выбирает ее добровольно. Рядом с городским садом продавался дом. Конечно, за него просят непомерную цену, но покупка дома и переезд туда приблизят Софи к друзьям – все ссыльные декабристы живут в этом квартале. Она сможет по своему вкусу обставить комнаты, создать уют. Перестать жить так, словно вот сейчас, с минуты на минуту, начнет укладывать сундуки! Софи ощутила прилив нежности к несчастным, которые, отправляясь на каторгу, помогли ей вновь обрести душевное равновесие. Дуров, Достоевский… Она запомнит эти имена.
На каждой выбоине ее голова, качнувшись назад, мягко ударялась о стеганую обивку спинки. Софи вспомнила, что вернется в город как раз вовремя и успеет дать урок французского дочке почтмейстера. Приезжая француженка была до такой степени нарасхват, ее слава как преподавателя была настолько велика, что некоторым из желающих стать ее учениками приходилось отказывать. А ведь начала она давать уроки просто от удручающего ничегонеделанья, когда еще жила в Кургане. Там тоже были ссыльные декабристы…
Только вспомнить, как они все переполошились, когда в начале июня 1837 года стало известно о скором приезде цесаревича Александра Николаевича! Убаюканная движением саней, Софи в полудреме снова видела вокруг себя принаряженную толпу, в сумерках собравшуюся на дороге встречать великого князя, наследника престола. Бродячие торговцы продавали бумажные фонарики и свечи, и вскоре в каждой деревне затрепетали, словно в пасхальную ночь, тысячи крохотных огоньков. Говорили, что такое случилось впервые, что раньше ни один из членов императорской семьи не бывал в Сибири. Простой люд ждал приезда цесаревича, словно какого-то сверхъестественного события. Часы шли, но восторженное настроение толпы не убывало. Вскоре после полуночи издали донеслось громовое «Ура!», и стрелой пролетели два гонца, а за ними с оглушительным грохотом покатили коляски и дорожные кареты. В одной из них сидел наследник престола. Он никого не видел, и никто не увидел его… Погасив свечи и фонарики, все потянулись в город, а там узнали, что «его императорское высочество измучились дорогой и прямо из кареты отправились в постель, приготовленную в доме губернатора». На следующий день декабристы передали цесаревичу прошения о том, чтобы им было дозволено вернуться в Россию. Поэт Василий Жуковский, состоявший в свите великого князя, долго с ними разговаривал и пообещал поддержать просьбу. Вечером, в шесть часов, состоялось торжественное богослужение. По приказу его императорского высочества все сосланные за политические преступления присутствовали в храме. Странная получилась картина: пестрая толпа принаряженных чиновников, в уголке кучка мятежников 14 декабря, а перед алтарем в полном одиночестве сын императора Николая I. В то время престолонаследнику было девятнадцать лет. Высокий, стройный, он выглядел кротким и утомленным. Софи хорошо разглядела его в просвет, образовавшийся между плечами двух камергеров. Когда священник читал молитву о спасении «плавающих, путешествующих, недугующих, страждующих, плененных…», цесаревич повернулся к декабристам и, глядя на них, медленно осенил себя крестным знамением. И в тот же вечер уехал, оставив после себя беспредельную надежду. Софи, как и все другие, поверила в то, что царя тронет рассказ великого князя и политическим осужденным будет наконец-то разрешено вернуться в Россию. Ответ императора не заставил себя ждать: «Что касается этих господ, для них путь в Россию лежит через Кавказ».
Исполняя государев приговор, Лорер, Нарышкин, Назимов, Лихарев, Розен и многие другие отправились в армию простыми солдатами. Почти все они пали в бою или умерли от тифа. Однако, несмотря на разочарование, постигшее ее, как и всех остальных, Софи снова и снова писала письма императору, императрице, Бенкендорфу, Орлову… Приблизительно по письму в год. И каждый раз напрасно. Нет уж, отныне никому она писать не станет, с этим покончено! Решено окончательно и бесповоротно. Склонившись к Наталье, Софи сказала:
– Знаете, я только что приняла очень важное решение! Хочу перебраться на другое место, чтобы жить поближе к вам!
– Ах, как же вы меня обрадовали! – воскликнула Наталья. – Вы правы: пора теснее сплотить наш круг! Ведь все меньше и меньше остается тех, кому довелось все это пережить…
У Софи в голове промелькнула череда имен умерших: Александрина Муравьева, Камилла Ле Дантю, Ивашев, Вадковский, Юшневский, Кюхельбекер, братья Борисовы, генерал Лепарский… Комендант Нерчинских рудников скончался в мае 1837 года, и последние узники, которые еще содержались в Петровске, шли за его гробом с таким чувством, словно провожали друга. Теперь, по прошествии времени, Софи еще больше ценила простодушие и благородство, свойственные старому слуге империи. После гибели мужа Станислав Романович написал ей настолько нежное, настолько трогательное письмо!.. Она попыталась припомнить точные выражения, но тщетно перебирала в памяти слова – ветер, скользивший по лицу, белизна равнины, слепившая глаза, мешали думать так сосредоточенно, как ей хотелось бы. Вдали, на горке, высившейся над Иртышом, показались городские крыши, заваленные снегом, а за ними – колокольни и башни старой крепости.
Наталья доставила Софи домой. Служанка Дуняша ждала на пороге.
– Скорее, барыня! – закричала она, едва завидев хозяйку. – Вас уже ждут!
Наскоро расцеловав Наталью, Софи вбежала в сени и наткнулась на Татьяну, дочку почтмейстера, которая стояла там, прижимая к себе тетрадь. Это была тринадцатилетняя девочка с круглым усыпанным веснушками лицом и очень светлыми голубыми глазами.
– Садитесь, дитя мое, – пригласила Софи, впустив ученицу в единственную имевшуюся у нее приличную комнату. – И давайте сразу начнем урок. Что я вам задавала в прошлый раз?
Татьяна сосредоточилась, устремила взгляд к потолку и монотонным голосом начала:
Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée…[22]Французские слова девочка выговаривала с грубоватым русским акцентом, таким терпким и одновременно таким певучим, что Софи едва сдерживала улыбку. Старательность дочки почтмейстера умиляла ее преподавательницу, которой чудилось в этой старательности неуклюжее выражение любви к Франции, не говоря уж о том, каким удивительным и чудесным ей казался сам факт, что в сибирской глуши даже мелкий чиновник хочет, чтобы его дети знали язык Лафонтена. За долгие годы, проведенные в изгнании, у Софи развилась болезненная восприимчивость ко всему, что напоминало о родине. Если в прежние времена она посмеивалась над иными эмигрантами, с маниакальным упорством собиравшими крохи воспоминаний, то теперь она и сама дошла до того, что окружала себя безделушками, вырезала картинки из журналов, стараясь воссоздать вокруг себя обстановку страны, которую не суждено больше увидеть. Стены ее комнаты были украшены фотографиями: рассматривая их, можно было познакомиться едва ли не со всеми старинными парижскими ремеслами. На рабочем столе лежали несколько номеров «Petit Courrier de Dames». Надпись, выгравированная на мраморном основании часов в виде бронзового петуха, вскочившего на барабан, гласила: «Его крик заставит мир пробудиться». На особом пюпитре помещалась иллюстрированная партитура «Орлеанской долины», «большого вальса в пользу пострадавших от разлива Луары»… Каждое из этих сокровищ дорого досталось Софи, чтобы их добыть, ей пришлось проявить немало хитрости и настойчивости. Разумеется, ей очень хотелось бы иметь несколько гравюр с изображением событий революции 1848 года, но нечего было и надеяться найти листы такого рода в России – приходилось довольствоваться урезанными цензором газетными отчетами. Правду сказать, эта Вторая республика, рожденная мощным народным порывом, на расстоянии казалась изгнаннице странной. Она не понимала, как могли ее соотечественники, разрушив монархию, избрать главой государства племянника Наполеона, принца Луи-Наполеона Бонапарта. Трехцветное знамя, «Марсельеза», пламенные речи в Законодательном собрании – все это было прекрасно, но почему бы лучше не призвать для того, чтобы править страной, людей, чьи либеральные взгляды не вызывают сомнений, таких, как Ледрю-Роллен или Ламартин? Нет, она решительно не может здраво об этом судить, живя вдали от Парижа. Надо погрузиться в бурное кипение противоречивых страстей – только тогда можно во всем разобраться. Быстро прочитанные и мгновенно забытые газетные статьи, успехи и скандалы Комеди-Франсез, злобные карикатуры, шикарные наряды, символы веры, удачные остроты, упряжки в аллее Акаций… звон молота, бьющего по наковальне, шорох рубанка в предместьях, уличные песни, крик разносчика воды… музыка военных парадов, стук колес экипажей… А над всей этой обыденной, в общем-то, суетой – удивительное сознание того, что все мнения дозволены, что взрыва смеха достаточно для того, чтобы сбросить статую с пьедестала… Вот что утратила Софи, покинув Францию. Она печально думала о своем, а дочка почтмейстера, сидевшая напротив нее, тем временем сонно покачивая головой, бубнила:
Le trépas vient tout guérir; Mais ne bougeons d’où nous somme: Plutôt souffrir que mourir, C’est la devise des hommes.[23]– Умница! – похвалила девочку Софи.
Затем они стали разбирать, что означают отдельные слова. Татьяна была далеко не глупа. Толково объяснив, что такое «ramée» – «срезанные ветки», «faix» – «бремя», «chaumine» – «избушка», она захотела узнать, верно ли, что – как утверждает Лафонтен – люди предпочитают страдание смерти.
– Не все! – слегка улыбнувшись, ответила Софи.
Она подумала о тех, кто рисковал своей жизнью в Париже, на баррикадах, и в Санкт-Петербурге, на Сенатской площади. Бежать из Сибири, вернуться во Францию… Когда-то она строила такие планы, но волю императора нарушить было невозможно. Без паспорта ее задержали бы на первой же почтовой станции. Впрочем, разве не приняла она только что решение перебраться в более удобный дом, поселиться по соседству с Фонвизиными и Анненковыми?
– Да, – произнесла девочка. – Например, для солдата лучше погибнуть в бою, чем оказаться побежденным.
– И тут тоже – не для всякого солдата.
– Для героя!
– Вот именно.
– Я ненавижу героев.
– Почему?
– Не знаю. Они мешают другим жить спокойно. Мне вот нравится дом, семья, шитье, дети. А вы знали каких-нибудь героев?
– Да.
– Каких?
Софи, смутившись, торопливо раскрыла лежавшую на столе книгу и, не ответив на вопрос, коротко сказала:
– Давайте писать диктант. Это текст Лабрюйера… Вы готовы?.. «Менальк спустился по лестнице, открыл дверь, чтобы выйти, закрыл ее…»
Медленно продолжая диктовать, она снова вернулась мыслями к планам переезда. В ее голове теснились цифры. Траты ее не пугали. Благодаря доходам от Каштановки, она ни в чем не нуждалась. Псковский предводитель дворянства каждые три месяца аккуратнейшим образом присылал причитающуюся ей долю. Но она ни разу не получила хотя бы самой коротенькой записки от своего племянника. Можно подумать, будто Сережа не знает о ее существовании! Он не написал ей ни слова даже после гибели Николая. Несомненно, отец держит его в своей власти. Сколько же ему теперь? Двадцать три… Нет! Конечно, больше! Двадцать пять лет! Ужаснувшись, Софи на мгновение замерла. Пауза явно затянулась дольше положенного, и Татьяна подняла глаза от тетради. Она смотрела на учительницу с ласковым любопытством, француженка явно ее занимала. В городе столько всего рассказывали о декабристах! Толком не зная, что ставили в вину этим людям, дети, должно быть, считали их особенными существами, более образованными и более несчастными, чем другие, – отверженными, которые владеют иностранными языками, наделены знанием арифметики и орфографии.
– «…он увидел, что его шпага висит справа, что его чулки спустились на пятки и что его сорочка прикрывает шоссы…» – продолжала Софи.
– Что такое шоссы?
– Это такие короткие штаны до колен.
Перо снова побежало по бумаге. Софи подумала, что теперь едва ли не в каждом сибирском городке появился какой-нибудь декабрист, обучающий потомство местных чиновников. Тем не менее, – это казалось особенно несправедливым, – если политические заключенные и превращались в наставников, то их собственные дети чаще всего продолжали считаться казенными крестьянами. В 1842 году император объявил, что готов позволить сыновьям и дочерям давних своих врагов обучаться в государственных учебных заведениях, при условии что они будут туда записаны не под своими фамилиями: Трубецкой, Волконский, Давыдов, Анненков, – но по имени отца, словно простые мужики! Родители единодушно отвергли эту оскорбительную милость, дети продолжали учиться дома, под присмотром близких, и куда лучше, чем учились бы в любом другом месте. Наконец, в 1845 году, после смерти Бенкендорфа, его преемник, граф Алексей Орлов, добился от Николая I отмены драконовских мер, направленных против «молодого поколения». Благодаря этому Александра и Лиза Трубецкие, а затем и Нелли Волконская получили право поступить в Иркутский институт благородных девиц, а Михаил Волконский и дочери Анненкова были приняты интернами в гимназию того же города. Но, как и всегда бывает в России, это проявление милосердия сопровождалось мелочными ограничениями. Так, Полина Анненкова, страдавшая в разлуке с детьми, так и не смогла добиться от властей Тобольска пропуска для того, чтобы их навестить. Любое перемещение, самая короткая поездка требовали множества подписей и печатей. Письма вскрывались и надолго, порой на целую неделю, задерживались на почте. Случалось, что по анонимному доносу полицейский являлся в дом к кому-нибудь из декабристов, задавал несколько праздных вопросов, после чего удалялся с недоброй, угрожающей улыбкой на губах. Запрещено было иметь охотничье ружье, запрещено было посылать в Россию дагерротипы, запрещено было учить детей фехтованию… Внезапно Софи задумалась о том, не расспрашивает ли почтмейстер Татьяну, когда девочка возвращается домой, о том, что она видела и слышала в доме своей учительницы французского. Может быть, это только она считает, будто к ней ходят ученики, на самом же деле за ее стол усаживаются и пишут под ее диктовку маленькие шпионы?
– «Однажды видели, как он столкнулся со слепым, запутался у него в ногах и упал одновременно с ним, причем оба повалились навзничь в разные стороны…»
Татьяна так звонко, так бесхитростно расхохоталась, что Софи мгновенно успокоилась. Если ей приходится существовать в этом страшном мире скуки и доносов, она должна, по крайней мере, найти в себе силы сопротивляться желанию повсюду выискивать врагов.
– До чего забавно! – воскликнула девочка. – Он еще жив, этот Лабрюйер?
– Нет, он умер больше ста пятидесяти лет назад.
– Вот не думала, что можно так смешить людей через столько лет после своей смерти!
Софи перечитала диктант, исправила ошибки. Татьяна, стоявшая у нее за спиной, наклонялась вперед, вытягивала шею, чтобы лучше разглядеть, дышала ей в затылок, от взволнованной девочки шло тепло, и Софи снова, уже в который раз, пожалела о том, что у нее нет своих детей и ей только и остается, что учить чужих.
– Семь ошибок, – сказала она. – Не блестяще!
Татьяна потупилась. На этом урок закончился. В прихожей уже переминались с ноги на ногу двое сыновей Суматохова, крупнейшего местного хлеботорговца. Софи проводила Татьяну до двери и впустила мальчиков. Одному десять, другому двенадцать, славные простоватые мордашки с разрумянившимися от холода щеками. Мальчики только-только начинали учить французский. Усердно трудясь над спряжением глагола «быть», они развлекались тем, что гремели в карманах бабками, и Софи пришлось бабки у них отобрать. Следующей пришла на занятия жена попечителя богоугодных заведений: эта дама, вся в кудряшках и шуршащих оборках, учила язык только ради того, чтобы потом ввернуть как бы между прочим в разговор с подругами или гостями несколько французских слов, и сильно раздражала Софи своими ужимками, воркованием и смешками.
Наконец, в половине первого в доме воцарились тишина и покой. Со стола исчезли книги и тетради, и Дуняша принесла блюдо с холодным мясом и квашеной капустой. Софи, давным-давно привыкшая обедать в одиночестве, легко мирилась с окружавшими ее пустотой и безмолвием. Ела наспех, не думая о том, что лежит у нее на тарелке, и иногда, подняв глаза, отвлекалась, глядя на призрачных прохожих, проплывающих за разрисованным морозными узорами стеклом.
Сейчас, погрузив ложку в кислый ягодный кисель, забеленный молоком, она замерла и прислушалась: ей показался знакомым силуэт мужчины в широкополой шляпе и пальто с поднятым воротником. В дверь трижды постучали: да, она не ошиблась! Неудержимая радость захлестнула Софи.
– Пойди открой, Дуняша, – негромко распорядилась она, наклоняясь к зеркалу.
Подобрала спустившуюся с виска прядь, быстро одернула блузу под пояском и с улыбкой повернулась навстречу входящему в комнату доктору Вольфу. Его лицо тоже сияло от счастья.
– Я только что видел Полину! – воскликнул гость. – Она сказала, что вы собираетесь купить маленький домик по соседству с ней! Неужели правда?
– Да, – подтвердила Софи. – Я думаю, это разумное решение. Мне здесь так неудобно жить!..
– А главное – вы так далеко от всех нас! Бога ради, не упускайте случая. Покупайте! Переезжайте! И как можно скорее!..
Она так явственно почувствовала тепло и тяжесть его руки на своем плече, что окончательно смутилась и, желая скрыть растерянность, поспешно спросила:
– Вы уже пообедали?
– Разумеется! На бегу, между двумя визитами, по обыкновению.
– Но рюмочку наливки выпьете хотя бы? Малиновой!
Доктор стал отказываться, Софи продолжала уговаривать: ей казалось, будто для нее очень важно, чтобы неожиданный, но такой приятный гость попробовал эту наливку. Вот только куда запропастилась бутылка? Она так давно не брала ее в руки!.. Софи распахнула дверцы буфета, приподняла крышку деревянного сундучка, сбегала на кухню… Нигде нет! Доктор Вольф засмеялся:
– Да не суетитесь вы так! Не стоит беспокоиться!
Но она расстроилась и разозлилась: «Еще подумает, будто я неряха, сама не знаю, где у меня что в доме, что у меня есть, чего нет!» Досадная мелочь разрослась в ее представлении до размеров трагедии. Софи отругала Дуняшу – наверняка это служанка по недосмотру выбросила бутылку! – и девушка залилась слезами.
– Ты бы лучше помогла мне, чем хныкать! – сердито прикрикнула на нее Софи.
И ведь доктор Вольф все это слышал, до последнего словечка! До чего глупо получилось! Наконец, Дуняша, перекладывая с места на место кучку хвороста в углу за печкой, отыскала драгоценную бутылку. Софи торжественно выставила ее на стол, и доктору Вольфу пришлось смириться. Отпив первый глоточек, он объявил:
– Просто чудо, настоящий бархат!
Софи смотрела, как он потягивает наливку, и втайне испытывала благодарность. Мужчина у нее в доме, удобно расположившийся в кресле, с рюмкой в руке – эта картина отвечала ее древней, как мир, женской потребности окружать мелкими заботами и создавать уют уставшему после трудового дня человеку. И она принялась уговаривать доктора Вольфа выпить еще рюмку.
– Так когда же вы переедете? – спросил он.
– Вы очень уж торопитесь! – со смехом ответила она. – Я пока ничего не решила окончательно. Мне хотелось бы еще раз взглянуть на дом…
– Хотите, мы сходим туда вместе? Прямо сейчас!
Голос у него звучал молодо, весело, словно и не принадлежал седоголовому мужчине, сидевшему напротив Софи. Она осознала это раздвоение, и на мгновение ей почудилось, будто у нее самой душа летит, а тело за душой не поспевает.
– Хозяин дома, который вы присмотрели, Ползухин, у меня лечится, – продолжал между тем доктор Вольф. – Вы добьетесь от него всего, чего захотите! Но, может быть, вы не можете сейчас располагать собой?
– Могу, – возразила она, вскинув голову. – У меня как раз нет до пяти часов ни одного урока…
И почувствовала себя так, как, должно быть, чувствовали себя ее ученицы в предвкушении переменки.
* * *
Жилое пространство домика состояло из трех обветшалых маленьких комнаток на первом этаже и одного просторного, предназначенного для игры на бильярде помещения на втором. Из окон была видна широкая улица, по обеим сторонам которой тянулись деревянные фасады, выкрашенные в яркие цвета. Находился домик в европейском, официальном квартале города, квартале чиновников, и его владелец не преминул указать Софи на это обстоятельство, объясняя, почему так дорого продает жилье в таком плохом состоянии. Да он и сам выглядел плохо – сгорбленный, согнувшийся едва ли не вдвое, с мертвенным цветом лица и свистящим дыханием. Во время разговора Ползухин тревожно косился на доктора Вольфа, явно убежденный, что тот держит на поводке свору болезней и может в любую минуту их спустить. Но когда врач упрекнул его в жадности и страсти к наживе, он пролепетал, что только и ждет, чтобы ему предложили вступить в переговоры и, вполне возможно, немного уступит. Затем, наверняка опасаясь лишиться расположения человека, от которого зависело не только его здоровье, а, может быть, и сама его жизнь, начал понемногу снижать цену и постепенно дошел до вполне умеренной суммы в тысячу двести рублей. Доктор Вольф немедленно заставил Ползухина подписать бумагу, желая быть совершенно уверенным в том, что домовладелец не передумает, и старик с ворчанием удалился, немного успокоившийся и вместе с тем сердитый, словно на него напали разбойники и он, спасая свою шкуру, принужден был распроститься с кошельком.
Оставшись наедине с доктором Вольфом, Софи горячо поблагодарила его за помощь и тут же, не откладывая, принялась обдумывать, как она здесь расположится. Она решительными шагами ходила взад и вперед, вертелась вправо и влево, приказывая стене – подвинуться, окну – задернуться занавесками, полу – заблестеть.
– Здесь поставлю стол и большой буфет… Перед окном – оба кресла… А свою спальню я представляю себе здесь!..
– Подумайте хорошенько, – предостерег ее доктор Вольф, – эта комната смотрит окнами на север.
– Вы правы. Но соседняя слишком мала. Разве что снести вот эту стену…
Доктор Вольф постучал по стене, выслушал ее, словно больного, и заключил:
– Вполне возможно! Тут всего лишь дощатая перегородка!
Затем он вытащил из кармана карандаш и блокнот и предложил Софи немедленно набросать план всего помещения. Она принялась мерить комнаты большими шагами. Доктор наносил на чертеж цифры, которые она ему называла. То, что он так любовно ей помогает, одновременно и смущало, и пленяло Софи, внезапно осознавшую, что, приобщая этого человека к своим хлопотам по обустройству будущего жилья, она ведет себя с ним так, словно он не первый год делит с ней жизнь. Если бы она осматривала этот дом вместе с Николаем, скорее всего, они разговаривали бы точно так же. В ее власти было прекратить игру, все зависело только от нее самой, но у Софи недоставало духу это сделать.
– Все совершенно ясно! – сказала она, бросив взгляд на чертеж. – Оказывается, у вас талант рисовальщика, а я и не подозревала!
Они перешли в соседнюю комнату. Новая хозяйка домика снова принялась расхаживать перед Вольфом взад и вперед, вслух считая шаги.
– В длину – шесть шагов… записали?
Но доктор так пристально смотрел на нее, что Софи догадалась, насколько далек он в эту минуту от архитектуры.
– А в ширину? – словно очнувшись, глухо проговорил доктор.
На этот раз она с трудом заставила себя сдвинуться с места. Самые простые ее движения перестали выглядеть естественно. Она все время думала о том, какое впечатление производит, когда вот так расхаживает по комнате, меряя ее шагами.
– Четыре с половиной шага, – пробормотала она, остановившись в самом дальнем углу.
И вдруг подумала, что этот дом, пожалуй, слишком велик для одинокой женщины. Доктор Вольф снимает комнату у отставного полковника на другом конце этой же улицы. Там он и ест, и спит, и принимает больных. И никогда не жалуется на то, что ему тесно. Почему бы ей не уступить ему второй этаж? Он разместил бы там лабораторию, устроил кабинет… Эта мысль поначалу обрадовала Софи, затем встревожила. Из уважения к памяти Николая она не имеет права вселять в свой дом мужчину. Не то чтобы она не уверена в себе самой, нет, ничего подобного, просто она не хочет давать людям повод марать ее прошлое пересудами и злословием.
– Вам и правда будет здесь очень удобно, – сказал доктор Вольф, выйдя следом за Софи в прихожую.
Поднявшись по лестнице, они вошли в зал с выцветшими обоями, рассохшимися и отставшими от стен панелями, серым от пыли полом. Увидели посреди зала старый бильярдный стол на низких ножках, с порванным сукном, усеянным кляксами воска.
– Великолепно! – не удержавшись, воскликнул доктор Вольф. – С вашего позволения, я буду время от времени приходить сюда покатать шары, чтобы немного размяться.
Софи неожиданно для самой себя разволновалась сверх всякой меры и невнятно пролепетала:
– Да, конечно! Приходите, когда вам только захочется! Эта комната… эта комната будет отчасти вашей!..
Если бы доктор Вольф в ответ произнес несколько вежливых, ничего не значащих слов, она опомнилась бы, смогла бы справиться с собой. Но он ничего не отвечал и только молча, с нежностью смотрел на нее. И под этим проницательным взглядом все то, что могло бы утихнуть в ее душе, наоборот, разбушевалось, вырастая до полной нелепости. Софи увидела, будто воочию, как он играет на бильярде под лампой с зеленым абажуром, как спускается по лестнице, зовет Дуняшу, открывает дверь в комнату – хозяин дома, да и только! Уже готовая признаться себе, что взгляд доктора ее смутил и растревожил, она предпочла уклониться от этого признания, отвлечься от собственных чувств и заняться чувствами собеседника. «Как он на меня смотрит! Он, несомненно, в меня влюблен! И сейчас скажет об этом! А что, если он сделает мне предложение?» Софи попыталась заставить себя думать о чем-нибудь другом, но не смогла. Спустя три года после гибели Николая Юрий Алмазов просил ее выйти за него замуж. Она без колебаний ему отказала. Хуже того: еще немного – и расхохоталась бы в лицо этому славному малому, который считал, что дружеские отношения с товарищем по каторге не только дают ему право, но и обязывают стать преемником покойного, женившись на его вдове. Но сегодня все было по-другому. Доктор Вольф – это не Юрий Алмазов. Спокойный, мягкий, интеллигентный, бесстрашный, он всегда действовал в соответствии с представлением Софи о добром и мужественном человеке. Она им восхищалась. Она ни за что на свете не хотела бы его огорчить, причинить ему боль. При одной мысли о том, что придется ему отказать, Софи заледенела. И тем не менее, должно быть, ей придется это сделать. Она не может после Николая принадлежать кому-то другому, пусть даже этот другой – из той же большой семьи декабристов. Да и сама она состарилась, увяла, их брак выглядел бы смешно. Софи почувствовала едва приметную тяжесть комочка дряблой плоти под подбородком и напрягла шею. «Разумеется, я могла бы помогать ему в работе, могла бы заниматься его больными, я могла бы, могла бы…» Ее жизнь внезапно заполнилась, озарилась, обрела необыкновенную значительность и глубокий смысл. Ею овладела материнская потребность все устраивать, улаживать, кого-нибудь спасать. В своем воображении она уже намазывала бутерброды и щипала корпию. А главное – она была любима!
Софи выбралась из этого водоворота с гудящей головой и туманным взглядом. Ее странствия не продлились и трех секунд. Доктор Вольф, стоя напротив, смотрел на нее все так же ласково и серьезно. Неужели он сейчас решится? Она надеялась на это и вместе с тем этого страшилась. И вот он, покачав головой, произносит…
– Знаете, о чем я думаю?
Сердце у Софи отчаянно забилось.
– Вам надо будет превратить эту комнату в библиотеку, – продолжал доктор Вольф. – Вы могли бы оставить бильярдный стол там, где он сейчас стоит, и разместить вокруг него на полках красиво переплетенные тома.
Софи постаралась скрыть разочарование за улыбкой.
– Да, конечно, было бы неплохо… Вот только у меня не так много книг!
– Хотите, я принесу свои? Давно уже не знаю, куда их ставить!
– А если они вам понадобятся?
– Я приду к вам их читать!
И ее снова охватило все то же приятное чувство – позабыв о грузе лет, она словно покинула землю. Тяжесть безвольной плоти под подбородком пропала, как не было. Усталость соскользнула с плеч. «Нет, правда, почему, почему таким людям, как мы, не соединить свои судьбы? Кто нам может это запретить? Он когда-то любил покойную Александрину Муравьеву, я любила Николя. Оба они умерли. Мы же не отречемся от нашего прошлого, если попытаемся вместе создать новое счастье!» Вольф взял ее руку, поднес к губам.
– Милая Софи, как приятно видеть вас такой пылкой, вдохновленной мыслью о скором переезде! Наверное, для того чтобы вы были счастливы, вам необходимо что-нибудь строить!
– Да, – подтвердила Софи сдавленным голосом.
И с удивлением заметила, что в комнате стало светлее. Зимнее солнце пробилось сквозь туман. В луче заплясали золотые пылинки. Зеленое сукно бильярдного стола засветилось, сразу став похожим оттенком на молодую травку. Софи захотелось смеяться, дышать полной грудью, пройтись по скрипучему, искрящемуся снегу.
– Может быть, выйдем на улицу? – предложила она. – Погода исправилась, солнышко выглянуло!
Доктор Вольф озадаченно уставился на нее – так, словно, потеряв ее в какой-нибудь галерее, отыскал между двух колонн, в таком уголке, где никак не ожидал увидеть. А Софи поняла, что забавляет и интригует его, и различила где-то на самом донышке своей души неловкое, нерастраченное кокетство собственной молодости.
Спустившись по лестнице, они вышли на улицу, белую и блестящую от снега. У подножия домов лежали синие тени. Было довольно скользко, доктор Вольф подставил руку, и Софи оперлась на нее так легко, как только могла.
– Куда мы пойдем? – спросил он.
– Туда… – кивком указала она.
Впрочем, в Тобольске больше и некуда было пойти – единственным местом для прогулок была верхняя часть города с крепостью. За зубчатой стеной, над которой высились башни, разместились городской собор, церковь, монастырь, дом архиерея, дворец губернатора, казармы и пересылочная тюрьма. Несколько минут Софи и доктор Вольф блуждали среди кирпичных и каменных зданий, которые в этот морозный, ветреный, ясный и солнечный день выглядели довольно весело.
– Надо бы нам наведаться к колоколу, – предложил доктор Вольф.
Софи с улыбкой кивнула. Они вошли во двор архиерейской резиденции, где находился знаменитый угличский колокол, подавший в 1591 году сигнал к началу восстания. Царь Борис Годунов, схватив главных бунтовщиков, сослал их в Сибирь, а с ними заодно отправил туда же и преступный колокол, обвиненный в оскорблении величества. Для того чтобы наказание вышло более строгим, колокол лишили языка и прилюдно высекли на городской площади. Декабристы называли его «старейшиной ссыльных».
Софи и доктор Вольф остановились перед тяжелым бронзовым монументом и тотчас услышали у себя за спиной покашливание. Выбравшись из своего логова, за ними пристально наблюдал полицейский. Удивляться, собственно, тут было нечему – всякий раз, как декабристы заглядывали в этот двор, за ними по пятам следовал какой-нибудь блюститель порядка. Должно быть, в верхах побаивались, что опальный угличский колокол может сделаться для политических преступников объектом поклонения. В другой раз Софи не преминула бы поразвлечься и стала бы изводить стража порядка двусмысленными замечаниями. Но сейчас ей больше всего на свете хотелось одного: остаться с доктором Вольфом наедине и хоть на время позабыть о том, что оба они – отщепенцы.
– Пойдемте отсюда, – шепнула она. – Этот колокол ничего нам не скажет, ему язык вырвали!
И они мирно удалились. Полицейский, заложив руки за спину, прошел следом за ними несколько шагов, затем его присутствие перестало ощущаться. Пройдя мимо старинных укреплений и бросив взгляд с высоты, они увидели у себя под ногами бедный квартал с его убогими домишками и лавками, а дальше раскинулась бескрайняя белая степь, которую пересекали скованные льдом Тобол и Иртыш. Рядом с крепостью притулился городской сад, в точности похожий на все прочие городские сады, украшающие собой любой провинциальный город в России. Редкая березовая рощица, в середине – закрытый на зиму летний ресторан с беседкой. На площадке над дорогой возвышался обелиск, поставленный в память о казаке – покорителе Сибири, которого звали Ермаком; на мраморе были выбиты даты: «1581–1584». Мальчишки носились вокруг обелиска, забрасывая друг друга снежками.
Софи высмотрела лавочку на солнце. Доктор Вольф счистил иней, расстелил на сиденье свой теплый вязаный шарф, и они уселись рядышком, глядя на растворяющийся в туманной дали мерцающий пейзаж. Ветер утих. У Софи перестало мерзнуть лицо. «Пройдет четыре месяца, и снег растает, по реке пойдет лед, наступит весна! И тогда в нижних кварталах города все оживет, – подумала она, – в освобожденном ото льда порту поднимется лес мачт, степь до самого горизонта покроется цветами, дамы наденут соломенные шляпки, в беседке будет играть военный оркестр, в Тобольском театре станут давать „Ифигению в Авлиде“ или еще что-нибудь в этом же роде, а я начну обживать новый дом – может быть, одна, а может быть, и с мужем…» Она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Никто не называл доктора Вольфа по имени – Фердинанд. Это было нерусское имя.
– Фердинанд Богданович, – пробормотала она, – я, должно быть, вас задерживаю. У вас, наверное, назначены встречи…
– Та встреча, которая происходит у меня сейчас, самая важная из всех, – ответил он.
Софи испугалась такого стремительного поворота событий и поспешно отвернулась. Надо было как можно скорее сменить тему, заговорить о чем-нибудь другом, и она лихорадочно старалась отыскать новый предмет разговора. Ей припомнились двое несчастных, которые в эту минуту медленно двигались в санях от станции к станции по белой равнине, приближаясь к месту каторги. Нынешнее счастье заставило ее напрочь о них позабыть. Какое чудовищное проявление эгоизма, и это у нее-то, всеми силами души жаждущей сочувствовать ближнему! Софи пробормотала, словно в забытьи:
– Где-то они теперь?..
– Кто? – удивленно переспросил доктор Вольф.
– Дуров и Достоевский…
– И правда, я даже не спросил у вас о них. Вы ведь виделись с ними сегодня утром?
– Да. Они держались спокойно и мужественно… Куда более спокойно и мужественно, чем я, которая всего лишь провожала их! Скольким же еще людям предстоит потерять свободу ради того, чтобы в один прекрасный день все стали свободными?
– Все люди свободными никогда не станут, – ответил доктор Вольф. – Да, впрочем, не так уж сильно им этого и хочется! Те, кто питает истинную любовь к свободе, немногочисленны. Большинство предпочитает думать так же, как думает сосед, а еще лучше – не думать совсем!
– Вы циничны!
– Нет, не циничен. Может быть – разочарован, лишен иллюзий. Чем больше я думаю, тем более убеждаюсь в том, что, добиваясь для наших ближних права действовать по их усмотрению, мы входим в противоречие с природой людей, которым свойственно сбиваться в стада. Если мы отнимем власть у царя ради того, чтобы отдать народу, народ поспешит отдать ее кому-нибудь еще. У народа есть дела поважнее, чем управлять собой. Ему надо есть, спать, работать, развлекаться, любить, производить потомство…
– Вы говорите о русском народе!
– Это единственный народ, который я знаю. Но я предполагаю, что и французский народ точно так же…
Софи решительно тряхнула головой:
– Вы заблуждаетесь, Фердинанд Богданович! Понятие людской массы – это славянское или даже, скорее, азиатское понятие. Именно здесь можно ощутить сокрушительную мощь больших человеческих потоков. Во Франции, напротив, каждый считает себя единственным носителем истины. Это арена, на которой сталкиваются всевозможные мнения, это родина невероятных разногласий, заповедник, изобилующий завтрашними идеями…
– Как я люблю слушать, когда вы говорите о Франции… – прищурившись, заметил доктор Вольф. – У вас щеки начинают пылать, ноздри трепещут…
Она было подумала, что он над ней подсмеивается – настолько все эти комплименты казались неподходящими для женщины ее лет. Однако Фердинанд Богданович глаз с нее не сводил и смотрел при этом так простодушно, что пришлось признать очевидное: он видел ее такой, какой хотел видеть. И Софи поспешила разгладить две вертикальные складочки, которые появлялись у нее между бровей, когда она внимательно к чему-нибудь прислушивалась. Солнце било в глаза, слепило, и она чуть наклонила голову. Доктор Вольф спросил:
– Придет ли когда-нибудь день, когда вы перестанете сожалеть о вашей стране?
– Разумеется, нет, – ответила она. – Но я глубоко привязалась к России. Я бы даже сказала, что почти привязалась к Сибири…
– Благодарю вас, – хриплым от волнения голосом произнес Фердинанд Богданович. – Вы доставили мне большую радость.
Софи поежилась, дрожащей рукой подняла воротник.
– Вы совсем замерзли! – воскликнул он. – Это я во всем виноват! Мы не должны были так долго сидеть на этой скамейке!
Но Софи положила руку на его широкое сухое запястье:
– Да нет, ничего подобного, я прекрасно себя чувствую. Просто уже довольно поздно. Ученики меня заждались. Может быть, пойдем, если вы не против?
Они поднялись. Воробьи, что-то клевавшие у подножия обелиска, с громким чириканьем вспорхнули с земли. Софи уже знала, что доктор Вольф не произнесет никаких решающих слов. Он упустил время… И она испытывала от этого облегчение, хотя всего несколько минут назад ей так хотелось, чтобы доктор объяснился. «Сама не знаю, чего хочу», – печально подумала Софи. Они вышли из сада. На улице им то и дело встречались знакомые. Софи любезно отвечала на их поклоны, гордая тем, что ее видят идущей под руку с доктором Вольфом.
3
Софи застала рабочих врасплох; мгновенно перестав болтать и грызть семечки, они поспешно принялись за дело.
– Ну, что я вам говорила? – шепнула новоявленная хозяйка дома сопровождавшим ее Наталье Фонвизиной и Полине Анненковой. – Не успеешь отвернуться – они немедленно все бросают и сидят сложа руки, пока я не появлюсь.
Вот уже полтора месяца как в доме шел ремонт, но за все это время плотники только-только успели выстрогать пол и поправить двери; что же касается штукатуров – они не спеша продолжали закрывать дранку потолка. На самом деле это были, конечно, не профессиональные рабочие, а бывшие каторжники, уголовные преступники. Каждый понедельник в город прибывала небольшая группа ссыльных, и жители Тобольска немедленно являлись во двор тюрьмы, чтобы нанять работников, в которых нуждались. Плата была определена раз и навсегда: десять рублей в месяц. Тех, на кого спроса не оказалось, отправляли в соседние деревни. Но и те, кто оставался в городе, далеко не всегда оправдывали надежды. Вот и теперь Софи удрученно оглядывала свою команду. Здоровенный дядька огромного роста, толстопузый и бородатый, лениво возил мастерком. Рядом с ним горбун вяло, без малейшего интереса к работе, тюкал молотком, кое-как всаживая в доску гвозди.
– И думать нечего о том, чтобы дом был закончен к Пасхе! – со слезами в голосе произнесла Софи.
– Непременно закончим, барыня, можете не сомневаться! – убежденно возразил бородач. – Вот увидите, все получится лучше некуда! К тому же доктор обещал завтра прислать нам на подмогу еще двух человек!
– Вы видели доктора?
– Он сегодня утром приходил взглянуть, как идут дела.
Софи залилась краской. Живой интерес, который Фердинанд Богданович проявлял к ее обустройству, представлялся ей замаскированным признанием, невысказанным проявлением нежности. Наталья и Полина лукаво поглядывали на нее. Неужели они догадываются о том, что она питает к доктору сердечную приязнь? Но ведь ни он, ни она никогда друг с другом не заговаривали о любви, да и вообще это слово как-то мало соответствует тому спокойному и сильному чувству, которое их связывает…
– А что, если мне перебраться сюда, не дожидаясь окончания работ? – сказала она. – Я могла бы расположиться на первом этаже, а рабочие тем временем заканчивали бы второй…
– Даже и думать об этом нечего! – перебила ее Полина. – Вы такого просто не выдержите! Только представьте себе: грохот с утра до ночи, пыль, грязь! Будьте благоразумны! Истинное счастье всегда дается в награду лишь за долготерпение!
Софи почудилось, будто в словах подруги она расслышала легкую насмешку. С некоторых пор все разговоры казались ей полными намеков. Ни на чем не основанное ощущение помолвки одновременно и льстило ей, и смущало.
– И все-таки мне кажется, – продолжала она, – что, если бы я с утра до ночи оставалась на месте, работы продвигались бы куда быстрее.
– А как же ваши ученики? – возразила Полина. – Как вы стали бы с ними здесь заниматься? Нет, по-моему…
Ее мнение так и осталось неизвестным – увидев внезапно появившегося в дверном проеме жандарма, Полина умолкла на полуслове и от изумления позабыла, что намеревалась сказать. Жандарм же на военный лад приветствовал дам, затем поинтересовался:
– Кто из вас госпожа Озарёва?
– Это я, – откликнулась Софи.
– Соблаговолите проследовать за мной к господину губернатору.
Жандарм оказался высоким, крепким, с красным шишковатым лицом, напоминавшим помятый котелок. Софи отчего-то испугалась, по спине пополз холодок.
– К губернатору? – растерянно повторила она. – Но зачем?
Однако нелепость вопроса тотчас же стала настолько ясна ей самой, что, не дожидаясь ответа, она прибавила:
– Хорошо, возвращайтесь в прихожую и подождите меня там. Я сейчас приду.
Жандарм щелкнул каблуками и скрылся.
– Ах, Боже мой, чего же они еще от вас хотят? – воскликнула Наталья, подняв глаза к потолку.
– Несомненно, это все из-за ваших встреч с товарищами Петрашевского! – уверенно заявила Полина.
– Если бы дело было в этом, не стали бы они выжидать два месяца, прежде чем призвать меня к порядку! – не согласилась с ней Софи.
– Вы правы, – поддержала подругу Наталья, – думаю, вам, скорее, поставят в вину тексты, которые вы даете заучивать наизусть детям.
– Басни Лафонтена?!
– Почему бы и нет? Они вполне могут считать, что некоторые из этих басен несут в себе мятежный дух!
– Да что угадывать, скоро все узнаем! – с покорной улыбкой сказала Софи.
Наталья и Полина проводили ее до крепости, по пути нашептывая ободряющие слова. Ее не оставят, ей не придется сражаться в одиночку, они известят всех друзей, они обратятся при посредничестве Марии Францевой к прокурору… Три женщины мелкими шажками брели по снегу, а следом шел здоровенный жандарм с пустыми глазами и болтающимися в такт шагам ручищами. У дворца губернатора подругам-декабристкам пришлось расстаться. Наталья, со слезами на глазах, перекрестила Софи:
– Помогай вам Бог, голубка моя!
И вот Софи уже в пустой и холодной прихожей, но мерзнуть пришлось недолго: не прошло и пяти минут, как губернатор Энгельке принял ее в своем кабинете. В мраморном камине пылал огонь. На бутылочно-зеленых стенах поблескивали золотом рамы, однако разглядеть, что изображено на картинах, было невозможно, так потемнели от времени краски. Губернатор был коротеньким толстячком, прочно стоящим на кривых ножках, с выпирающим, словно бочонок, животом, на носу – очки в серебряной оправе.
– В той неблагодарной деятельности, кою мне приходится осуществлять, случаются и светлые минуты, к которым я причислил бы и эту, – произнес Энгельке.
Софи приняла его слова за комплимент и вымученно улыбнулась. Она сидела на краешке кресла, выпрямив спину, и глаз не сводила с губернатора, безрадостно гадая, какой удар тот готовится ей нанести.
– Вы, сударыня, – продолжал он между тем, – являете собой живое доказательство того, что в христианском мире никогда не следует предаваться отчаянию. Когда уже кажется, будто все потеряно, тучи внезапно рассеиваются, солнце сияет, и вот оно – счастье!
– Как мне следует это понимать, ваше превосходительство? – спросила Софи.
– А вы не догадываетесь? – Энгельке лукаво прищурился.
– Да нет же, уверяю вас…
– Кое-что, очень долго вас занимавшее, кое-что, о чем вы просили императора во всех ваших письмах…
В груди у Софи мгновенно образовалась пустота. Ей страшно было задать вопрос, который напрашивался сам собой. Но выбора не было, и в конце концов она пролепетала:
– Неужели… мое возвращение в Россию?
– Ну разумеется! – весело вскричал Энгельке. – Конечно же, речь идет о вашем возвращении в Россию! Признайтесь, вы уже не верили, что это когда-нибудь случится!..
– Не верила, – бесцветным голосом подтвердила она.
Толстячок же словно вырос от радостной торжественности, его переполнявшей, распрямился и, сияя глазами, зубами и гладко выбритым подбородком, произнес, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Объявляю вам, сударыня, что его величество государь император, ознакомившись с вашим последним прошением, датированным 13 октября 1849 года, учитывая те обстоятельства, что вы являетесь француженкой и что муж ваш скончался семнадцать лет тому назад, решил позволить вам вернуться в Россию.
Ошеломленная Софи несколько мгновений молчала, тупо глядя перед собой. Можно было подумать, будто она так долго ждала этих слов, что теперь, когда наконец-то услышала их наяву, у нее недостало сил обрадоваться. Губернатор протянул ей лист бумаги, украшенный имперским орлом. Она бездумно прочла собственное имя, написанное посередине. Такой огромный лист, и таким красивым почерком исписан, и все это только для нее одной!
– Поверить не могу!.. – растерянно пробормотала Софи в конце концов. – Но почему теперь?.. Почему так поздно?..
– Хорошее дело сделать никогда не поздно, как говорят у вас во Франции! Могу предположить, что благоприятным для вас оказалось то обстоятельство, что покойного графа Бенкендорфа сменил граф Алексей Орлов. Однако должен предупредить вас о том, что вы не имеете права жить ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Вам предписано поселиться в вашем имении Каштановка, и вы сможете удаляться от него не более чем на пятнадцать верст.
Все время, пока Энгельке знакомил Софи с условиями освобождения, она чувствовала, что ею все сильнее овладевает неодолимая печаль. А когда подумала о доме, который только что купила, то окончательно пала духом. Самые дорогие ее сердцу намерения рассыпались в прах. И среди этих руин стоял удивленный Фердинанд Богданович Вольф с пустыми руками. И зачем только она писала все эти письма к императору? Что она надеялась найти в России, вернувшись туда? Племянника, который знал ее только по имени? Поместье, где она никому была не нужна? Отправившись в Каштановку, она снова окажется в ссылке! Теперь ее родным краем стала Сибирь, ее семьей – несколько декабристов, чьи страдания она делила в течение двадцати трех лет, а ее будущим, возможно, предстояло стать одному из них… Собственно говоря, Софи продолжала подавать прошения, оставаясь в полной уверенности в том, что власти ей откажут. Но вот ведь поймали на слове и – наказали, исполнив ее желание… Внезапно Софи осознала, что губернатор ждет от нее слов благодарности, хотя лицо его оставалось непроницаемым, и пробормотала:
– Благодарю вас… Я очень тронута…
К счастью, Энгельке приписал ее растерянность избытку чувств.
– Поздравляю вас, сударыня, – сказал он. – Вы – первая, на чью долю досталась подобная милость со стороны его величества. Надеюсь, вы окажетесь ее достойны. Когда рассчитываете выехать?
– Пока не знаю, – ответила Софи. – Все это для меня так ново! Не торопите меня, пожалуйста, господин губернатор, дайте хоть опомниться…
– Ну, разумеется, разумеется! Никто вас не торопит!..
Губернатор проводил ее до двери со всеми почестями, какие положены знатной даме. На пороге она еще нашла в себе силы улыбнуться. Но стоило оказаться на улице, и прежние мысли завладели ею с такой непреклонностью, что она перестала что-либо замечать вокруг себя. Решение императора пришлось некстати, невпопад, оно разошлось во времени с обращенными к нему мольбами. Он же отлично понимал, этот благодетель, что Софи ничуть не обрадует свобода, дарованная ей в пятьдесят семь лет! Разве можно принуждать человека выпить стакан воды, когда ему этого совсем не хочется, под тем предлогом, что некогда, умирая от жажды в пустыне, он молил об этом? Но ведь можно и отказаться от этой милости! И она от нее откажется, пусть ее потом станут считать неблагодарной! Возмущение, которое неминуемо вызовет такой поступок, Софи не пугало. «Я останусь здесь. Я поселюсь в своем новом доме. Фердинанд Богданович будет приходить ко мне играть на бильярде, читать, думать, отдыхать…» Она не вышла – вылетела из крепости на крыльях надежды и ярости. И первым делом решила отправиться к Фонвизиным, чтобы рассказать им о своей встрече с губернатором.
Здесь ее ждали с нетерпением, и не только Наталья с мужем, но и Полина и Иван Анненковы, Петр Свистунов и Юрий Алмазов. Из друзей Софи среди собравшихся не оказалось только доктора Вольфа – ему пришлось спешно выехать к больному в отдаленную деревню. Что ж, тем лучше! Она свободнее сможет высказать свое разочарование. В провинциальной бледно-лиловой гостиной с тяжелой, грубо сделанной, потемневшей от времени мебелью красного дерева царило тревожное настроение. По привычке каждый приготовился услышать дурную новость. Когда Софи рассказала о том, что за милость была ей оказана, все лица преобразило счастливое волнение.
– Дорогая моя, – воскликнула Полина, – какая нежданная радость!
Тем самым она словно подала сигнал к началу безудержного веселья. Софи, оглушенная нестройными восклицаниями, попыталась объяснить, что нисколько не обрадовалась полученному известию, но ее никто не слушал, все наперебой поздравляли, целовали ее, плакали у нее на плече.
– Добрая вестница! Голубка, прилетевшая в ковчег! Вы – голубка в ковчеге! – причитала Наталья, вытирая глаза скомканным платочком.
И в это мгновение в голове у Софи что-то щелкнуло. Она поняла, что стала жертвой чудовищного недоразумения. Нельзя, ни в коем случае нельзя разочаровывать всех этих славных людей. Как и она сама, они не раз просили позволить им вернуться в Россию. Приняв императорскую милость, она создаст тем самым прецедент, на который они смогут ссылаться впоследствии, добиваясь того же и для себя. Отказавшись от благодеяния, она рискует оскорбить царя и навсегда лишить его желания оказывать декабристам хоть какие-нибудь милости. Какими мелкими, легковесными были ее робкие желания одинокой женщины в сравнении с общей надеждой всех этих великих русских семей, оказавшихся вдали от земель их прадедов, надеждой всех этих сыновей и дочерей, родившихся в изгнании и не смеющих даже заявить свое право на то, чтобы носить имя собственных родителей!
– Наверное, вы счастливы без меры? – спросила Полина.
– Да, конечно! – пробормотала Софи.
Она заставила себя улыбнуться, хотя в горле стоял комок и щеки горели болезненным румянцем.
– Ах, как я вам завидую! – прижав обе руки к груди, воскликнула Наталья. – Вы снова, словно воскреснув из мертвых, появитесь в свободном мире! Вы отнесете весточку о нас всем друзьям! И расскажете, расскажете… Впервые за все эти годы кто-то из наших сможет рассказать о том, чем в действительности была наша жизнь здесь!
– Да уж, о нас ходит столько лживых рассказов! – вздохнула Полина.
Должно быть, она не могла позабыть отвратительный роман Александра Дюма «Учитель фехтования», в свое время изданный в Париже, – несколько экземпляров добрались и до Тобольска. В этом романе самым возмутительным образом была изложена история любви ее, Полины, и Ивана Анненкова. Писатель, неведомо где добывший сведения, изобразил ее французской гризеткой, влюбленной в преподавателя фехтования и продающей свою благосклонность молодому и распутному русскому аристократу. Автор вполне заслуживал, чтобы его хорошенько проучили, но он жил на другом краю света. А как написать из Сибири во Францию?
– Вы исправите мнение о нас у плохо осведомленных людей, – продолжала Полина. – Вы подготовите умы к мысли о нашем возвращении!
– Вы и на самом деле думаете, что мы тоже сможем вернуться? – спросил Юрий Алмазов, и его лицо постаревшего напомаженного юноши приняло жадное и жалкое выражение.
– До этой минуты я не верила. Но, поскольку царь решил вызволить отсюда нашу подругу, нам отныне дозволены все надежды! Софи, милая наша Софи, открыла путь, по которому в Россию потянутся и остальные!..
Эти слова лишь усугубили покорность и зависимость Софи. «Ну вот, – подумала она, – теперь мне уже совершенно невозможно стало отступить. Теперь они все вместе подталкивают меня в спину. Не будет никакого маленького домика, не будет никакой бильярдной!.. Я должна уезжать и должна при этом выглядеть довольной! Радоваться их радости, потому что у меня-то самой никакой радости нет. Ничуть ее не больше, чем свободы в ту минуту, когда царь мне эту „свободу“ подарил».
– Кто знает, не соберемся ли мы все в России года через два или три… – мечтательно произнес Иван Анненков.
– Замолчите немедленно, Иван Александрович! – воскликнула Наталья, торопливо перекрестившись. – Это было бы слишком прекрасно! Я боюсь, хотя бы подумав об этом, истощить Господнюю милость! Женщина, которая возвращается в Россию! Покажите мне, как это бывает! – Схватив руку Софи, она приложила ее к своей щеке. – Хотела бы я оказаться у вас в голове, дорогая моя! Узнать, что в ней происходит!..
– Вы были бы крайне разочарованы! – мягко высвободившись, ответила Софи.
– А вот я, – проворчал Юрий Алмазов, – донельзя счастлив тем, что вам дано право вернуться в Россию, и столько же несчастен оттого, что вы нас покидаете! Тобольск без вас сделается таким унылым!
– Да ведь и мы тоже вскоре отсюда уедем! – откликнулся Петр Свистунов.
Они явно старались убедить друг друга в неминуемо скором и неминуемо всеобщем освобождении и возвращении в родные края, чтобы тем самым смягчить грусть расставания, поняла Софи. И ей показалось, будто в комнате темно и душно – причиной же этого мнимого недостатка света и воздуха стало для нее отсутствие Фердинанда Вольфа.
Обе створки двери, отделявшей гостиную от столовой, внезапно распахнулись, и взорам собравшихся предстал накрытый стол с самоваром посередине. Мирная картина подняла настроение всем, и Наталья, снова схватив Софи за руку, потащила ее за собой. Дамы уселись пить чай, мужчины предпочли мадеру. Все улыбались друг другу, но в глазах у каждого стояли слезы, словно это было не обычное чаепитие, а поминки. В шесть часов Софи, уставшая от переживаний этого дня, сослалась на то, что ей пора на урок, и отправилась домой.
* * *
Ночью она почти не спала, а утром проснулась очень рано, оделась, выпила чашку обжигающего чая и, праздная, уселась у окна, за которым занимался день. Она слушала, как возится в кухне Дуняша, и, устремив глаза в пустоту, обдумывала свое путешествие. Поскольку отъезда было не миновать, она старалась найти во всем этом что-то хорошее. Ей так никогда и не удалось снова побывать на могиле мужа в Мертвом Култуке, и уж тем более не удалось добиться, чтобы ей позволили перенести его останки в другое место. Стало быть, он навсегда останется лежать на берегу Байкала. Но в Каштановке ее ждет нечто большее, чем земляной холмик с крестом: душа ее Николая, рассеянная по всему дому и окрестным полям. И потом, там будет Сережа, которого она совсем не знала, но надеялась, что встреча с ним, возможно, положит начало новым, куда более радостным временам, изменит ее скучную, однообразную жизнь. Сережа не может оказаться совсем чужим, равнодушным и безразличным ей человеком, ведь он кровная родня ее Николаю! Это ведь тот самый Сереженька, которого она помнила крошечным ребенком, которого любила, как родного сына!.. Стараясь убедить себя в том, что ей несказанно повезло, Софи вспоминала старый дом с белыми колоннами, аллею черных елей, грубо сколоченную скамью, пруд, бедные деревеньки вокруг… Сколько умерших растворились в этой листве, в этих пашнях, в глади воды! Те места дышат тихой печалью погребенного счастья. Да, ей будет хорошо там, среди воспоминаний о Николае, о Маше и даже о Михаиле Борисовиче. Она заново свяжет нить своей судьбы, трагически оборванную сибирской ссылкой.
На столе ждала стопка ученических тетрадок. Софи полистала верхнюю, начала вчитываться в простодушные фразы и внезапно остановилась, не в силах продолжать, работа не шла ей на ум. Фердинанд Богданович, должно быть, уже знает о том, что она получила разрешение уехать. Если он не пришел поговорить с ней сегодня утром, то, несомненно, только оттого, что не мог оставить своих больных. И Софи решила сама отправиться к нему. Она нередко к нему приходила, чтобы поговорить о куда менее важных предметах, и десяти минут разговора им хватало, чтобы весь день словно озарился. Да, но как же урок в одиннадцать? Ничего не поделаешь, придется послать служанку, чтобы она предупредила Татьяну и сыновей Суматохова.
Софи мгновенно оделась, причесалась, сунула ноги в валенки. Фердинанд Богданович жил на другом конце города, и Софи все ускоряла шаг, почти бежала, боясь опоздать, не застать его дома. Когда она наконец добралась до дверей доктора Вольфа, ноги ее не держали, а сердце колотилось где-то в горле.
Прислуга, на которой было столько шалей, душегреек и юбок, что она больше походила на ворох тряпья, чем на человека, провела гостью в тесную комнату, где уже рядком сидели на стульях пять человек. Одни только некрасивые, грустные, молча перемогающиеся крестьяне – у всех в глазах покорность и смирение, словно у домашней скотины. Из-за двери доносился голос врача, который говорил медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, так, чтобы его понял кто-то недалекий умом. Этот голос невидимки взволновал Софи так, будто, прислушиваясь к нему, она узнала какую-то тайну. Внезапно дверь отворилась, на пороге показался Фердинанд Богданович, провожавший старушку, которая желтой и сухой, совершенно птичьей лапкой крепко сжимала кошелек.
При виде Софи доктор улыбнулся и прошептал по-французски:
– Вы пришли!.. А я как раз собирался зайти к вам, едва только закончу осматривать больных!.. Входите же скорее!
И она вошла в маленький кабинет, заваленный книгами и заставленный склянками. От запаха карболки першило в горле; на столе стояла чернильница в виде черепа; в корзине лежала горка корпии, испачканной темной кровью; обои отстали от стен; ширма лишь наполовину скрывала походную кровать; в комнате было холодно; одним словом, можно было подумать, будто здесь обитает старый студент, у которого нет ни вкуса, ни денег, ни подруги.
Пока Софи устраивалась на стуле, предназначенном для больных, доктор Вольф засучил рукава, налил воды в лоханку и принялся мыть руки.
– Полина сообщила мне великую новость, – заговорил он. – Должно быть, вы очень обрадовались!
Его тяжелое лицо с печальными морщинами и усталым взглядом не соответствовало оживленному тону, каким он говорил. Он вытер руки полотенцем с красной бахромой. Софи внезапно почувствовала себя неловко оттого, что вот так сидит перед ним, словно явилась с визитом. Что он может вообразить? Заставив себя успокоиться, она ответила:
– Конечно, обрадовалась! Вернее, обрадовалась и опечалилась одновременно! Мне жаль будет расставаться с Тобольском, с нашей милой, поистине братской компанией! Но от свободы отказаться невозможно!
– Да-да, – пробормотал доктор.
И они, глядя друг на друга, погрузились в молчание. Однако пауза затянулась ненадолго, и вскоре Фердинанд Богданович снова заговорил, уже более твердо:
– Впрочем, если бы вы даже и отказались от императорской милости, вас все равно не оставили бы в Тобольске. Царь не имеет обыкновения оставлять без ответа оскорбления подобного рода, и отвечает молниеносно. Он убежден, что проявил милосердие, и тут же наказал бы вас за неблагодарность, назначив какое-нибудь другое место ссылки, какую-нибудь затерянную деревушку за Байкалом!..
Это ей и в голову не пришло, но доктор был прав. Вот и еще один довод в пользу того, чтобы уехать. Все складывается одно к одному и против нее. Фердинанд Богданович отбросил смятое полотенце куда-то в угол и, обойдя стол кругом, уселся на свое место.
– Да так оно и лучше, – прибавил он, помолчав. – Если бы вы остались, у меня не хватило бы выдержки молчать и дальше, а из-за того, что мне хотелось бы вам сказать, у нас разладились бы отношения…
– Не понимаю вас, Фердинанд Богданович, – растерянно пролепетала Софи.
На самом деле она так хорошо его понимала, что дыхание перехватило.
– Да нет же, – возразил он. – Давайте наберемся мужества и будем называть вещи своими именами. Вы бы мне отказали. И я почувствовал бы себя глубоко несчастным… А теперь, согласитесь, ничего не меняется, все осталось по-прежнему, мы с вами друзья, близкие друзья, как прежде…
Вместо ответа она на мгновение прикрыла глаза. Секунды медленно уходили в вечность. Они пристально, напряженно смотрели друг на друга, и каждый видел во взгляде другого, что они обречены на любовь и страдание. Наконец, Софи прошептала:
– Подумать только, я ведь купила дом, мне так не терпелось туда перебраться!..
– Вы без труда его перепродадите, – сказал Вольф.
– Да не хочу я его продавать! Я вложила в него слишком большую часть самой себя, вот и не хочу оставлять дом чужим людям. Да и в деньгах не нуждаюсь. Знаете, я подумала… подумала…
Поколебавшись, она выпалила:
– Я подумала, что в Тобольске нет лечебницы, и, если этот дом может пригодиться вам для того, чтобы принимать больных…
Доктор вздрогнул от удивления и еще более внимательно посмотрел на Софи поверх очков, отчего сразу показался стариком.
– Если это для моих больных, я согласен, – сказал он. – Вы очень добры…
Софи опустила голову. Она поступила так вовсе не по доброте душевной. Она нимало не заботилась о нуждах, намереваясь подарить свой дом Фердинанду Богдановичу, просто приятно было думать о том, что – неважно, каким образом и по какой причине – он поселится в ее доме и она сможет издалека представлять себе, как протекает его жизнь.
Вольф поигрывал гусиным пером. Пальцы у него были в пятнах от снадобий. На сюртуке недоставало пуговицы. Сейчас старая служанка принесет ему поесть, и он наспех, не замечая, что кладет в рот, перекусит на краешке стола, между книгами и черепом.
Кто-то робко кашлянул за дверью. Софи вспомнила о том, что доктора ждут больные. Впрочем, ей и нечего больше было ему сказать. Она встала.
– Придете вечером к Анненковым? – спросил он.
– Конечно.
Когда Фердинанд Богданович наклонился, чтобы поцеловать ей руку, Софи заметила, что сквозь редкие волосы у него на макушке просвечивает кожа. Этот признак старости, изношенности тела растрогал ее, но вместе с тем и укрепил в мысли о том, что брак между ними теперь, на склоне лет, показался бы смешным и жалким. На глаза навернулись слезы. Не оборачиваясь и почти ничего не видя перед собой, она бросилась к двери и поспешно вышла.
4
Когда снег начинал таять, по дорогам проехать становилось невозможно, и Софи решила отложить свой отъезд до конца мая. Благодаря отсрочке она сможет, по крайней мере, провести с друзьями в Тобольске Пасхальную неделю. Как и каждый год, пренебрегая пышностью богослужения в соборе, декабристы отправились ко всенощной в маленькую тюремную церковь, где теснились каторжники в оковах. Когда все опускались на колени, к торжественному пению хора примешивался кандальный звон. А когда священник возвещал: «Христос воскресе!» – металлический лязг внезапно разрастался, заглушая прочие звуки, и безобразные головы с бритыми черепами начинали поворачиваться вправо и влево для братского поцелуя. Убийцы, воры, фальшивомонетчики христосовались в мерцании и трепете свечей, в благоухании ладана. Преисподняя прославляла надежду.
Выйдя за двери, Софи и ее спутники прошли между двумя рядами узников, державших в руках крашеные яйца. Они продавали желающим эти скромные дары тюремной администрации.
…Разговлялись у Фонвизиных. Шампанским и водкой запивали закуски и традиционного молочного поросенка с хреном. Шестеро слуг подавали на два стола, взрослый и детский, – все дети съехались в Тобольск на пасхальные каникулы. И сейчас, нарядные и благонравные, эти подростки, которых одноклассники называли «каторжным отродьем», рассказывали друг другу школьные истории – тихонько, но с такой же страстью, с какой их родители спорили о европейской политике. За десертом начались песни и тосты. Софи поглядывала на доктора Вольфа, сидевшего напротив нее за столом, – тот печально улыбался, поднимая бокал. Кто-то предложил выпить за благополучное путешествие Софи. Она ответила, что не торопится уезжать. Застолье продолжалось до четырех часов утра.
Назавтра губернатор Энгельке вызвал Софи к себе в кабинет и сказал ей:
– Сударыня, к величайшему своему удивлению, я узнал, что во время ужина у Фонвизиных вы уверяли, будто не можете назначить дату своего отъезда.
Софи побледнела. Кто мог передать ее слова губернатору? Должно быть, один из слуг.
– Совершенно верно, – сказала она.
– Весьма прискорбно! И предупреждаю: если станете и дальше медлить, его величество может обидеться на то, что вы не изъявляете желания поскорее воспользоваться благодеянием, вам оказанным. Поскольку вы в нерешительности, я приму решение за вас. Вы покинете Тобольск двенадцатого мая.
У Софи захолонуло сердце. Она с трудом выговорила:
– Это… Нет, это невозможно!
– Да почему же?
– Я не успею собраться!
– Да нет же, вы все успеете! У вас будет более чем достаточно времени на то, чтобы уладить свои дела и уложить вещи. Вас будет сопровождать жандарм.
– Жандарм? С какой стати? – вскинулась Софи. – Я не преступница!
– Никто не может быть в этом убежден более меня, сударыня. Но правила на этот счет весьма строги. Вы не можете путешествовать без сопровождения, поскольку вас возвращают из ссылки при условии, что вы поселитесь в своем имении Каштановка. Жандарм, который поедет с вами, должен будет доехать с вами до нового местожительства и получить расписку от псковского генерал-губернатора, которому отныне будет поручен надзор за вами.
– Странная же свобода в таком случае мне дарована!
– К свободе, как и ко всему прочему, следует приучаться постепенно, – искоса поглядев на нее и улыбнувшись, объяснил Энгельке. – Действительно, вашими первыми шагами будут руководить, и лишь потом вам будет предоставлена возможность действовать по собственному усмотрению. Что может быть более естественным? Я прикажу подготовить для вас паспорт и подорожную. Вы сможете получить и то и другое завтра.
Софи вышла от него оскорбленная и несчастная: несколькими словами губернатор приблизил срок отъезда, который виделся ей таким еще отдаленным.
В следующее воскресенье Анненковы давали бал для молодежи. Их старшая дочь Ольга, которая была очень хороша собой, танцевала поочередно с горным инженером и офицером-кавалеристом, и дамы, глядя на них, высказывали свои предположения о возможной помолвке. Оркестр состоял из бывших каторжан. Губернатор Энгельке снизошел до того, чтобы принять приглашение, и декабристы считали его появление у Анненковых большой удачей для себя. Толстяк теперь стоял у буфета, рядом с хозяевами дома, а вот доктора Вольфа не было – в последнюю минуту его позвали к больному в татарский квартал, и Софи чувствовала себя очень одинокой. Громкая музыка ее оглушала: как странно, неужели молодые девицы могут получать удовольствие оттого, что кавалеры до головокружения крутят и вертят их в танце, да еще под такой грохот! Ее взгляд, рассеянно блуждавший по толпе, скользил по розовым и голубым платьям, выхватывал на мгновение чьи-то веселые блестящие глаза, ленту в белокурых волосах, затянутую в перчатку руку, медальон на молочной нежной коже… И ей чудилось, будто все это принадлежит какому-то другому, блаженному и бессмысленному миру, существующему по совершенно другим законам, чем тот, в котором жила она. В полночь, когда она уже собралась уходить, появился Фердинанд Богданович. Он беспокойно оглядывался вокруг; Софи поняла, что он ищет глазами ее, и мгновенно утешилась. Доктор тоже, едва увидев ее, просиял – и тотчас начал пробираться к ней, ловко огибая наглецов, пытавшихся его задержать каким-нибудь вопросом или просто стоявших на пути. После того разговора, который состоялся между ними у него в кабинете, он больше ни разу не говорил Софи о своих чувствах. Однако ей казалось, будто, запретив себе и легчайший намек на то, что могло бы произойти, оба они лишь усилили смятение, которое им хотелось бы заглушить.
Оказавшись наконец рядом с ней, Фердинанд Богданович поначалу начал говорить о разных пустяках. Затем, самым естественным образом, разговор свернул на работы, которые все еще шли в купленном Софи маленьком домике. Зал на втором этаже уже был переделан в больницу, где должны были разместиться шесть кроватей. Софи немного сожалела об этом, ей хотелось бы в разлуке представлять себе, как доктор Вольф по вечерам, вернувшись от своих больных, играет с друзьями на бильярде… Что же касается остального, то она была в полном восторге от того, как там будет все устроено. Каждый день она являлась на стройку, как будто была лично заинтересована в успешном ходе работ, получивших к тому времени конкретный срок завершения: пятнадцатое июня. Ее уже не будет здесь ко времени открытия лечебницы.
– Это слишком уж несправедливо! – возмутился доктор Вольф. – Я тотчас же поговорю об этом с губернатором и уверен: если объяснить ему, чем вызвана наша просьба, Энгельке предоставит нам отсрочку еще на месяц!
Не слушая возражений Софи, он немедленно направился к Энгельке, который курил сигару в окружении подобострастных гостей. Губернатор позволил себя увести и засеменил к Софи на коротких ножках, выпятив животик, с улыбкой на губах. Но, оказавшись перед ней, выказал себя не менее непреклонным, чем в прошлый раз.
– Поверьте моему опыту, – сказал он. – Когда решение принято, то задерживать его исполнение означает увеличивать риск пострадать от этого. Впрочем, я уже и не могу ничего изменить. Я сообщил в Санкт-Петербург дату, назначенную для отъезда. Вас ждут в России, сударыня!
Сказавши это, толстяк поклонился, развернулся и ушел, оставив Софи и Фердинанда Богдановича стоящими лицом к лицу и беспомощно смотрящими друг на друга. Оркестр играл вальс. Пары беспечно порхали под люстрой с неровными дрожащими огоньками, из полуоткрытой застекленной двери тянуло сквозняком. Доктор Вольф и Софи вышли на крыльцо, и их окутала свежесть весенней ночи.
– Всего неделя осталась! – вздохнула Софи.
– Энгельке прав, – пробормотал с внезапной яростью Фердинанд Богданович. – Лучше всего, если бы это было завтра!
За спиной у них летел смех, гремела музыка. Софи подняла глаза к усыпанному звездами небу, и ей показалось, будто она проваливается куда-то в пустоту. Полина пришла за доктором: одна из девиц во время танцев подвернула ногу.
5
Двенадцатого мая на рассвете к дому Софи явился жандарм. На вид не старше тридцати лет, высокий, крепкий, с загорелым лицом и черными, топорщившимися, словно щетка, усами; он сообщил, что его фамилия Добролюбов и что ему приказано сопровождать госпожу Озарёву до места назначения. Из уважения к ней губернатор велел подать два тарантаса. Она в одиночестве села в первый, второй же был предназначен для ее «телохранителя».
Маршрут, разработанный властями, предусматривал первую часть пути по суше: Софи и сопровождавшему ее жандарму предстояло проехать около тысячи верст – от Тобольска до Перми. Там они должны будут сесть на судно, которое, вначале идя по течению Камы, а затем поднимаясь по Волге, за неделю доставит их в Нижний Новгород. После этого останется только вновь двигаться по тракту, от станции к станции, пока не доберутся до Санкт-Петербурга, откуда уже рукой подать до Псковской губернии, где расположено имение Каштановка. Все эти странствия займут не больше месяца! Софи проделала куда более долгий путь, когда ехала к Николаю в Читу. Но ведь в то время она была молода, ее влекла чудесная надежда, она готова была пожертвовать собой ради благого дела, теперь же она безрадостно направлялась навстречу чему-то неведомому. То, что она оставляла здесь, значило для нее куда больше, чем то, что могла найти там.
Софи простилась с рыдающей Дуняшей и немногочисленными соседями, не переставая удивляться тому, что никто из друзей не пришел обняться перед разлукой. Правда, накануне был устроен вечер в ее честь у Фонвизиных, и на этих проводах все пили, плакали и пели, но она все-таки думала, что сегодня утром еще раз, напоследок, увидится с декабристами, и их равнодушие, словно они мгновенно к ней охладели, ее огорчило. Однако вскоре, прибыв в деревушку Под-Чуваши, она получила разъяснение тайны: все они собрались здесь, на берегу, у парома, который должен был отвезти ее на другой берег Иртыша. Даже двое из учеников не поленились встать в такой ранний час ради того, чтобы с ней проститься: дочка почтмейстера Татьяна и один из мальчиков Суматоховых. Жандарм великодушно позволил друзьям Софи в последний раз засыпать ее наставлениями и осыпать поцелуями. Фердинанд Вольф не пришел, только его старая служанка была здесь, но она передала Софи сложенную вчетверо бумагу, запечатанную сургучом, и Софи сунула записку в рукав. Вдали, над крышами города, раскинулось высокое нежно-голубое небо с легкими белыми облаками. По реке плыли мелкие льдинки. На рыхлых берегах торчали кустики молодой травы.
– Госпожа Озарёва, прошу вас, паромщик ждет! – поторопил жандарм.
– Минутку, пожалуйста, всего одну минуточку! – тихонько взмолилась Софи.
Наталья Фонвизина бросилась к ней, словно изголодавшаяся, изо всех сил стиснула подругу в объятиях, трогала ее, гладила, обливала слезами, несколько раз перекрестила. Затем Софи перешла в объятия Полины и Ольги Анненковых, Маши Францевой, еще чьи-то, и каждая из женщин шептала ей на ухо что-нибудь ласковое. Мужчины были не менее растроганны, но все же более сдержанны и не так словоохотливы. Последним подошел Юрий Алмазов, уверявший, что он «все так же влюблен и все так же ранен ею». Он помог Софи сесть в тарантас и припал к ее рукам, шепча:
– Моя молодость, это молодость моя меня покидает!
Как Софи ни любила их всех, все-таки ей не терпелось оказаться где-нибудь подальше, чтобы прочесть записку от Фердинанда Богдановича. Наконец паром, уносивший оба тарантаса, медленно отошел от берега. Софи смотрела, как увеличивается разрыв между ее прошлым и настоящим. Прежние товарищи, оставшиеся в земле изгнания, уже сделались для нее лишь воспоминанием. Она махала платочком до тех пор, пока оба тарантаса не оказались на суше и застоявшиеся лошади не помчались по дороге. Тогда она вытащила из рукава записку Фердинанда Вольфа, распечатала ее и, несмотря на тряску, стала читать. Вот что было в этой записке:
«Моя милая и нежная подруга!
Никогда мне не забыть, чем Вы были для меня. Если я буду по-прежнему работать и жить, то лишь для того, чтобы показать себя достойным Вашего доверия. Простите меня за то, что не пришел на пристань сегодня утром: я не смог бы перенести сочувственного любопытства наших друзей. Что-то с Вами станется вдали от меня? Храни Вас Господь, Софи! Я буду за Вас молиться. Мне очень грустно, я чувствую себя несчастным. В моей жизни внезапно образовалась такая пустота! Прощайте, прощайте, Софи!
Фердинанд Вольф».
Софи опустила голову. Ею мгновенно завладела печаль, затопила ее целиком, сдавила, не давая вздохнуть. Затем странным образом к отчаянию примешалась капелька счастья, и она полностью отдалась этому горько-блаженному ощущению, этому меланхолическому покою – такой иногда охватывает нас, когда мы смотрим на бескрайнюю пустую равнину.
* * *
Проделывая в обратном направлении тот же самый путь, каким следовала двадцать три года назад, Софи с волнением узнавала некоторые места, запомнившиеся по тому, первому путешествию. Но в то время ее спутником был Никита, чья молодость озаряла весь окружающий мир, а не этот неповоротливый и никчемный жандарм, затянутый в синий мундир. Добролюбов оказался неразговорчивым, зато обладал превосходным аппетитом. На каждой почтовой станции он наедался до отвала, затем, в пути, не спеша переваривал завтраки, обеды и ужины. Сосредоточенность на еде нисколько не мешала ему, пока меняли лошадей, маленькими поросячьими глазками бдительно следить за малейшими перемещениями Софи в доме и во дворе станции. Неужели Добролюбов опасался, как бы она не пустилась бежать пешком по степи или не проскользнула тайком в карету какого-нибудь другого путешественника? Как-то Софи упрекнула жандарма в том, что он обращается с ней как с арестанткой, тогда как она снова стала свободной женщиной. На это он, нимало не смутившись и не растерявшись, тотчас же ответил:
– Вы не свободны и не арестованы: вы – свободная узница.
Софи показалось, что эта формулировка как нельзя более точно отражает российскую действительность. А Добролюбов, автор гениальной мысли, чуть помолчав, объяснил спутнице, что, кроме всего прочего, его карьера во многом зависит от того, насколько точно он исполнит возложенные на него обязанности:
– Вы воспринимаете меня как сторожа, сударыня, но на самом деле я в полной зависимости от вас, моя судьба – в ваших руках. Если с вами, боже упаси, что-нибудь случится, мое начальство мне этого не простит. Вот потому я и прошу вас помочь мне справиться с этим поручением. Если все пройдет благополучно, мы с вами, и вы, и я, останемся довольны…
– Это первая ваша поездка в Санкт-Петербург? – спросила Софи.
– Нет, уже семнадцатая.
– И вы всегда едете как сопровождающий?
– Нет, до этого раза я всегда возил государственные бумаги, – ответил жандарм, раздуваясь от самодовольства. – Депеши к министрам. Но это куда менее приятно, поскольку компании недостает!
По мере того, как путешественники приближались к Уралу, Добролюбов постепенно оттаивал и даже начинал проявлять по отношению к своей подопечной некоторую галантность. Софи сочла, что все же он слишком молод для того, чтобы ее сторожить. В Екатеринбурге не было лошадей, и им пришлось провести ночь на лавках почтовой станции. Утром, когда они пили чай в общем зале, Добролюбов смущенно пробормотал:
– Я вот думаю, зачем это мы едем в двух тарантасах…
Софи не сразу поняла, к чему он клонит, и возразила:
– Но ведь так очень удобно ехать!
– Удобно-то оно удобно, да больно дорого выходит!
Как тут было не возмутиться!
– А что, разве вы платите из своего кармана? – ехидно поинтересовалась «свободная узница».
– Разумеется, нет, платит государство! – не задумался с ответом ее страж. – Мне выдали полностью сумму, необходимую для оплаты всех расходов. Но, если удастся хоть на чем-то выгадать, для меня это будет заметная прибавка, уж очень маленькое у нас жалованье. А мне надо кормить стариков родителей, сестру-калеку! Скажите, сударыня, вас на самом деле будет очень стеснять, если я пересяду в ваш тарантас? Нам ведь теперь не так уж много осталось проехать до Перми.
Озадаченная Софи немного помолчала, подумала, затем, пожав плечами, бросила:
– Хорошо, если для вас это настолько существенно, я согласна.
– Благодарю вас, сударыня! – с чувством произнес жандарм.
И немедленно потребовал, чтобы ему принесли окорок, крутые яйца и четвертый стакан чая.
Тарантас Софи был достаточно просторным для того, чтобы в нем можно было с удобством устроиться вдвоем и разместить вещи. Добролюбов сел напротив нее на соломенные тюки и тут же начал клевать носом, а вскоре и захрапел. Наверное, рот у него был наполнен воспоминаниями о поглощенной еде, потому что во сне он вкусно причмокивал и от удовольствия шевелил усами. Софи смотрела на спящего жандарма и думала о друзьях, с которыми не так давно рассталась и с которыми ей, должно быть, больше не суждено было свидеться. На расстоянии судьба декабристов показалась ей еще более странной. В молодости они думали, будто их миссия состоит в том, чтобы сражаться до последней капли крови за свои политические убеждения; в зрелом возрасте они отказались от какого бы то ни было героизма и полностью посвятили себя возделыванию целинных земель и не тронутых просвещением умов. Благодаря декабристам неотесанные сибирские жители впервые с несказанным удивлением увидели людей, которым нравится читать книги и писать письма, людей, которых больше привлекают идеи, чем деньги, людей, которые утратили и богатство, и положение в обществе, однако не станешь же отрицать, что они имеют огромное влияние на окружающих. В какую бы заброшенную деревеньку, в какой бы глухой угол правительство ни сослало хотя бы одного из этих мятежников, можно было не сомневаться: он найдет возможность приносить пользу, устроит библиотеку, станет учить детей. Софи улыбнулась, припомнив позабавившее ее замечание одного курганского землемера: «Как жаль, что в 1825 году не арестовали побольше декабристов! Еще несколько сотен каторжников в том же роде – и Сибирь сделалась бы первой среди цивилизованных стран!» И подумала: может быть, в глазах грядущих поколений истинную славу декабристы обретут не благодаря тому, что однажды восстали против царя, но благодаря тому, что остаток своей жизни посвятили борьбе с равнодушием и невежеством ближних.
Взять хотя бы, к примеру, такого человека, как доктор Вольф… Революционером он оказался весьма посредственным, однако все те, кому посчастливилось с ним сблизиться, были обязаны ему своим духовным ростом, нравственным развитием. Или вот Пущин, Лунин, Поджио… Опустились лишь те из декабристов, кто взял в жены женщин из низшего сословия, кто – от усталости ли, по слабости или из страха перед одиночеством – женился на крестьянке или няньке, как это произошло с Басаргиным, Оболенским, Кюхельбекером… Были и другие – те, что спились, впали в беспробудное пьянство и нищету. Но таких оказалось немного. Почти все декабристы с достоинством выдержали испытание каторгой и ссылкой. Софи, возвращавшейся в Россию, казалось, будто она оставляет позади себя страну, населенную людьми с благородной и возвышенной душой, и приближается к стране лжи, зависти, малодушия, подлого заискивания перед властями. Да сможет ли она, привыкшая к вольному, целебному воздуху Сибири, дышать в этой затхлой атмосфере? Правда, в Санкт-Петербурге ей придется пробыть совсем недолго, добравшись же до Каштановки, она окажется вдали от всех и всяческих интриг!
Дорога, по которой они ехали, пересекала край не гористый, но, скорее, неровный, с небольшими возвышенностями и впадинами, в которых во множестве располагались пруды и маленькие озерца. Затем, у въезда в большой лес, она круче пошла под уклон. Жандарм пробудился, огляделся и сообщил:
– Мы во владениях Демидовых.
Часом позже они сменили лошадей, перекусили и под звон бубенцов тронулись дальше. Перед тем, как снова погрузиться в сон, Добролюбов пробормотал:
– Это все еще владения Демидовых!
Софи словно увидела себя маленькой девочкой, склонившейся над книжкой с картинками: Кот в сапогах показывает обширные поместья маркиза де Карабаса. Целая провинция в руках одного человека! Во Франции такое показалось бы невероятным, но в России – дело вполне обычное и естественное…
И снова версты и версты по изрытой, ухабистой дороге, в пыли, скрипе колес и запахе разогретой кожи. У Софи затекли и онемели руки и ноги, голова казалась пустой и звонкой, и путешественница с нетерпением ждала очередной остановки. Жандарм тихонько рыгнул и открыл глаза. Значит, почтовая станция уже близко! У Добролюбова желудок работал, как часы: по его зову «телохранитель» неизменно просыпался за десять минут до того, как тарантас подъезжал к станции. Небо над черными, неравной высоты вершинами лиственниц начинало темнеть. Внезапно глазам путешественников открылось высокое, массивное здание, целиком сложенное из бревен и напоминавшее огромную поленницу.
– Здесь, – мечтательно проговорил жандарм, – мне как-то довелось поесть удивительных рябчиков.
Тарантас въехал во двор. Конюхи подскочили к лошадям, ухватили их за поводья, и те протащили их немного по земле, пока тарантас не остановился.
* * *
Добравшись до Перми, Софи и жандарм узнали, что пароход, на котором им предстояло плыть до Нижнего Новгорода, снимется с якоря только через сутки. Стало быть, надо было как можно скорее найти комнату для ночлега поднадзорной. В конце концов пришлось снять номер в гостинице «Клубная», где стояла кровать, но на ней не было ни подушки, ни одеяла, ни простыни. Софи улеглась одетая на сомнительной чистоты матрац, Добролюбов отправился спать в общую комнату. На следующий день Софи решила осмотреть город, раз уж она вынуждена здесь задержаться. Конвоир напомнил о том, что обязан следовать за ней повсюду, куда бы она ни отправилась, так что она вышла и на прогулку тоже в сопровождении жандарма, который выпячивал грудь, то и дело подкручивал усы и вращал глазами.
Ничего интересного здесь Софи не обнаружила: в довольно большом провинциальном городе смотреть оказалось решительно не на что. Широкие прямые улицы с дощатыми тротуарами, частоколы, огораживающие клочок травы да несколько тощих березок, низкие, совершенно одинаковые деревянные домики, у каждого – по обеим сторонам от крыльца окошки с кисейными занавесками, за двойными рамами, на подоконниках – цветочные горшки… День был воскресный, и прохожие спешили в разбитый на берегу Камы городской сад, а там поток гуляющих растекался по липовым, вязовым и ясеневым аллеям: мусульмане в длинных кафтанах, молодые стройные татарские девушки, офицеры в зеленых мундирах, почтенные горожане в черных сюртуках и круглых шляпах, русские дамы, одетые по парижской моде… Софи с Добролюбовым затерялись в толпе и двигались вместе со всеми, что все же не помешало им попасть под обстрел любопытных взглядов. Так они добрались в конце концов до пристани. Пароход разворачивался, собираясь пристать к берегу. Из высокой трубы валил дым. Колеса яростно взбивали лопастями воду. Софи ничего подобного до сих пор еще не видела. В прежней жизни она застала лишь парусные суда. Осознав это, она с особенной ясностью почувствовала, как много времени провела в изгнании. А ведь рассказывали, что вскоре можно будет отправиться из Москвы в Санкт-Петербург по железной дороге! Наука и техника развивались с головокружительной быстротой. Если все и дальше будет идти такими темпами, люди совсем обезумеют от гордыни!
Пароход тащил за собой на буксире огромную баржу, в бортах которой виднелись зарешеченные окошки. За прутьями – мешанина из бледных лиц. Снова каторжники! Плавучая тюрьма встала вдоль пристани. На палубе суетились солдаты, офицеры громовыми голосами отдавали приказы, матросы открывали люки. И, подобно тому как из яблока выползает червяк, каторжники медленной чередой потянулись наружу, на вольный воздух. Их было сотни две, а может быть, даже три. На исхудалых обросших лицах с запавшими щеками лежала печать долгого и трудного, утомительного пути. Волоча громыхающие цепи, арестанты сошли по трапу и выстроились в колонну по четыре. Все они были одеты в серые шинели, у некоторых на спине виднелись желтые суконные ромбы.
– Это ведь уголовные преступники, правда? – спросила Софи.
– Да, – подтвердил Добролюбов. – Не беспокойтесь, сударыня, среди них нет ни одного политического заключенного!
– И куда же их теперь поведут?
– В дом для арестантов, там и просидят, пока их не отправят в Екатеринбург.
– А часто в Пермь доставляют каторжников?
– В теплое время года – два раза в неделю.
Должно быть, даже записным городским зевакам это зрелище уже примелькалось, вон как равнодушно они поглядывают на то, как уводят колодников, подумала Софи.
Арестантов окружили солдаты, державшие ружья с примкнутыми штыками, затем во главе отряда появился офицер верхом на коне, и колонна, под звон мерно покачивающихся цепей, стронулась с места и зашагала. Толпа рассеялась – публика направлялась к беседке, откуда доносились скачущие звуки польки. Добролюбов, краем глаза наблюдавший за Софи, предложил, желая ее чем-нибудь развлечь, дойти до другого конца набережной и взглянуть на пароход, на котором им предстояло отплыть на следующий день.
* * *
На корабле оказалось всего три отдельные каюты, и все три были уже заняты. Софи пришлось удовольствоваться тем, что за ней оставили для ночлега место на одном из диванов в кают-компании, служившей одновременно рестораном, общей спальней и курительной. На нижней палубе в невообразимой тесноте сбились в кучу грязные, оборванные и дурно пахнущие пассажиры третьего класса. Над ними располагалась площадка, куда имели доступ лишь обладатели билетов в первый или второй класс: устроенный на самом верху навес позволял любоваться пейзажем, укрывшись от жгучих солнечных лучей. Вот там-то, под этим навесом, Софи и устроилась после того, как разместила багаж. Больше всего ей сейчас хотелось бы побыть одной, но Добролюбов, следовавший за ней повсюду, словно тень, пристроился рядом на скамейке. Река плавно катила свои воды между зелеными, поросшими лесом берегами. Сквозь ровное, монотонное гудение машин и глухой плеск воды, стекающей по лопастям колес, можно было, прислушавшись, различить вдали пение птиц. В топку бросали дрова, и потому у дыма, который ветром сносило на палубу, был приятный запах. Пароход едва приметно покачивался, и Софи, убаюканная движением, погрузилась в прихотливые грезы. Внезапно она очнулась, почувствовав, что жандарм привалился к ее плечу, и, взглянув на него, поняла, что ему дурно. Он расстегнул воротник, то и дело утирал покрытый нездоровой испариной лоб и шумно сглатывал слюну. Его обычно румяное, свежее лицо сделалось пепельно-серым.
– Вы плохо себя чувствуете? – забеспокоилась она.
– Не слишком хорошо, – пробормотал Добролюбов. – Каждый раз так бывает, когда отправляюсь в поездку. Не переношу плавания.
– Да ведь почти совсем не качает.
– Мне-то и этого вполне достаточно, – вздохнул Добролюбов. – Может быть, если я слегка перекушу…
С трудом поднявшись, он на нетвердых ногах поплелся в кают-компанию. Поскольку было уже около полудня, Софи решила тоже отправиться поесть. Табльдота на пароходе не держали. Каждый мог потребовать, чтобы ему подали еду, в любое время, когда только захочется. От еды и питья Добролюбову сделалось еще хуже прежнего, и он поспешно бросился на палубу. Поднявшись туда в свою очередь, Софи застала его уже под навесом, вытянувшимся во весь рост на лавке. Она дала ему понюхать соли, положила бедолаге на лоб платок, смоченный холодной водой. Для жандарма положение, в котором он оказался, было крайне унизительным, он шепотом повторял:
– Я обесчещен!
Затем, очевидно понемногу начав привыкать к движению судна, снова застегнул ворот и сел, хотя глаза у него все еще были мутные и он еле ворочал языком. Несколько пассажиров, издалека наблюдавшие за этой сценой, поспешили отвернуться, опасаясь, как бы жандарм не попрекнул их нескромным любопытством: мундир внушал им куда большее уважение, чем облаченный в него человек.
Берега Камы плавно круглились невысокими холмами, по которым были разбросаны прелестные деревушки. Кое-где посреди луга виднелось белое пятно – остаток нерастаявшего снега – в окружении цветов. Березы и осины тянулись ветками с нежно-зеленой, едва распустившейся листвой к синему небу. Изредка показывалась лодка рыбака, порой спускался по течению огромный плот, тяжело нагруженный бревнами и досками. Над всем этим грузом, надежно закрепленным и предназначенным для строительства и обогрева, стояла избушка, в которой жил плотовщик со своей семьей. Когда пароход обгонял такой плот, поднималась большая волна, и дети в красных рубашонках махали руками и пронзительно кричали.
К шести часам вечера причалили, чтобы запастись дровами. На погрузке работали женщины. Молодые и старые, все с одинаково опаленными солнцем лицами, повязанные ситцевыми платочками, они спускались на берег и возвращались обратно с носилками, заваленными грудами поленьев. Дойдя до центрального люка, они сбрасывали в него свой груз, который с грохотом валился в трюм. На берегу собрались все жители соседней деревни. Мужчины смотрели на то, как трудятся их жены и дочери, но и не думали им помогать. Торговцы, утопая босыми ногами в пыли, расставляли и раскладывали на деревянных ящиках свой товар: они продавали квас, молоко, вяленую рыбу и пирожки. Некоторые пассажиры третьего класса сошли на берег, чтобы подкупить в дорогу провизии.
К восьми часам вечера небо все еще оставалось ясным. От гладкой камской воды шел неизъяснимый сиреневый свет. Вокруг большого фонаря с гудением кружились насекомые. В прибрежных зарослях начали заливаться соловьи. Никогда еще Софи не доводилось слышать столько соловьев одновременно. Одна из пассажирок вернулась на пароход с большим букетом цветущих ландышей.
– Может быть, я тоже успею нарвать ландышей? – спросила Софи.
– С вашего позволения, я сам за ними схожу! – отозвался Добролюбов. Он сбежал по трапу на берег, мгновенно растворившись в легких сумерках, и так долго не возвращался, что Софи подумала: а вдруг он не вернется никогда, и уже с тревогой спрашивала себя, как быть, если пароход уйдет без ее сопровождающего. Все бумаги остались у жандарма, и с административной точки зрения ее, Софи, без паспорта и подорожной попросту не существовало.
Тем временем женщины-работницы, закончив погрузку, выстроились в очередь на пирсе, ожидая, чтобы капитан с ними расплатился. Машины снова начали работать, и палуба под ногами пассажиров завибрировала. Перепуганная Софи до боли в глазах всматривалась в ночной берег и изо всех сил молилась, прося вернуть ей ее жандарма. Прямо у нее над головой ударил пароходный колокол. И, когда она уже совсем отчаялась, чувствуя себя кем-то вроде покинутой жены, появился Добролюбов – он мелкими шажками бежал по трапу. В руках у него были четыре стебелька ландыша – все, что удалось найти! Софи, у которой словно камень с души свалился, радостно поблагодарила. Пароход отошел от берега, поначалу лишь слегка шлепая лопастями по воде, затем набрал скорость, и вокруг него образовалась оборка светящейся пены. Труба очень сильно дымила. У топки дровами был один недостаток, заключавшийся в том, что вместе с дымом из трубы вырывались снопы искр, которые дождем сыпались на палубу: в тихой ночи над пароходом сверкал настоящий фейерверк. Время от времени какая-нибудь женщина взвизгивала и принималась охлопывать платье, стараясь загасить упавший на него тлеющий уголек. Берегов уже не было видно. На судне зажглись керосиновые лампы. Добролюбов пожаловался, что голоден, словно волк. Теперь, когда он совершенно исцелился и его перестало тошнить от качки, жандарм размечтался о том, чтобы сытно, обильно, «по-сибирски» поужинать.
Софи, присоединившаяся к нему в кают-компании, ограничилась тем, что попросила принести ей чай, хлеб и варенье. Зато ее «телохранитель» выхлебал тарелку холодной ботвиньи из кваса с травами, хреном и капустой – кроме того, в тарелке плавали кусочки копченой рыбы и колотый лед, – за ботвиньей же последовали волжская стерлядь с морковью и каперсами, мясо под соусом и малиновое желе, такое плотное, что всаженная в него ложка оставалась стоять торчком… Запив все это пенистым рыжим казанским пивом и просияв лицом, Добролюбов откинулся на спинку стула. И тут Софи догадалась, что он старается сберечь деньги, выданные на путешествие в тарантасе, не столько ради того, чтобы помочь своей нуждающейся семье, сколько для того, чтобы заказывать для самого себя сытные обеды и ужины. Впрочем, вполне могло оказаться, что все это несчастное семейство существует лишь в его воображении. И она даже залюбовалась простодушной целеустремленностью прожорливого жандарма.
Едва ли не все пассажиры собрались ужинать в одно и то же время, и за большим столом, занимавшим середину зала, было тесно. Люди, сидевшие рядом и друг с другом не знакомые, ели, касаясь друг друга локтями. Официанты-татары в черных фраках и белых передниках суетились у них за спиной. От множества отдельных перемешавшихся между собой разговоров под низким потолком стоял оглушительный шум, словно на праздничной ярмарке. К сытным и разнообразным ароматам блюд примешивался запах керосиновых ламп с коптящими фитилями. Окна были открыты, но ни малейшего дуновения ветерка не чувствовалось. Софи стало трудно дышать, и она вместе с Добролюбовым снова вышла на палубу.
Ночь была такой темной, что небо и вода сливались, границу между ними было не различить. Во всем этом непроглядном мраке лишь смутно белела кружевная пена, которую взбивали, вращаясь, колеса парохода, и блестели золотые искры, вылетавшие из трубы. Жандарм глубоко вздохнул и проговорил:
– Если хотите, можно будет денек-другой отдохнуть в Нижнем Новгороде. Там есть очень хорошие гостиницы. Вообще город веселый, приятный. Хотя, может быть, вам не терпится добраться до места?
– О нет! – откликнулась Софи.
– Стало быть, никто вас там не ждет?
– Никто.
– Значит, нерадостное это для вас путешествие?
Софи ничего не ответила. До чего же у нее должен быть жалкий вид, если жандарму могло прийти в голову ее пожалеть! Ей на память пришла строчка из письма Фердинанда Вольфа: «Что-то с вами станется вдали от меня?» И она впервые испугалась будущего.
– Уже поздно, – вслух произнесла она. – Пожалуй, пойду вниз.
Добролюбов поплелся за ней. Многие пассажиры уже улеглись одетыми на диваны в общей каюте. Другие продолжали, сидя за столом, пить чай и играть в карты. Теперь горела лишь половина ламп. Софи устроилась, как могла, на кожаном диване, закутала ноги пледом, подсунула под голову вместо подушки дорожную сумку. Жандарм свернулся калачиком на диване напротив. Едва закрыв глаза, он тут же захрапел, и Софи позавидовала безмятежному покою этого насытившегося животного. Сама она поминутно переворачивалась с боку на бок, но, как бы она ни легла, сон бежал от нее. Люди за столом громко разговаривали и смеялись, нимало не думая о тех, кому хотелось спать. Четверка толстых купцов пила шампанское, отмечая заключение сделки. Выпив, они затянули песню. Никто и не попробовал возмущаться. Трубочный и сигарный дым сизой пеленой колыхался между хилых столбиков, поддерживавших потолок.
К двум часам ночи за столом осталось лишь с десяток игроков, которые хлопали картами о столешницу и громко ругались. Наконец угомонились и они. Когда все легли, кто где мог, матрос погасил лампы. Теперь в темноте светились лишь синие и красные огоньки лампадок в углу перед иконами. Стараясь отвлечься и успокоиться, Софи решила подсчитать, сколько времени ей еще потребуется, чтобы добраться до Каштановки. Значит, так: еще шесть дней плыть на пароходе, потом восемь дней ехать в экипаже, потом… Потом она запуталась в своих подсчетах и ей стало безразлично, сколько еще суток предстоит добираться до поместья. Как будет, так и будет. Повернувшись лицом к стене, она медленно соскальзывала в сон, чувствуя, как туманится в голове и тяжелеют руки и ноги. Вскоре тишину вокруг нее нарушали только хриплое дыхание спящих, глухой шум машин и неумолчное журчание, которое шло от колес с лопастями, без устали вращающихся в воде.
* * *
Софи и сопровождающий ее жандарм высадились на берег в Нижнем Новгороде первого июня, в полдень, в сильную грозу. Пока она устраивалась в маленьком, но чистеньком гостиничном номере, где была настоящая кровать с настоящими простынями и одеялами, Добролюбов отправился в канцелярию губернатора, чтобы сделать отметку в подорожной. Он обязан был на всех значительных остановках являться засвидетельствовать свое присутствие, давая властям возможность удостовериться, что путешествие идет по заранее утвержденному маршруту и в предусмотренные сроки. Затем ему надо было нанять тарантас и лошадей, чтобы на следующей день выехать в Москву.
Вымывшись с головы до ног в лохани с горячей водой и переодевшись в чистое, Софи уселась у окна. Дождь не переставал, по стеклу бежала вода, и пейзаж за этой тяжелой серой пеленой искажался. Внезапно тучи разошлись, ливень прекратился, мокрые крыши заблестели под солнцем. Софи захотелось, воспользовавшись тем, что погода прояснилась, осмотреть город. В Нижнем Новгороде столько всего, на что стоит взглянуть: ярмарочная площадь, Кремль, собор, Печерский монастырь… Она уже собиралась выйти, когда в дверь номера постучали. Софи отворила: на пороге стоял Добролюбов. Ей показалось, что вид у жандарма значительный и озабоченный.
– Ну как, визит к губернатору прошел удачно? – спросила она.
Добролюбов нахмурился.
– И да, и нет. У меня для вас дурные вести. Скончался один из ваших родственников. Некий Седов.
Она первым делом подумала о Сереже и, задохнувшись, еле выговорила:
– Мой племянник?.. Сережа… Сергей Владимирович Седов?
– Нет, – ответил жандарм. – Его отец, Владимир Карпович.
Тревога Софи мгновенно улеглась, сменившись полнейшим равнодушием. Кончина этого человека теперь даже не утоляла жажду мести, которая так долго и так сильно ее терзала.
– Как он умер? – безразлично спросила она.
Добролюбов наморщил нос, пошевелил усами.
– Неприятная история! Кажется, убили его же мужики с месяц тому назад. А губернатор только что узнал об этом из официальной депеши. И просил меня деликатно вас известить. Он хотел бы с вами увидеться.
– Сейчас пойду к нему, – сказала она. – Прямо сейчас же и пойду…
Но не сдвинулась с места. Ей казалось, что это убийство уже происходило прежде, что ей уже сообщали о нем в другой жизни. Повторение. Владимир Карпович Седов не мог закончить свою жизнь по-иному. На мгновение ей почудилось, будто она соприкоснулась с изнанкой мира. Путешествие приобрело смысл, какого она раньше и предположить не могла. Сережа осиротел. Путь свободен. Ее подхватил порыв надежды. «Господи, Боже мой! Что это со мной происходит? Я счастлива!» – содрогнувшись, подумала Софи. Жандарм с изумлением смотрел, как она улыбается, глядя в пустоту.
Часть II
1
Взгляд Софи остановился на полустершейся табличке. «Каштановка», – прочитала она. И затихла, замерла в ожидании, готовясь к встрече с прошлым. Все тело словно обратилось в камень, перестало отзываться на растворенный в воздухе солнечный жар, на тряску экипажа. Одна только память жила теперь в этом точно каменном теле… И глаза выхватывали из тьмы давних лет осколки мозаики, складывая их в картины настоящего.
Вот уже два ряда старых, темных, сумрачных, с лохматыми ветками, словно одетых в рубище, елей расступаются перед ней – в точности так же, как в далекий день, когда она впервые оказалась на этой аллее, среди этих деревьев. Они, молодожены, тогда только-только приехали из Франции, и Николя собирался представить ее отцу. Коляска тряслась на неровной дороге, подпрыгивала на ухабах. На Софи в тот день была шубка-витчура, отделанная беличьим мехом. Николай с нежностью и тревогой сжимал руку жены. Софи взглянула на него – но вместо Николая увидела жандарма с лоснящимся от пота лицом, с черными торчащими усами.
– Прекрасное поместье, – одобрительно произнес Добролюбов. – И сколько же у вас душ?
– Не знаю, – тихонько ответила она.
Картины настоящего и прошлого путались у нее в голове, то подступая, то отступая, подобно приливу и отливу. Софи вдруг узнавала перекресток, поросший мхом камень, крышу купальни, и каждая подробность пробуждала столько воспоминаний, что воздух вокруг нее словно сгущался. С минуты на минуту она увидит Сережу – как они встретятся, каким окажется ее выросший мальчик? Софи напрасно старалась представить себе племянника взрослым мужчиной: ей все виделся младенец в колыбели, каким она его оставила. Бедный, бедный, должно быть, он сильно потрясен и удручен смертью отца. Софи написала Сереже с дороги, выразила соболезнования, предупредила о своем приезде. А когда проезжала через Псков, вместе с жандармом побывала у губернатора. Все было сделано по правилам, все было улажено, все формальности соблюдены…
Тарантас сильно тряхнуло. Да, конечно, она помнит – на этом месте дорога всегда была разбита. Из кустов выскочила собака, за ней другая, с громким лаем они побежали рядом с упряжкой. Из-за поворота тропинки вышли крестьяне, поснимали шапки, завидев гостью. Возможно, сыновья тех, кого она когда-то лечила…
Наконец в просвете между деревьями показался дом. Зеленая крыша, розовый фасад с облупившейся штукатуркой, с белыми колоннами, он всеми окнами улыбается навстречу Софи, манит ее к себе, словно это вовсе и не дом, а издавна знакомое лицо! Едва не лишившись чувств от волнения, Софи обвела глазами группу, собравшуюся у крыльца, пристально вглядываясь в каждого поочередно. Одни только слуги. Может быть, Сереже пришлось отлучиться? Может быть, он куда-то уехал? Тарантас со скрипом остановился, Добролюбов спрыгнул на землю. Слуги бросились выгружать вещи. Софи, в свою очередь, тоже сошла на землю, и внезапно ноги у нее подкосились, а сердце на мгновение перестало биться. Двойная дверь, выходящая на крыльцо, отворилась, и к ней навстречу вышел… Николай. Двадцатипятилетний Николай – высокий, стройный, широкоплечий, с правильными чертами благородного лица, с шапкой светлых волос. На нем был черный сюртук с бархатным воротником, галстук, туфли тоже черные. Софи сразу узнала его, а он все не узнавал… Неужели она так сильно постарела? У нее голова закружилась, когда перед ней оказался этот бесстрастный призрак. Потом, сломленная, она прошептала:
– Сережа!.. Ах, Боже мой, до чего ты на него похож!..
Двойник Николая поцеловал ей руку и пригласил в дом, предложив войти и жандарму. Будто сквозь туман, она снова увидела охотничьи трофеи, ружья, ножи, украшавшие прихожую, затем вошла в кабинет покойного свекра. На окне висели все те же ярко-зеленые шторы, на рабочем столе поблескивало все то же малахитовое пресс-папье. Невозможно было взглянуть на этот предмет без того, чтобы, словно наяву, увидеть, как старые узловатые пальцы Михаила Борисовича машинально его поглаживают. Софи бессильно опустилась в кресло. Никого, ни одного человека из тех, кого она когда-то знала в Каштановке, здесь больше не было, никто из них ее не встретил. Николай, Маша, Михаил Борисович… все они умерли, умерли, умерли!..
– Тетушка, вас, должно быть, утомило путешествие? – по-французски спросил Сережа.
Софи невольно вздрогнула: она услышала голос Николая, разве что в тембре чуть больше металла. Сережа говорил по-французски не так хорошо, как дядя, у него был сильный русский акцент, но она почувствовала такую благодарность за то, что племянник выучил ее родной язык, как будто он сделал это только из уважения к ней.
– Да, – пробормотала Софи. – Последний перегон был особенно утомительным…
Говоря с Сережей, она пристально в него вглядывалась, старалась различить в его лице черты родных. Вроде бы от матери ничего. Да и на отца нисколько не похож. Хотя… хотя нет, кое-чем Сережа его напоминает: такие же маленькие, сумрачные, неподвижные зрачки, такие же презрительные складки у рта. Но во всем остальном он вылитый ее Николя. Софи поймала себя на мысли о том, что мания всех со всеми сравнивать – обычный недостаток старых дам. Жандарм кашлянул, напоминая о своем присутствии. Добролюбов так и остался стоять на пороге, смущенный, не зная, куда девать руки. Софи предложила ему перекусить, но жандарм отказался: он должен был немедленно выехать обратно в Псков.
– Что ж, прощайте! – сказала она. – Вы были для меня очень приятным спутником.
Добролюбов покраснел от удовольствия. Софи сунула ему в руку двадцать рублей ассигнациями, и они расстались, словно давние друзья. Едва дверь за жандармом затворилась, Софи повернулась к Сереже. В первую минуту она безотчетно сказала ему «ты», но теперь не решалась так обратиться к взрослому, в общем-то, незнакомому мужчине.
– Я ждала, пока мы останемся одни, чтобы поговорить откровенно, – начала Софи. – Вы, должно быть, чувствуете себя таким несчастным, Сережа! То, что произошло здесь, совершенно чудовищно!
Он стоял, прислонившись к книжному шкафу, засунув руки в карманы и разглядывая кончики собственных ботинок. На лице его застыло оскорбленное и холодное выражение.
– Как же это случилось? – продолжала Софи. – Псковский губернатор сказал только, что мужики заманили вашего отца в западню…
– Да, в самом деле, они заманили его в купальню, якобы для того, чтобы посоветоваться насчет сгнивших мостков, которые им было приказано починить… А там оглушили ударом по голове и задушили… Их было трое…
Сережа говорил медленно, ровно, невыразительно, как говорит человек, старающийся держать себя в руках, не позволить себе вспылить.
– Но вы смогли выяснить, кто это сделал?
– Без малейшего труда. На место прибыла комиссия по расследованию, допросили всех крестьян, всех слуг, всех домашних. Преступники недолго отпирались. Сейчас они в тюрьме, в Пскове. Судить их будут, кажется, через месяц…
Наступило молчание. Сережа нахмурился и глубоко вздохнул. Боясь усугубить его горе, растревожить свежую рану, Софи мгновение поколебалась, не решаясь продолжить разговор. Но он заговорил сам.
– Подлецы, негодяи! – процедил он сквозь зубы. – Дикие звери!
Его глаза расширились, как будто он смотрел на какое-то страшное зрелище, происходившее совсем рядом, но видимое лишь ему одному.
– Почему, за что убили вашего отца? – спросила Софи.
– Отец жестоко обращался с мужиками. Да, жестоко, но ведь справедливо! Зная этих людей, я не раз советовал ему остерегаться, но он меня не слушал. Он сам управлял поместьем с тех пор, как умер мой дед. Достигнув совершеннолетия, я начал ему помогать по мере сил. Мы хорошо ладили, даже очень хорошо, у нас всегда были прекрасные отношения. Если бы вы знали, какой это был замечательный человек! Блестящий ум, пылкий темперамент, абсолютная уверенность в себе снискали ему всеобщее уважение! С тех пор, как отца не стало, для меня с каждым днем все явственнее становится, насколько драгоценно было его присутствие…
Софи совсем растерялась, слушая этот панегирик Седову из уст его сына. Наверное, ей следовало этого ожидать, но, тем не менее, она чем дальше, тем сильнее злилась, и тайная эта злость все возрастала оттого, что, как бы ни относилась Софи к Владимиру Карповичу, она не имела права вывести Сережу из его заблуждения, открыть ему глаза на то, каким человеком был его отец на самом деле. И тут вдруг ей пришла в голову мысль совсем уже страшная: племянник ведь знает ее лишь по рассказам Владимира Карповича! Но какие же мерзости, какие ужасные вещи Седов, должно быть, рассказывал мальчику о ней и о Николае! Просто удивительно, что Сережа принял ее так любезно после того, как дядю и тетку – в этом она не сомневается – столь живописно изобразили! Что ж, юноша хорошо воспитан, а чего же еще желать на первое время? Конечно, Софи не впервой недружелюбное отношение в Каштановке, только раньше, когда ей приходилось противостоять Михаилу Борисовичу, она была молодой, пылкой, неукротимой и влюбленной, а сейчас, перед этим юношей, полным великолепного безразличия к ней, чувствует, насколько отяжелела ее плоть, как ноет каждая косточка, какое серое – особенно после дороги – лицо…
– Я велел приготовить вашу прежнюю комнату, – слегка поклонившись, произнес племянник.
Софи от души поблагодарила. Ну вот! Похоже, напрасно опасалась, все, наверное, получится куда проще и легче, чем можно было предполагать. Она шла за Сережей, который предупредительно показывал ей дорогу, словно она была здесь чужая, и про себя улыбалась.
– Сюда, тетушка, осторожно – здесь порожек…
И на лестнице он снова о ней позаботился:
– Будьте внимательны, тетушка! Ступеньки немного высоковаты!
Можно подумать, она не знала об этом задолго до того, как он родился на свет!
Когда племянник открыл дверь комнаты, которая когда-то была их с Николаем спальней, Софи стало не по себе. Мебель переставлена, обои и занавески выцвели… Все кажется маленьким, старомодным, обветшалым, если сравнивать с образами, сохранившимися в памяти… Софи оглядела кровать, ночной столик, перевела взгляд на икону в углу, заметила медный подсвечник… Воспоминания всколыхнулись в ее душе, и она поспешно прикусила губы, чтобы не расплакаться.
– Может быть, вам еще что-нибудь нужно? – спросил Сережа.
Она качнула головой: нет-нет, спасибо, ничего, и племянник тихонько вышел, как будто тетушка была занята разговором с кем-то невидимым и он не хотел ей мешать.
* * *
Вечером Софи снова встретилась с Сережей: они ужинали вдвоем, сидя на противоположных концах длинного стола. Никого из подававших на стол слуг она не знала. Еда оказалась сытной, тяжелой, пряной, как во времена Михаила Борисовича. Внезапно Софи почудилось, будто они с племянником в столовой не одни, что к ужину собрались и другие члены большой семьи, вот они, сотрапезники, сидят вокруг нее: свекор, Николай, Маша, как все они рады снова ее видеть! На мгновение забыв обо всем, она почувствовала себя счастливой. Потом, опомнившись, спросила:
– А что стало с мсье Лезюром?
– Он умер через год после дедушки, – ответил Сережа.
– А где Василиса? Няня Василиса?
– Тоже умерла.
– А как Антип? Он-то хоть жив еще?
– Еще жив, но очень стар и совершенно выжил из ума. Живет теперь в деревне.
– Отец Иосиф?
– Вот он тоже умер – в тот год, когда была холера.
Софи назвала еще несколько имен, но поняла, что ворошит кучу пепла, и снова заговорила о Михаиле Борисовиче. Ей хотелось знать, каким Сереже запомнился дед.
– Когда он умер, мне было лет пять или шесть, никак не больше, так что я почти его не помню, – ответил на ее расспросы племянник. – Очень смутно видится сгорбленный старик с пышными белыми бакенбардами, в больших очках… Он позволял мне играть с гусиными перьями, с табакеркой, с шахматными фигурами. Нет, пожалуй, больше ничего в памяти не осталось…
«А ведь Михаил Борисович наверняка окружал мальчика вниманием, нежностью, наверняка гордился им, – подумала Софи. – Но как же мало воспоминаний сохранил Сережа о любви и заботе деда! Только – что позволял играть с шахматными фигурами да перьями… Что это? Бессознательная жестокость молодости, которая может возвыситься лишь тогда, когда забывает о предшественниках?»
Ужин подходил к концу, и Софи чувствовала себя все более и более одинокой: странное ощущение – словно все ровесники исчезли с лица земли…
Когда встали из-за стола, Сережа предложил ей руку, и они перешли в кабинет. Уже стемнело, и слуга зажег лампы, но жара не спадала. Безрассудные мотыльки влетали в открытое окно, устремляясь на свет. В маленькой жаровне дымились ароматные угли – легкий дымок отпугивал насекомых. Сережа попросил разрешения закурить. Софи отрешенно смотрела, как он высекает огонь, раскуривает трубку, сильно затягиваясь через самшитовый чубук, и вспоминала младенца, которого дождливой и ветреной ночью принесла на руках в этот дом. Что этот мальчик знает о своей матери? Рассказали ли ему вообще о том, почему она повесилась?
– Вам, Сережа, было всего несколько месяцев от роду, когда мне пришлось вас покинуть, – негромко сказала она. – Должно быть, ваше детство было не таким уж радостным. Вас растила старая Василиса?
– Нет, отец.
– Я хочу сказать… вашей няней была Василиса?
– Да. Но еще много других! Только я не помню их имен.
Софи поежилась: кожаная обивка кресла холодила плечи.
– Я очень любила вашу матушку, – вздохнула она. – Перед смертью она попросила меня заботиться о вас, как о родном сыне. Но я не смогла сдержать слово, которое дала ей, потому что, как вы знаете, последовала за мужем в Сибирь. Маша была очень чувствительной женщиной, нежной и страстной одновременно…
Губы Сережи растянулись в улыбке.
– Вы правы, – пробормотал он, – но мне кажется, она была довольно неуравновешенной.
Софи задохнулась от возмущения.
– Да как у вас язык поворачивается? Разве вы можете судить Машу? – с трудом выговорила она.
– Я только повторяю то, что говорят все.
– Все? Наверное, так говорил ваш отец?
– Да, среди прочих – и он тоже. Как бы там ни было, моя мать покончила с собой из-за нелепой истории. Не могла же она дойти до такого отчаяния только из-за того, что отцу пришлось продать нескольких крестьян, чтобы расплатиться с долгами! Всем известно: она принимала все слишком близко к сердцу! И, между прочим, еще до того раз двадцать пыталась покончить с собой!
Софи слушала, как племянник нагромождает одну ложь на другую, веря, что все это чистая правда, и молча страдала оттого, что не могла немедленно опровергнуть досужие вымыслы: не было ни малейшей надежды на то, что Сережа ей поверит. Может быть, позже, когда пройдет какое-то время, она попытается его переубедить. Бедная Маша, ничего-то ей в жизни не удавалось, даже смерть не удалась, и, вероятно, самым тяжким наказанием стало презрение, с каким сын относился к ее памяти!
– Думаю все-таки, что лучше не судить о людях, которых не знал лично, – попыталась вразумить племянника Софи.
– В тех случаях, когда нет возможности составить о чем-то собственное мнение, лично я полагаюсь на мнение тех людей, которым вполне доверяю!
– И никогда не боитесь ошибиться?
– Существуют неопровержимые доказательства, свидетельства, подтвержденные фактами!
– Вот это меня и тревожит, причем тревожит очень сильно! – вздохнула Софи.
– Не понимаю, что именно вас тревожит, тетушка.
– То, что… Видите ли, Сережа, если вы бездумно соглашаетесь с тем, что слышите от людей из вашего окружения, то, скорее всего, не испытываете ни малейшего сочувствия и к тем, кого принято называть декабристами…
Черты Сережи внезапно отвердели, взгляд сделался жестким.
– В самом деле, – ответил он, – не стану скрывать, что чувствую себя весьма и весьма далеким от этих господ.
– Пусть так. Однако, не разделяя их взглядов, вы могли бы сожалеть о постигшей этих людей участи!
Он гордо выпрямился:
– Простите уж, тетушка, но я отказываюсь жалеть людей, которые ради удовлетворения своих личных амбиций хотели предать Россию огню и мечу. Я сторонник порядка. Вполне естественно, что правительство изолирует людей, которые могут нарушить спокойствие и расстроить жизнь общества.
Софи смотрела на молодого человека с безрадостным любопытством. Неужели это племянник ее Николая произносит такие слова? Даже от самого Михаила Борисовича вряд ли можно было бы услышать нечто более реакционное! А что, если все молодые россияне теперь такие же, как этот мальчик, испугалась она, но тут же опомнилась, подумав о том, что Николай ведь, когда она познакомилась с ним в Париже, придерживался далеко не либеральных взглядов… И, желая сменить тему, спросила:
– А что за жизнь вы ведете в Каштановке? Часто ли видитесь с соседями?
– С ними? С ними стараюсь видеться как можно реже! Они совершенно неинтересные люди!
– Тем не менее, мне кажется, я припоминаю, будто среди них были люди вполне порядочные. Ваш дядя когда-то очень дружил с Васей Волковым.
– Вот уж чему не приходится удивляться! – откликнулся Сережа. – Волков в наших краях слывет республиканцем. Его даже, если не ошибаюсь, допрашивали во время процесса декабристов. Однако он не был арестован.
– А его матушка?
– Живет вместе с ним. Сестры вышли замуж, перебрались в Москву. Все они помешанные!
Софи, нимало не смутившись, продолжала расспрашивать Сережу о других прежних знакомых, и каждый раз он отвечал ей резко, с раздражением. На тридцать верст в округе не случилось ни одного человека, который в его глазах заслуживал бы снисхождения, он никого не щадил. Может быть, списать эту непримиримость на молодость и самомнение племянника? Наверное, ему хочется любой ценой добиться того, чтобы в ее глазах выглядеть человеком с сильным характером. В окно вливалась легкая прохлада, тихо шелестели под ветром листья…
– Не могу поверить, что на самом деле вернулась в Каштановку, – произнесла Софи. – Все кажется, будто за этими стенами все еще Сибирь. У меня осталось там столько добрых друзей!
– Неужто сожалеете о том, что покинули Тобольск? – язвительно спросил он.
– Там можно было найти величие души! – ответила она, глядя ему прямо в глаза.
– Величие души – роскошь тех, кому нечего делать!
– Уж не потому ли, что были так заняты, вы никогда не отвечали на мои письма?
– Я же вас не знал…
– Это не причина, Сережа.
Племянник насмешливо поклонился ей.
– Как для кого. Для меня – вполне серьезная причина, тетушка! Теперь, когда я вас увидел, все изменилось, и теперь, если нам придется снова расстаться, я не премину вам написать. Но ведь мы больше не расстанемся! Во-первых, потому что вы не имеете права уезжать из Каштановки. А во-вторых, потому что у нас здесь есть общие интересы. Это поместье столько же принадлежит вам, сколько мне. И я должен перед вами отчитываться!
Молодой человек был настолько невыносим, что ничего не оставалось, как только заставить себя находить его забавным.
– Да, это правда, – сказала Софи. – Но у нас впереди более чем достаточно времени для того, чтобы углубиться в подсчеты.
– Нет-нет, я настаиваю… Я хочу, чтобы вы немедленно убедились в том, как тщательно ведутся наши книги…
Сережа раскрыл на стоявшем перед теткой маленьком столике амбарную книгу. Софи скользнула глазами по ровным столбцам цифр. «Расходы, доходы… Вырубка леса…»
Склонившись через ее плечо, племянник объяснял, как он управляет поместьем. Она не слушала, а все глядела, какой почерк: резкий, острый, в некоторых местах перо, проводя длинную чернильную черту, царапает бумагу.
– Это писал ваш отец?
– Нет, это писал я. Если хотите проверить…
– Завтра, – сказала она, решительно захлопнув книгу.
– Почему?
– За окном так тихо! Мне не хотелось бы испортить эти мгновения сухими цифрами!
Ничего не ответив, Сергей убрал книгу. Софи стала прислушиваться к звукам дома. Где-то далеко тихонько звенит посуда, потрескивает мебель, которую точат насекомые, мерно тикают стенные часы. На нее начинало действовать очарование прошлого. Подняв глаза, она увидела сидящего за письменным столом молодого человека и решила, что он выглядит несовременно. Просто ошибся веком. Ему нечего здесь делать. Но почти сразу осознала, что на самом деле это она здесь не к месту. Разрозненные кусочки мозаики не желали складываться в единое целое. Софи сделала над собой усилие и заставила себя полностью вернуться в настоящее. Сережа молча улыбался. Злобное выражение с его лица исчезло. Очевидно, когда ему не противоречат, не затрагивают его суждений, он снова становится милым и любезным. Должно быть, он недостаточно уверен в себе, оттого и не терпит возражений. Его грубость и резкость – попросту мальчишеская самозащита. Однако ему не чужды и смелость, и прямота. Софи прислонилась головой к спинке кресла, закрыла глаза и постаралась ни о чем не думать. Где-то неподалеку, на ближнем дереве, ухала сова. Кто-то ходил по комнате, паркет скрипел у него под ногами. Это мог быть Николай, или мсье Лезюр, или Михаил Борисович… Да нет, она точно знала, что это Сережа. Она знала это, но не испытывала ни малейшего неудовольствия или раздражения. Теперь и он тоже вошел в ее жизнь, вошел со всеми своими недостатками. У нее снова появилась семья. Странное удовлетворение нарастало в ее душе.
– Уже поздно! – произнесла Софи. – Пойду-ка я к себе, спать пора…
Сережа хотел помочь тетушке встать с кресла, но Софи отстранила его руку и поднялась сама, живо и проворно, опасаясь показаться племяннику старухой.
2
После обеда, когда Сережа удалился в кабинет заниматься делами поместья, Софи ушла в свою комнату. Она больше не могла откладывать, надо было немедленно написать Фердинанду Вольфу. Начать было трудно, но потом внезапно припомнился тон их прежних разговоров и перо само побежало по бумаге. Софи рассказывала Фердинанду Богдановичу о том, как закончилось ее путешествие, о том, как она приехала в Каштановку, о своих первых впечатлениях… Доктор был здесь, перед ней, слушал ее с видом серьезным и печальным. Она расспрашивала о том, что нового у него. Правду сказать, ей пришлось следить за собой и сдерживаться, чтобы расспросы не показались ему чрезмерно нежными и заботливыми. Когда Софи перечитала письмо, оно показалось ей несколько суховатым. Ничего, так лучше!.. Затем она написала Полине Анненковой, Наталье Фонвизиной, Маше Францевой. Завтра кучер отвезет письма в Псков, на почту. И когда же придет ответ? В существующих обстоятельствах самым мудрым было ни на что не надеяться.
Софи вышла прогуляться по парку, заново познакомилась с обвитой зеленью беседкой, березовой рощицей, семьей столетних каштанов, затем, переполненная ностальгическими воспоминаниями, направилась к службам. Слуги, которых она там увидела, наверное, были новыми – почти все молодые, миловидные. Старых, должно быть, отослали по родным деревням. Софи пока не знала прислугу по именам, зато ее уже знали и разговаривали с ней почтительно. Сережа выбрал для тетки в горничные толстую белокурую улыбчивую крестьянку; звали ее Зоей, и была она женой кучера Давыда.
Погода стояла такая чудесная, что Софи захотелось немедленно навестить все окрестные деревни, и она приказала Давыду заложить коляску. Стоило оказаться в обстановке молодости, и у нее взялся откуда-то приказной тон… Инстинктивно она так заговорила, что ли? Боясь, что не поймут иного?.. Нет, теперь уже ей и самой кажется вполне естественным, что вокруг суетится бездельная и угодливая челядь… Странная метаморфоза… И так быстро!.. Софи села в коляску, а как только лошади шагом тронулись по аллее, оглянулась и увидела в окне кабинета Сережу, который смотрел ей вслед…
Последние деревья парка остались позади, теперь дорога шла по ровной местности с невысокими холмами. Справа и слева убегали назад поля пшеницы, ржи, овса, перемежаясь редкими рощицами. Затем показалось картофельное поле, и Софи вспомнила, что когда-то приходилось угрожать крестьянам розгами, чтобы заставить их сажать эту «чертову траву», привезенную из-за границы. Похоже, возделанных земель в целом стало больше, чем было во времена Михаила Борисовича. Должно быть, имению пошло на пользу управление обоих Седовых, отца и сына. Покачиваясь на рессорах, Софи не уставала любоваться поместьем, даже восхищаться им. Окружавшее ее богатство, видимая свобода этой прогулки, власть над двумя тысячами крепостных крестьян, которую она полноправно делила с племянником, так не вязались с наложенным на нее запретом правительства удаляться от Каштановки более чем на пятнадцать верст! Ей на память пришло замечание жандарма. «Вы – свободная узница», – так вроде бы сказал Добролюбов. Софи забавляла двусмысленность ее положения. Березы с мелкой листвой плясали у нее перед глазами, в низине поблескивала река; вскоре из-за высоких стеблей подсолнухов показались избы села Шатково. Несколько крестьянок, чесавших языки посреди улицы, завидев коляску, бросились врассыпную и поспешили укрыться в избах. В прежние времена, когда Софи появлялась в деревне, все было наоборот: крестьяне радостно собирались вокруг нее. Удивившись тому, что невольно обратила женщин в бегство, она спросила у кучера:
– Почему они убегают?
– Должно, испугались, барыня, – проворчал он.
– Испугались? Чего?
– Да кто их знает! Бабы у нас дуры, всего боятся!..
По всей улице, из конца в конец, двери закрывались так поспешно, словно в складках платья гостьи таилась смерть. Софи выбралась из коляски, подошла к ближайшему дому, решительно толкнула дверь и оказалась перед дрожащим от страха крестьянским семейством. Две старые женщины, одна совсем дряхлая, другая чуть помоложе, вокруг них – оборванная малышня, испуганно глядящая на незваную гостью ясными глазами. На печи дремлет столетний, не меньше, дед, до самых глаз заросший дремучей бородой. Темнота, грязь, тяжелый дух перенаселенного логова. В первое мгновение стояла такая тишина, что слышно было, как жужжат в упоении счастья мухи. Софи назвалась, сказала, откуда приехала, и обе старухи ударились в плач. Старик проснулся, сполз с печи, кряхтя, поклонился ей в ноги и поплелся звать соседей. Вскоре вокруг дома собралась толпа, и Софи пришлось выйти, чтобы показаться людям. Все молодые и здоровые мужчины и женщины работали в поле, но стариков и калек в деревне тоже хватало, и вот тут-то она то и дело узнавала знакомые лица, покрывшиеся за долгие десятилетия густой сеткой морщин. Эти поблекшие лица напоминали монеты, чью ценность угадываешь, несмотря на то что металл истерся. Имена, одно за другим, сами собой слетали с ее губ:
– Ах, господи, да это же Агафон!.. А это Марфа!.. А это Арсений!..
Каждый раз тот или та, кого она называла по имени, радостно отзывался, крестился, растроганно всхлипывал.
– Ой, Максимыч!
– Нет, барыня, я его сын! Мне было десять лет, когда вы уехали!
– А там кто такой стоит? Постой-постой, я ведь и тебя знаю!.. Никанор!.. Угадала?
– Он самый! Благослови вас Господь, барыня! Вы нисколько не изменились!
И целый хор приглушенно подхватил, восторженно заверяя:
– Нет-нет, нисколько не изменились!
– Все такая же красавица! И все такая же добрая!
Какая-то женщина в голос зарыдала:
– А Николай-то Михалыч наш бедный!
И снова хор подхватил, на этот раз жалобно, со слезой:
– Упокой, Господи, его душеньку! Будет земля рабу Божьему пухом! Уж такой Николай Михалыч был барин, каких нам больше не видать! И пострадал за нас там, в Сибири! И вы тоже, барыня, настрадались! Вы оба – святые!
Софи невероятно растрогалась, убедившись, что крестьяне ее не забыли. А ведь не так уж много удалось сделать для того, чтобы они были счастливы. Но эти люди были до такой степени лишены всякой ласки, что те крошечные благодеяния, которые она в свое время им расточала, в их воспоминаниях непомерно разрослись. Заметив устремленные на нее восторженные взгляды, Софи поняла, что за время ее отсутствия в народе родилась и укрепилась легенда, героиней которой была она, и ничего с этим уже не поделаешь. Чем человек беднее, чем более он обделен, тем больше и его потребность верить в ангелов. Смущенно улыбнувшись, она протянула обе руки, и окружающие стали осыпать их жаркими поцелуями.
– Сколько же людей умерло за это время! Скольких не стало! – вздохнула Софи.
– Да, холера многих у нас тут прибрала! – отозвалась Марфа. – А прежде всех – батюшку нашего Михаила Борисовича, царствие ему небесное! Он теперь там, на небесах, рядом с дочкой и сыном!
Глядя на людей, которые набожно крестились, благословляя ее покойного свекра, Софи думала о том, как быстро крестьяне простили барину его жестокое с ними обращение. Она набралась смелости и попыталась заговорить с ними об убийстве Владимира Карповича Седова, но тут же – словно наткнулась на стену, от умильного восхищения даже следа не осталось. Лица мгновенно замкнулись, утратили выражение. Кто отворачивался, кто опускал глаза, кто равнодушно глядел в сторону – можно было подумать, Софи принялась расспрашивать о человеке, которого они знать не знали, о котором ведать не ведали. Наконец, старик Максимыч, за эти годы высохший, ставший корявым и узловатым, словно моток веревок, собравшись с духом, решился нарушить молчание.
– Да уж, большая беда приключилась! – сказал он, сплюнув себе под ноги.
– Убийцы Владимира Карповича родом из вашей деревни?
– Наши, куда денешься, – снова ответил за всех Максимыч.
– А я их знаю?
– Куда там! Это все мужики молодые: Осип-рыжий, Федька, Макар…
– Но почему они это сделали?
– Один Бог ведает. Или черт!
– Тут среди вас есть родители кого-то из них? Или кто-нибудь из родных?
– Жена Осипа-рыжего сейчас в поле… А это вот мать с отцом Федьки и Макара, братья они, барыня…
Софи увидела крестьянку, которая пыталась спрятаться за спинами других, и высокого кривого и рябого мужика, стоявшего опустив голову. Приблизившись к нему, она вполголоса спросила:
– А раньше с твоими сыновьями случались какие-нибудь неприятности?
– Нет, барыня, Богом клянусь, сроду ничего такого не случалось!
– А что они говорили, когда их пришли забирать?
– Не знаю… Не надо говорить об этом, барыня, нехорошо об этом говорить… Вы уж простите нас…
Одна женщина со встревоженным лицом поспешила прочь, за ней, другая, третья… – и Софи поняла, что, если станет расспрашивать и дальше, говорить станет не с кем.
– Что-то не вижу Антипа, – произнесла она, чтобы сменить тему. – Он ведь здесь живет?
– Да, барыня, только он сейчас в лесу, за хворостом с утра еще пошел, – отозвался Агафон. – Митька, сбегай-ка за ним!
Мальчишка так припустился, что на бегу сам себя подстегивал босыми пятками. Софи, вспомнив прежний обычай, переходила из дома в дом, там ободряла больного старика, здесь любовалась младенцем в подвешенной к потолку люльке и, наконец, отправилась знакомиться с отцом Илларионом, заменившим отца Иосифа.
Новый поп оказался молодым, печальным, тощим, с черной остроконечной, словно ее макнули в смолу, бородкой; зато попадье здоровья отпущено было на двоих: работа у нее в руках, должно быть, так и кипела – все вокруг нее сияло чистотой, мебель лоснилась от воска, желтые канарейки во все горло распевали в начищенной клетке, а в изобилии разложенные повсюду вязаные салфеточки служили бесспорным свидетельством того, что хозяйка дома ни минуты без дела не сидит. Отец Илларион принял Софи со сдержанной и вкрадчивой любезностью: он явно не доверял этой француженке, которая мало того что была предана папе римскому, так еще и только что вернулась с сибирской каторги. Когда гостья, немного поговорив о делах прихода, упомянула о насильственной смерти Владимира Карповича Седова, священник тотчас же обменялся с женой испуганными взглядами. И опять Софи не удалось ни слова вытянуть ни о том, как именно разыгралась трагедия, ни о том, какими мотивами могли руководствоваться убийцы.
– Только бы Господь не отвернулся от нашей убогой деревушки после такой мерзости, больше я ни о чем и не прошу! – вздохнул отец Илларион.
И поспешил проводить Софи до дверей, чуть ли не подталкивая гостью в спину, чтобы ушла поскорее. Когда она оказалась на улице, из-за угла церкви как раз показался Антип, семенивший рядом с мальчишкой, которого за ним посылали. Усохший, сгорбленный Антип, чьи некогда огненно-рыжие волосы и борода сделались теперь грязно-белыми. Стоило старику увидеть барыню, все его лицо пошло морщинами: рот смеялся, а глаза плакали. Антип упал перед ней на колени и поцеловал край подола, а Софи подняла его и попросила, чтобы отвел к себе домой: ей, дескать, надо поговорить с ним с глазу на глаз.
Антип жил на самом краю деревни, в самой маленькой и самой грязной избе. Для того чтобы Софи могла сесть, ему пришлось рукавом вытереть лавку. Затем старик принялся выгонять во двор курицу, клевавшую крошки под столом. Он был так взволнован и растроган, что слова не в силах был произнести и, стоя перед хозяйкой, только шевелил губами и еле слышно всхлипывал.
– Ну вот, Антип, голубчик, – сказала Софи, – видишь, как славно получилось, видишь, мы с тобой все-таки встретились! Вот уж не думала, правду сказать, что когда-нибудь снова тебя увижу!
– Да и я тоже не думал, барыня! – жалобно откликнулся он. – Вы, барыня, не серчайте, за эти годы постарели, а я-то как состарился! Но не годы нас тяготят, а горе! Даже и взглянуть на вас не могу без того, чтобы не вспомнить барина нашего дорогого, Николая Михайловича, солнышко наше ясное! Что у пса остается, когда его хозяин под землю ушел? Для пса-то ведь не может быть другого хозяина! Один у него, на весь век один! Пес ложится у могилы и ждет, когда закончатся его дни!
Слезы потекли по грязным щекам старика, оставляя на них светлые дорожки.
– Как узнали мы, что Николая Михайловича Господь к себе забрал, вся деревня два дня пила беспробудно! – с гордостью, хотя и срывающимся от слез голосом, продолжил он.
– А как Владимир Карпович, господин Седов, сообщил вам эту весть? – спросила Софи.
Антип на минуту перестал плакать, и его маленькие глазки сквозь пелену слез сверкнули ненавистью.
– Неужто вы думаете, барыня-матушка, что он потревожил бы себя ради того, чтобы нам чего сообщить?! Господь с вами! Мы от слуг обо всем узнали. Ну, и передавали друг другу потихоньку, на ушко. Так-то оно вернее…
Внезапно Антип с силой хватил себя кулаком по лбу и с горячностью воскликнул:
– Дурак! Паскудник распоследний! Ты ж поклялся всю жизнь оберегать молодого барина, ты и на бивуаках ему нянькою служил, ты ж и на поле брани с ним рядом был, ты ж за ним даже в эту развратную (уж вы простите, барыня!) Францию отправился, а теперь он лежит где-то там, на краю света, над ним крест поставили, а ты греешь на солнышке свои поганые рабские кости! И где тут справедливость? Ах ты, пугало огородное! Однако, если бы вы, барыня, позволили мне тогда поехать с вами в Сибирь, все вышло бы по-другому!
– Но… но ведь это же ты сам, Антип, не захотел со мной поехать! – с улыбкой возразила Софи. – Ну, вспомни! Ты же умолял Михаила Борисовича не отправлять тебя к каторжникам!
Весь жар Антипа мгновенно куда-то пропал, и старик озадаченно поскреб в затылке.
– Ужели правда? – проворчал он. – Вот странность-то! А у меня в башке все по-другому сложилось! Забывать, забывать стал!.. Стар я уже, барыня, голубушка… А все ж вы, барыня, должны были силой меня туда повезти!.. Взять да и принудить, чтоб ехал с вами! Я б куда больше пригодился, чем этот бедолага, чем Никита, царствие ему небесное!
– Так ты и про него знаешь?
– А как же, барыня! Он ведь был шатковский, как помер, имя-то его надо было вычеркнуть из приходских книг. Пусть письма барин читает, мужик, он все одно про беду узнает куда раньше него!
– А что, как там родители Никиты?
Антип махнул рукой, как будто муху отгонял, и коротко объяснил:
– Холера.
– Оба?
– Ну да… И отец его, и мачеха… Они, знамо дело, в годах уже были, не так молоды…
Старик вздохнул, как вздыхают простые люди всякий раз, когда поминают умерших. Что бы там Антип на себя ни наговаривал, подумала Софи, на самом деле он никогда еще не мыслил так трезво.
– Ты что, больше не работаешь в Каштановке? – спросила она.
– Нет, – ответил он, хитро поглядев на хозяйку. – Голова, вишь, у меня не в порядке. Совсем умом тронулся. Служить не могу, кругом ни на что не гожусь. Меня и отослали сюда, в деревню. А мне здесь хорошо, барыня, голубушка, уж так хорошо!
– А другие?
– Кто – другие?
– Другие мужики… Они-то жизнью теперь довольны?
– А вы, барыня, когда видали, чтобы мужик был чем доволен?
– Я заметила, что землю лучше обрабатывают, чем раньше.
– Так-то оно так, вот только кому от этого выгода?
Со стороны поля донеслась песня. Голоса приближались, и Софи удивилась: хор звучал так бойко и слаженно, будто поет войско на марше.
– Наши возвращаются, – сказал Антип.
Софи поднялась, открыла дверь, выглянула на улицу и увидела на дороге крестьян, которые и впрямь маршировали строем, точно солдаты, разве что с лопатами, граблями и топорами на плече вместо ружей. Позади шли женщины в платочках, толкали тачки. Лица у всех были измученные, осунувшиеся от усталости, блестящие от пота, запавшие глаза смотрели бессмысленно. Странную группу окружало четверо мужчин, вооруженных дубинками.
– А это еще кто такие? – удивилась Софи.
– Их называют «погонщиками». Барин сам их где-то набирает, они не из нашей деревни. Он им платит за то, что стерегут нас. Когда над душой такой зверь стоит, можно не бояться, что кто-нибудь отлынивать станет!..
– Антип, да что ты несешь? В прежние времена никогда…
– Да уж, барыня! Так раньше-то были времена хорошие. Старый барин покричит, кнутом пригрозит, пару оплеух отвесит, да и все, гроза прошла, и ничего, никому хуже не сделалось. А теперь-то, при новых господах, никто не гневается. Все тишком, тишком. Погонщиков к нам приставили, чтобы следить за порядком. Работай – или тебе намнут бока! Вот тебе и без грозы полный порядок!
Софи слушала Антипа недоверчиво: он смолоду слыл изрядным вруном.
– Стало быть, Владимира Карповича убили за то, что он жестоко обращался с крестьянами? – прямо спросила она.
– Может, и так, а может, и не так! Мы, барыня-матушка, на земле-то живем не чтоб судить, а чтоб терпеть! В Писании как сказано?
Мокрый красный рот, затерявшийся в седой бороде, искривился в ухмылке. В прищуренных глазах заплясали веселые искорки. Антип тряхнул головой, словно на нем был шутовской колпак с бубенчиками.
– Ай-я-яй, голова ты моя, головушка!
Софи простилась со стариком, пообещав вскоре прийти снова, затем немного поговорила на улице с работниками, вернувшимися с поля, и уселась в коляску. «Погонщики» – их было с полдюжины – сидели на откосе у окраины деревни, лузгали семечки и болтали между собой. Завидев барыню, поклонились ей. Были бы они палачи, подумала она, не стали бы так почтительно со мной обращаться…
Сережа ждал ее с ужином, без тетки за стол не садился и счел необходимым переодеться к вечерней трапезе. Теперь на нем был черный сюртук и темно-лиловый жилет с аметистовыми пуговицами. Траурный галстук, три раза обвивавший шею, подпирал подбородок. Лицо гладкое, спокойное, свежее и румяное.
– Хорошо ли покатались, тетушка? – осведомился он, усаживаясь в столовой напротив нее. Окна в сад были распахнуты настежь, легкий ветерок колыхал занавески.
– Великолепно! – отозвалась Софи.
Слуги неслышно скользили у нее за спиной. Софи положила на тарелку немного заливного из рыбы. Ужин заказывала не она. На будущее надо бы выговорить себе исключительное право составлять меню. Сколько бы она ни повторяла в душе, сколько бы ни втолковывала упрямому сердцу, что она у себя дома, всякий раз под взглядом племянника начинала чувствовать себя гостьей, да еще и непрошеной. Они ели молча, каждый был погружен в собственные размышления, и лишь спустя какое-то время, воспользовавшись переменой блюд, Сережа спросил по-французски:
– Как вам, тетушка, понравилось поместье?
– Пока еще не успела составить мнение о нем, однако мне кажется, что землю возделывают грамотно.
– За пять лет мы удвоили урожаи пшеницы, овса и гречихи, – с гордостью произнес молодой помещик, – а картофеля стали выращивать в три раза больше! Наши огурцы, наша свекла, наш горох лучшие во всей округе! А наши фрукты…
Софи мягко прервала его:
– А наши мужики?
– Размножаются, словно кролики! Во времена моего деда у нас было две тысячи душ! А сегодня их уже две тысячи семьсот пятьдесят! Неплохая прибыль, согласны?
– Должно быть… Но мне показалось, что они выглядят утомленными и озабоченными… Кстати, что это за «погонщики», которых я видела в Шаткове? Они напоминают сибирских тюремных охранников!
– Тетушка, ей-богу, вы оказываете им слишком большую честь! Это всего лишь надсмотрщики.
– Но они вооружены дубинками!
– Простая мера устрашения. Иначе тут нельзя. Мужик по природе своей ленив. Если ему не пригрозить хорошенько, он выдумает тысячу отговорок, чтобы отлынивать от работы.
– Эту меру устрашения придумал ваш отец?
– Нет, я сам до нее додумался. Но отец с воодушевлением меня поддержал. Полагаю, мужики вам нажаловались?
– Нет-нет, ничего подобного, – поспешила возразить она.
– Ну, так рано или поздно пожалуются. Только вы их не слушайте. Я подозреваю, что у вас чрезмерно нежная и чувствительная душа, а такая душа в хозяйстве, знаете ли, не помощница. Сентиментальничать не годится, если речь идет об управлении большим имением! И тут лучше всего иметь черствое сердце и справедливый ум.
– Вы считаете себя обладателем именно таких?
– Уверен, что они – среди главных моих достоинств, – с внезапной серьезностью проговорил Сережа.
Они замолчали.
Один из слуг подал фруктовый компот, другой зажег свечи в двух канделябрах. Ночь выдалась жаркая, влажная, природа словно оцепенела. Софи показалось, будто одежда на ней слишком тяжелая, давит на плечи…
– Нам надо устроить нашу жизнь, – снова заговорил Сережа. – Не думаю, чтобы вам очень хотелось заниматься делами имения…
– Делами имения – нисколько, положением крепостных – да, – ответила она.
Племянник нахмурился.
– Уверяю вас, наши крепостные ни в чем не знают нужды!
– Может быть, немного милосердия им…
– Ваше милосердие они примут за проявление слабости, – не дал договорить племянник. – Нет-нет, тетушка, оставьте ваши человеколюбивые помыслы! На мой взгляд, куда лучше будет, если вы станете смотреть за домом. Вы – женщина, вам куда больше пристало входить в домашние дела, чем в сельскохозяйственные вопросы…
Софи решила, что не стоит с самого начала перечить.
– Торопиться некуда, – примирительно сказала она. – Позже разберемся, кто какие обязанности на себя возьмет.
– Как вам будет угодно, тетушка.
Софи отвела с виска упавшую прядь. Сережа тут же щелкнул пальцами, и служанка, неслышно вынырнув из темноты, принялась обмахивать ей лицо веером, надушенным жасмином. Софи не нравился этот приторный запах, ее тут же стало подташнивать, и она откровенно поморщилась.
– Не любите жасмина? – удивился по-французски Сережа.
– Признаюсь, нет…
Повернувшись к служанке, он грубо, перейдя на русский, крикнул:
– Эй, не поняла, что ли? Хватит, дура!
Девушка поспешила скрыться.
«Прежде всего, он очень плохо воспитан», – подумала тетушка.
3
Софи казалось, что ей никогда не надоест заново открывать для себя очарование Каштановки. Дни пробегали так быстро, что каждый вечер она удивлялась: как же так – почти ничего не сделала, а чувствует себя умиротворенной и счастливой. Она управляла слугами, распоряжалась запасами провизии в кладовых и домашним бельем, проверяла счета старой Зинаиды, сменившей Василису в должности экономки, но большая часть времени уходила у нее на то, чтобы гулять в полях и навещать окрестные деревни.
Лето перевалило за середину, дни стояли солнечные, знойные, везде пахло растрескавшейся, сухой землей, в воздухе стоял гул от мошкары. Старики говорили, что никогда еще пшеница и гречиха не созревали так дружно. Мягкая шуба овса при малейшем дуновении ветерка шла долгими переливами. На обширных лугах у реки трава поднялась высоко, и крестьяне начали ее косить. Софи нередко останавливала свою коляску у обочины, чтобы посмотреть, как они работают. Косари шли полукругом, и при каждом взмахе сверкающего лезвия перед крестьянином ложилась зеленая волна. Под конец пейзаж стал неузнаваемым, свежескошенные луга словно помолодели и сами себе удивлялись. К счастью, в следующие несколько дней прошел всего один короткий грибной дождик, не помешавший ворошить и сгребать сено. Женщины в пестрых платках помогали мужчинам складывать его в стога. Возы начали двигаться взад-вперед между полями и ригами. Затем настал черед жатвы. Тут уж в поле выходили всей деревней. Ряды снопов золотой пшеницы растянулись до самого горизонта. Сережа лично наблюдал за ходом работ. Погонщики, и всегда-то суровые, теперь вовсе смотрели жандармами. Урожай оказался настолько хорош, что хозяин пообещал после Успения раздавать водку. В день праздника он попросил Софи поехать с ним в шатковскую церковь. Она согласилась и отстояла службу в первом ряду женщин, чувствуя себя так, словно, подобно щиту, прикрывает собой тысячу жизней безвестных православных тружеников. Когда после литургии она и ее племянник вышли на паперть, перед ними склонились все головы. Софи стесняла чрезмерная почтительность крепостных, но она сознавала, что не в ее силах изменить нравы и обычаи людей, которых веками приучали к рабской угодливости.
Сережа помог тетушке сесть в коляску, сам устроился рядом и негромко произнес:
– Кстати, говорил ли я вам, что завтра мне надо отлучиться? Я еду в Псков – мне предстоит выступить свидетелем на процессе убийц моего отца.
Софи вздрогнула. Те три мужика так давно томились за решеткой, что она в конце концов бессознательно внушила себе, что дело уже решено.
– Разве их только завтра судят? – растерянно переспросила она.
– Ну да! Долгонько пришлось ждать! Надеюсь, приговор будет предельно суровым! Как жаль, что в нашей стране за уголовные преступления не карают смертной казнью!
– Заседание состоится при закрытых дверях, не так ли?
– Разумеется! Мы же не во Франции, где судебные процессы превращены в публичные представления!
– Печально! – вздохнула Софи. – Мне хотелось бы присутствовать в суде.
Коляска тронулась под звон бубенцов.
* * *
Три мужика, обвиненные в убийстве своего помещика, были приговорены к бессрочным каторжным работам. Сережа в тот же вечер торжественно и даже с оттенком грусти объявил за ужином Софи о том, какой приговор вынесен убийцам. Она подумала было, что христианское милосердие наконец-то возобладало у него над жаждой мести, однако он тут же продолжил, сосредоточенно разделывая на тарелке куриную грудку:
– Вчера вечером я говорил, что рассчитываю на примерное наказание; ну что ж, значит, я ошибся в своих расчетах… Видите ли, потерять сразу трех крепостных – это чересчур тяжело для хозяйства! Если бы еще речь шла о стариках… Но таким мужикам – молодым, крепким – нам никогда не найти замену! А работники они какие! Вот просто как на грех! Осип-рыжий одним топором мог любую мебель вытесать – раз-два, и готово! А Федька не имел равных в постройке тарантасов!.. Да что теперь говорить!.. Эх, знал бы я раньше!..
– И что тогда? – поинтересовалась Софи. – Вы бы их не выдали?
Сережа пожал плечами.
– Да нет, конечно, выдал бы!.. Как без этого, наказание необходимо!.. Хотя бы для примера… И потом… в конце концов… ради торжества правосудия!.. Но все же, когда их увели, объявив приговор, я почувствовал, будто у меня что-то вырвали из утробы!
– Странным образом проявляется ваше милосердие! – заметила Софи.
– Такой уж я человек, тетушка! У меня очень сильно развит инстинкт собственника. Я, видите ли, прекрасно понимаю, какое удовольствие вы испытываете, когда катаетесь в коляске по нашему поместью. У меня тоже, когда скачу верхом по дорогам, когда смотрю на поля, деревни, деревья, реку, крепостных и говорю себе, что все это принадлежит мне, – то есть принадлежит нам, – у меня тоже душа поет. И я чувствую себя вторым после Господа Бога. А разве есть для человека наслаждение выше того, которое он извлекает из сознания своего всемогущества? Разве можно найти что-то приятнее сознания, что можешь делать все по своей воле?
Холодная насмешливость, обычно свойственная Сереже, растаяла в огне страсти, которую он не хотел и не умел сдерживать. Слуги внесла абрикосовый пирог – одно из любимых его лакомств, Софи накануне нарочно этот десерт заказала, – но Сережа пирога даже не заметил, настолько был возбужден собственным неистовым красноречием.
– Взять в руку ком земли, размять ее и думать о том, что земля эта – продолжение тебя самого! Приказать крепостным сделать то или это, и они исполнят приказ так же послушно, как твои собственные ноги повинуются тебе, когда ты велишь им идти! Вот оно – истинное счастье! Город, светская жизнь, поверхностная дружба – поверьте, все это и тому подобное меня нисколько не привлекает…
Молодой помещик еще долго разглагольствовал в том же духе, сидя над полной тарелкой и не притрагиваясь к десерту. Затем в два приема умял солидный кусок пирога, вскочил из-за стола и следом за Софи направился в кабинет. Там она, устроившись поближе к лампе, достала из рабочей шкатулки вышиванье и принялась за работу. Рисунок представлял собой корзину, полную цветов, в стиле Редуте.[24] Софи лениво протягивала сквозь канву разноцветные шерстяные нити: если она станет и дальше работать так же неспешно, вышивка будет готова года через два, никак не раньше.
– Сережа, а вы никогда не подумывали о том, чтобы жениться? – спросила она.
Племянник звонко расхохотался.
– Никогда в жизни! Вы уж простите, тетушка, но я считаю глупостью надевать себе ярмо на шею, когда можно вкушать все те же наслаждения, оставаясь совершенно свободным!
Софи уже успела заметить, что раз или два в неделю племянник принаряжался, уезжал в город и проводил там весь вечер. Скорее всего, у него была там любовница. А может быть, дело обстояло проще: Сережа переходил от одной девки к другой, проституток-то в Пскове насчитывалось более чем достаточно.
– Но друзья у вас, конечно, есть? – спросила она.
– Господь с вами! Конечно, ни одного!
– Неужели? Однако в вашем возрасте…
– В моем возрасте, как и в любом другом, надо жить для себя и щипать травку вокруг своего колышка. Что поделаешь! Я люблю свой лужок! Я страстно его люблю!
Лицо Сережи разрумянилось, разгорелось от предвкушаемого удовольствия. Немного отдышавшись, он продолжил вдохновенные речи:
– Здесь всегда есть чем заняться, не надо даже за пределы поместья выезжать!.. У меня множество самых необычайных планов!.. Погодите, тетушка, дайте срок, я тут такого понаделаю!.. Вся губерния ахнет! Прежде всего, я велю покрасить все избы в белый цвет… А внутри, в рамочке на стенке, вывесят перечень долженствующей иметься там в наличии хозяйственной утвари, его надо будет проверять… Всех крестьян я одену одинаково… во что-нибудь такое чистенькое, приятное для глаз и удобное… Время для всех, в соответствии с нуждами поместья, будет распределено тоже одинаково, а уж надсмотрщики смогут проследить за тем, чтобы расписание соблюдалось, со всей строгостью… Всех девиц и всех вдов обяжу непременно выйти замуж… Те, кто в предписанный срок не обзаведется детьми, заплатят штраф… А детей с восьмилетнего возраста станем забирать из семьи, их воспитанием займутся особые наставники, с тем чтобы сделать из них безупречных работников…
На этом месте тетушка прервала его мечтания:
– То, что вы мне сейчас описываете, сильно напоминает придуманные в свое время Аракчеевым военные поселения. Но известно ли вам, Сережа, чем все это закончилось?
– Крестьяне в военных поселениях взбунтовались, потому что устав был им навязан бестолковыми чиновниками, непосредственно не заинтересованными в результате. Я же для своих крепостных все равно что отец родной! И они это знают! Я никогда не дам им умереть с голоду, однако розги прикажу замачивать в соленой воде, чтобы от порки спина подольше горела!
Софи с трудом удерживалась от смеха, одновременно ужасаясь столь безмерному простодушию племянника. Ей казалось, будто перед ней ребенок, у которого голова полна нелепых мечтаний, который строит дом из песка, думая, что строит крепость… Однако этот ребенок обладал властью, позволявшей едва ли не любые мечты осуществить! Две тысячи семьсот пятьдесят душ сегодня вынуждены подчиняться его произволу, зависят от его прихоти, завтра их станет еще больше!..
– Я не посоветовала бы вам делать подобные попытки.
– Почему, тетушка? – искренне удивился Сережа.
– Потому что я, со своей стороны, изо всех сил постараюсь воспрепятствовать осуществлению подобных мечтаний!
– Но ведь это все для их же блага, для блага наших крестьян!
– Да поймите же вы: такое благо хуже всякого зла!
Сережа насупился, на его лице появилось выражение досады – опять-таки, как у мальчишки, которого потревожили во время игры. Должно быть, он подумал, будто тетушка нарочно не хочет его понимать. Софи снова взялась за вышиванье и негромко произнесла:
– Мне хочется, чтобы вы осознали, Сережа: рано или поздно царю все равно придется освободить крепостных. Об этом уже говорят. И, кажется, даже созданы уже комитеты, которым поручено подготовить реформу.
– Уверяю вас, никогда, – воскликнул племянник, – никогда наш император не совершит такого безрассудного поступка! Подобная реформа обернулась бы гибелью для страны, полным ее разорением! Обрушилось бы все строение российского общества, наступило бы время хаоса, несправедливости, да-да, вот именно: несправедливости!
Сережа задохнулся и умолк, уши у него пылали. Затем лицо его мало-помалу снова сделалось спокойным. Он раскурил трубку, пару раз затянулся ароматным дымком, глубоко вздохнул, отвернулся к окну и стал глядеть в темноту.
– Когда их отправляют на каторгу? – спросила Софи.
– Кажется, завтра…
Замерев с иглой в руке, она думала о людях, которых вот-вот закуют в цепи и отправят в Сибирь. Да, они убийцы, и все же она не могла не жалеть крепостных, которым вскоре придется проделать все тот же крестный путь… Ах, эти измученные серые лица, этот кандальный звон, этот запах грязной, заношенной, пропитанной потом и пылью одежды… Ей довелось перевидать на дорогах, на почтовых станциях, в пересыльных тюрьмах столько каторжников! Образы их у нее в голове теперь сливались и перемешивались, и все становились похожи друг на друга – подобно морским волнам…
4
В конце лета начались проливные дожди. Но весь урожай, даже картошку, успели убрать с полей вовремя. В течение нескольких дней Каштановка напоминала плывущий по водам потопа ковчег. Дороги были размыты, деревянный мост снесло. Сережа злился, выходил из себя, потому что не мог поехать в город и договориться о продаже своего зерна. Однако в начале октября вновь показалось солнце, воцарилась наконец теплая, хотя и пасмурная осень, и, как только дороги, подсохнув, вновь сделались проезжими, он немедленно отправился в Псков. Вернулся тем же вечером, забрызганный грязью до самой макушки, но гордый и довольный: удалось заключить выгодную сделку. Сережа привез с собой несколько писем, которые залежались на почте из-за непогоды, одно из них оказалось для Софи. Племянник с подчеркнуто насмешливой улыбкой протянул ей проштемпелеванный в Тобольске конверт, и она, узнав почерк Полины Анненковой, едва не расплакалась от волнения.
Софи впервые получила весточку из Сибири. Поднявшись в свою комнату, она торопливо распечатала письмо и с нетерпеливой жадностью развернула листки, исписанные мелким почерком. По словам Полины, ни она сама, ни доктор Вольф, да и никто из их общих друзей до сих пор не получил от Софи ни словечка. Они же, со своей стороны, несколько раз ей писали и очень тревожатся оттого, что она все еще им не ответила. Софи огорчилась и возмутилась: русская почта была возмутительным учреждением, и руководили этой почтой шпионы! Вывод-то проще некуда! Нечего, дескать, тебе рассчитывать на письма из Сибири, если сама только что оттуда вернулась!
«Может быть, с этим посланием мне повезет больше, чем с предыдущими, – писала Полина. – Нам всем так хотелось бы знать, что с вами стало! Бога ради, не забывайте нас! А здесь жизнь не меняется. Все здоровы. Дети растут, доктор Вольф открыл свою лечебницу и теперь едва справляется, потому что число пациентов прибывает с каждым днем. Мы с ним часто говорим о вас. Самой большой радостью для него было бы получить несколько строк, написанных вашей рукой…»
Софи почувствовала, как прихлынувшая волна нежности подхватила ее, затопила, лишила сил, сердце ее таяло, а в голове умещались только самые простые мысли: «У него все получилось… он очень занят… вот и хорошо!» Опомнившись, она решила, не откладывая, написать Фердинанду Богдановичу. Но, стоило ей вспомнить о том, что письмо, скорее всего, не дойдет до адресата, порыв угас. Правда, она все же сочинила письмо, но, когда запечатывала конверт, ей казалось, что так и не удалось ни рассказать черным по белому о своей жизни, ни, тем более, передать владеющие ею чувства.
За ужином Сережа небрежно поинтересовался, все ли благополучно у друзей тетушки, оставшихся «по ту сторону Уральских гор». Софи и не подумала выговаривать ему за дерзость тона: не идти же ей на поводу у племянника, который явно напрашивался на небольшую размолвку, чтобы вечер тянулся не так скучно. Теперь, узнав Сережу получше, Софи, хотя и считала его себялюбивым, самовлюбленным, тщеславным и вспыльчивым мальчишкой, понимала, тем не менее, что с ним можно ладить при одном условии: если никогда не будешь обсуждать проблемы счастья народа и идеальной формы правления. Стоило их затронуть, реакция была такой, что казалось, будто некоторые слова из политического лексикона вызывают у юноши просто-таки сотрясение мозга и сразу же, как следствие, – резкое уменьшение его объема! Он внезапно делался упрямым, замкнутым, тупым и злобным, лицо принимало жестокое выражение. Потому и на этот раз, по сложившемуся уже обыкновению, Софи предпочла увести разговор в сторону и принялась расспрашивать племянника о том, как он вел переговоры с покупателями в Пскове. А пока он с нескрываемым удовольствием рассказывал о своих подвигах, вернулась мыслями к своей истинной семье – семье, состоящей из людей, которые ее понимают, которые ее любят, которым довелось пережить то же самое, что довелось пережить ей, вытерпеть те же испытания, из людей, которых ей, скорее всего, больше никогда не суждено было увидеть…
Теперь она каждый день ждала, что придут новые письма. Когда кучер ездил в Псков и возвращался с почтой, Софи выбегала из дома ему навстречу, чтобы поскорее узнать, нет ли в его сумке чего-нибудь для нее. Тот приобрел уже привычку, едва завидев хозяйку, издали отрицательно качать головой. Предпочитал предупредить вопрос, а не огорчать ответом. Одно разочарование сменялось другим, но тем не менее Софи упрямо продолжала надеяться и выскакивать на крыльцо. Затем, когда ждать было больше нечего, она выходила в каштановский парк и бродила, праздная и печальная, по аллеям, засыпанным опавшими листьями. Со всех сторон ее окружали полуоблетевшие, обобранные ветром деревья, высоко вздымавшие могучие ветви, на которых еще кое-где трепетали багрянец и пурпур. Среди этого осеннего полыхания листвы темные конусы елей выглядели исполинскими гасильниками для свечей…
Во время одной из таких прогулок Софи нечаянно забрела на полянку, куда в прежние времена приходила не раз. Это было маленькое кладбище, где покоились хозяева Каштановки. За оградой виднелись простые деревянные кресты с крышей домиком: здесь лежали предки Михаила Борисовича, его родственники, дядюшки и тетушки, сам Михаил Борисович рядом с женой и дочерью и, наконец, упокоившийся позже всех других Владимир Карпович Седов. Вот уж кому нечего было делать в этом собрании! И Софи снова, в который уже раз, горько пожалела о том, что власти не позволили ей перевезти в родное поместье останки Николая. Ей так хотелось бы приходить сюда, чтобы, раз уж никак иначе нельзя теперь, хотя бы сквозь слой земли поговорить с мужем наедине. С каждым годом все труднее было представлять себе его живым. Когда Софи думала о Николае, прежде всего ей вспоминалось большое светлое озеро, рядом с которым он покоился под неумолчный шум набегающих на берег волн. А иногда муж представлялся ей словно черно-белая картинка в книге. И всегда – неподвижный, нереальный, лишенный объема и тепла.
Крестьянка с шорохом сметала опавшие листья вокруг могил. Софи, понурившись, направилась обратно к дому.
В тот же вечер, по странному совпадению, Сережа сказал ей, что пятнадцатого ноября в шатковской церкви отслужат панихиду по отцу – прошло полгода со дня его смерти. Несмотря на то что Софи не питала к Владимиру Карповичу никаких даже отдаленно нежных чувств, она не могла отказаться присутствовать на панихиде. Тем более что в этот день священник должен был отслужить и панихиду за упокой души всех усопших членов семьи.
На рассвете пятнадцатого ноября поднялся сильный ветер, он гнал низко над землей тяжелые черные тучи. Когда Сережа и Софи уже ехали в коляске в церковь, полил дождь. Однако, несмотря на плохую погоду, все крестьяне не только из Шаткова, но и из соседних деревень собрались в храме. Надсмотрщики попросту согнали их туда, словно скот. Стоя в тесноте, мужчины – по одну сторону, женщины – по другую, они сбились в плотную толпу, которая тем не менее, перешептываясь, расступилась, чтобы господа могли встать поближе к иконостасу. Отец Илларион был в черном облачении, выражение лица трагическое. Маленький рыжий дьякон держал кадильницу, из которой шел голубоватый дым, веяло душным благоуханием, из высоко пробитых окон падал иссиня-бледный грозовой свет. Едва началась заупокойная служба, издалека донеслись первые раскаты грома. А когда священник затянул покаянную молитву «Господи, Владыко живота моего», по толпе прихожан прошла волна и они упали на колени, раздавленные сознанием своей греховности.
«Ей Господи-Царю, дарует мне зрети прегрешения моя…» – глухим, покаянным голосом продолжал священник.
И тут небо с грохотом раскололось. В свете молнии мгновенной вспышкой полыхнуло золото на окладах икон. Отец Илларион поднял испуганный взгляд к куполу. От второго раската грома, еще более близкого и еще более яростного, задрожали стекла. Софи украдкой посмотрела на Сережу. Стоя на коленях, склонив голову, он невозмутимо продолжал молиться. Тогда она оглянулась назад и увидела, что народ уже не молится. На всех лицах был написан священный ужас. Мужики, их жены и дети словно приросли к полу и, казалось, ждали конца света. Вся вторая половина службы шла под грохот, подобный обвалу. Когда священник заговорил о покойном и произнес имя «убиенного раба Божия Владимира», в ответ раздался стон, вырвавшийся одновременно у всех. Сережа перекрестился. Сбившиеся плотнее друг к другу люди следом за хозяином тоже осенили себя крестным знамением, затем распростерлись на полу, ударяясь об него лбами. Наконец, гром стал удаляться, стихать, и небо спрятало в ножны свой огненный меч.
Выйдя из церкви, Софи увидела деревню, словно отлакированную ливнем. Дождь уже не шел. Воздух был чист и безмолвен. В лужах отражались мирные облака. Уже собираясь сесть в коляску рядом с Сережей, Софи в последнюю минуту спохватилась и сказала ему:
– Пожалуй, я с вами не поеду. Мне надо навестить здесь семьи нескольких мужиков. Не могли бы вы прислать за мной коляску часа через два?
Застигнутый врасплох столь внезапным решением, молодой человек только и смог пробормотать:
– Разумеется, тетушка.
Но глаза его недобро сверкнули. Он подскочил на сиденье так, что скрипнули рессоры, хватил кучера кулаком по спине и заорал:
– Ну, пошел же! Пошел! Болван несчастный!
Коляска так рванула с места, что Софи пришлось поспешно отступить, иначе ее обдало бы жидкой грязью с ног до головы. Мужики, стоявшие вокруг нее, уже начали расходиться, словно испугавшись, как бы она с ними не заговорила. Казалось, ужас, охвативший прихожан в церкви, все еще их не отпускал. Даже священник удалился, не сказав ей ни слова, даже староста молча ушел. Не прошло и нескольких минут, как Софи оказалась стоящей в полном одиночестве посреди деревни. Донельзя удивленная, она попыталась поговорить с крестьянами у них дома, однако в какую бы избу она ни заходила, везде натыкалась на недоверчивые и подозрительные взгляды. Конечно, Софи знала, до какой степени суеверны эти люди, но никак не могла предположить, что самая обычная гроза произведет на них такое сильное впечатление. Нет, здесь явно есть что-то еще, о чем они не хотят с ней говорить! Оставалась последняя надежда что-нибудь узнать – и Софи отправилась к Антипу.
– Ах, это вы, барыня, голубушка! – воскликнул тот, радостно всплеснув руками при виде хозяйки. – А что это вы вдруг пришли?
– Пришла в надежде, что ты, Антип, сможешь мне хоть что-то объяснить. Что тут, собственно, происходит? У всей деревни такой перепуганный вид!
– И есть отчего, барыня! Вы же слышали гром, когда мы были в церкви! Знаете, отчего такая гроза случилась? Оттого, что этот человек превзошел всякую меру! Он совершил святотатство!
Антип то и дело крестился и затравленно озирался кругом.
– Что за человек? Какое святотатство? – не поняла Софи.
– Сергей Владимирович, барыня. Молодой барин не имел права заказывать эту панихиду!
– Почему «не имел права»? Разве не положено так делать? Разве нет такого обычая?..
– Для того чтобы соблюдать обычай, надо иметь чистую совесть! Отслужили панихиду на девятый день после кончины Владимира Карповича, и все прошло хорошо. На сороковой день опять служили панихиду, и тоже все прошло хорошо. А сегодня Господь наконец ответил. Когда недостойный сын осмелился молиться об упокоении души отца, небо вознегодовало, и все православные это поняли. Но что меня удивляет, так это то, что он не упал пораженным громом прямо посреди церкви!
– За что ты так ненавидишь Сережу? – тихо спросила Софи.
– За то, что из-за него на каторгу сослали невинных людей!
– А разве не эти три мужика убили Владимира Карповича?
– Нет, барыня! Он лежал мертвый, задушенный, в купальне, когда мужики утром пришли туда работать! Ну, они и поспешили рассказать об этом молодому барину! А молодой барин им ответил: «Вы и есть душегубцы!»
Ошеломленная услышанным, Софи несколько секунд молчала, собираясь с мыслями. Как ни мало доверия внушал ей племянник, поверить словам Антипа ей все же было страшно трудно.
– Если они не убивали, им достаточно было не признавать себя виновными! – наконец произнесла она.
– Да они и не признавали!
– Почему же их арестовали? Что было потом?
– Потом они сдались.
– Да почему же сдались-то?
– Барыня, голубушка, да разве ж можно иначе? Потому как они всего-навсего простые мужики! А простому мужику завсегда с господами соглашаться положено.
– Господь с тобой, Антип! Нельзя заставить людей признаться в совершении преступления, в котором они неповинны!
– Нельзя, говорите? А почему, если нельзя, им грозили дать четыреста ударов кнутом, коли не признаются?
– А кто им грозил?
– Поди знай!.. Никто вам этого и не скажет. Можно только догадываться…
– Так кто же, по-твоему, настоящий убийца?
– Откуда мне знать, барыня, голубушка? Я знаю об этом не больше вашего!..
– Одним словом, твои подозрения ни на чем не основаны.
Антип рассыпался фальшивым угодливым смехом.
– Ни на чем, барыня, голубушка! Ровным счетом ни на чем!..
– Тем не менее ты сам только что говорил…
Старик глубоко поклонился Софи, раскинув руки и выставив вперед ногу с упертой в пол пяткой и приподнятым носком:
– Только что я был не в своем уме! А теперь стал в своем, барыня, голубушка! Если вы считаете, что Владимира Карповича убили эти трое мужиков, значит, на самом деле они и есть убивцы, и правильно, что их отправили на каторгу! Всем только лучше от этого!
– А может быть, они защищались? – пошла на уступки Софи.
– От кого защищались?
– Ну, к примеру, если их господин первым ударил их…
– Должно, так оно и было! Он их первым, значит, ударил, а они в ответ – раз, и свернули ему шею! Смотреть после этого на него, наверное, радости было мало! Весь прямо-таки посинел! И язык вывалился!..
Теперь Антип, потирая руки, так и сыпал словами. Выражение его лица стало одновременно кровожадным и опасливым.
– Если бы только и с сыном могло случиться то же самое, что и с отцом! – помолчав, прибавил он.
– Да ты что говоришь-то, Антип! Ну-ка, замолчи! – прикрикнула на старика Софи.
Ей казалось, что она бредет по зыбкой, неверной болотистой, уходящей у нее из-под ног почве. И больше всего было досадно, что нельзя расспросить Сережу об истинных обстоятельствах убийства его отца так, чтобы он ни о чем не догадался, не понял, что ею получены от крестьян какие-то новые сведения. Антип, будто почувствовав нерешительность Софи, предостерег дребезжащим голосом:
– Вы, барыня-матушка, только никому не передавайте того, что я вам рассказал! Да это все и неправда на самом-то деле! Подлое вранье крепостных людишек! И про грозу даже и не думайте больше, забудьте! Гроза, она просто так началась, случайно! А истинная правда в том, что нашего доброго барина удавили злые, дурные мужики, и этим дурным мужикам теперя всей жизни не хватит, чтобы искупить грех!
Софи вышла из Антиповой избы окончательно растерянная, в полном уже смятении. Коляска тем временем вернулась за ней в деревню. На улице было темно, холодно и сыро. Кучер Давыд помог хозяйке взобраться на сиденье, закутал ей ноги пледом. Всю дорогу до дома лошади барахтались в грязи, с трудом вытаскивая ноги. Наконец за голыми ветками показались освещенные окна дома.
За ужином Сережа упорно хранил молчание, держался чопорно, натянуто. Лицо его было строгим и замкнутым, движения сдержанными, медлительными. И только после того, как они с Софи перешли в кабинет и остались вдвоем, он дал волю своему негодованию.
– Неужели, тетушка, вам так уж необходимо было остаться в деревне? – спросил он.
– Я же говорила вам, Сережа, что у меня там дела, – ответила она, развертывая вышивку.
– Дела? Какие у вас могут быть дела с мужиками? Ох, тетушка, тетушка, слишком сильно вы мужиками интересуетесь! Уверен: они Бог знает чего вам нарассказали после этой грозы! Надо же, гром и молния прямо посреди панихиды! А они до того тупые и безмозглые, что, несомненно, сочли все это проклятием Господним!..
– Да оставьте вы их!.. Что с них возьмешь: простые, наивные люди!..
Сережа не мог усидеть на месте, он стал расхаживать перед ней взад и вперед. Затем остановился и резко, почти грубо произнес:
– Не старайтесь их оправдать, тетушка! Я знаю, что они меня ненавидят, как ненавидели моего отца и моего деда, как всегда будут ненавидеть тех, кто станет им приказывать! Чем более мягким выказываешь себя в обращении с этими скотами, тем более они делаются требовательными и беспокойными!..
– Я в прежние времена очень много занималась крепостными крестьянами, и мне не кажется, будто я внесла замешательство в их умы или посеяла смуту!
– А мне рассказывали совершенно другое! Насколько я знаю, вы расписывали крестьянам радости свободы и республиканского равенства!
– Не знаю, кто наговорил вам эти глупости, но во времена Михаила Борисовича, по крайней мере, мужики ни разу не подняли мятежа, подобного тому, который стоил жизни вашему отцу!
Сережа вскинул голову. Ноздри у него раздулись и побелели.
– Мой отец погиб не во время мятежа, он был подло убит тремя негодяями! Трое на одного! Мужики на барина!
– А разве не он сам подтолкнул мужиков к этому своими бесчинствами?
– Прошу не оскорблять память моего отца!
– Но вы ведь сами говорили мне, что Владимир Карпович крайне жестоко обращался с крепостными!
Племянник уставился на нее и, видимо не найдя от ярости вразумительного ответа, проворчал:
– Я ни перед кем не намерен отчитываться!
– Я тоже, – холодно ответила Софи. – Тем не менее вы, Сережа, требуете у меня отчета.
Племянник усмехнулся.
– Просто я ни на минуту не забываю о том, что это поместье столько же принадлежит вам, тетушка, сколько мне. В соответствии со странными завещательными распоряжениями моего деда, я даже не могу выкупить вашу долю. Имение со всеми землями должно оставаться общей собственностью, в нераздельном владении, до смерти кого-то из нас. Если я умру первым, вы унаследуете все. Если же вы…
– К чему вы клоните? – прервала его Софи.
– А вот к чему, и это очень важно: несмотря на то, что в этом деле вы обладаете равными правами со мной, вы всего-навсего высланная особа. И губернатор Пскова поручил мне надзор за вами. Следовательно, вы должны подчиниться моей воле. Как ни неприятно вам это слушать, драгоценная тетушка, но я облечен правом запрещать любые ваши действия, которые покажутся мне подозрительными. Так вот: помимо всего прочего, мне не нравится, что вы разъезжаете из одной деревни в другую под предлогом благотворительности. Русскому крестьянину нет дела до французской политики. Несчастья, причиной которых вы уже сделались, распространяя революционные теории, должны были бы побудить вас вести себя более скромно. Сидите-ка лучше дома, тетушка, так будет полезнее и приятнее всем!
Софи чуть было не вспылила, но все же сумела овладеть собой и с устрашающей мягкостью произнесла:
– Сережа, вам не кажется, что вы переходите границы, забываете о том, кто я такая и откуда прибыла!
– Вы прибыли из Сибири, где жили среди политических заключенных, а это для меня весьма дурная рекомендация! Я не хочу и – повторяю! – законно и любой ценой воспрепятствую тому, чтобы вы распространяли ваши взгляды среди каштановских мужиков! При всем моем уважении к вам, тетушка, я принял решение управлять поместьем так, как считаю нужным. Довольствуйтесь, как вам уже предлагалось, домашним хозяйством, и мы останемся добрыми друзьями…
Грубость выходки племянника ошеломила Софи. Сережа никогда раньше не говорил с нею так дерзко. Почему же именно сегодня он устроил это объяснение с угрозой наказания, чем вызвано столь внезапное проявление властности? Можно подумать, он хотел раз и навсегда отнять у нее возможность действовать, словно боялся, оставив ей свободу, утратить всякую власть и над ней, и над мужиками. Она наблюдала за молодым человеком с жадным любопытством. Неужели ей и правда могло когда-то показаться, будто он похож на Николая? Между этими двумя людьми не было, нет, да и не может быть ничего общего – ровно ничего, если не считать лепки лица и цвета волос. Сережа украл маску своего дяди, чтобы прикрыть ею лицо, но быстрые темные глаза его выдавали: Софи легко читала в них ту же злобу и ту же двуличность, какие распознала когда-то в чертах Владимира Карповича Седова. Укрепившись в желании противостоять «тирану», она сухо сказала:
– Вот что, Сережа, наверное, вам следовало бы уже понять, а коли понять не можете, просто запомните: не в моих привычках склоняться перед угрозами. Особенно когда человек, пытающийся мне угрожать, – мальчишка двадцати пяти лет, мой собственный племянник. Я здесь у себя дома. И буду поступать так, как мне заблагорассудится!
Наступило молчание. Софи немного отдышалась и продолжила с насмешливой улыбкой:
– Если вам это неприятно, вы всегда можете пожаловаться губернатору. Кто знает, может быть, утратив надежду меня образумить, он по вашей просьбе отправит нарушительницу обратно в Сибирь? Только хочу сразу же заявить вам и о том, что подобная перспектива нисколько меня не пугает!
Когда она умолкла, Сережа некоторое время помолчал, ничем не выдавая овладевших им чувств, затем его лицо оживилось, взгляд загорелся и он самым любезным тоном проговорил:
– Не надо сердиться, тетушка… Мы обречены на то, чтобы жить вместе под этим кровом, и я уверен, что в конце концов непременно поладим между собой. И сейчас я всего лишь прошу вас предупреждать меня, когда соберетесь прогуляться по окрестным деревням.
Софи покачала головой.
– Нет, я не стану предупреждать вас об этом, Сережа. Я буду ездить куда захочу и когда захочу в пределах пятнадцати верст от Каштановки, поскольку именно такие границы определены мне правительством…
Сережа присел на ручку кресла и опустил голову. Он выглядел побежденным, и все же Софи сознавала, что племянник ушел в себя лишь для того, чтобы, собравшись с силами, затем успешнее пойти в новую на нее атаку. После долгой паузы он зевнул, потянулся, потрещал суставами гладких пальцев и пробормотал:
– Я уже говорил вам, что завтра утром еду в Псков?
Софи с трудом сдержала улыбку. Несомненно, племянник отправляется в город ради своих жалких еженедельных развлечений. Что ж, это хорошо: может быть, вернется умиротворенным и образумившимся.
– Если вам надо что-нибудь купить в городе, я в полном вашем распоряжении, – продолжал юноша.
– Благодарю вас, Сережа, не нужно, – вежливо ответила Софи. – Дело в том, что я сама на днях собираюсь в город.
Он поглядел на тетушку исподлобья, поднялся, проворчал: «Спокойной ночи!» – и вышел из комнаты.
5
Рано утром Сережа верхом уехал в Псков. Когда всадник скрылся за поворотом аллеи, Софи сразу почувствовала себя свободнее. Она не хотела признаваться самой себе в том, что грубое обхождение с ней племянника производит на нее сильное впечатление, однако не могла отрицать, что в его отсутствие ей дышится легче. Каждый раз, как молодой барин уезжал, дом словно пробуждался, словно встряхивался, освобождаясь от гнета. Двери хлопали, со стороны служб доносились раскаты смеха, дворовые детишки гонялись друг за дружкой по широкой лужайке…
Одевшись с помощью повеселевшей Зои, Софи решила на этот раз съездить не в Шатково, а в другие деревни, которые она в последнее время немного забросила. Распахнув окно, она крикнула проходившему мимо слуге, чтобы закладывали для нее коляску.
Прошло полчаса. Софи заглянула в конюшню и убедилась, что коляска не готова. Более того: кучер Давыд даже и не думал собираться в дорогу.
– Тебе что, не сказали, что мне надо ехать? – рассердилась Софи. Давыд попятился, его толстое бородатое лицо перекосилось от страха.
– Сказали, барыня, – пробормотал он.
– Так чего ты ждешь, почему не запрягаешь?
Двое конюхов, сгребавших сено, испуганно вжались в стенку, еще один спрятался за крупом коня, которого в это время чистил.
– Никак невозможно, барыня! – сказал Давыд.
– Почему?
– Молодой барин запретил.
Софи поначалу обезоружил ответ кучера, и она едва ли не онемела, но очень скоро возмутилась.
– Когда я что-нибудь приказываю, мой племянник не может этого отменить! – закричала она. – Я – ваша госпожа!
– Спору нет, барыня.
– И ведь вы – вы все – до этого дня мне повиновались? Исполняли любые мои распоряжения?
– Да, барыня.
– Ну, так что же? Что изменилось? Приказываю заложить коляску! И побыстрее!
Давыд вздохнул, длинно и так глубоко, что казалось, легкие у него вот-вот разорвутся, не выдержав напора, украдкой поглядел на конюхов и понурился. Борода веером развернулась у него на груди.
– Давыд, ты слышал, что я сказала? – громко повторила Софи.
Ответа она не дождалась. Кучер застыл и отупел, словно в голову ему залили свинец. Софи поняла, что сегодня ничего не сможет добиться от этих перепуганных людей.
– Прекрасно, – произнесла она. – Что ж, обойдусь без вашей помощи.
Сорвав со стены сбрую, она взнуздала первую подвернувшуюся лошадь, закрепила ремни, как не раз делали у нее на глазах другие, втолкнула коня в оглобли коляски, затянула подпругу, поправила постромки… Кучер и конюхи застыли на месте и, окаменев от ужаса, круглыми глазами следили за разгневанной барыней. Когда она села на место кучера, Давыд простонал:
– Простите нас, барыня!
Софи, не ответив, щелкнула кнутом, конь пустился шагом по аллее, затем ускорил бег. Коляску жестоко трясло, одной рукой Софи правила, другой ей приходилось удерживать большую соломенную шляпу с лентами, которая поминутно грозила слететь с головы. Дорогу развезло, кругом были сплошные лужи и грязь, из-под колес во все стороны летели комья желтой глины. По размокшим полям вяло передвигались туманные фигуры мужиков. Чем они могут там заниматься в плохую погоду? Софи поочередно заехала в Черняково, Крапиново, Болотное, побывала даже в самых маленьких деревушках. Повсюду царила одна и та же атмосфера тоски и порядка, тревоги при внешнем благополучии. Сережа мог гордиться своими достижениями: дисциплина, которую он так усердно насаждал, принесла плоды, все его крестьяне уже – без введения униформы – походили один на другого… Переходя из одной избы в другую, Софи напрочь позабыла про обед; в середине дня она решила доехать до Пскова, чтобы купить кое-какие лекарства, которые могут ей понадобиться зимой, когда дороги завалит снегом и Каштановка окажется отрезанной от остального мира.
Ловко управляя коляской, она к трем часам добралась до города. Над мокрыми крышами опускались сумерки, моросил дождь. Главная улица превратилась в канаву, полную черной тины, поверх которой были набросаны охапки соломы. В аптекарской лавке горели масляные лампы, на стенках склянок дробились блики. Пока провизор обслуживал Софи, та услышала, как у нее за спиной открылась дверь, и, обернувшись, увидела крупную женщину в украшенной перьями шляпе и ярко-синем пальто с черной отделкой. Новая посетительница величественно ступила за порог, и Софи, после краткого мгновения неуверенности, испытала неприятное чувство, узнав в ней Дарью Филипповну. До чего же она постарела и растолстела! Глаза совсем спрятались между валиками рыхлой плоти. По обеим сторонам ротика-вишенки свисают пухлые щеки. Дышит тяжело, да оно и неудивительно: живот туго-натуго затянут корсетом, а пышная грудь словно в латы закована. Софи, как ни старалась, не могла поверить, что ее Николя был когда-то любовником этой дородной дамы. Что же делать? Встречи избежать невозможно. Лучше всего было бы ограничиться кратким и сухим приветствием… Но, пока она раздумывала над тем, какую линию поведения выбрать, Дарья Филипповна, заметив знакомую, расцвела улыбкой и протянула ей обе руки. Софи напряглась и тоже попыталась улыбнуться. Непринужденность этой женщины ее изумляла. Единственное возможное объяснение – Дарья Филипповна воображает, будто Софи так никогда и не узнала об измене мужа. Открыть ей глаза? Но зачем? К чему ворошить былое? Вся эта несчастная история закончилась так давно, столько лет прошло!..
– Дорогая, дорогая моя! – воскликнула Дарья Филипповна. – Вы даже представить себе не можете, как я разволновалась, увидев вас! Я знала, что вы вернулись, и как раз собиралась написать вам на днях, чтобы зазвать к себе в гости! И уж теперь, когда вы сами мне попались, я вас не отпущу! Вы приехали в Псков за покупками? И я тоже! Так давайте дальше пойдем вместе!..
Настырной даме с ее шумной приветливостью почти удалось победить настороженность Софи: что ж, пусть и нехотя, но придется позволить Дарье Филипповне ходить с ней вместе по лавкам. Иногда Софи казалось, будто вдали промелькнула фигура Сережи, и тогда она спрашивала себя, что подумает племянник, увидев ее рядом с этой принаряженной сорокой. Впрочем, мало вероятности встретить его на улице: он ведь не для того приезжал в Псков, чтобы бесцельно прогуливаться…
В конце концов, обе женщины очутились в швейной мастерской у Тамары Ивановны. Портниха оказалась горбуньей, да к тому же слегка косила, но руки у нее были поистине золотые. Дарья Филипповна примерила малиновое шелковое платье – одному Богу ведомо, зачем оно ей понадобилось, поскольку, по собственному ее признанию, она никогда не выезжала и нигде не бывала. Софи не купила ничего, но пообещала прийти снова и что-нибудь себе заказать. После примерки Тамара Ивановна предложила обеим дамам перейти в заднюю комнату, где постоянно кипел самовар – на случай, если заказчицам захочется выпить чашку чая. Софи, уставшая после долгой прогулки, охотно согласилась. Налив чай обеим посетительницам, портниха оставила их наедине, поскольку у нее была срочная работа.
На улице уже совсем стемнело. Маленькую комнатку, где пахло крахмалом, освещала масляная лампа под зеленым абажуром с бахромой. Самовар, увенчанный пузатым чайником, пел свою песенку. На стенах теснились картинки, вырезанные из французских модных журналов. Стулья были покрыты чехлами. Дарья Филипповна, блаженно вздыхая, прихлебывала чай, но успевала между двумя глотками засыпать Софи вопросами, которые доказывали, что она принимает близко к сердцу испытания, выпавшие на долю декабристов. Толстуха была глупа, но, бесспорно, добросердечна.
В течение всей беседы Дарья Филипповна то возмущалась, то огорчалась и поминутно принималась стонать: «Ах, Боже мой! Какие жестокие страдания вам довелось перетерпеть, моя дорогая!» Она непременно хотела знать, как умер Николай, и расплакалась, слушая простой рассказ Софи.
– Бедненький! Такой веселый, такой беспечный, такой храбрый! Не могу в это поверить! Простите меня, но я никак не могу в это поверить!..
Она всхлипывала, сморкалась в платок. Пух на ее подбородке дрожал над нарядным воротничком. Две женщины за самоваром, горюющие по одному и тому же мужчине – удивительно, должно быть, на сторонний взгляд… Но как раз у законной жены глаза оставались сухими. Софи внезапно осознала, до чего же нелепо все это выглядит, и теперь выставленная напоказ печаль Дарьи Филипповны потихоньку начинала ее раздражать. Правда, та, словно испугавшись, как бы не выдать свою тайну, вдруг перестала стенать, налила себе еще одну чашку чая и сказала спокойно:
– Могу себе представить, какое волнение вы испытали, вновь увидев Каштановку! Конечно, многих людей недостает в тех местах, где когда-то вы были так счастливы… Однако обстановка, по крайней мере, не изменилась, а в нашем возрасте нет большего утешения, чем прогулка среди воспоминаний!
Слова «в нашем возрасте» рассмешили Софи, которая прекрасно знала, что моложе собеседницы, по крайней мере, лет на десять.
– Должно быть, вы немало удивились, увидев перед собой совсем взрослого племянника! – продолжала между тем Дарья Филипповна. – Вы ведь, можно сказать, совсем его не знали!
– Да, ко времени моего отъезда из Каштановки Сереже было всего несколько месяцев от роду.
– Ах, как же он хорош собой! Очень, очень хорош! Но такой дикарь! Его редко можно встретить в городе. Знаете, я нахожу, что он очень похож на Николая!
– Внешне – да, – согласилась Софи довольно сухо.
Дарья Филипповна похлопала глазами и горестно вздохнула.
– Да, конечно, вы правы. Разумеется, по характеру Сергей Владимирович – совершенно другой человек. А вы хорошо с ним ладите?
– Более или менее, – осмотрительно ответила собеседница.
– Говорю так, поскольку знаю, что мальчика воспитывали в понятиях, которые явно не имеют с вашими, ну, просто ничего общего!
– Я уже заметила это, – не сдержала вздоха Софи. Правда, тут же взяла себя в руки и прибавила: – Но мне не свойствен фанатизм.
– А вот ему – свойствен!
– Молодость… В его возрасте это естественно! Сережа всего лишь повторяет то, что привык слышать. Он очень любил отца…
– Не думаю, – покачивая головой, возразила Дарья Филипповна. – Они слишком часто спорили.
– Из-за чего? – искренне удивилась Софи.
Услышав, что собеседница призналась в полном своем неведении, Дарья Филипповна так и загорелась радостью. На ее лице появилось довольное выражение: наконец-то она может с кем-то поделиться интереснейшими сведениями!
– Как, разве вы не знали? – полушепотом спросила она. – Всегда из-за одного и того же! Из-за Каштановки! Вы меня понимаете?..
– Нет. Я нахожу, что имением прекрасно управляют, что оно прекрасно содержится. Куда лучше, чем во времена моего свекра…
– Разумеется! Но все это происходит благодаря вашему племяннику! Только благодаря ему!.. Да это же совершенно очевидно!.. Вы ведь знали Владимира Карповича!.. Он был заядлый, азартный игрок и всенепременно, если бы только мог, продал бы поместье ради удовлетворения своих прихотей. До тех пор, пока Владимир Карпович оставался опекуном мальчика, он (во всяком случае, так мне рассказывали) пользовался этим: то потихоньку сбудет с рук пару-тройку крестьян, то продаст по дешевке урожай на корню, то займет денег под огромные проценты. Достигнув совершеннолетия, Сергей Владимирович потребовал у него отчета. Дальнейшее было неизбежно. Между отцом и сыном начались жестокие споры. Говорят, громкие голоса слышны были даже в службах! Я, по совести говоря, считаю, что прав был сын. Знаете ли вы, какая у него страсть к земле? Месяц назад он снова захотел сторговать у меня три деревни, прилегающие к вашему имению. Я отказалась их продать, потому что для меня тоже священно то, чем я владею, и я свое достояние бережно храню! Я сказала «нет», но про себя подумала: «Молодец юноша!»… Если бы только мой Васенька хоть немного походил на него!.. Но мой-то сынок нисколько не интересуется нашей милой Славянкой… Он живет в моем доме, словно в гостинице, живет старым холостяком, окружив себя книгами… Ах, как это меня удручает!.. К счастью, дочки дарят мне все радости, в каких отказывает сын… Они живут в Москве… Одна замужем за…
И Дарья Филипповна принялась рассказывать о семейных делах, а Софи – равнодушно слушать ее, отрешившись от происходящего подобно камню, обтекаемому потоком речи. Время от времени из ровного гула выныривали отдельные слова: «Моя вторая дочь… Мой зять… Мои внуки…» Услышав их, Софи невольно думала: «Счастливица она, эта Дарья Филипповна… У нее настоящая, большая, многолюдная, дружная семья. И сама она – настоящая женщина, исполнившая свое предназначение: давать жизнь. А я? У меня никого нет, кроме Сережи. Но что за человек Сережа?..» Чем дольше Софи об этом думала, тем больше нарастала в ней тревога. Дарья Филипповна, заметив, что собеседница погрузилась в размышления, тронула ее за руку.
– Мой сын был бы так счастлив с вами увидеться!
– Я тоже рада была бы повидать Васю, – уклончиво ответила Софи.
Голубые глаза Дарьи Филипповны заблестели от удовольствия.
– Вы непременно должны приехать к нам на чай как-нибудь на днях! Следующий четверг вам подходит?
Поначалу Софи хотела отказаться: очень трудно было забыть о том, что Николай когда-то дрался на дуэли с Васей Волковым. И хотя впоследствии старинные друзья более или менее помирились, ей было слишком тяжело вспоминать об их ссоре. Однако любопытство уже пробудилось, и она неожиданно для самой себя ответила:
– В следующий четверг? Хорошо… Благодарю вас, Дарья Филипповна.
– Будем только мы с сыном, обещаю вам! А вы уже виделись с кем-нибудь из прежних знакомых?
– Ни с кем. Да я и не спешу.
– Да, да, вы совершенно правы! Пусть хорошенько потомятся! А знаете, дорогая, вы нисколько не изменились! Мне кажется, будто вы только вчера нас покинули! Не то что я! Стоит только посмотреться в зеркало – и кажется, будто я вижу перед собой свою покойную матушку!
Допив чай, Дарья Филипповна поставила чашку, снова вытащила из сумочки кружевной платочек, утерла пухлые губы. Софи посмотрела в окно и с удивлением обнаружила, что за стеклами непроглядная тьма. Должно быть, уже седьмой час, а ей ведь предстоит проделать долгий путь! Дарья Филипповна побранила ее за то, что она приехала одна, без кучера. Софи из гордости ответила, что ей нравится самой править лошадьми.
– Ах, Софи, вы очень неосторожны, – заметила Дарья Филипповна. – Хотите, велю моим людям вас проводить?
Софи отказалась. Обе женщины вышли на улицу и там распрощались. Дарье Филипповне предстояло сделать еще несколько визитов, Софи же храбро села в коляску и поехала. Когда последние дома города остались позади, ей показалось, будто стало еще темнее. Пахло грибами и горелым деревом. У коляски не было фонаря, однако лошадь хорошо знала дорогу и уверенно шла наугад. Софи, напряженно вглядываясь в ее танцующую тень, поочередно восстанавливала в памяти события дня и все больше злилась на Сережу, который запретил Давыду исполнять ее распоряжения.
Только сойдя на землю у крыльца, она почувствовала, как сильно устала за день. Встретивший барыню мальчишка взял коня под уздцы, чтобы отвести в конюшню. Вокруг дома царила непривычная тишина. Окна кабинета были темными. В прихожей никого. Однако на вешалке висели Сережины пальто и шляпа: значит, племянник уже вернулся из Пскова и Софи сможет высказать ему свое негодование. Только сначала надо умыться и переодеться.
Поднявшись к себе в комнату, она кликнула Зою, чтобы та помогла хозяйке сменить платье. У горничной глаза были красные, она прерывисто дышала.
– Что с тобой? – спросила Софи. – Ты плакала?
– Нет-нет, барыня, – сказала Зоя жалобно.
И ее круглый, словно яйцо, подбородок продолжал судорожно подергиваться.
– Голубушка, я же вижу, что плакала, – возразила Софи. – И ты знаешь, мне можно все рассказать. Наверное, из-за мужа?
– Да, – всхлипнула горничная.
– Давыд плохо с тобой обошелся? Он тебя побил?
– Его самого прибили!
– Кто его прибил?
– Господские люди, только что… Барин приказал… Как раз перед вашим приездом… Пятьдесят ударов розгами… У него вся спина в крови… Пластом лежит…
Софи нахмурилась. После недолгого затишья ярость снова закипала в ее душе.
– За что высекли Давыда? – глухо проговорила она.
Зоя отвела глаза.
– Из-за вас, барыня.
От изумления Софи так и осталась стоять с раскрытым ртом.
– Из-за меня? – справившись наконец с удивлением, но по-прежнему не веря своим ушам, пробормотала она. – Быть такого не может!
– А вот и может, барыня. Давыд мой должен был помешать вам уехать по деревням. А он не сумел вас остановить. И тогда молодой барин приказал высечь его, прямо посреди двора…
В наступившем молчании Софи едва не утратила власти над собой. Мысли бешено метались в голове. Она слышала, как пульсирует ее собственная кровь.
– Молодой барин и конюхов велел высечь, – продолжала Зоя. – Только умоляю вас, барыня, миленькая, не говорите хозяину, что я пожаловалась! Он рассердится и все выместит на нас! В конце концов, ничего такого страшного не случилось, и Давыд скоро поправится! Он крепкий, несмотря на возраст!
– Нет-нет, на этот раз племянничек хватил через край! – бормотала Софи, обращаясь к себе самой.
Она нервными движениями застегнула пуговицы на платье и бросилась вон из комнаты. Лестница задрожала под ее ногами. Уверенная в том, что Сережа у себя в кабинете, она вихрем влетела туда, на минутку замерла в растерянности посреди темной и пустой комнаты, затем выбежала за дверь и принялась озираться. Скучавший в прихожей слуга обратился к ней:
– Если молодого барина ищете, так он у себя в комнате.
Софи снова поднялась по лестнице, прошла по коридору в обратном направлении и постучалась у дверей Сережи.
– Заходите, – произнес любезный голос.
Племянник сидел перед маленьким письменным столом и перебирал бумаги. Халат из золотистой парчи окутывал молодого человека до щиколоток. При виде тетушки он поднялся, затянул потуже шнурок, которым был подпоясан халат, и вопросительно уставился на гостью, решившую посетить его в столь неурочный час. Софи, еще не отдышавшись после того, как стремительно взлетела по лестнице, гневно выкрикнула:
– За что, извольте объяснить, вы приказали высечь Давыда?
Брови Сережи поползли вверх по лбу.
– Я отдал ему определенные распоряжения, тетушка.
– Разве он их не выполнил?
Племянник едва приметно улыбнулся. Должно быть, он предвидел эту сцену и втайне наслаждался тем, что сохраняет спокойствие в присутствии донельзя разъяренной женщины.
– Вы ведь смогли уехать, несмотря ни на что, – сказал он. – Стало быть, Давыд провинился. Да успокойтесь, тетушка, хорошая порка мужику никогда вреда не причиняла. Наоборот, порка усиливает кровообращение, которое от природы у него замедленное. Разумеется, злоупотреблять подобным средством не стоит. Но ведь только от вас одной зависит, чтобы все на этом и закончилось! Если согласитесь с моими предписаниями, ни кучера, ни конюхов больше никто не тронет. Зато если станете повторять свою выходку, мне придется снова и снова наказывать их розгами. Я категорически настаиваю на том, чтобы у меня в доме во всем сохранялся порядок. Чтобы всякая вещь и всякий человек находились на своем месте, где им положено быть. Поскольку вы так любите крепостных, вам следует доказать, что можете ради них слегка поступиться своей независимостью. И я уверен, что вам, тетушка, такой милосердной, легче будет посидеть дома, чем думать о том, что из-за вас этим несчастным до хребта обдирают спину!..
Софи слушала племянника с ужасом и омерзением. Ни одно из оправданий, которые она прежде находила для Сережи, не смогло устоять перед этим его спокойным изъявлением лютой злобы. Презрительно взглянув на юношу, она произнесла, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Клянусь вам, Сережа, что бы ни случилось, вы больше и волоска на голове ни у одного своего мужика не тронете!
– Советую вам, тетушка, не торопиться с клятвами. Но до чего же вы плохо меня знаете!
– Это вы плохо меня знаете! Я ни за что не поддамся на ваши запугивания! А если вы сделаете то, что собираетесь, я небо и землю переверну, я дойду до губернатора!
– Пешком? – ехидно поинтересовался Сережа.
– Да, пешком, если потребуется! Несколько верст меня не испугают. Я расскажу властям о том, как вы обращаетесь со своими крепостными!..
Охваченная негодованием, она уже и сама не понимала, что говорит, но внезапно умолкла, заметив, как что-то дрогнуло в Сережиных глазах. Словно, сама о том не догадываясь, она затронула уязвимое место. Однако замешательство это длилось не более мгновенья: не успела она осознать, что происходит, как племянник уже справился с собой.
– Вы что же, драгоценная тетушка, воображаете, будто губернатор станет вас слушать? – усмехнувшись, спросил он.
– Я уже заставляла выслушивать меня и более важных особ, чем псковский губернатор, – ответила Софи.
– Неужто на каторге?
– И в Санкт-Петербурге тоже! Да один только факт, что мне удалось вернуться из Сибири, разве не доказывает вам, до какой степени я упряма? И впредь я не постесняюсь использовать все свои связи ради того, чтобы в этом доме считались с моими правами!
– Никто ваших прав и не оспаривает, – внезапно успокоившись, сказал Сережа.
– Как бы не так! Вы посмели отдать приказ моим людям не исполнять моих распоряжений! Вы подвергаете их пыткам, чтобы добиться покорности! Вы используете их для того, чтобы держать меня в заточении! Напоминаю: Каштановка принадлежит мне столько же, сколько вам! То, что происходит здесь, мне не нравится, нет, больше того, то, что происходит здесь, приводит меня в негодование! Я обо всем сообщу полиции!..
Когда она, задохнувшись и истощив запас угроз, прервалась, Сережа выглядел чуть бледнее обыкновенного. Уголки губ у него опустились книзу. Взгляд блуждал.
– Вы так долго прожили среди каторжников, тетушка, – пробормотал он, – что утратили представление о том, какое расстояние должно отделять крепостного мужика от его господина!
Слишком уставшая для того, чтобы продолжать спор, Софи смерила племянника презрительным взглядом, повернулась и быстро вышла из комнаты, хлопнув на прощание дверью.
В своей спальне она застала плачущую Зою.
– Успокойся, – сказала Софи. – Отныне вы под моей защитой. Ничего плохого с вами больше не случится.
Она старалась излучать радостную уверенность, но в действительности далеко не была уверена в том, что сможет защитить своих людей от жестокого обращения с ними: ведь без этого, кажется, просто жить не может совладелец Каштановки. И если завтра Софи снова в одиночестве поедет кататься, Сергей – хотя бы из уязвленной гордыни, ради грубого доказательства своей силы – способен привести угрозу в исполнение. А Софи, несмотря на все, что она ему наговорила, не думала, что и в самом деле отправится в Псков жаловаться губернатору, – скорее всего, тот вообще откажется ее принять: слишком новый человек госпожа Озарёва в этих краях, и вдобавок уж на очень плохом она счету! Надо подождать более удобного случая, для того чтобы мериться силами с племянником. В молодости она пренебрегла бы подобными расчетами, бросилась бы вперед очертя голову, но теперь приходилось считаться и с усталостью собственного тела, и с предостережениями рассудка. Теперь, чтобы лучше подготовиться к броску, следует притвориться, будто она отказалась от борьбы. Соперник у нее слишком опасный. Настоящее чудовище, копия папаши, вот только Сережа еще ужаснее старшего Седова, поскольку скрывает черствое сердце за красивой внешностью. Сев перед туалетным столиком, Софи погляделась в зеркало. Лицо осунулось, под глазами легли темные тени. Может быть, она напрасно приняла приглашение Дарьи Филипповны? Нет! В ее положении она не может позволить себе разочаровать человека, так доброжелательно к ней настроенного. Тем более что она сейчас как никогда нуждается в союзниках, в помощи! Софи распустила волосы. Мысли ее путались и рассыпались так же, как эти пряди. Зоя взяла со столика гребень и щетку.
– Как странно, – произнесла Софи, – что ты замужем за Давыдом… Он ведь, по меньшей мере, лет на двадцать тебя старше?
– На двадцать семь, – уточнила Зоя.
– И давно ли ты стала его женой?
– Три года назад покойный барин заставил за Давыда выйти.
– Как это – заставил?
– Да я-то другого совсем любила… Петю, кузнеца нашего… Но Владимиру Карповичу это не понравилось… И он женил моего Петю на беззубой старухе, согнутой в три погибели, а меня отдал за Давыда… Ой, барыня, милая, я тогда так плакала, так плакала, все глазоньки свои выплакала!.. А потом понемножку привыкла… Давыд ведь не злой… Не пьет он и на руку не тяжел… Вот только бывает, когда наступит вечер или жара стоит, – у меня прямо душа из тела рвется!..
Зоя горестно вздохнула и медленными движениями принялась расчесывать волосы Софи.
* * *
Вечером было принято великое решение: Софи спустилась к ужину, весьма тщательно одетая и невозмутимо спокойная. Она не хотела выглядеть так, словно хоть сколько-нибудь уступила запугиваниям племянника. Тот, казалось, сумел оценить по достоинству новый способ бросить ему вызов. Он также оделся с особым тщанием, словно своей элегантностью надеялся стереть воспоминание о невежливых речах, которые держал так недавно. Сидя по обе стороны длинного стола, при свете свечей, мерцающими огоньками отражавшихся в хрустале, они словно праздновали начало междоусобной войны. Все время, пока длился торжественный и мрачный ужин, Софи сидела молча и чопорно, она едва прикасалась к еде и не глядела на сотрапезника.
Выйдя из-за стола, тетка с племянником, как обычно, перешли в кабинет, Софи взялась за вышивку. Она решила, что уйдет в спальню только после того, как высидит внизу приличное время. Мирно расположившись в кресле, она протягивала иголку сквозь канву, и под ее рукой постепенно, стежок за стежком, вырисовывался зеленый листок. Сережа, устроившись напротив, перелистывал газету. От изразцовой печки веяло жаром, потрескивали дрова. В темном парке лаяли сторожевые псы. «Он – единственное существо на всем свете, которому мне совершенно нечего сказать!» – с грустью подумала Софи.
Молчание в конце концов сделалось таким тягостным, что Сережа, не выдержав, проворчал:
– Хотите знать, какие новости из Франции? Восемнадцатого числа прошедшего месяца скончался один из ваших писателей, господин Оноре де Бальзак… Принц-консорт покинул Париж и отправился с визитом в западные департаменты… Снова обсуждается закон о депортации, принятый вашим Законодательным собранием… Что ж, тетушка, выходит, не только в России существуют каторги?
Софи не ответила. Выждав паузу, Сережа снова заговорил:
– Как видите, я получаю французские газеты. Те же самые, что приходили во времена моего отца, а он очень интересовался Францией! Вы в каких отношениях были с батюшкой?
Она подумала, что Сережа над ней насмехается, и поспешила ответить довольно резко:
– Вы должны знать об этом лучше меня!
– Владимир Карпович всегда говорил о вас с величайшим уважением, – сказал Сережа.
Отложив газету, он закинул ногу на ногу, склонил голову набок и прибавил:
– Мне кажется, несмотря на внешние разногласия, у нас с вами есть нечто общее.
Софи с удивлением подняла глаза от работы. Довольный произведенным впечатлением, племянник продолжал более оживленным тоном:
– Дело в том, что вы любите это имение так же сильно, как я! И так же, как и я, готовы всем ради него пожертвовать!
– Всем? – повторила она. – Вот уж ничего подобного! Я люблю людей, а не вещи. Меня привязывают к Каштановке живущие здесь люди.
– Они – одно целое с землей!
– Разве что тогда, когда речь идет о том, чтобы их продать!
Сережа нахмурился.
– Я никогда ни одного из них не продам! – с силой проговорил он. – В этом отношении я – полная противоположность моему отцу!..
Они умолкли. Дом окружал их привычными вечерними звуками. Ливень стучал в стекло. Через некоторое время Сережа небрежно проговорил:
– Друзья сказали мне, что сегодня днем вас видели в городе с госпожой Волковой.
– Да, так и есть, – подтвердила Софи.
– Странное знакомство! Вы собираетесь еще с ней видеться?
– Да.
– И когда же?
– Вас это не касается!
– Мне необходимо знать!
– Зачем?
– Чтобы отдать распоряжения кучеру!
– Не вы будете отдавать ему распоряжения, а я! Припомните-ка, что я вам говорила давеча!
Сережа расхохотался, в полумраке кабинета ярко блеснули зубы.
– Да ну что вы, в самом деле, тетушка! Неужто мы с вами передеремся из-за мелких неприятностей на конюшне!.. Если вам охота прокатиться в Славянку, чтобы повидаться с этой толстой старой сплетницей и ее тупицей-сыном, которого она держит под каблуком, – что ж, я предоставлю в полное ваше распоряжение все экипажи и всех лошадей, какие только есть в имении! Давыду будет сказано, что он должен повиноваться вам точно так же, как мне! Только прикажите – и все будет исполнено!
Племянник склонился перед ней в шутовском поклоне. Софи удивилась тому, что он так легко уступил. Подействовал ли на Сережу ее решительный тон или же он готовил ответный выпад, какого она пока и заподозрить не могла? На самом деле ее куда больше тревожила его нынешняя покладистость, чем прежняя непреклонность. Слуга внес на подносе графин с ликером и рюмки. Именно в эту минуту Софи заранее назначила себе время для того, чтобы уйти в спальню. Она поднялась и произнесла:
– Спокойной ночи, Сережа.
Он потянулся было поцеловать тетушке руку, но тетушка не дала ему времени это сделать, поспешно направившись к двери. Приостановившись на пороге, она обернулась и увидела, как племянник наливает себе рюмку, пригубливает, затем, запрокинув голову, допивает одним глотком. Какое-то смутное воспоминание мелькнуло у нее в голове. Что-то очень далекое и очень приятное, что-то неуловимое проскользнуло в памяти и скрылось. Она неотступно думала об этом, пока раздевалась, нетерпеливо подгоняя заупрямившуюся память. И только потом, лежа в постели, наконец вспомнила день, когда угощала наливкой Фердинанда Богдановича. И уснула, разнеженная этим воспоминанием.
6
В коляске, уносившей ее в Славянку, Софи пыталась убедить себя в том, что не ошиблась, приняв приглашение Дарьи Филипповны. Но ей по-прежнему было не по себе: казалось, что, отправившись в гости к этим двум так тесно связанным с историей их с Николаем невзгод людям, она снова окунается в грязь. И в то же время ее непреодолимо влекло к ним, как будто Дарья Филипповна и Вася были лучшими ее союзниками в борьбе с одиночеством. Перед глазами у нее на каждой выбоине дороги подскакивала спина Давыда. Чтобы везти барыню, кучер вырядился в лучшие свои одежды. На этот раз бояться ему было нечего: молодой барин подтвердил распоряжения хозяйки.
В сравнении с Каштановкой имение Славянка выглядело запущенным. Многие поля оставались под паром, дороги, которые никто не чинил, были все в рытвинах и колдобинах, в деревнях, стоявших по обеим сторонам дороги, избы были грязные, обветшалые, полуразрушенные, сады заполонила крапива. Дождь никак не начинался, хотя над головой давно уже нависли низкие темные тучи. Ледяной ветер свистел в облетевших ветвях. Парк вокруг господского дома, обширный, тихий и заброшенный, печальным своим очарованием напоминал осенний лес. В просвете поредевшей желтой листвы Софи увидела перед собой господский дом – деревянный, длинный, закоптившийся, с маленькими окошками и крашеными ставнями.
Коляска остановилась у крыльца, и Дарья Филипповна, в плохо сидевшем на ней жемчужно-сером платье с оборками, поспешно сбежав по ступенькам, бросилась к гостье. Оглушенная восклицаниями хозяйки дома, Софи покорно следовала за ней в столовую, где на овальном столе, помимо целых гор самых разных пирожков, вокруг сверкающего самовара выстроились хороводом еще и вазы с вареньем. Едва гостья села к столу, в комнату вошел мужчина, напомнивший ей постаревшего итальянского певца: пузатый, седеющий, большие черные глаза на толстом лице… Одет он был небрежно – в коричневую бархатную куртку и бежевые панталоны с растянутыми штрипками… У Софи защемило сердце, когда она узнала, хотя и с трудом, прежнего элегантного красавца Васю Волкова. А мать защебетала, обращаясь к нему, как к маленькому мальчику:
– Ну вот! Вот и она, Васенька! Она пришла! Ты ведь так хотел ее увидеть!
– Матушка, прошу вас!.. – угрюмо остановил Дарью Филипповну Вася.
Склонившись перед Софи, он поцеловал ей руку, сел к столу, попросил налить ему стакан чаю, некоторое время, явно томясь от скуки, слушал болтовню женщин, затем, воспользовавшись паузой, пробормотал, не поднимая глаз:
– Матушка рассказала мне про Николая… Это так ужасно!.. Я хотел сказать вам, что много думал о нем все те долгие годы, которые он провел в ссылке… О нем и обо всех, кто нашел в себе мужество пострадать за политические убеждения… Вы ведь знаете, что мне, по странному стечению обстоятельств, пришлось уехать из Санкт-Петербурга как раз накануне восстания… Неотложные семейные дела призвали меня в Псков…
– Да! Да! Неотложные и весьма, весьма важные семейные дела! – подхватила Дарья Филипповна.
– Таким вот чудесным образом я избежал наказания. Меня, правда, вызвали и допросили, но сразу же и отпустили. Однако, хотя и не был осужден, я всегда чувствовал свою неразрывную связь с теми, кого сослали в Сибирь. Я… я плакал о них… вместе с ними… И я по-прежнему преклоняюсь перед моими товарищами… Даже теперь дня не проходит без того, чтобы я не молился за них, живых и умерших… Ведь мои взгляды… мои взгляды нисколько не изменились!..
Софи с удивлением слушала жалкие речи Васи Волкова в собственную защиту. Должно быть, он стыдился того, что в последнюю минуту покинул декабристов под предлогом, в который ни тогда, ни теперь сам не верил. И вот неуклюже старается оправдаться – словно та, что нынче слушает его, воплощает в себе одной всех мужчин и всех женщин, оставшихся в Сибири. Между тем годы мирной деревенской жизни должны были смягчить угрызения совести. Все время, пока сын говорил, Дарья Филипповна с тревогой наблюдала за ним.
– Напрасно ты так горячишься, – сказала она, едва Вася умолк. – Наша милая приятельница все это знает. В каждой катастрофе бывают жертвы и бывают те, кому удается уцелеть, так разве уцелевшие когда-нибудь стыдились того, что не оказались в числе жертв? И должно ли им стыдиться?
– Замолчите, матушка! – раздраженно прикрикнул Вася. И, повернувшись к Софи, спросил:
– Был ли у вас случай поговорить обо мне с нашими общими друзьями?
– Да, конечно, – заверила она. – Мы часто говорили о вас, очень часто…
На самом деле ей казалось, что никто из декабристов никогда не интересовался судьбой Васи Волкова, не пытался ни оправдывать его, ни осуждать.
– А что товарищи говорили обо мне, сударыня?
Из милосердия Софи солгала:
– Что не лишили вас своего доверия!
– А то обстоятельство, что я не был взят вместе с ними на Сенатской площади?..
– Боже мой, никому и в голову не пришло вас в этом упрекнуть!
– Вот видишь! – торжествующим тоном воскликнула Дарья Филипповна. – Благодарю вас, дорогая моя. Вы и представить себе не можете, какое благодеяние только что нам оказали. Вася так терзается, так изводит себя всеми этими историями. Он воображает, будто…
– Ничего я не воображаю! – в ярости выкрикнул Вася. – Не вмешивайтесь, Бога ради, в дела, в которых ничего не понимаете!
Дарья Филипповна втянула голову в плечи и бросила на Софи робкий и вместе с тем заговорщический взгляд.
– А Николай? – вновь заговорил Вася. – Что Николай?.. Он не был разочарован?..
– Чем же?
– Но… как же… одним словом, тем, что меня не было рядом с ним четырнадцатого декабря?..
– Он немножко завидовал тому, что вы остались на свободе, и это все, – ответила Софи. – Видите ли, опыт каторги возвращает всякой вещи ее истинную ценность. Там внезапно понимаешь, что самое главное в жизни – никакая не теория, сколь бы благородной она ни была, но здоровье, свобода перемещаться куда угодно, такие вот простые, совсем простые понятия…
Вася с жадностью слушал гостью, выражение лица у него было напряженным.
– Стало быть, там совсем не говорили о политике? – удивился он.
– Разумеется, говорили! Но скорее по привычке, чем в силу необходимости разобраться, наконец, в истинности своих убеждений. На самом-то деле едва ли не все ваши друзья признали, что в России еще долгие годы совершенно невозможно будет установить конституционный режим…
– А вот мой Васенька стал еще более неистовым, чем прежде! – в притворно радостном порыве вскричала Дарья Филипповна. – Все читает, читает, читает – прямо без остановки!.. И одни только опасные французские книги!.. А всякий раз, как к нам приходят гости, выступает с республиканскими речами!.. Ох, он такой неосторожный, мой Васенька!.. Рано или поздно ему дадут по рукам!..
– Матушка, зачем вы так говорите? – поморщился Вася. – Вы же прекрасно знаете, что все это неправда!
– Как это – неправда? – возмутилась та. – Вспомни хотя бы тот день, когда у нас обедали почтмейстер с женой. Ты с таким жаром рассказывал им об этом французском священнике, который был куда ближе к народу, чем к папе… Как его, бишь… Какой-то Ламонне… Или Ламенне… Запамятовала…
Вася глубоко вздохнул и закрыл лицо руками – постаревший ребенок, задавленный властной и болтливой матерью. А Дарья Филипповна тотчас утихла, словно опасалась, что, если будет настаивать на своем, доведет сына до припадка. Склонившись к уху Софи, она доверительным полушепотом объяснила:
– Вася не хочет, чтобы об этом говорили, но пойдите в его комнату, и вы увидите его библиотеку! Наш общий друг Трусов, псковский предводитель дворянства, так мне и заявил: «Это настоящая бочка пороха!»
Вася поднял голову, и на его лице промелькнула невеселая улыбка.
– Да, в своем безделье я только чтением и утешаюсь. Чем больше размышляешь, тем меньше хочется действовать. Вместо того, чтобы запрещать в России политические книги, правительству следовало бы поощрять их распространение. Мы все превратились бы в мечтателей. Мы сделались бы совершенно безобидными…
Он умолк и принялся крутить ложечку в стакане с серебряным подстаканником.
– Пей, – приказала Дарья Филипповна. – Чай совсем остыл!
Он машинально повиновался.
– Самое тягостное, – продолжала она, – то, что ему совершенно не с кем обмениваться мыслями! Ну с кем ему говорить? Разве что со мной… Но я-то в таких делах мало что понимаю… А все наши друзья тут придерживаются, скорее, других взглядов… Вот Васенька и остался один… И целыми днями тоскует у себя в комнате… А ведь это нездорово, ох как нездорово!.. Вот если бы Николай Михайлович еще был среди нас!..
Толстуха всхлипнула. Вася метнул на нее гневный взгляд. Наступила тишина, и Софи почувствовала, как тяготят ее привычки этой матери и этого сына, их маниакальная озлобленность, их враждебность и их тайное согласие в лени, небрежности и чревоугодии. Рядом с Волковыми она чувствовала себя словно в присутствии старой супружеской четы, сварливой, постоянно бранящейся, но неразлучной. Вася нервно катал по скатерти хлебные катышки. Глядя на него, Софи задумалась, не повредился ли он душевно из-за неудачи восстания 14 декабря 1825 года, ареста своих друзей и собственной безнаказанности.
– Надо бы вам с вашей матушкой приехать ко мне в Каштановку, – произнесла она.
Вася вздрогнул. Его лицо с тонкими, хотя и заплывшими жиром чертами испуганно сморщилось, затем сделалось непроницаемым.
– Мне очень жаль, – проговорил он, – но это невозможно!.. Вы уж простите…
– Но почему?
– Из-за вашего племянника, Сергея Владимировича. Я не могу выносить того, как он обращается со своими людьми. В то время как подавляющее большинство помещиков, даже самые старые и отсталые среди них, чувствуют, что не могут больше эксплуатировать крепостных, как делали прежде, понимают, что идея освобождения носится в воздухе и следует к этому подготовиться самим и подготовить народ, господин Седов-младший продолжает вести себя как мелкий провинциальный тиран. Он получает садистское наслаждение от того, что до предела натягивает вожжи власти, данной ему законом. И счел бы себя обесчещенным, отказавшись даже от самой малой крупицы своих господских прав. Поглядите-ка на наших мужиков или на соседских крестьян, у Гедеоновых, у Масловых… Какая разница, на первый взгляд, между ними и свободными земледельцами? Да почти никакой! Наши мужики считают даже, будто земля принадлежит им. «Мы твои, барин, – говорят они мне, – а землица-то наша!» А как вы думаете, могут каштановские крестьяне сказать нечто подобное Сергею Владимировичу? Ни за что на свете! Они запуганы, они только и знают, что гнуть спину, они позволяют себя обирать и сечь! Животные, право слово, этот деспот превратил людей в скотину!..
Вася повысил голос почти до крика. Руки у него дрожали.
– Стоит мне вспомнить, – помолчав и переведя дух, продолжал он, – сколько выдающихся людей были сосланы в Сибирь за то, что возмечтали освободить крепостных, а затем – что двадцать пять лет спустя родной племянник одного из этих людей отправляет мужиков на каторгу ради того, чтобы спасти собственную свою шкуру… стоит мне об этом подумать, и я начинаю сомневаться: да неужто оба эти события могли произойти в одной и той же стране!
Софи поначалу не поняла смысла гневной речи соседа. Зато Дарья Филипповна явно все понимала и потому взволновалась:
– Вася, ты преувеличиваешь! У тебя нет никаких доказательств!
– Все об этом знают, только никто не решается сказать вслух! – закричал Вася, оттолкнув тарелку.
– О чем все знают? – спросила Софи.
Волков растерянно посмотрел на нее и внезапно брякнул:
– Это ваш племянник его убил!
Мир, окружающий Софи, разом утратил краски и осязаемость. На мгновение она словно повисла в пустоте. Наконец, собравшись с мыслями, она еле слышно пролепетала:
– Этого не может быть!.. Родного отца?..
– Да Сергей люто ненавидел его! – воскликнул Вася.
Софи в растерянности повернулась в Дарье Филипповне, но та закивала головой.
– Да, но я в тот раз не сказала вам… Мне не хотелось еще сильнее вас расстраивать… Может быть, напрасно и ты, Вася, об этом заговорил!
– Почему? Госпожа Озарёва должна знать обо всем!
– А сами-то вы откуда обо всем узнали? – спросила Софи.
– Ваши слуги рассказали нашему управляющему, что накануне убийства в Каштановке разыгралась чудовищная сцена. Кажется, Владимир Карпович подписал долговое обязательство, а может быть, совершил еще какой-то необдуманный поступок… В общем, что бы там ни было, сын заперся с ним в кабинете, кричал на него, оскорблял, надавал пощечин. Все слуги, столпившись в коридоре, в ужасе прислушивались к скандалу. И какое-то время спустя отец и сын, вероятно, устав выкрикивать оскорбления, успокоились и вместе выпили…
– Может быть, это всего лишь слухи, которые распускает дворня… – прошептала Софи.
– Сударыня, не бывает дыма без огня! На следующий день Владимира Карповича нашли в купальне мертвым, задушенным.
– А вдруг это всего лишь простое совпадение? Не существует ведь, насколько я понимаю, никаких вещественных доказательств, никаких прямых или косвенных улик, которые позволили бы обвинить моего племянника в убийстве… Да и потом, мужики ведь признались…
Вася злобно рассмеялся:
– Кому не известно, чего стоят признания мужиков, сделанные под угрозой кнута! Что же касается вещественных доказательств, следственная комиссия даже и не пыталась их искать! Ради спокойствия умов и поддержания порядка лучше осудить трех невиновных крепостных, чем одного преступного барина!.. Одно только не вызывает сомнений: в наших краях эта смерть никого не удивила. Более того – все давно ждали подобного финала. По-другому закончиться просто не могло!
Пока он говорил, Софи припоминала откровения Антипа. Старик ведь тоже – безусловно, юродствуя только для виду, – утверждал, будто мужики не убивали своего барина. Во внутренней тишине, какую создает предельно напряженное внимание, Софи чувствовала, почти что слышала, как ее подозрения крепнут и превращаются в уверенность. Однако она не желала поддаваться панике и искала доводы, способные противостоять охватившему ее ужасу. Дарья Филипповна тем временем положила в рот еще ложечку варенья и вздохнула:
– Ах, все это так ужасно! Но тут уж ничего не поделаешь!
– Как это – ничего не поделаешь? – снова вспылил Вася. – Должно существовать верное средство отыскать правду! Если бы я был там, на месте…
– Но вот я-то именно там, на месте, – возразила Софи, – однако ничего не могу узнать: мужики не доверяют тем, кто желает им добра. Оказалось невозможно выяснить, что они думают: уж слишком эти люди боятся, что молодой барин жестоко отомстит! Сергей скор на руку и отнюдь не милосерден!
– Наберитесь терпения, – посоветовал Волков, – языки рано или поздно развяжутся! Но вам ведь и самой наверняка кажется недопустимым то, что этих бедолаг, ничего плохого не сделавших, даже не слушая их возражений, заковали в цепи и отправили в Сибирь?
Фраза так точно выражала смятение, охватившее Софи, что ей показалось, будто она сама произнесла эти слова. Изо всех преступлений, на какие способно общество, намеренно допущенная юридическая ошибка казалась ей наиболее омерзительной. «Я не смогу ни жить, ни дышать свободно, – думала Софи, – пока в моем сознании будет оставаться сомнение в виновности крепостных. Но что делать? Кого расспрашивать? И как потом добиться пересмотра судебного решения?» Ее удручало сознание собственного бессилия. Внезапно она поняла, что и десяти минут больше не высидит за столом: ей необходимо вернуться в Каштановку, увидеть Сережу, всмотреться в его лицо, проникнуть в тайну его чувств.
Когда гостья объявила, что ей пора уезжать, Дарья Филипповна искренне огорчилась:
– Как, уже? А я-то собиралась показать вам наш парк, реку, мельницу…
– Не настаивайте, матушка, у госпожи Озарёвой сейчас, несомненно, нет ни малейшего желания прогуливаться по окрестностям! – сказал Вася.
– Признаюсь, нет… – пробормотала Софи. – Я все еще под впечатлением того, что вы рассказали.
Сосед наклонился к ней:
– Если узнаете что-то новое, прошу вас, дайте и мне знать.
Дарья Филипповна улыбнулась довольной материнской улыбкой: наконец-то ее сын хоть чем-то заинтересовался, хоть к кому-то проявил дружеские чувства!
– Прекрасно! – воскликнула она. – Дорогая моя, приезжайте поскорее снова!
– Да, да! – подхватил Вася. – Непременно приезжайте!
Его большие черные глаза наполнились слезами, и он стал похож на чувствительную старушку. Софи поднялась. Ее попытались хоть ненадолго задержать. На это она согласилась. Ей пришлось отправиться вместе с Дарьей Филипповной в гостиную, полюбоваться дагерротипами всех трех дочек и их мужей, изучить рисунок довольно грубого кружева, которое плели мастерицы одной из деревень, принадлежавших Волковым. Наконец, мать и сын с сожалением проводили гостью до коляски. После недавней яростной вспышки Вася снова впал в тупое безразличие. Можно было подумать, будто он позабыл даже и о самой причине, вызвавшей его столь громкое негодование. Он шел, сгорбившись, опустив под мятой курткой плечи, по-стариковски шаркая ногами. Дарья Филипповна дважды тянулась поправить сыну воротник, но тот отталкивал ее руку.
– Оставьте… Не трогайте меня!
Обратный путь показался Софи бесконечным. Поднявшись к себе в комнату, она снова стала томиться нетерпением. Незадолго до ужина, не выдержав, спустилась в кабинет, где Сережа ждал ее, чтобы идти к столу. Взглянув на племянника, Софи испытала настоящее потрясение. Нет, не может быть у убийцы настолько спокойного лица! Невозможно представить себе этого мальчика – с такими непринужденными повадками, с такими приятными чертами лица… невозможно представить его стискивающим шею отца, изо всех сил, долго – пока тот не задохнется… Ерунда! Вася помешанный, а его мать попросту дура! Зачем только она стала их слушать?
– Ну, тетушка, как вы погостили у Дарьи Филипповны? – спросил он. – Приятные ли были разговоры?
– Очень приятные, – сказала Софи, сама не понимая, что говорит.
– Тогда что же вы так рано вернулись?
– Немного устала, хотелось отдохнуть…
– Может быть, вы предпочитаете поужинать у себя в комнате?
– Нет-нет, зачем же…
Слуга распахнул двойную дверь. Стал виден накрытый стол – слишком большой, слишком ярко освещенный свечами в серебряных канделябрах. Эта привычная глазу картина окончательно успокоила Софи.
7
– Не спрашивайте меня об этом, барыня, голубушка! – вздохнул Антип. – Если отвечу, крыша рухнет мне прямо на голову!
Он опасливо покосился на потолок своей избы и перекрестил себе грудь.
Софи, тем не менее, повторила свой вопрос:
– Если не мужики убили Владимира Карповича, тогда кто же это сделал?
– Да не знаю я!
– Хочешь, сама тебе скажу?
– Нет! Нет! – забормотал старик, округлив испуганные глаза.
– Это сделал его сын.
Антип упал на колени.
– Пресвятая Богородица! Да разве можно, греха на душу не взяв, произнести перед иконами такие слова?
– Хватит дурака валять, Антип! Мне необходимо знать правду! Он, Сережа, Сергей Владимирович, правда ведь?
– Да, – прошептал Антип и стал озираться кругом, словно хотел проверить, не слышал ли его кто-нибудь еще, кроме Софи.
Дверь и окно были наглухо закрыты, в комнате царил пахучий полумрак. Посреди стола лежал ломоть черного хлеба, рядом, на обрывке газеты, – горстка соли.
– Как ты можешь быть в этом уверен? – спросила она.
– А я, барыня, голубушка, в этом не совсем и уверен!
– Но почти?
– Да!
– Почему же?
Он встал, кряхтя, и затряс своей большой лохматой головой с морщинистым лицом так, что едва не сорвал ее с плеч.
– Когда ты уже стар и тебе весь день нечего делать, сидишь и думаешь, больше ничего не остается, – заговорил он. – Пятнадцатого мая, на рассвете, три мужика вроде бы убили Владимира Карповича в купальне. Но зачем они отправились в купальню?
– Им было приказано починить пол, – сказала Софи.
– А кто им приказал починить пол?
– Не знаю… Должно быть, сам Владимир Карпович…
– Да нет, барыня! Его сын! Сергей Владимирович пришел в деревню пешком, четырнадцатого мая, поздно вечером. Он выглядел странно: одежда в пыли, на щеке царапина. Молодой барин велел Осипу-рыжему и Федьке с Макаром завтра с утра всенепременно прийти с инструментами на берег реки, чтобы починить пол в купальне. Обычно в таких случаях с нашими ребятами идет погонщик, чтобы присматривать за тем, как они работают, – таковы правила, и Сергей Владимирович требует строго их соблюдать, поскольку сам их и придумал. Ну, так вот! В тот вечер, четырнадцатого мая, он пришел в деревню и сказал мужикам: «Завтра погонщика не будет! Идите туда одни! Так будет проще!..»
– И что тут удивительного?
– Э-э, барыня! Да если бы они пошли туда с погонщиком, тот не мог бы потом поклясться на Евангелии, будто видел, как они душили своего господина. Так нет же! Они, как было велено, так и отправились туда совсем одни: просто желторотые птенчики, такие простодушные и доверчивые!.. И наткнулись на мертвое тело. Сами чуть не до смерти перепугавшись, мужики бросились к молодому барину, чтобы рассказать ему об этом. А он только того и ждал. И немедленно обвинил ребят в том, что они и убили. Но убил-то на самом деле он! Еще ввечеру! Весь дом слышал, как они с отцом ругались в кабинете. Потом вроде как помирились, распили бутылочку, под ручку отправились в купальню. А что ж они собирались там делать? Может, искупаться хотели, в такой-то холод? Может, и да: выпившему человеку еще и не то в голову придет!.. Было уже совсем темно. Слуги видели, как сын с отцом вышли из дома, вот только никто не видел, как они вернулись. Теперь понимаете?
Больше всего Софи смущало то, что Сережа накануне убийства лично распорядился, чтобы погонщик не сопровождал мужиков в купальню. Подобное распоряжение, бесспорно, навлекает подозрения на того, кто его отдал. Вот только не выдумал ли это старик Антип от начала до конца? С тех пор, как Софи приехала в Каштановку, ей все время казалось, будто она кружит на месте в сплошном тумане. Ложь здесь была всего лишь одной из разновидностей правды. Ни на кого нельзя было положиться, всякий врал, чтобы спасти свою шкуру, погубить соседа или придать себе значительности. Антип, выложив все, что знал, прижимал руку ко рту, словно сделанное им признание, вырываясь изо рта, по пути раскрошило ему зубы. Софи направилась к двери.
– Вы не можете вот так уйти, барыня! – закричал он, загораживая ей дорогу.
Она поняла: по мнению Антипа, получается, что он отдал ей в руки бомбу, которую она может бросить, когда и куда угодно.
– Барыня, барыня! – твердил он. – Что вы теперь собираетесь делать?
Софи, ничего не ответив, отстранила старика и вышла. Он, прихрамывая, заковылял за ней. Коляска ждала посреди деревни. Устраиваясь на сиденье, Софи заметила верховую лошадь, привязанную к колышку у церкви. Когда она приехала в Шатково, лошади на этом месте не было. Приглядевшись, Софи узнала коня Сережи. Антип проследил за ее взглядом и переменился в лице.
– Молодой барин! – прошептал он. – Ай-я-яй! Что же мы ему скажем?
– Ничего мы ему не станем говорить, – пожала плечами Софи. – Чего ты испугался-то?
В это мгновение дверь дома священника распахнулась и на пороге показался Сережа, которого провожали поп с попадьей. Простившись с ними, он размеренной походкой, сохраняя на губах насмешливую улыбку, направился к Софи.
– Какая приятная встреча! – воскликнул юноша, приблизившись к коляске. – Тетушка, вы навещали этого милого юродивого?
Антип тотчас съежился, захлопал глазами и высунул кончик языка. Затряс головой, залопотал:
– Барин, солнышко наше ясное! Храни тебя Господь! Тебе бы тоже надо было зайти меня навестить! Я бы подарил тебе блошку, она играет на гармошке! Куда она скакнет, там копай, найдешь золото! А разве есть такой человек, которому золото не нужно? Даже царь в своем дворце золота хочет! А я знаю, где его найти! Мне моя блошка показывает!..
Он притворился, будто двумя пальцами ловит блоху у себя на рукаве, подмигнул и продолжал болтать:
– Ну как, барин, хочешь на мою блошку взглянуть?
Сережа грубо оттолкнул его.
– Пошел вон, дурак!
– Ой, блошка моя, блошка! Куда же она упала-то?
Антип с удрученным видом присел на корточки и принялся шарить по земле. Софи стала уже подумывать, а не потерял ли старик и в самом деле разум от потрясения и неожиданности? Но умный и хитрый взгляд, которым тот поглядел на нее снизу вверх, убедил ее в том, что Антип притворяется юродивым, чтобы его оставили в покое.
– Надо бы официально разрешить истребление подобных людей! – проворчал Сережа. – Толку от них никакого, а другим подают дурной пример…
– Никому, кроме Бога, не дано права решать, есть от человека, впрочем, как и вообще от любого живого существа, польза или нет, – твердо проговорила Софи, глядя племяннику прямо в глаза.
Тот засмеялся:
– Вы правы, тетушка! Не будем занимать место Всевышнего! Это, в конце концов, может навлечь на нас новые неприятности. Ну, мне пора ехать в Крапиново! А вы не в ту же сторону собираетесь? Мы могли бы отправиться дальше вместе…
– Нет, спасибо, я предпочла бы вернуться домой.
– Что ж, тогда – приятной вам прогулки!
Поклонившись, Сережа подошел к своему коню, легко вскочил в седло и двинулся скорой рысью по грязной дороге.
– Уф! – Антип поднялся на ноги и перевел дух.
Но, заметив, что кучер через плечо на него поглядывает, из осторожности придержал язык.
– Ты, Антип, ничего не бойся! – успокоила его Софи. – Никто ничего плохого тебе не сделает! Поехали, Давыд!
Старый слуга, стоя перед лошадьми, крестил воздух до тех пор, пока коляска не тронулась, и только тогда отпрянул в сторону.
На выезде из деревни Софи крикнула кучеру:
– Не гони так! Нам скоро надо будет остановиться!
По дороге в Шатково она видела группу крестьян, которые выкорчевывали пни на краю рощицы. И теперь Софи велела кучеру подвезти ее в коляске насколько можно близко к работам, затем пошла напрямик через поле. Увидев барыню, крестьяне сняли шапки и поклонились. За работой наблюдал высокий, крепкий, бородатый погонщик с пористым синим носом, в высоких сапогах. Отведя его в сторону, Софи напрямик спросила, в самом ли деле пятнадцатого мая мужики по приказу молодого барина отправились в купальню без сопровождения.
– Конечно! – ответил тот. – Сергей Владимирович лично приказали. Иначе, сами понимаете, сопровождение было бы, какое положено! Только почему вы меня об этом спрашиваете?
– Потому что, если эти люди сами решили обойтись без вас, направляясь работать в купальне, они виновны вдвойне!
– Это верно! – признал погонщик, тупо глядя на нее.
– А вы сказали об этом комиссии по расследованию?
– О чем?
– О том, что молодой барин накануне убийства отдал вам определенные распоряжения.
– Нас об этом не спрашивали.
– Это могло иметь большое значение!
– Да нет же! Господа из полиции очень быстро поняли, что здесь произошло. Через десять минут преступники уже и не знали, что сказать. Они во всем признались на Евангелии. И тогда следователи всё записали: имена, прозвища, числа – и подписи поставили, и печати приложили. Называется – «взяли официальные показания». И нам не велено было к этому возвращаться! Да и вам, барыня, зачем?
Пока охранник разглагольствовал, крестьяне работали с меньшим усердием.
– Эй, вы там работаете или уснули? – в конце концов обернулся погонщик и беззлобно покрутил в воздухе дубинкой.
Софи вернулась назад. Ее тоска и тревога так разрослись, что пришлось остановиться: слишком сильно билось сердце. Давыд помог барыне взобраться в коляску. С тех пор как Сережа велел кучеру повиноваться Софи, тот не знал, как ей и угодить.
– Устали, матушка-барыня? – спросил он. – Возвращаемся домой?
– Нет. Отвези-ка меня в купальню.
Давыд уставился на нее с суеверным ужасом.
– Это проклятое место, барыня! Не надо туда ходить!
Софи молча похлопала его по плечу. Давыд перекрестился, свистнул и стегнул коней.
Купальня стояла в укромном местечке, в самой запущенной, невозделанной части каштановского парка, на конце спускающейся к реке тропы, между двумя плакучими ивами с наклоненными и искривленными стволами. Раздевалкой здесь служила хижина, сложенная из кругляков. Перед ней был выстроен настил на сваях. Деревянная лесенка позволяла купальщикам войти в воду, не держась за прибрежные травы. К вбитому у берега колу кто-то привязал плоскодонку с трухлявыми веслами. Софи почти никогда не приходила в этот заброшенный уголок, где летом вились тучи комаров. Но Николай когда-то удил тут рыбу или купался в сильную жару.
Она села на скамейку, вдохнула запах тины. Было сыро и холодно. На середине реки плясали круглые, словно блюдца, отблески неярких солнечных лучей. Вокруг камня собиралась оборка кружевной пены. Неумолчный плеск воды убаюкивал, навевал грезы.
Софи и сама не знала, что заставило ее приехать сюда и остаться. Задумчиво глядя вдаль, не искала улик и доказательств, но ждала вдохновения, подсказки свыше. Ей казалось, будто она сможет лучше представить себе обстоятельства, при которых совершилось убийство, если станет думать об этом на том самом месте, где преступление было совершено. Вот две железных руки стискивают тощую шею, в которой бьется, хрипит, задыхается жизнь; вот закатываются глаза жертвы; тело неуклюже валится на доски настила… Софи опустила глаза. У нее под ногами лежал голый, серый, мокрый и шершавый пол – зрелище завораживало своей обыденностью. Несколько досок прогнили: наверняка те самые, которые мужики должны были заменить, но не успели. После того, как произошла трагедия, к настилу больше никто не притронулся. Сквозь щели видна была бегущая вода. Но, сколько ни вопрошала Софи эти доски и эти стены, все видевшие и слышавшие, ответа она не получила. Руки и ноги у нее онемели, отяжелели, начинала тяжелеть, тупеть и голова. Внезапно ее внимание привлек какой-то мелкий предмет, блеснувший в трещине старой доски. Софи подобрала его: у нее в руке оказалась аметистовая пуговица. Но где же она недавно такие видела? А-а-а, на Сережином жилете… Поначалу воспоминание «сыщицу» не смутило, затем все ее существо на мгновение содрогнулось, всего на одно мгновение, оказался пропущен лишь один удар сердца, но Софи почувствовала слабость и озноб, вся заледенела и совсем лишилась сил. Если эта аметистовая пуговица попала в щель настила, значит, Сережа потерял ее, когда дрался с отцом, другого объяснения быть не могло. Ни малейших сомнений не оставалось. Надо обратиться в полицию. Приобщить к делу это вещественное доказательство. Потребовать пересмотра решения суда. Но не ответят ли ей, что Сережа мог потерять пуговицу в любой другой день, задолго до преступления, например летом, когда раздевался, чтобы искупаться в реке? Словно споткнувшись на бегу, Софи с удивлением осознала, как далеко завлекло ее возбуждение. Как она раньше не отдавала себе отчета в том, что вывела целую историю из ничего? Маленький лиловый камешек поблескивал на ладони… Софи хотела было бросить его в воду, но вовремя опомнилась и опустила аметист в сумочку, висевшую на поясе, как будто это был некий талисман. Даже если ее находка, эта аметистовая пуговица, ровно ничего не значит, все равно распоряжения, отданного Сережей погонщикам накануне убийства, достаточно для возобновления судебного дела, для того, чтобы выдвинуть совершенно другое обвинение. И Софи в секунду снова оказалась во власти непреодолимого желания восстановить справедливость, покарать истинного преступника. Голова у нее пылала, мысли так и кипели. Но как мучительно сознавать, что не с кем поделиться своими подозрениями! Ах, как же сегодня недостает рядом ее лучшего сибирского друга! Фердинанд Богданович успокоил бы ее, поддержал, ободрил, дал дельный совет… Она согласилась бы вытерпеть все что угодно, если бы взамен ей дали возможность переписываться с доктором! Но теперь было совершенно ясно, что письма, которые они друг другу пишут, никогда не дойдут по назначению. Да и Полина что-то помалкивала теперь, отдалялась… Софи неохотно встала и пошла по тропинке, ведущей к дороге. Давыд с высоты своего сиденья боязливо смотрел в сторону хозяйки. Лошади при виде ее заржали.
– Все время, пока вы были там, барыня, они прядали ушами, – сказал кучер. – Верный знак, что вокруг бродит привидение. Давайте-ка скорее подадимся отсюда!..
Софи села в коляску, закрыла глаза и горько пожалела о том, что она всего лишь одинокая слабая женщина и ей пришлось столкнуться с проблемой, решить которую ей не по силам.
* * *
Всю первую половину ночи завывал ветер, затем вдруг наступила глубокая тишина. Утром, приблизившись к окну, Софи увидела за стеклами сплошную, ровную, однообразную белизну. С невидимого неба крупными хлопьями валил снег. Даль за этим медленно ткущимся полотном таяла, ели расплывались дымом, сгладившаяся дорога соединилась с лужайкой. Софи показалось, будто пейзаж за окном переряжается, чтобы отвести от Сережи подозрения. Снег, заваливший все кругом, скрыл возможные улики. Все внезапно сделалось чистым, нереальным, невинным.
8
Вася Волков пересек большой, выложенный плитами вестибюль, обменялся несколькими словами со сторожившим двери секретарем и, вернувшись на прежнее место, снова уселся рядом с Софи, шепнув ей:
– Теперь, кажется, уже недолго осталось ждать!
Софи поблагодарила его. Без Васи ей бы никогда не осмелиться на просьбу об аудиенции. Подумать только, что она целых три недели колебалась, прежде чем снова отправиться в Славянку, ну никак не могла собраться с духом! Выслушав рассказ Софи о том, что она услышала в исповеди Антипа, Вася немедленно решил, что поедет вместе с ней к губернатору. Волковы были в родстве с этим высокопоставленным лицом, и Вася нисколько не сомневался в том, что сумеет убедить его в необходимости пересмотреть дело «в силу вновь открывшихся обстоятельств».
Было непривычно видеть, как старательно этот человек, дома одевавшийся так плохо и так небрежно, принарядился и причесался ради поездки в город. Да и обычная Васина вялость сменилась мужественной решимостью. Застыв неподвижно на краю стула, в шубе, распахнутой на груди так, что всякому была видна белоснежная манишка, он вперил в пустоту пристальный, испытующий взгляд. Однако гордой осанки спутника Софи было явно недостаточно для того, чтобы успокоиться. По мере того, как шло время, она все больше боялась предстоявшего разговора с действительным статским советником Черкасовым, чья власть простиралась на всю Псковскую губернию. Раздался звонок, секретарь на мгновение скрылся, затем появился вновь и пригласил посетителей следовать за ним.
Софи вошла в просторный кабинет с креслами, обитыми малиновым бархатом. Она знала губернатора, ей ведь пришлось явиться к нему сразу по возвращении из Сибири. Черкасов был худой, благородного вида старик с серебряными волосами, гривой падавшими на плечи. В стоявшем у него за спиной большом, помещенном в позолоченную раму наклонном зеркале отражался уложенный елочкой паркет. Усадив Софи и Васю в неудобные, как сразу выяснилось, кресла, сам он устроился за рабочим столом, произнес несколько любезных, но ничего не значащих фраз, чтобы завязать разговор, затем, вздохнув, поинтересовался, чему обязан честью этого посещения. Тут, когда настала минута выдвинуть обвинение против племянника, голова у Софи сделалась пустой, руки похолодели. Поскольку она никак не решалась начать и ожидание затягивалось, Вася Волков бросил на нее ободряющий взгляд. И тогда внезапно, словно помимо воли, Софи произнесла:
– Я пришла по поводу обстоятельств убийства Владимира Карповича Седова…
На лице губернатора появилось выражение такого напряженного внимания, что натянулась кожа на лице и он сам сделался похож на мертвеца.
– У меня сведения… я должна сделать серьезнейшее заявление, – немного громче и увереннее продолжала она.
– Слушаю вас, сударыня, – произнес наконец губернатор.
– Накануне того дня, когда совершилось убийство, мой племянник побывал в деревне Шатково…
Теперь она говорила с озадачивающей собеседника легкостью и непринужденностью, без малейшего страха и не подыскивая слов. Рассказ разворачивался плавно, словно лента, если ее потянуть за конец. Когда посетительница умолкла, Черкасов продолжал сидеть настолько невозмутимый и бесстрастный, что Софи усомнилась: уж не во сне ли ей привиделось, будто она произнесла всю эту речь. Однако опасения ее вскоре рассеялись: Вася Волков, встревоженный долгим молчанием чиновника, вмешался в разговор.
– Обстоятельства, с которыми ознакомила вас сейчас госпожа Озарёва, показались мне настолько важными, ваше превосходительство, – проговорил он, – что я уговорил госпожу Озарёву поделиться с вами полученными сведениями. Зная вашу любовь к справедливости, я ни на мгновение не усомнился в том, что вы будете потрясены, услышав о том, как было дело!..
– Может быть, так бы оно и случилось, если бы виновные не признались в совершенном ими преступлении, – с улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего, процедил сквозь зубы губернатор.
– Крестьяне знали, что им грозит в случае, если они будут по-прежнему настаивать на своей невиновности! – возразила Софи.
Губернатор приподнялся с кресла, опираясь обеими руками о край стола. Его черно-седые брови сдвинулись.
– Сударыня, – строго начал он, – у вас довольно странное представление о российском правосудии. Суд над убийцами Владимира Карповича Седова состоялся с соблюдением всех необходимых в этом случае юридических процедур. Приговор, оглашенный судьей, пересмотру не подлежит. Что касается обвинения в отцеубийстве, выдвинутом вами против вашего племянника, то я не знаю, осознаете ли вы всю тяжесть…
– Я хорошо все обдумала и взвесила перед тем, как решиться рассказать об этом вам, ваше превосходительство…
– Вы еще недостаточно хорошо подумали, сударыня. Иначе вы отдавали бы себе отчет в том, что Сергей Владимирович пользуется в наших краях безупречной репутацией, что у него никогда не было ни малейших столкновений или разногласий с властями и что смерть отца была для этого юноши величайшим горем! Прибавлю к сказанному, что вы должны были бы быть последним человеком, свидетельствующим против него!
– Почему? Потому что он мой племянник? – уточнила Софи.
– Потому что вы только что вернулись из Сибири, сударыня. Позвольте мне заметить, что в вашем положении лучше было бы проявить крайнюю скромность. Чем тише вы будете себя вести, чем легче о вас забудут, тем лучше будет для вас же самой. То же относится и к господину Волкову, который счел уместным поддержать вашу просьбу. Он также обязан своим нынешним спокойствием только лишь благорасположению его величества.
Вася Волков опустил голову, словно школьник, получивший выговор. Вся надменность с него слетела. Софи, не в силах сдержать негодования, закричала:
– Так, стало быть, то обстоятельство, что у нас обоих либеральные взгляды, лишает нас права подавать жалобы на кого бы то ни было!
– Оно лишает вас права, сударыня, подавать жалобу на особ, стоящих, в отличие от вас, выше всяких упреков!
– Ваше превосходительство, разрешите заметить, что вы вносите в правосудие ложные политические понятия!
– Это не так опасно, как вносить в политику ложные представления о справедливости, как сделали ваши друзья-заговорщики! На самом деле мне пристало бы отнестись к вашему вмешательству в уже законченное судебное дело как к клеветническому посягательству, и мне полагалось бы от имени человека, против которого вы выступаете, потребовать у вас объяснений. Но мне не хочется, госпожа Озарёва, новых скандалов в округе. И я готов забыть все, что вы мне рассказали. Но это все, что я могу обещать вам.
На какую-то секунду действительный статский советник Черкасов показался Софи жалким, пошлым и нелепым созданием, поглощенным только своими бюрократическими заботами, – и это в то самое время, когда троих ни в чем не повинных людей отправили на каторгу.
– Ваше превосходительство, вы не можете отказаться проверить те сведения, которые я вам принесла! – пролепетала она. – Одна только мысль о том, что могла быть совершена юридическая ошибка, должна была бы побудить вас отдать распоряжение провести дополнительное расследование. Умоляю вас, от имени несчастных, которые…
– Довольно, сударыня! – прервал ее губернатор. – Приберегите ваше милосердие для более подходящих случаев!
Он встал с кресла. Казалось, к старости кровь покинула это некогда крупное тело, оставив лишь пергаментную оболочку со впалыми, сморщенными щеками. Костлявые пальцы судорожно затрясли колокольчик. Дверь отворилась. Вася склонился к уху Софи.
– Больше нам здесь делать нечего, – прошептал он. – Давайте-ка уходить…
Он вышел, Софи последовала за ним. Васины сани ждали их у входа в губернаторский дворец – свои, те, в которых приехала в Славянку, она оставила там, решив, что лучше Давыду с его длинным языком не знать, что она в этот день ездила в Псков. Вася усадил Софи рядом с собой, закутал медвежьей полостью, взял в руки вожжи. Лошадь мотнула головой, отчего под расписной дугой зазвенели бубенцы, лениво пошла вперед, и сани медленно покатились по снегу. За городской заставой Вася ходу подбавил. По обеим сторонам дороги расстилалась под серым небом бесконечная тускло-белая равнина, на которой лишь кое-где торчали тощие голые березки. Вороны с гневным карканьем летали над этой холодной пустотой.
– Прошу прощения за то, что втянул вас в эту авантюру, – заговорил Вася. – Но мог ли я предположить, что Черкасов так плохо нас примет? Ах, Россия – совершенно обескураживающая страна. Во всяком случае, надеюсь, что наша вылазка не навлечет на нас неприятностей!..
– А какие неприятности она могла бы на нас навлечь? – спросила Софи.
– Ну, скажем, если о визите к губернатору узнает ваш племянник…
– Это заставит Сережу больше меня уважать! Больше со мной считаться!
– Или сильнее вас ненавидеть?
– Да что он может сделать против меня!
– Он и против своего отца ничего не мог сделать! Однако смотрите, как лихо от него избавился! Остерегайтесь, сударыня! Будьте крайне осторожны! Этот молодой человек способен на все! Вам следовало попросить у губернатора разрешения сменить место проживания.
– И куда бы я поехала? Каштановка – единственное место на свете, где я у себя дома!
– А вы не думали о том, чтобы вернуться во Францию?
– Разумеется, думала! Но ведь это невозможно… Мне потребовалось семнадцать лет на то, чтобы добиться позволения хотя бы перебраться из Сибири в Россию. Так сколько же лет мне теперь потребуется на то, чтобы получить разрешение перебраться из России во Францию? Впрочем, это был бы трусливый и подлый поступок! Мое место здесь, среди крестьян. Я многое могу для них сделать…
– Вы только что убедились в обратном!
– Я слишком поздно приехала, потому и не сумела помочь этим мужикам, с другими повезет больше.
Вася вновь пустил коня шагом. Холод теперь казался Софи не таким обжигающим. Должно быть, ее спутник не очень спешил вернуться домой, в Славянку.
– Если бы вы одна отправились к губернатору, может быть, он бы лучше вас принял, – задумчиво проговорил Вася.
– Я думала, вы с ним в превосходных отношениях!
– Да я и сам так думал! Мой отец был с ним в дальнем родстве. И вот вам результат!.. Видите ли, Софи, дело тут только в том, что я ни на что не годен! Я приношу неудачу всем, кому хотел бы помочь! А началось это 14 декабря 1825 года… Вам случается думать о повешенных?
– О повешенных?
– Да, о Рылееве, Пестеле, Муравьеве-Апостоле, Бестужеве-Рюмине, Каховском…
– Признаюсь, нет, – ответила она.
– А я часто вижу их во сне. Они со своей виселицы показывают мне язык, осыпают бранью… Теперь к пятерым повешенным прибавятся трое невиновных каштановских мужиков и тоже станут меня терзать… Знаете, самое на свете удивительное, на мой взгляд, – то, что, в конце концов, с любой несправедливостью можно смириться. Люди, которых считали незаменимыми, падают, и ряды перестраиваются, жизнь продолжается…
Он щелкнул языком. Конь пошел рысью. Софи молчала, прислушиваясь к звону бубенцов. Жалобы Васи ей прискучили, полностью оправиться после неудачи у губернатора так и не удалось. Одна мысль о том, что придется смириться со сложившимся положением и жить бок о бок с убийцей, которого все окружающие считают порядочным человеком, возмущала ее до того, что ей трудно было представить себе возвращение домой. Внезапно она увидела два знакомых холма, означавших, что сани приближаются к Славянке. На Васином лице появилась вялая улыбка.
– Матушка ждет нас к чаю, – сказал он.
Софи поначалу стала отказываться:
– Это очень любезно со стороны Дарьи Филипповны, но, право же, я не смогу задержаться…
– Да почему? Не торопитесь уезжать, Софи! Куда, к кому вам спешить? Разве что боитесь рассердить Сергея Владимировича, если вернетесь слишком поздно…
Одной этой фразы оказалось достаточно для того, чтобы Софи мгновенно передумала.
– Верно, Вася, мне и впрямь некуда спешить, – заявила она.
– Ну, так что же?..
Она приняла приглашение, как приняла бы брошенный ей вызов.
9
С каждым днем Софи все глубже увязала в ложной ситуации, которая была ей ненавистна, но выхода из которой она не видела. Невозможно ни сказать племяннику, что хотела его выдать, обличить его как убийцу, ни притворяться, будто все еще пребывает в неведении! Стоило ей увидеть Сережу, как ее охватывало до дурноты сильное чувство, в котором отвращение смешивалось с негодованием. Она смотрела на любезного, улыбающегося молодого человека и видела, как белоснежные манжеты облегают руки убийцы. Сил не оставалось терпеть этот постоянный вызов правосудию, и она изощрялась как только могла, стараясь избегать встреч с ним. Но, поскольку дороги безнадежно завалил снег, Сережа почти все время проводил дома, так что Софи ничего другого не оставалось, кроме как целыми днями сидеть взаперти у себя в комнате. Иногда она даже просила, сославшись на мигрень, подать туда еду. Конечно, племянника не могли обмануть эти попытки оправдать отсутствие за общим столом, но он делал вид, будто верит отговоркам Софи, – может быть, ему чем-то было выгодно, что ее не было рядом, а может быть, он просто опасался ссоры. Как бы там ни было, таким образом тетка и племянник, не сговариваясь, пришли к тому, что жили теперь под одним кровом независимо друг от друга. Однако это затишье, полное взаимной ненависти, истощало силы Софи. Стараясь себя успокоить и ободрить, она уговаривала себя, приводила глупые аргументы: дескать, не все еще ставки сделаны и в конце концов найдется способ сорвать маску с преступника.
Прошли рождественские праздники, за ними – новогодние, Софи волей-неволей пришлось вместе с Сережей принимать поздравления слуг. Вечером семнадцатого января, перед ужином, она отправилась в кабинет, чтобы взять книгу. Племянник вошел следом за ней и закрыл дверь. Софи в ярости обернулась, но Сережа примирительным тоном заговорил:
– Простите, тетушка, что побеспокоил вас. Но в последние недели вы совершенно неуловимы, так что мне ничего другого не оставалось, кроме как застать вас врасплох. Вы ведь знаете, что завтра Богоявление…
Софи мгновенно поняла, к чему он клонит. С незапамятных времен хозяева Каштановки присутствовали при обряде освящения воды. После молебна помещики и мужики окунались в прорубь. Она вспомнила, как Никита, выбравшись из реки, топтался на снегу, с раскрасневшимся от мороза лицом, горящими юношеской гордостью глазами, как на его безволосой груди блестел крест…
– Я надеюсь, что вы поедете со мной в Шатково, где будет отслужен молебен под открытым небом, – продолжал Сережа. – Если ничего не имеете против, мы выедем из дома в восемь часов утра…
Тон племянника был самым любезным, но взгляд – властным и непреклонным. Софи почувствовала, как вся накопившаяся злость разом ударила ей в голову.
– Нет, – ответила она, – я с вами не поеду.
– Как, тетушка! В такой великий праздник! Надо, чтобы наши крестьяне видели нас рядом во время совершения обряда!
– Зачем? Чтобы доказать им, что, несмотря ни на что, мы во всем согласны?
– Чтобы создать у них впечатление, что, несмотря на то, что вы католичка, вы не презираете их веры.
– Крестьянам ни к чему видеть меня на молебне, они и без того знают, что я о них думаю!
– Что ж, как хотите, неволить не буду, – проворчал он. – Не стану же я тащить вас в Шатково силой. Но позвольте заметить, что я нахожу ваше поведение вызывающим! Хотя ваша беседа с губернатором должна была бы, напротив, заставить вас призадуматься!
Он улыбался, прикрыв глаза, склонив голову к плечу. Наверное, с минуту Софи испытывала нестерпимую тревогу, но в следующее же мгновение ей стало легче. Вот и хорошо, вот и нет больше никакой надобности притворяться! Теперь она может выступить против врага в открытую, не таясь. Кто рассказал Сереже о разговоре? Несомненно, сам губернатор и рассказал! Софи почувствовала, как глухо бьется кровь в артериях у нее на шее.
– Что ж, правду так правду, – проговорила она бесцветным голосом. – Я виделась с губернатором и сказала ему, что думаю об этом убийстве…
– И господин Черкасов не смог убедить вас в моей невиновности?
Софи с вызовом посмотрела на племянника и стиснула зубы. Сережа уселся на край стола, скрестил ноги, стал легонько покачивать правой ступней.
– Разумеется, – пробормотал он, – вы упрямы, и вас очень нелегко убедить. Когда вы ухватитесь за какую-нибудь мысль, все равно, хорошую или дурную, вскочите на нее, станете погонять без устали и галопом проскачете до самого конца, то есть в большинстве случаев – до ближайшей ямы. Но все-таки лучше нам во всем разобраться как следует. Причем я не столько хочу себя обелить в ваших глазах, сколько показать, что, немного поразмыслив, вы могли бы не выставлять себя на посмешище, выдвигая противоестественное обвинение…
– Если что и было противоестественно, – закричала она, – то это способ, каким вы добились обвинительного приговора для этих троих крестьян, в то время как…
– В то время как преступник – я сам? – договорил он вместо нее. – Соблазнительная гипотеза! Тем не менее одних только чувств, которые я питал к моему отцу и которые были всем известны, вполне хватило бы для того, чтобы меня оправдать…
– Что, скажете, не было у вас с Владимиром Карповичем накануне убийства серьезной ссоры?
– Была. Но что это доказывает? Поспорили из-за денежных вопросов…
– И подрались!
– Не будем преувеличивать!
– Вас слышали!
– Господи, да выпили мы оба. И после того, как объяснились – достаточно шумно, признаюсь, – отправились прогуляться в сторону купальни. Там я заметил несколько прогнивших досок и, предоставив моему отцу в одиночестве возвращаться домой, отправился в Шатково.
– Пешком! Помилуйте, не может такого быть!..
– Может быть, для вас это и невозможно, зато вполне возможно для меня. Я люблю ходить пешком! В Шаткове я выбрал троих мужиков, которым и поручил на следующее утро починить пол в купальне.
– И при этом позаботились, чтобы отправить их туда без всякого сопровождения!
– Эти трое парней превосходные плотники. За ними незачем было присматривать, к тому же мне едва хватало погонщиков для того, чтобы присматривать за работой других мужиков в поле.
Такое простое объяснение сбило Софи с толку. Она не могла собраться с мыслями. Испуганная собственным замешательством, не зная, что ответить, она перешла в нападение:
– Те, кто видел вас в тот вечер, единодушно утверждают, что вид у вас был растерянный, одежда измята и на щеке свежая царапина!
– Погодите, но разве я только что не признался, что перед тем поссорился с отцом? – спокойно возразил Сережа.
– А потом, потом – что произошло? Вы вернулись в Каштановку и поужинали вместе с Владимиром Карповичем?
– Нет, отец к тому времени уже лег в постель. Я просто зашел к нему в спальню пожелать доброй ночи.
– Никто не видел, как он вернулся домой! Это странно!
– Тем не менее такое случается.
– И никто не видел, как он вышел из дома на следующее утро, чтобы отправиться в купальню!
– Слуги еще не проснулись.
– В котором же часу это произошло?
– Думаю, около пяти утра…
– Ну и что же ему было делать в такую рань на берегу реки?
– Откуда мне знать? Отец был таким чудаком! Может быть, у него там было назначено свидание с какой-нибудь крепостной девкой. Но, придя на место, он наткнулся на мужиков, которые уже приступили к работе, обругал их, потому что они нарушали его планы. Затем, разозлившись, побил. Один из мужиков, защищаясь, должно быть, сильно его ударил. А затем, опасаясь, как бы отец их не выдал мне или не наказал сам, мужики прикончили его, задушили голыми руками, после чего пришли ко мне и рассказали, что нашли барина в купальне мертвым…
У него на все был готов ответ. В изложении племянника даже самые подозрительные события выстраивались вполне логичной цепочкой. Софи больше не находила доводов, которые могла бы выставить против этой версии, но, несмотря на то что ей ничего не приходило в голову, все еще отказывалась признавать себя побежденной.
В течение довольно долгого времени Сережа молча смотрел на то, как она не находит слов, потом, все еще сидя на краю стола и раскачивая ногой, язвительно улыбнулся и ласково произнес:
– Ну, и что же, дорогая тетушка, мы теперь будем делать?
Она не ответила.
– Вы плели заговор у меня за спиной, – продолжал он. – Вы пытались настроить против меня власти. Вы объявили себя моим прокурором, моим врагом, хотя я принял вас со всей доброжелательностью, на какую только способен! Теперь о примирении между нами не может быть и речи!
– Не может, – подтвердила Софи.
– Конечно, правительство определило вам Каштановку в качестве места пребывания. Следовательно, я должен мириться с вашим присутствием в доме. Однако это положение делается с каждым днем все более нестерпимым. И я вижу тут одно-единственное решение проблемы: ваш отъезд. Вам следует попросить разрешения поселиться в каком-нибудь другом месте. В Санкт-Петербурге, Москве, Париже, Пекине… Где вам будет угодно! Только не здесь!..
Софи понимала, что Сережа прав, и все же какая-то непреодолимая сила заставила ее ответить:
– Значит, вас устроило бы, если бы я отсюда уехала? Вот уж на что не рассчитывайте! Я останусь здесь, чего бы это мне ни стоило и чем бы ни грозило! Это имение принадлежит мне ровно в такой же степени, как и вам!
– Где бы вы ни были, вы по-прежнему будете получать половину доходов с него.
– Когда я это говорила, то меньше всего думала о деньгах! Я думаю о людях… о несчастных людях, которые живут на этой земле… Пока я остаюсь среди них, я могу защищать их от вас!
– От меня? До чего же вы наивны! Разве вы не убедились в том, как мало значит ваше мнение для губернатора? Поймите же, наконец, что в России вы ничего собой не представляете, вы не можете пользоваться здесь доверием, вам никто не сочувствует, у вас нет будущего!.. Поймите это и смиритесь!.. И убирайтесь отсюда подобру-поздорову!..
Племянник уже не церемонился больше – он в открытую гнал ее, выгонял из собственного дома! Кровь бросилась Софи в голову, она закричала:
– Никогда! Ни за что!..
И бросилась к двери, намереваясь выбежать из кабинета. Однако Сережа, опередив ее, прислонился к двери и загородил дорогу. Ужасно: он ведет себя в точности так же, как его отец, когда пытался запугать бедняжку Машу, мелькнуло в голове у Софи. При свете лампы жестокое лицо племянника казалось отлитым из бронзы. Кожа на скулах поблескивала. В глазах горела невероятной силы ненависть.
– Вы чересчур торопливы, драгоценная тетушка! – сказал он. – Не спешите: я еще не договорил. Мне нравится, чтобы у меня во всем был полный порядок, и вам это известно. Так вот, выслушайте, что я решил на будущее: отныне вам будут подавать еду в вашу комнату. Вас это не должно стеснять, поскольку вы уже по собственной инициативе перестали выходить к столу. Кроме того, вы больше не будете заниматься домом. Никто из слуг больше не будет вам повиноваться. Больше того, им будет запрещено с вами разговаривать, отвечать на ваши вопросы. Прислуживать вам отныне будет позволено только вашей горничной Зое. При малейших нарушениях с вашей стороны всякого провинившегося, всякого, кто станет вас слушать, выпорют розгами!
– Вы уже однажды попробовали запугать меня этими подлыми принудительными мерами! – еле выговорила, так дрожали у нее губы, Софи.
– Совершенно верно, попробовал, потому и считаю: напрасно я отказался от этого, уступив вашим настояниям. Теперь, еще более укрепившись в сознании своей правоты и преисполненный решимости, я возвращаюсь к прежнему намерению. Можете жаловаться кому угодно, писать хоть губернатору, хоть царю, хоть папе римскому, я не уступлю и не отступлю! Вы уже имели случай убедиться в том, что, когда вы высказываете свое негодование, в высших сферах к вашим словам отнюдь не прислушиваются! А я уже имел случай убедиться в том, что с вами иначе как силой действовать нельзя! Вам рано или поздно придется сдаться! И вы сами станете просить, вы умолять меня будете о помощи, лишь бы вам разрешили уехать отсюда!
– Вы все сказали, Сергей Владимирович? – произнесла она, бестрепетно выдержав его взгляд.
– Да, все.
– Тогда позвольте мне пройти.
Племянник посторонился, освободив ей дорогу к двери. Софи вышла из кабинета. На лестнице у нее закружилась голова: столько сил было потрачено на то, чтобы противостоять Сереже, что теперь их не оставалось даже на то, чтобы дойти до своей комнаты. Что было делать? Постояла, опершись на перила, немного отдышалась и медленно стала подниматься дальше по ступенькам. Добравшись до своей спальни, совсем уже измученная, упала в кресло. Уронив голову на руки, постаралась справиться с охватившим ее отчаянием. Что с ней станет, как ей жить дальше среди окружающего ее враждебного мира? Софи нестерпимо хотелось плакать, но глаза оставались сухими. Да если бы она и стала проливать слезы, то не от печали, а от досады на себя самое и от злости на племянника. Слабый огонек ночника освещал край постели. На туалетном столике поблескивали флаконы. Стекла заиндевели, покрылись серебристыми морозными узорами. За ними – ночь, снег, безмолвие.
Когда настало время ужина, в комнату вошла Зоя, принесла на подносе холодное мясо и фрукты.
– Барыня, ужас-то какой! – прошептала она. – Барин только что позвал к себе в кабинет всех слуг. Он сказал им…
– Я знаю, что он им сказал, – так же тихо ответила Софи.
– Только я одна должна исполнять ваши приказания…
– Не бойся, я не стану задавать тебе много работы!..
– Да не в том беда-то, барыня!.. Я только хотела вас попросить… ради Давыда и ради всех остальных… вы ведь не станете делать ничего такого, что может рассердить молодого барина, правда ведь?..
Румяное лицо горничной приняло жалкое, просительное выражение, даже пухлые щеки, казалось, осунулись.
– Не бойся, никто из вас не пострадает по моей вине, – успокоила ее Софи.
– Ох, барыня, миленькая, спасибо вам! Сохрани вас Господь за вашу доброту! – причитала Зоя.
Упав на колени перед хозяйкой, она осыпала ее руки жаркими поцелуями. Софи чувствовала на своей коже теплое дыхание, вот так же у ее ног притулилась бы собака… Она похлопала девушку по круглой розовой щеке. Зоя вскочила и, не утирая мокрых глаз, принялась хлопотать, накрывая ужин на маленьком столике. «Ну вот, – подумала Софи, – теперь я настоящая узница!»
10
К середине февраля вьюги отрезали дом в Каштановке от окружающего мира – разве что из ближних деревень еще можно было изредка добраться в санях по проселкам, зато большая дорога сделалась совершенно непроезжей. Даже до Пскова, до которого было совсем недалеко, нечего и думать было доехать, остальные же российские города могли бы и вовсе исчезнуть с лица земли, и никто об этом здесь так и не узнал бы.
Одинокие среди холодной белой пустыни обитатели Каштановки зябко жались по углам старого дома с наглухо законопаченными окнами. Хорошо хоть дров и провизии было припасено достаточно для того, чтобы выдержать долгие месяцы зимней осады. Софи, в прежние времена любившая сельское уединение, теперь страдала от него, как от удушья. Все слуги в точности исполняли распоряжения Сережи, и, если не считать Зои, ни один из них к ней даже и не подходил близко, не то что не пытался заговорить. Они просто старались теперь не встречаться с барыней, чтобы не навлечь на себя неприятностей. А если она сама к кому-то из них обращалась, пусть даже не с просьбой и не с вопросом, тот делал тупое лицо и молчал, словно язык проглотил, а иногда поворачивался и улепетывал со всех ног. Если она зачем-нибудь входила в людскую, все разом умолкали и на всех лицах появлялось такое испуганное выражение, что Софи тут же уходила, чтобы не подвергать людей дальнейшей пытке страхом. Сережа ел один в столовой и много времени проводил, запершись у себя в кабинете, встретившись же ненароком с тетушкой где-нибудь в коридоре, не здоровался с ней и словно бы не видел ее. Оттого, что так много людей перестало ее замечать, Софи начала сомневаться в том, существует ли она еще на этом свете. Представление о собственной личности терялось в этой неотзывчивой пустоте. Одна только Зоя еще давала Софи возможность почувствовать, что она принадлежит пока этому миру. Конечно, бедной девушке нечего, совершенно нечего было сказать хозяйке, но горничная была, по крайней мере, живым, реальным человеком, у нее были уши, голос, взгляд, душа… От нее Софи узнавала обо всем, что делается в Каштановке, чем занимался хозяин дома, о чем разговаривали на кухне. Но сколько же времени можно довольствоваться столь убогой подделкой жизни? Не сломается ли Софи под грузом непереносимой скуки? «Только бы продержаться до весны, – уговаривала она себя. – Только бы продержаться! А там, глядишь, станет получше!»
Когда морозы были не очень сильными, Софи выходила погулять в парк. Снега нападало столько, что нельзя было шагу ступить в сторону – сразу провалишься по пояс. Аллеи сузились и выглядели теперь тропинками, зажатыми между двумя огромными белыми сугробами. Пробираясь мелкими шажками по узкой обледенелой дорожке, Софи наглядеться не могла на бледное сияние затонувшего в снегах мира, белизну, на которой резко выделялись мрачные силуэты елей.
Как-то раз, любуясь завораживающим пейзажем, она заметила вдалеке скачущего всадника: это Сережа возвращался с прогулки. Он пустил коня галопом, и вскоре Софи увидела, как прямо на нее летит, стремительно вырастая, конская голова, над ней – разгоревшееся от ветра и скачки лицо, сверкающие глаза, сдвинутая на одно ухо меховая шапка. Сережа и не подумал придержать коня, он мчался прямо на нее, вот-вот собьет с ног. Софи инстинктивно прижалась спиной к высокому снежному валу. Черный вихрь пролетел совсем рядом, едва не задев ее, нога в сапоге чуть было не разбила ей лицо, в глаза полетели осколки льда из-под копыт. «Он с ума сошел!» – подумала, дрожа всем телом, Софи, когда всадник проскакал мимо. Поначалу она решила, что ее трясет от холода, но вскоре поняла, что всему виной сильное волнение и испуг. И в голове всплыла некогда произнесенная племянником фраза: «Поместье должно оставаться общей собственностью, в нераздельном владении, до смерти кого-то из нас». Затем припомнилось, как Вася Волков заклинал ее быть осторожной, поскольку считал Сережу способным совершить еще одно преступление ради того, чтобы завладеть Каштановкой. «Человек, убивший родного отца, – сказала она себе, – не остановится перед таким ничтожным препятствием, какое представляю собой я. Но в самом ли деле он убил отца? Мне никогда этого не узнать…» Внезапно Софи стало безразлично, будет она жить или умрет. Она повернула к дому. Закутанные платками до глаз крестьянки мели крыльцо. Девушки все видели. Софи улыбнулась им, те испуганно отвернулись. Она поднялась в свою комнату и позвонила в колокольчик – надо было позвать Зою. Но горничная на звонок не явилась: должно быть, куда-то отошла и не слышала колокольчика. Господи, неужели и сегодня снова придется сидеть в одиночестве! От одной только мысли об этом Софи охватил ужас, она почувствовала себя беспредельно несчастной, ей захотелось кричать. Но она постаралась взять себя в руки, и в надежде хоть немного успокоиться, взяла лист бумаги и села писать Фердинанду Богдановичу, рассказывая ему обо всем без утайки. Нет, она не станет посылать это письмо адресату: все равно цензоры перехватят по дороге, но написать, хотя бы для себя самой, все-таки надо. Исписав кругом два листа, Софи разорвала их в мелкие клочки. В коридоре послышались шаги горничной, и сердце у Софи радостно забилось, но, когда вошла Зоя, она постаралась ничем не выдать своей радости: как бы там ни было, ей следует держаться на должном расстоянии от прислуги, не допускать ни малейшей фамильярности, оставаться для крепостных настоящей барыней.
* * *
Дни шли за днями, безнадежно, удручающе однообразные. Сидя у окна в своей комнате, Софи целыми часами, до полного отупения, смотрела на белый парк с неподвижными тенями на снегу. Комната была жарко натоплена, к изразцовой печке не притронуться, но из-под двери тянуло ледяным сквозняком. Софи куталась в шаль, раскрывала книгу, читала несколько строк, печально откладывала томик в сторону и бралась за свое вечное вышиванье. Неужели эта зима так никогда и не кончится? Когда же, наконец, снова можно будет пройтись по зеленеющим полям? На Страстной неделе все еще шумела вьюга, но дороги расчистили вовремя, и в Великую субботу слуги смогли вместе с хозяином отправиться в Шатково ко всенощной. В распоряжение Софи никакого экипажа не предоставили, и она осталась дома. Впрочем, она бы и не согласилась появиться в церкви вместе с Сережей. Издалека донесся призрачный звон колоколов, возвещавший о воскрешении Спасителя…
На следующее утро Зоя принесла барыне крашеные яйца, освященные в церкви, и хозяйка с горничной трижды похристосовались.
До весны было уже недалеко: хотя снег никак не сходил, в воздухе разливалось ласковое тепло, почки на голых ветвях каштанов, берез, осин, смородины набухали соком, куски ледяной корки, соскальзывая с крыш, с глухим стуком падали на землю, плотный наст проседал, таял, из-под него показывалась крепкая зеленая трава, усыпанная первыми цветочками, – природа весело скидывала с себя зимние одежды, весь пейзаж менял окраску, и даже небо голубело теперь не так, как в долгие морозные месяцы… И надо всем этим обновленным миром, хотя еще и тонущим в непросохшей грязи, заливались жаворонки, прилетевшие, как и каждый год, в день сорока мучеников.
Софи выбиралась из зимы, разбитая слабостью во всем теле. Может быть, простудилась у себя в комнате? Солнышко, сиявшее за окном, ее успокоило и развеселило. Она впервые отложила шубу и вышла из дома легко одетая, в коротких ботиках.
Со всех сторон бежали сверкающие ручьи. Софи перешагивала через них, увязая ногами в грязи, и радовалась тому, что чуть подальше, там, где блестела тонкая корочка льда, которая все не таяла и не таяла, уже видно стало, как поднимаются со дна темные пузырьки. У реки кричали чибисы. Мимо с жужжанием пролетела заблудившаяся пчела. Софи проследила за ней взглядом и улыбнулась. Глаза ее невольно щурились от слишком яркого света. Раскрыв рот, она жадно пила воздух, напоенный запахами снега и мха. Тропинка, выбранная наугад, закончилась в овраге. Софи поскользнулась и с трудом выбралась на твердую землю. От усилий ей стало жарко, она вся вспотела. Внезапно набежавшие серые тучи закрыли солнце, сразу стало очень холодно. Мгновенно продрогнув, она поспешила вернуться в дом.
Вечером, после ужина, Софи почувствовала, что озноб пробирает ее до костей, она не может унять дрожи. Вся кожа болела, дергалась, кости ныли, она стучала зубами… Ей самой все это казалось нелепым, она хотела перестать, но никак не могла. Зоя, глядя на нее, встревожилась, но Софи нервно рассмеялась.
– Да это ничего, пустяки. Я, должно быть, немного простудилась. Помоги мне раздеться и принеси еще одно одеяло.
Она легла, отослала горничную и погасила лампу у изголовья. Вот только сон никак не шел. Посреди ночи Софи почувствовала, что руки и ноги у нее как чужие, грудь заложена, а когда она закашлялась, в боку так закололо, что перехватило дыхание. Постаралась дышать неглубоко. На лбу выступили капли пота. Раньше ее колотил озноб, теперь она вся горела, ей стало душно. «Должно быть, у меня сильный жар», – подумала Софи. И вспомнила Александрину Муравьеву, которая долгие недели кашляла, надрывая легкие, прежде чем умереть, вспомнила ее измученное, бескровное лицо. «Неужели я буду болеть, как она? Нет! Нет! Ни за что!» Пожалела о том, что отослала Зою, схватила со столика у постели колокольчик, слабой рукой потрясла. Но еле слышный звон затерялся в недрах спящего дома. Тогда она стала звать: «Зоя, Зоя!» – но всякий раз, с каждым новым криком в спину ей с левой стороны вонзался кинжал. Софи поняла, что никто ее не услышит, и вновь уронила голову на мокрую от пота подушку. Лицо пылало, словно в пекле. Волосы прилипли ко лбу. Во рту пересохло. И зачем только она погасила лампу? Теперь сил недостает снова ее зажечь. И до рассвета никто к ней не придет. Все свое внимание Софи сосредоточила теперь на том углу спальни, где стоял туалетный столик.
И вот наконец в зеркале показался бледный свет, отблеск занимающегося дня. Софи, немного успокоившись, задремала. А когда снова открыла глаза, то увидела склонившуюся над ней горничную. Зоя обтирала ей лицо влажным полотенцем.
– Ох, барыня, да вы никак захворали?..
У Софи в голове мелькнула радостная мысль.
– Да, – ответила она. – Позови-ка доктора Вольфа!
– Кого, барыня?
– Доктора Вольфа! Он, должно быть, сейчас в лечебнице…
С этой минуты все смешалось у нее в голове. Часы то летели слишком быстро, то тянулись чересчур медленно; прошло неопределенное время, и свет уступил место сумеркам; Зоя то приходила, то уходила; ночью она дремала в кресле, стоявшем около постели. Открыв глаза и увидев горничную, Софи рассердилась:
– Ну что же ты? Послала за доктором Вольфом?
– Я спросила у нашего барина, – пролепетала Зоя, – и он сказал, что не хочет впускать в дом никаких докторов.
В голове у Софи словно прорвалась завеса, мутная пелена спала, туман рассеялся. Она вспомнила, где находится, и ее возбуждение сменилось мучительной тоской. Сибирь вместе с живущими там друзьями ушла от нее далеко-далеко. Она осталась одна в старом каштановском доме, и, кроме нее, здесь живет враждебно настроенный к ней человек, ненавистник, который желает ей смерти. Зоя расплакалась.
– Барыня, барыня! – причитала она, то и дело всхлипывая. – Я не могу бросить вас вот так лежать, я готова ходить за вами, лечить вас, только я совсем не знаю, что надо делать! Ох, что же это с нами станется?
– Обойдемся без доктора, – прошептала Софи. – Будешь делать мне очень горячие отвары трав…
Больше она ничего не смогла выговорить: каждое слово разрывало грудь. Сухой кашель сотрясал все тело, от нестерпимой боли слезы брызнули из глаз. Зоя принесла отвар, оказавшийся до того горьким, что Софи отказалась его пить.
– Нет, не могу, слишком противно, – вздохнула она и снова закашлялась. – Да и вообще, мне пора вставать с постели! Сколько часов я уже пролежала?
– Четыре дня, барыня.
Софи нашла ответ горничной чрезвычайно забавным, но из осторожности постаралась не рассмеяться.
На следующий день Зоя таинственным голосом, под большим секретом сообщила ей:
– Барин уехал на целый день. Я попросила Ульяну потихоньку вас навестить. Это моя крестная. Она все травы знает, она вас вылечит…
– Да, да! – простонала Софи. – Приведи ее ко мне, пожалуйста! Я так больше не могу!
В комнату проскользнула старушка с мышиной мордочкой. Знахарка принесла с собой в корзинке всякие горшочки, пучки сухих трав, тряпочки и стала раскладывать и расставлять все это на комоде. Зоя помогла крестной снять с барыни ночную сорочку, и обе принялись сильно, в четыре руки, растирать больную. Потом сделали ей припарку. Вся спина у Софи горела, она снова принялась стучать зубами. Ей влили в рот какое-то очень терпкое снадобье, потом другое, очень сладкое. В голове зашумело так, словно там проехала телега, но грохот колес не умолкал. Теперь она была совершенно уверена в том, что умирает. Как это глупо! Ей так много еще надо сказать! Да как же это? Она не находила слов и, задыхаясь, бормотала несвязно:
– Никто… Некому защитить вас от этого чудовища!.. Если его не остановить, он всех до смерти запорет кнутом!.. Разве вы не знаете, что это он… это он убил своего отца!..
Зоя с Ульяной в ужасе переглянулись и поспешно принялись креститься.
– Замолчите скорее, барыня! – шептала Зоя. – Не надо говорить о таких вещах!
– Надо… Надо… Повторяйте это везде!.. Его арестуют!.. А невиновных отпустят!.. Ах, как же мне хотелось самой этого добиться!.. Но я не смогла!.. Не смогла!.. Это моя вина!.. Поклянитесь, поклянитесь, что когда меня не станет…
Больная не смогла договорить, ее речь оборвал жестокий приступ кашля. Ульяна поспешно собрала свое хозяйство и выскользнула за дверь, оставив за собой запах скипидара. Оставшись наедине с Зоей, Софи умолкла. Но ее мозг по-прежнему работал с непривычной, лихорадочной быстротой. Одна мысль, едва явившись, тотчас сменялась другой. Оказавшись в такой крайности, до какой она дошла, Софи теперь уже не понимала, почему отказалась подать прошение о том, чтобы ей позволили вернуться во Францию. Пусть даже на то, что ей удастся уговорить губернатора, был всего один шанс из тысячи, все равно надо было попытать счастья. Она должна была, должна была попробовать! Гордость, заставлявшая любой ценой противостоять любым намерениям Сережи, заслонила от нее истинную ценность того, что было поставлено на карту! Что, в конце-то концов, для нее Россия в сравнении с родной страной, которую она покинула тридцать пять лет тому назад? Умереть и лежать в чужой земле, умереть всеми покинутой, ненавидимой, в то время как можно окончить свои дни среди милой природы, под нежную мелодию французской речи! Стихи Расина, мосты над Сеной, бургундское вино, остроумные замечания, политические страсти… Софи произнесла вслух:
– Интересно, по-прежнему ли у «Братьев-провансальцев» можно отлично поужинать?
Она говорила по-французски. Зоя таращила на барыню глаза, не понимая ни словечка. Душу Софи захлестнула волна печали. Она застонала, сама не понимая, от чего, от горя ли, от физической ли боли. Может быть, набожные люди правы и она встретится со своим Николя в ином, лучшем мире? Но чем больше она о думала о муже, тем труднее ей становилось представить себе его лицо. В первый раз, там, в Сибири, Николай умер для нее как существо из плоти и крови, теперь, в Каштановке, умирал вторично – как воспоминание. Не к обещанной ослепительной встрече брела она, задыхаясь от тоски, но к черной яме, из которой тянуло запахом костей и земли. А как Сережа-то посмеется, когда «драгоценной тетушки» не станет! Софи заметалась на постели: «Нет!.. Я не хочу!.. Не хочу!..» – но все равно ее стали засыпать землей, комья со стуком падали с лопат…
Она проспала целую вечность. Время от времени какая-то женщина приходила обмывать ее мертвое тело, ворочала ее, натирала дурно пахнущими снадобьями, вливала ей в рот обжигающее питье, затем снова укладывала в гроб.
11
Сидя на постели и опираясь на подоткнутые ей за спину подушки, Софи все никак не могла поверить, что и впрямь выздоровела. Болезнь покинула ее так же внезапно, как и пришла. Неделю назад она посреди ночи вдруг начала обливаться потом, а на рассвете почувствовала себя измученной, но счастливой. К вечеру еще ненадолго возвращался жар, постепенно стихая, случались поначалу и приступы кашля с кровью, сильно тянуло спину, но все это быстро и безвозвратно проходило. Назавтра после кризиса она почувствовала себя намного лучше, и с тех пор не переставала набираться сил. Вскоре уже могла вставать и делать несколько шагов по комнате. Ей так хотелось подойти к окну! За ним был свет, молодая листва, дороги убегали вдаль, теряясь в утреннем тумане… Никогда до тех пор Софи не испытывала такого желания жить. И не меньшим было ее желание сызнова вступить в борьбу с Сережей. Не зная пока, что предпринять, она охотно убеждала себя: ничего не потеряно, последнее слово еще не сказано. Вошла Зоя с чашкой чая на подносе. Преданность этой простой девушки укрепляла ее в мысли о том, что необходимо сделать все возможное и невозможное ради того, чтобы улучшить участь каштановских крепостных.
Софи выпила чай, сгрызла два сухарика и решила встать. Зоя подала ей розовый шелковый пеньюар, поддерживала хозяйку, пока та на нетвердых ногах ковыляла к окну. Добравшись наконец до желанной цели, она рухнула в кресло – запыхавшаяся и в полном изнеможении. От усилия слегка закашлялась. Ребра у нее все еще болели, как будто по грудной клетке долго колотили палками, однако вытерпеть было можно, даже если сделать глубокий вдох. Склонившись к окну, Софи удивилась тому, какая суета царит повсюду в парке. Одни слуги подметали главную аллею, другие выравнивали дорогу, ссыпая песок в выбоины, третьи подстригали кусты, окружавшие большую лужайку.
– Они стараются побыстрей все прибрать к приезду гостей, – объяснила Зоя.
– Что еще за гости?
– Не знаю. Должно быть, очень важные господа, – округлила глаза горничная. – Они прибудут к обеду. Велено накрыть на шесть персон. Ой, барыня, в кухне такая суматоха! Хотите, расскажу, что им будут подавать?
Софи не ответила, погрузившись в размышления, которые отгородили ее от остального мира. Совершенно не в привычках Сережи было приглашать к столу посторонних людей – почему же он внезапно решился на такое исключение из правил?
Зоя тем временем щебетала у нее над головой:
– А потом будут пельмени с укропом, а потом копченая семга и копченый сиг, а потом… потом будет фаршированный гусь… Вам хотелось бы всего этого отведать, барыня?
– Да… – рассеянно ответила Софи, продолжая думать о другом.
– Вот хорошо-то! Значит, здоровье-то к вам возвращается! Конечно, все сразу съесть вам было бы неразумно, но я принесу немного десерта с их стола. Там такой большой пирог из сладкого теста, с начинкой из…
Но Софи перебила девушку:
– Барин спрашивал у тебя обо мне, пока я болела?
– Нет, барыня, – прошептала горничная, низко опустив голову. – Но я все-таки сказала ему позавчера, что вы выздоровели.
– И что он на это ответил?
– Ничего…
Наступила тишина. Зоя на цыпочках вышла из комнаты. Софи продолжала смотреть в окно. К полудню суета в парке улеглась, подметальщики разбежались, словно рабочие в театре, спешно покидающие сцену перед тем, как поднимется занавес. Весь дом, похоже, замер в настороженном ожидании. И ждать пришлось достаточно долго… Наконец в дальнем конце аллеи показались две коляски, они обогнули лужайку и остановились у крыльца. Лакеи поспешно распахнули дверцы и опустили подножки. Из колясок поочередно показались двое мужчин в военных шинелях, толстая дама в ротонде лилового бархата, другая дама, меньше ростом и стройнее, на ней была желтая шляпка, и, последним, старик в мундире и треугольной шляпе с плюмажем. У Софи забилось сердце: она узнала псковского губернатора. Когда она снова посмотрела в окно, гости уже поднялись на крыльцо и скрылись за колоннами. Пустые коляски отъехали.
Откинувшись на спинку кресла, Софи силилась понять, зачем они приехали. С какой стати Сереже вздумалось устраивать этот прием? Совершенно ясно – пригласив губернатора, племянник хотел ей показать, что, даже выздоровев окончательно, она ничего не сможет сделать против него, что он сильнее, что тетушке волей-неволей рано или поздно придется отсюда уехать… Но как же такой важный человек согласился приехать в Каштановку после всего, что она ему рассказала? Даже если губернатор вполне убежден в невиновности Сережи, он должен был хотя бы из уважения к ней, Софи, отклонить приглашение. Полуприкрыв глаза, она прислушивалась к тому, что происходит в доме, где тем временем нарастало оживление: слышались то высокий женский голос, то мужской смех, то звон посуды, то торопливые шаги прислуги, бегавшей из столовой в буфетную и обратно.
Зоя подала Софи обед, какой полагался выздоравливающей: бульон, жареного цыпленка и бланманже, а «на добавку» принесла кусок торта с кремом. И у Софи мгновенно выплыло из памяти воспоминание: в родительском доме, когда ей, маленькой, случалось провиниться и ее наказывали, служанка тайком доставляла ей в детскую лакомства.
– Сейчас они едят копченую семгу, – прошептала горничная. – Я спросила у лакея Савелия, как там дела, говорит, вроде бы гостям все нравится, довольны… Они все болтают и болтают, да так громко, что в коридоре слышно, только ни словечка не понять, потому что все по-французски да по-французски. Наш барин от других не отстает, что-то, видать, смешное им рассказывает, потому что они все время хохочут…
Горничная ушла, оставив Софи в задумчивости над полной тарелкой: она была настолько поглощена мыслями о том, что в это время происходило внизу, что и думать не могла о еде. Там, у нее под ногами, Сережа устроил нечто вроде сборища заговорщиков. Конечно, речь шла не о настоящем сообщничестве между Сережей и губернатором, скорее, о том молчаливом уговоре, который заключают между собой счастливые, преуспевшие, хорошо устроенные люди против тех, кто пытается нарушить их устоявшуюся, налаженную жизнь. Перед ней снова выросла глыба несправедливости и предрассудков, которая так часто преграждала ей путь здесь, в России. Неужели ей, подобно Сизифу, придется всю жизнь толкать перед собой этот непосильный камень?
Зоя вернулась, разрумянившаяся, принесла ворох новостей:
– Теперь господа принялись за фаршированного гуся! Ой, барыня, а губернатор, губернатор-то как пьет! Вот только что уже девятую рюмку водки опрокинул! Многовато, пожалуй, будет для человека его лет! Ах, Господи Боже мой, барыня, миленькая, да вы же ничего так и не покушали!..
– Я не голодна, – ответила Софи. – А кто там остальные гости, кроме губернатора?
Зоя напустила на себя значительный вид:
– Его превосходительство господин почтмейстер, его превосходительство окружной судья…
Софи улыбнулась с горькой насмешкой и пробормотала:
– Понятно-понятно! А кто эти две женщины?
– Жена губернатора и его дочка.
– Дочка? – переспросила удивленная Софи.
– Да, барыня.
Софи отослала Зою. Что ж, теперь ей все стало ясно. Если у губернатора дочка на выданье, разумеется, он должен всячески обхаживать Сережу, который считается одним из самых завидных женихов во всей губернии. А племянник, хотя и не имеет никаких матримониальных намерений, притворно любезничает ради того, чтобы как можно дольше сохранить могущественного покровителя. До чего все это смехотворно и до чего, вместе с тем, омерзительно! Нескладные, хотя разряженные и довольные, мамаша с дочкой, достойный и умиленно взирающий на них папаша, Сережа в роли нерешительного жениха, судья, почтмейстер… Прямо-таки комедия Гоголя!.. Интересно, подумала Софи, заходила ли обо мне речь во время обеда. Наверное, заходила, почему бы и нет? Сережа, несомненно, объяснил с сокрушенным видом, что тетушка только-только начинает оправляться после тяжелой болезни и пока не может спуститься в столовую. Но он надеется на то, что она скоро поправится! Софи словно бы слышала его слова – кровь у нее так и кипела…
К четырем часам послышался топот ног, да такой, как будто в доме находилась целая толпа гостей. Хлопнула входная дверь – значит, они вышли из дома и теперь, кажется, остановились у колясок. Интересно поглядеть, хороша ли собой девица? Софи приблизилась к окну и приподняла самый краешек кисейной занавески – так, чтобы, увидев все, самой остаться незамеченной. Сережа, нарядный и красноречивый, разглагольствовал, стараясь еще хоть ненадолго удержать гостей. Напротив него, ловя каждое слово, слетавшее с его губ, стояли крупная, мужеподобная дама, супруга губернатора, рядом с ней – тощенькая, сутулая барышня с острыми торчащими локотками и длинным лошадиным лицом под желтой бархатной шляпкой, его дочка. До чего некрасивая девушка! Теперь Софи еще лучше понимала, почему Черкасов так благосклонен к ее племяннику. Обменявшись напоследок любезностями с хозяином, гости расселись по коляскам. Сережа долго смотрел им вслед, несколько раз махнул рукой, потом внезапно поднял глаза на окно комнаты Софи. Та поспешно отпрянула от окна, но было поздно. Он успел ее заметить!
* * *
Теперь Софи еще больше не терпелось поскорее выздороветь. Ей казалось, что все ее будущее в Каштановке зависит от того, как скоро вернутся к ней силы. Каждое утро она прогуливалась по парку, и каждый раз уходила чуть дальше от дома. После трех недель таких упражнений она почувствовала себя достаточно окрепшей для того, чтобы пешком дойти до Шаткова – туда от Каштановки не больше семи верст. За два часа она дойдет. Вот неожиданность будет для мужиков, когда они ее увидят! Ей же сейчас просто необходимо с ними поговорить, чтобы вновь обрести веру в себя!
Ясным июльским утром, предупредив Зою, что не вернется к обеду, Софи тронулась в путь.
Она шла медленно, размеренным шагом, останавливалась, как только начинала задыхаться, и усаживалась отдохнуть на откосе, прижимая левую руку к спине в том месте, где плевра еще оставалась чувствительной. Пока Софи шла через парк, в тени деревьев, жара не слишком донимала ее, однако стоило оказаться в чистом поле, как солнце стало нещадно палить. Она попыталась ускорить шаг, но почти сразу же пришлось от этого отказаться: сначала начали уставать ноги, потом заныла поясница. Солнце слепило глаза, но Софи продолжала всматриваться в раскинувшиеся перед ней немые, истомившиеся от засухи поля, в золото колосьев, в мягкие очертания невысоких холмов, в бархатно-зеленые рощицы. Вокруг ее пылающего лица, звеня, вились тучи комаров. В нестерпимо синем небе неподвижно стояли три белых облачка, дожидавшихся, наверное, чтобы подул ветерок, который поможет им отправиться странствовать дальше. Она сказала себе, что, пожалуй, переоценила свои возможности, сил у нее все-таки пока маловато для такого дальнего путешествия. Однако стоило ей отдохнуть десять минут в тени тополей, и у нее снова появилась решимость двигаться дальше. Последние две версты она проделала, шагая, словно заводной автомат – сжав челюсти, с остановившимся взглядом. Когда перед ней наконец появилась табличка с надписью: «Шатково: 67 дворов; мужчин по переписи 215; женщин 261», ее охватила немыслимая радость. Однако Софи тут же осознала, что время для визита к крестьянам выбрала неудачное. Ей следовало подумать о том, что в этот час все работники будут далеко отсюда. И теперь, глядя на вымершую деревню, она чувствовала разочарование. С того самого дня, когда она, едва встав с постели, принялась мечтать о том, как снова встретится с крепостными, Софи бессознательно настраивалась на то, что ее примут радостно, а теперь шла по единственной в Шаткове улице, ожидая, что отовсюду, как бывало раньше, выползут ей навстречу хотя бы старики и увечные. Однако дома стояли под палящим солнцем наглухо закрытые. Две бабы, сидевшие на порогах изб, поспешили уйти, пока она с ними не поравнялась; староста, вытесывавший топором коромысло, повернулся спиной, чтобы ее не видеть; девочка лет десяти, которая гнала гусей к прудику, поглядела на нее испуганно и даже не ответила, когда Софи с ней поздоровалась… Софи казалось, будто она перенеслась на год назад – тогда она только-только вернулась из Сибири. Точно такая же атмосфера тревожной враждебности, какая окружала ее в день первого появления в деревне: все недоверчиво относились к «французской барыне», остерегались ее… И вот, после того, как она так медленно и терпеливо завоевывала – и завоевала! – любовь и уважение этих людей, как же трудно поверить, что за время ее болезни они от своей барыни отвыкли! Но что же произошло за то время, пока они не виделись? Единственным существом в Шаткове, на кого она могла рассчитывать, оставался Антип. И Софи направилась прямо к нему.
Она застала старика дремлющим на печке и решительно тряхнула его за плечо. Тот спросонок вскинул перед лицом руку, словно защищаясь, затем, узнав Софи, спрыгнул на пол и пробормотал:
– А, это вы, барыня!.. Но… я думал… думал, вы теперь не имеете права к нам приходить!..
– Кто мог тебе такое сказать! – возмутилась Софи.
– Погонщики.
– Ну что ж! Они ошиблись, только и всего! – ответила Софи, опустившись на скамью, поскольку от усталости едва держалась на ногах.
Она прислонилась к стене и закрыла глаза. По светящейся алым изнанке век плыли светящиеся цветы.
– Как же вы сюда добрались, барыня, голубушка? – спросил Антип.
– Пешком.
Он, казалось, нимало не удивился этому подвигу (для мужика семь верст, как говорится, не околица!), только спросил:
– А барин знает об этом?
– Нет.
У Антипа глаза от страха едва не выскочили из орбит, челюсть отвисла.
– Ай-я-яй! Тогда уходите скорее, барыня! Если погонщики вас здесь застанут, пропала моя головушка!
– Ты с ума сошел, что ли? – удивилась Софи. – Что еще за глупости! Ты же не каштановский слуга, тебе-то чего бояться! Я тебе ничего не приказываю!..
– Да это все едино, барыня!.. Молодой барин всех предупредил, всех!.. Слуга или мужик, любой, кто станет вас слушать, любой, кто станет с вами говорить, – тому розги!.. Вы ведь не можете пожелать такой напасти вашему старому Антипу, барыня!.. Вы ведь слишком добрая для этого!..
Поскольку Софи, совершенно подавленная, молчала, старик продолжал, кривя рот, затерявшийся в дебрях бороды:
– Мы узнали, что вы хвораете… Мы молились, чтобы скорее выздоровели… Но вот оно как: пока вы в постельке лежали, нам было спокойно… А теперь опять начнем трястись… Вы ничего не можете для нас сделать, барыня, голубушка… Оставьте нас, прошу вас, оставьте нас в нашем убожестве и нашей покорности…
– Да как же ты можешь говорить такое, ведь ты столько раз жаловался мне на то, что с вами плохо обращаются! – воскликнула она.
– Пожаловаться-то оно неплохо, сразу легче становится!.. Но я же не думал, что из-за такой малости вы тут все вверх дном перевернете!..
– И что же – теперь тебе хочется, чтобы я от всего отказалась?
– Да, барыня… От того, что вы сюда приходите, худа больше, чем добра… Уходите… Христом Богом молю, уходите!..
Софи встала и неживым голосом произнесла:
– Хорошо. Сейчас уйду. Но я слишком устала и не смогу пешком дойти до Каштановки. Попроси старосту, пусть даст лошадь и какую-нибудь телегу, чтобы меня отвезти…
Антип покачал головой.
– Староста не захочет, барыня.
– Почему?
– А вдруг узнают?
Она подтолкнула старика к двери:
– Иди-иди! Спроси у него!.. Я тебе приказываю, слышишь!..
Антип убежал. Оставшись одна в избе, Софи погрузилась в такую бездну разочарования, какой, ей чудилось, прежде никогда в жизни даже себе и не представляла. Отказывая в помощи, Антип отнял у нее последнее, что привязывало ее к жизни. Она внезапно показалась себе смехотворной – с дурацким своим душевным участием, в котором никто здесь не нуждался. Еще немного – и те, к кому она проявляла интерес, начнут ее же и корить за старания. Впрочем, разве она может упрекнуть мужиков, отталкивающих ее сейчас вместе со всеми ее прекрасными чувствами, в неблагодарности? Она ведь ничего не могла для них сделать, она только суетилась, фантазировала, воздух сотрясала… Их участь все равно решали другие, и мужики это понимали. Вот и все! На что она надеялась, когда шла сюда? Собрать армию друзей и поднять рабов против злого хозяина? Когда-то она выговаривала Николаю за склонность принимать мечты за действительность, а теперь сама оказалась куда более безрассудной, и это в ее-то возрасте, с ее опытом! Ей захотелось сжаться в комок, забиться в какую-нибудь щель, спрятать там свое отчаяние. Антип вернулся, качая головой:
– Так я и знал, барыня… Староста отказывается… не хочет… Никто не хочет…
Но Софи уже ни на чем не настаивала, хотя чувствовала, что, несмотря на всю свою волю, второй раз за день этот долгий путь ей не одолеть.
– Какая деревня, по-твоему, отсюда ближе всего? – спросила она. – Черняково?
– Нет, Кустарное поближе будет, – ответил Антип. – Только это ведь не наша деревня – Волковых…
– Тем лучше! Если мне отказываются помочь собственные мужики, может быть, хотя бы волковские согласятся это сделать…
Антип съежился, услышав упрек, но не произнес ни слова. Софи вышла. После царившего в избе полумрака яркий солнечный свет пригвоздил ее к месту. Вся усталость разом навалилась снова.
– Если пойдете в Кустарное, – сказал, приоткрыв дверь, Антип, – то короче будет свернуть на тропинку – там, слева, сразу как выйдете за околицу. Полчаса – и вы уже на месте… Господь вас храни, барыня, голубушка!.. До свиданья!..
– До свиданья, Антип! – выговорила она с трудом, потому что перехватило горло, и тронулась в путь, испытывая странное чувство: будто сотни людей, прячась за окнами, за изгородями, за поленницами, за навозными кучами, следят за ее позорным отступлением.
Полчаса спустя она, с пустой головой, дрожащими коленями, вконец обессилевшая, добрела до Кустарного и попросила первого попавшегося мужика отвезти ее на телеге в Славянку, к его господам.
Всю дорогу, несмотря на то что солнце палило нещадно, а телегу немилосердно трясло, несмотря на облака пыли и тучи назойливых мошек, она ничего не видела, ничего не чувствовала. Из головы не шли слова Антипа: «От того, что вы сюда приходите, худа больше, чем добра… Уходите… Христом Богом молю, уходите!..» Софи подумала: «Почему я так упорствую в своем желании остаться в этой стране? Ради того, чтобы защищать мужиков? Они меня больше знать не хотят! Хочу доказать, что Сережа – убийца? Я теперь и сама в этом не уверена. Я сражаюсь с тенями. Я понапрасну теряю время. И на самом деле чувствую себя здесь все более чужой…» А еще она подумала, что связь с Россией у нее прервалась давно, почти сразу после смерти Николая. Пока муж был жив, он помогал ей понять душу его родины; через него она узнавала эту непостижимую страну, где повсюду могла считать, что она у себя дома. Теперь же она с куда большим трудом переносила разочарования, которые доставляли ей жители этой огромной, быстро превратившейся в чужую страны. Она потеряла разом и мужа, и заступника, посредника между ней и русской действительностью.
К тому времени как Софи добралась до Славянки, Дарья Филипповна и Вася уже отобедали. Они пили кофе в тени больших лип, но, увидев, как нежданная гостья слезает с крестьянской телеги, разом вскочили и с встревоженными лицами бросились к ней.
– Боже мой!.. Софи! Госпожа Озарёва! Что с вами стряслось?.. Ваша коляска сломалась?..
– Нет-нет, – успокоила их Софи, пытаясь улыбнуться. – Просто я теперь предпочитаю путешествовать вот таким способом!
Она отряхнула от пыли платье, хозяева подвели ее, отупевшую от усталости, к плетеному креслу, в которое Софи просто рухнула, и Дарья Филипповна предложила ей выпить чашку очень крепкого и очень сладкого кофе.
– Это вам быстро поможет. Ну, придите же в себя, голубка моя! – шептала она, склонившись над ней и жарко дыша. – Вы так бледны! Но какая же радость видеть вас у себя! Столько времени, целых несколько месяцев не было никаких вестей, мы уж думали, вы больше не хотите с нами знаться!
– Матушка трижды писала к вам, – пояснил Вася. – И мой посыльный носил ее письма в Каштановку.
– Мне ни одного не отдали, – ответила Софи.
– Как?.. Да как же такое возможно?.. Неужели ваш племянник посмел…
– Вас это удивляет?
Наступило молчание, полное бессильной ярости. Видно было, что Вася места себе не находит.
– И вы ни разу даже не задумались о том, почему мы перестали подавать признаки жизни? – прошептала Дарья Филипповна.
– Я была очень больна, – сказала Софи.
– Господи! Что с вами было? Кто вас выхаживал?
После всех разочарований, какие ее постигли, дружеские расспросы Волковых тронули Софи до слез. Ей так хотелось выговориться, так необходимо было хоть кому-то довериться, что она рассказала все, начиная от последнего объяснения с Сережей и заканчивая визитом губернатора. Во время ее рассказа Дарья Филипповна дышала с трудом, прижимая руку к груди, глаза у нее увлажнились, губы мелко тряслись; толстое кроткое лицо сына, сидевшего рядом с ней, окаменело в неестественном для него свирепом выражении. Но когда Софи умолкла, он только вздохнул:
– Самое страшное, что мы ничего не можем поделать с этим чудовищем!
Софи удивленно взглянула на Васю. И это все, что он мог сказать, он, мятежный духом, он, читатель Сен-Симона и Ламенне? Его фраза прозвучала далеким эхом слов Антипа. Все, будь то невежественные мужики или либеральные помещики – все мирились с действительностью, чтобы не осложнять себе существования! Правда, Дарью Филипповну охватило сильное возбуждение, когда она слушала рассказ о губернаторской дочке:
– Слухи из Пскова, конечно, до меня доносились, будто там что-то такое есть, но я не хотела в это верить! Бедняжка так некрасива! А Сергей-то Владимирович в городе ведет себя совсем по-холостяцки!..
– Оставьте, матушка! Досужие сплетни! Что в них интересного! – проворчал Вася.
– Нет уж, я с тобой не согласна! – отозвалась Дарья Филипповна. – От того, что замыслил Сергей Владимирович, может измениться вся дальнейшая жизнь нашей милой подруги!..
Толстуха положила руку на колено Софи и ласково продолжала:
– Вам, наверное, очень хочется отдохнуть. Сейчас уложу вас в комнате моей старшей дочери, вы немного вздремнете, а вечером наш кучер отвезет вас в Каштановку.
Софи захотелось сказать «да»: задернутые занавески, мягкая постель, несколько часов забвения в тишине гостеприимного дома… Затем ее озарила мысль такая яркая, что все остальные планы перед ней померкли.
– Благодарю вас, дорогая моя, – проговорила она, – но я, к сожалению, не смогу остаться у вас. Мне надо немедленно ехать в Псков.
– В Псков? – вскричала Дарья Филипповна. – В таком состоянии – в город?
– Да. Это очень важно. Если бы ваш кучер мог меня туда отвезти…
– Я сам вас отвезу! – с жаром воскликнул Вася. – А оттуда, если захотите, отвезу домой!
Дарья Филипповна встревоженно поглядела на сына. Должно быть, опасалась, что он встретится с Сережей.
– Хорошо, – сказала Софи. – Согласна, но при условии, что вы оставите меня в каштановском парке.
Вася поклонился, испытывая явное облегчение: и страхи его рассеялись, и честь не пострадала. Дарья Филипповна благодарно улыбнулась Софи, сумевшей понять ее материнские чувства.
* * *
– Интересно, откуда это вы явились? – грубо спросил Сережа.
Услышав шаги Софи в прихожей, он вышел из кабинета и теперь стоял перед ней белый от ярости, со стиснутыми зубами, грозно выкатив глаза. Она мысленно похвалила себя: вот умница, настояла на том, чтобы Вася вместе с ней в дом не входил! Зачем было рисковать, провоцировать ненужное и нелепое столкновение между двумя мужчинами?
– Ну, так что? – поторопил ее Сережа. – Отвечайте! Откуда явились?
– Из Пскова, – ответила Софи.
Схватив со столика лампу, он поднял ее повыше, словно ему необходимо было для того, чтобы поверить словам Софи, увидеть лицо тетушки при ярком свете. В своем наглухо застегнутом черном сюртуке, с грозно сдвинутыми бровями, племянник сейчас ужасно походил на ревнивого мужа, каким его рисуют на карикатурах.
– Зачем вы ездили в Псков? – продолжил он допрос.
Софи была до того измучена, что едва слышала племянника.
– Зачем вы ездили в Псков? – еще громче выкрикнул Сережа.
Софи вздрогнула.
– Была у губернатора, – наконец ответила она.
– У губернатора? Это еще зачем? Ну, живо отвечайте – зачем к нему ходили?
– Чтобы подать прошение о перемене места жительства.
Сережа от удивления подался назад. Черты его лица мгновенно смягчились. На губах появилась улыбка.
– Неужели это правда?
Софи кивнула.
Молодой человек выпятил грудь.
– Вы об этом не пожалеете, – заверил он. – Я поддержу вашу просьбу. И все мои знакомые сделают то же самое. Куда вы хотите ехать? В Санкт-Петербург? В Москву?..
– Я хочу вернуться на родину.
– Во Францию? – с насмешливым удивлением переспросил он.
«Во Францию… Во Францию… Во Францию!..»
Это слово звучало в ушах Софи, словно бесконечно повторяющийся, подхваченный горным эхом зов. Она дошла до такой степени утомления, что уже толком не понимала, что с ней происходит. Свет лампы утвердился в ее радужной оболочке, начал расти, превратился в ослепительное солнце. Затем все погасло, и она стала падать в бездонную пропасть.
Часть III
1
Софи поборола смущение и попросила лысого толстяка, сидевшего у окна вагона, поменяться с ней местами. Попутчик насмешливо улыбнулся, явно ощущая собственное превосходство над незнакомкой – он-то давно привык в поездах раскатывать! – и с готовностью согласился.
– Должно быть, вы впервые путешествуете по железной дороге, мадам? – осведомился он, поднимаясь со скамьи.
– Да, мсье, – тихонько подтвердила она, в свою очередь встав.
– М-да, и впрямь с непривычки производит сильное впечатление…
Она молча кивнула. Ну, разве скажешь этому господину, что сильное впечатление на нее производит не то, что их везет паровая машина, но то, что видно, как за окном проплывают пейзажи Франции, покинутой тридцать семь лет тому назад? Остальные пассажиры с недовольными лицами потеснились и подобрали колени, чтобы позволить Софи поменяться местами с соседом. Толстый господин протиснулся перед ней, втягивая живот. Софи же, потеряв равновесие от тряски, неловко плюхнулась на скамью и улыбнулась сразу всем виноватой улыбкой. Паровоз громко зашипел. Поезд мчался вперед с устрашающей скоростью. Пол вибрировал, двери подрагивали, задвижка дребезжала в железных скобках. Поля в раме окна неслись мимо, словно река во время половодья. Иногда группа беленьких домиков с красными крышами подступала к вагону так близко, что Софи, инстинктивно отпрянув от окна, вжимала голову в плечи. Но стоило ей подумать о том, что всего-навсего через час и пять минут – Париж, начинало казаться, будто ее мечта летит вперед, обгоняя действительность. Несмотря на поддержку губернатора, госпоже Озарёвой потребовалось более полутора лет обивать пороги канцелярий, чтобы получить благоприятный ответ императора на свое прошение. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как вмешался французский посол в Санкт-Петербурге. А первым проявлением монаршей милости по отношению к вдове декабриста было то, что ей позволили жить в Пскове. Полгода спустя ее переселили в Санкт-Петербург, где каждую субботу приходилось отмечаться в полицейском участке, подтверждая свое право на жительство. Но наконец седьмого марта генерал кавалерии граф Орлов, начальник Третьего отдела личной Его величества канцелярии, вызвал Софи, чтобы сообщить: ей позволено покинуть Россию.
Нескольких недель вполне хватило на то, чтобы уладить все свои дела, и, как только Нева вскрылась и освободилась ото льда, Софи отплыла в Гавр на русском торговом судне. Это был трехмачтовый парусник с железным корпусом, где пассажирам отводилось десять кают. Когда Софи увидела, как громада Кронштадтского порта начала уменьшаться и таять, ею овладела тоска, мучительное чувство, природу которого она и сама не могла толком себе объяснить. Она была одновременно и счастлива оттого, что бежит из страны, где знала лишь принуждение и горе, и несчастна оттого, что оставляла там все, что привязывало ее к жизни: воспоминания, друзей, могилу мужа. С Сережей она простилась вежливо и холодно. Что ж, племянник добился своего. Оставшись полновластным хозяином Каштановки, он будет по-прежнему высылать тетушке половину доходов с имения: соглашение было скреплено документом, подписанным в присутствии губернатора. Впрочем, с того самого дня, как Софи подала прошение о перемене места жительства, она вновь обрела нормальное существование в доме и покорных слуг – вот еще одно доказательство того, что все в Каштановке подчинялось власти молодого барина. Теперь Софи была совершенно убеждена в том, что ей больше нечего делать в этом уголке земли, где она имела слабость вообразить, что способна приносить пользу. Даже мысль о том, что Сережа виновен в совершении убийства, больше ее не терзала, времена тревоги и возмущения давно прошли.
Уже в Санкт-Петербурге ей казалось, что для нее начинается совершенно другая жизнь. Перед ней робко приоткрылись двери нескольких салонов, прежние знакомые Николая окружали ее дружеским участием. Однако Софи, охотно принимая знаки внимания, думала лишь об одном: как бы поскорее отсюда уехать, она была полностью поглощена приготовлениями к отъезду. Но что ее ждет там, во Франции? Судя по тому, что пишет семейный нотариус, мэтр Пеле, родители продали все имущество, чтобы расплатиться с долгами, образовавшимися у них в последние годы жизни. Оставался лишь особняк на улице Гренель, но у него крыша пришла в негодность, внутренняя отделка обветшала, да и половину обстановки успели продать… Софи перевела в парижский банк свои доходы с Каштановки, попросила мэтра Пеле произвести в доме самые неотложные ремонтные работы и нанять слуг. Она рассчитывала, что благодаря этому сможет худо-бедно устроиться сразу по возвращении. Да, конечно, она возвращается «к себе домой», но ведь там не будет никого из ее родных и никто из друзей ее не встретит! У нее теперь вообще знакомых во Франции куда меньше, чем в России. Естественно: она дольше прожила в России, чем во Франции. И тем не менее, стоило Софи Озарёвой ступить на землю родины, как она почувствовала себя глубоко, отчаянно, решительно и только француженкой!
Ах, насколько же все эти люди, сейчас ее окружавшие, не понимают, какое счастье выпало им на долю – быть гражданами свободной страны! Конечно, что правда, то правда: когда Софи в июле 1851 года подавала свое прошение, Франция все еще была республикой, теперь же, в мае 1853 года, вновь сделалась империей, но эта империя, похоже, вполне благодушна! Судя по тому, что рассказывали в Санкт-Петербурге, Наполеон III ничем не напоминает Николая I. Его любовь к народу кажется искренней, и если он и приказал после государственного переворота 2 декабря арестовать и отправить в ссылку нескольких человек, выступавших против его политики, то теперь вроде бы намеревается их помиловать – во всяком случае, такое желание ему приписывают. Насколько в России тирания представляется естественной, настолько невообразима она здесь, во Франции. Достаточно поглядеть на французов, чтобы убедиться в том, что никто их не угнетает…
Едва оказавшись на берегу в Гавре, Софи была до глубины души взволнована тем, насколько свободно здесь держатся даже самые простые люди. То же впечатление сложилось у нее и тогда, когда она стояла на перроне вокзала железной дороги и рассматривала пассажиров, собиравшихся сесть в парижский поезд. У всех тех, кто путешествовал третьим классом, в руках были корзины, откуда выглядывали аппетитные булочки и колбаса, торчали горлышки винных бутылок. Конечно, пассажиры первого класса выглядели более чопорными и были меньше озабочены пропитанием, но что показалось Софи удивительным: между буржуа и простолюдином вовсе не было такой пропасти, как в России – между помещиком и крепостным. Здесь бедные и богатые, хотя и различались одеждой, манерами, языком, принадлежали к одной и той же нации, в то время как там можно было говорить едва ли не о разных породах людей. И внезапно Софи осознала, что именно так смущало ее с той самой минуты, как она высадилась на берег во Франции: это было отсутствие мужиков. В окружавшем ее теперь мире недоставало их славных, простодушных, бородатых, выдубленных солнцем лиц. При мысли о том, что ей больше никогда в жизни не увидеть ни одного такого лица, счастье затянулось облачком странной грусти. Но это ощущение промелькнуло так быстро, что Софи едва успела его осознать. Не додумав эту мысль до конца, она вернулась к прежнему занятию и принялась жадно всматриваться в летевшие мимо пейзажи ее страны. Каким все кажется маленьким здесь, во Франции, после бескрайних российских просторов! Крохотные вычищенные, приглаженные поля; изгороди, разделяющие земельные владения размером с носовой платок; деревеньки, послушно выстроившиеся вокруг колоколен, чьи острые шпили поражают взор, привыкший к синим, зеленым и золотым луковкам на макушках православных колоколен… Но что это показалось там, вдали, окутанное дрожащим сиреневым туманом, что там за меловые нагромождения, что там за отблески тысяч оконных стекол – неужели парижские предместья? Путешественники оживились, засуетились, одна из дам, смочив платочек водой из склянки, обтерла выпачканное сажей лицо, толстяк одернул жилетку и сказал:
– Сейчас мы проедем по Аньерскому мосту. Пока здесь стоит деревянный мост, но чуть выше уже строят другой, металлический, и вскоре по нему пустят поезда. Это будет великолепное инженерное сооружение!..
Софи прильнула лицом к стеклу. Поезд с пугающей медлительностью въехал на трясущийся деревянный мостик. Все затаили дыхание. Внизу поблескивала река с ее отлогими берегами, прачками, полощущими белье, скользящими по воде рыбачьими лодками. Как только последний вагон оказался на твердой земле, локомотив испустил облегченный вздох и ускорил ход. По обе стороны железной дороги теснились низкие, грязные, убогие домишки. Вскоре перед поездом вырос крепостной вал с бастионами, высившийся на крутом откосе. Это были недавно выстроенные укрепления: Софи слышала о них в России, но не представляла себе их истинных размеров. Состав прошел между двумя равелинами и нырнул в тоннель. Купе заполнил адский запах дыма, все закашлялись. Наконец, вагон вышел из тьмы на свет, пассажиры встряхнулись, немного отдышались, принялись поправлять одежду. Вдоль рельсов теперь тянулись ряды мастерских и товарных складов. Еще несколько оборотов колес – и перрон медленно двинулся навстречу поезду. Затем солнечные лучи померкли, путь им преградила грязная стеклянная крыша. Наконец, локомотив остановился, вагон сильно тряхнуло, пассажиры повалились друг на друга.
Со всех сторон к поезду устремились носильщики, наперебой предлагая свои услуги. Софи доверила свой багаж одному из них – толстощекому, с закрученными усами и нахальным взглядом. Следом за ним она вошла в таможенный зал. Носильщик уже успел взгромоздиться на сундук и теперь громко звал ее, размахивая руками наподобие семафора. Софи внезапно оказалась стиснутой толпой хлынувших в зал пассажиров. Мужчины в цилиндрах и картузах, женщины в капорах, чепцах, косынках, одуревшие от шума и суеты дети, которых родители нетерпеливо тянули за руки, море лиц – и над всем этим легкий гул французской речи. Служащий таможни велел Софи открыть чемодан, затем саквояж, после чего объявил, что все в порядке, и отпустил ее. Носильщик потащил багаж к выходу. На улице Сен-Лазар ждала вереница фиакров. Софи села в кабриолет с безбородым кучером – в России она глазам бы своим не поверила, увидев такого, – распорядилась укладкой своих вещей, дала носильщику слишком щедрые чаевые и, наконец, самым естественным тоном, на какой оказалась способна, произнесла:
– Улица Гренель, к дому 81.
И кабриолет тронулся с места, влившись в поток других экипажей, которые спускались к площади Мадлен. Возвышаясь над путаницей запряженных четверками лошадей колясок, двухместных карет и кебов, тащился грузный омнибус, с высоты которого угрюмо глядел вниз кучер, закутанный в широкий плащ и с нахлобученной шляпой на голове. Тротуары были заполнены прохожими, одни с озабоченным видом куда-то спешили, другие на каждом шагу замирали перед витринами лавок, в которых, казалось, были собраны все чудеса света. Фиакр свернул на площадь Согласия, и Софи увидела прямо перед собой сияющие светом и белизной величественные строения. Что-то здесь изменилось, вот только она никак не могла понять, что именно… Ах, да! Вот же он, этот безобразный обелиск, торчит посреди площади, словно ось, вокруг которой вращаются экипажи. До чего безвкусное сооружение! А вот что они сделали хорошо – засыпали ямы! И вот этих двух чудесных искрящихся фонтанов раньше здесь не было! И высоких фонарей тоже! И вот этих статуй на зданиях Габриэля![25] Часть экипажей сворачивала вправо, на Елисейские Поля, где за чинно выстроившимися деревьями виднелась Триумфальная арка. За рекой возвышалась ложногреческая колоннада дворца Бурбонов. Фиакр проехал по мосту, поднялся по улице Бургундии, свернул на улицу Гренель, въехал в крытый проход, остановился посреди мощеного двора – и Софи, взволнованная до того, что перехватило дыхание, увидела перед собой дом, где она выросла, где прошло ее детство…
Фасад облупился, на окнах не было гардин, между плитками крыльца пробивалась трава, но от старого дома по-прежнему веяло спокойствием и благородством. Навстречу Софи вышел незнакомый слуга – молодой, краснощекий, лопоухий. Коричневая ливрея была ему тесна и спереди не застегивалась. За ним по пятам следовала бледненькая горничная. Слуги представились: Жюстен и Валентина. Нотариус нанял их на прошлой неделе. «Основную работу» они уже сделали и теперь ждали, чтобы хозяйка соблаговолила распорядиться насчет остального. Она велела им для начала выгрузить и внести ее багаж и одна вошла в дом.
Вестибюль был пуст, в гостиной почти не осталось мебели, отчего комната стала казаться слишком просторной, и на выцветшей от солнечных лучей зеленовато-голубой обивке стен виднелись более темные прямоугольники – след пропавших картин. Обводя глазами обстановку, уцелевшую после бедствия, Софи с благодарностью узнавала то кресло, то столик, то комод с инкрустациями, то драпировку, за которой скрывалась дверь. Даже самый воздух дома чудом сохранился в этом давным-давно необитаемом жилище, тонкий, едва уловимый аромат, к которому примешивались запахи отсыревших, истлевших тканей, воска, сухой краски, трухлявого, источенного червями дерева. Софи, раздувая ноздри, напрягая ум, двигалась вспять сквозь годы. Вернувшись в Каштановку, она погрузилась в воспоминания о своей жизни с Николаем, а здесь она оказалась среди родных, вновь стала такой, какой была до того, как познакомилась с Николя. При мысли о том, что мать и отец умерли, когда она была от них так далеко, Софи почувствовала, как ее душу заполняет нестерпимая горечь. Не загубила ли она и их жизнь, когда загубила свою? Они мало ее любили, и она отвечала им тем же. Все это было так плохо и так грустно!
Софи задумчиво глядела в пространство между окном и дверью, и перед ней словно наяву выросла девушка, которая так часто там стояла, прижавшись лбом к стеклу, – стройная, в голубом платье, с книгой в руке. В ее жизни еще никто не появился. Она торопится жить, действовать, самоотверженно трудиться, жертвовать собой, восхищаться, любить без памяти. Дело было только за тем, чтобы найти мужчину, достойного ее уважения. Она читала Плутарха. Ей хотелось совершить что-нибудь героическое. Стать второй мадам Ролан.[26] Отец и мать обменивались у нее за спиной напрочь лишенными для нее интереса замечаниями о знакомых или слугах. В саду вечерело. Этот сумеречный час всегда производил на Софи тягостное впечатление. Поглядевшись в зеркало над камином, она увидела себя загримированной под старую даму. На голове седой парик, вокруг подбородка неумело проведенные морщины, под глазами свинцовые тени, взгляд застывший… Зачем она себя в такое превратила? Внезапно возвратившись к действительности, она с нежностью признала в этом усталом лице все, что свидетельствовало о поражениях, утратах, обо всех постигших в жизни разочарованиях. Софи поежилась, ее знобило. В доме было сыро и холодно, несмотря на то что за окном стояла майская теплынь.
– Затопите камин, – через плечо бросила Софи вошедшему в комнату Жюстену.
– Слушаюсь, мадам. Мэтр Пеле сказал, что зайдет поговорить с вами вечером. Мы с Валентиной не знали, какую комнату вы выберете для своей спальни, и пока приготовили для вас ту, что показалась нам лучшей, на первом этаже…
– Вы правильно поступили, – ответила Софи.
«Лучшей, на первом этаже» показалась слугам комната, которая прежде служила маленькой гостиной и где ее мать проводила зимние вечера. Теперь сюда поставили кровать, которой Софи раньше не видела, туалетный столик, два разрозненных кресла, трельяж, платяной шкаф, пол застелили ковром, багаж сложили в углу… Надо разбирать сундуки… Вот докука! Ни малейшего желания заниматься этим у Софи не было, и она, поручив Валентине пока хоть как-нибудь разложить и развесить одежду и белье, решила продолжить осмотр дома.
Приоткрывая двери, Софи с любопытством заглядывала в помещения, ощущая себя так, словно прогуливалась по чужому жилищу. От спальни ее родителей остались одни только голые стены; от всей обстановки комнаты, где спал Николай, пока жил в Париже, сохранилась лишь продавленная кровать с обрывками желтого балдахина. Софи вошла в библиотеку: тут она когда-то впервые увидела своего будущего мужа: молодого, высокого, белокурого, в великолепном мундире офицера гвардейского полка. Как же она тогда ненавидела его – за то, что был русским, за то, что был победителем! Из прорехи диванной обшивки лез конский волос. На пыльных полках кое-где уцелели ряды книг. Самые ценные пропали. Софи наугад прочитала несколько имен на корешках оставшихся: Жан-Жак Руссо, Монтескье, Вольтер… Чуть подальше – Шамплитт. Ее первый муж. Он так мало на нее повлиял, что Софи едва могла его вспомнить. Нет, она жена Николя, и больше ничья. Машинально сняла с полки маленький томик, переплетенный в шагреневую кожу, полистала. «Письма о непрестанном развитии человеческого духа», сочинение маркиза де Шамплитта – изумилась наивности заглавия. Как только она могла этим восхищаться? Поставив книгу на место, Софи спустилась по лестнице и вышла в сад. Давно заброшенный, он превратился в заросли сорняков и колючего кустарника. Из одичавшей зелени выглядывала грациозная и жеманная статуя Купидона. Кончик носа у него был отбит, часть лука отломана. В ветвях деревьев, уже одевшихся пышной листвой, пели птицы. Издали доносился городской шум. Софи и сама не могла понять, радостно ей или грустно. Счастье от встречи с Парижем омрачалось мыслями о том, что это паломничество ей пришлось совершить в одиночестве. Она вернулась одинокой и постаревшей в те места, где когда-то начиналась ее жизнь! «Мы суетимся, любим, ненавидим, надеемся, увлекаемся разными вещами, которые назавтра кажутся нам ничтожными, и с пустыми руками возвращаемся к тому, с чего начали! – подумала она. – Неужели есть хоть какой-то смысл в судьбе, подобной моей?»
Вечерняя прохлада и темнота прогнали ее из сада. Жюстен затопил камин в гостиной. Софи приказала, чтобы ужин ей накрыли здесь же, в гостиной, на маленьком столике. Валентину наняли служить одновременно горничной и кухаркой, за что она получала жалованье в двадцать пять франков в месяц плюс вино. Софи переоделась в домашнее платье, свободно уложила волосы под кружевной косынкой и принялась за молодую уточку с оливками. Нотариус – преемник того, какого она знала в прошлой жизни, – появился, когда она заканчивала ужинать. На вид лет сорока, кругленький, напомаженный, цветущий… Мэтр Пеле в нескольких словах обрисовал хозяйке дома ее материальное положение, как выяснилось, далеко не блестящее. Но для Софи не имело ни малейшего значения то, что она лишена каких-либо источников дохода во Франции, поскольку ей должны были регулярно присылать деньги из России. Лишь на те средства, которые она перед отъездом сама перевела сюда, можно было прожить два, если не три года. А если понадобится, она станет играть на бирже (говорят, это приносит немалый доход!). Однако от этого мэтр Пеле ее отговорил. Нотариус показался ей уравновешенным, здравомыслящим и щепетильно честным, она пообещала следовать его советам и подписала бумаги, которые он принес. Перед уходом он наилучшим образом отрекомендовал нанятых им слуг и спросил, не требуется ли прислать кого-то еще. Софи отказалась: этих двоих было вполне достаточно, она не собиралась вести светскую жизнь, впрочем, у нее и друзей-то во Франции совсем не осталось.
– Друзья у вас очень быстро заведутся, – пообещал мэтр Пеле. – И их окажется куда больше, чем вам хотелось бы!
Сломленная усталостью, Софи легла в постель и мгновенно уснула крепким сном. Проснулась едва ли не на рассвете, с чувством, что надо немедленно предпринять что-то очень важное. Но, раздав указания Жюстену и Валентине, поняла, что заняться решительно нечем. Было еще довольно рано, погода стояла прекрасная, и Софи вышла из дома. Уличная суета ее развлекла. Консьержки и привратники зевали, стоя у дверей, бродячие торговцы катили по Бургундской улице свои тележки и, надсаживаясь, хриплыми голосами выкрикивали свой товар, затем ее обогнал водонос, согнувшийся под тяжестью деревянного круга, к которому были подвешены полные ведра. Поддавшись воспоминаниям, Софи позволила им увлечь себя на улицу Жакоб и направилась к книжной лавке давнего своего друга, Огюстена Вавассера, но лавка оказалась закрыта, ставни заперты, вывеска «У верного пастуха» наполовину стерлась. Софи решила расспросить консьержа – толстощекого субъекта с подозрительным взглядом, с комком жевательного табака за щекой, с животом, перетянутым грязным передником. Над каморкой висела табличка: «Обращаться к привратнику».
– Вавассер? А он уехал, – проворчал толстяк.
– Куда?
– Вот уж чего не знаю.
– И давно ли уехал?..
– Да уж несколько месяцев прошло.
– Но… а он должен вернуться?
– Не так скоро! А кому он требуется-то?
– Простите?
– Звать, говорю, вас как?
«Что это он меня допрашивает, точно полицейский?» – подумала Софи и в ответ пробормотала:
– Мое имя вам ничего не скажет.
Однако уходить не спешила: вспомнилось, что другие ее друзья, Пуатвены, жили когда-то в этом же доме. Хотя… хотя они были такими старыми в те времена, когда она с ними зналась, что, наверное, умерли задолго до ее возвращения… И все же ради очистки совести она спросила:
– А господин и госпожа Пуатвен?
Консьерж сдвинул брови:
– Таких не знаю!
И вдруг звонко хлопнул себя по лбу:
– Да как же не знаю-то! Знаю! Знал, вернее. Ну, конечно же, это они: двое старичков! Муж, по-моему, был парализован… Ох, оба они померли, мадам, сперва он, потом она. Я тогда только-только поступил на службу. Это было лет двадцать пять, а может, двадцать шесть тому назад!..
Софи повернулась и ушла. На сердце было тяжело. Она понимала, что Пуатвены не могли к этому времени оставаться в живых. Но Вавассер? Да уж, этот человек неисправим! Должно быть, не чувствуя себя в безопасности, он перетащил куда-нибудь в другое место свою не слишком процветающую торговлю и свой мятежный дух, и ей теперь никогда не отыскать его следов.
Покинув улицу Жакоб, она отправилась на каретный двор и, выбрав красивый четырехколесный кабриолет, запряженный двумя крепкими лошадками, наняла его вместе с кучером в ливрее. Ей предложили взять в придачу и грума, но Софи отказалась: подобная роскошь ни к чему. Кучера звали Базилем, на голове он носил цилиндр, надутые от важности щеки были украшены рыжими бакенбардами. Базилю явно хотелось выглядеть кучером при хозяине, и, чтобы создать иллюзию, он еле заметно написал свой номер красной краской по черному фону, так что издалека было и не разглядеть.
Для начала Софи попросила отвезти ее на Елисейские Поля. Проспект показался ей еще более красивым и оживленным, чем во времена ее молодости. Ни в одном городе мира нет столько деревьев, сколько в Париже! Чисто французская дружба между старыми камнями и молодой листвой… Въезд на проспект такой широкий и величественный – словно устье реки. Облачка пыли приглушают сверкание окон, лаковое сияние карет и блеск серебряных украшений на конской сбруе.
Здесь толпились всевозможные средства передвижения: от благородных двухместных карет с гербами на дверцах до удобных буржуазных экипажей; открытые кареты куртизанок и щеголей катили навстречу друг другу, задевали друг друга бортами, сидевшие в них обменивались взглядами, полными жгучего любопытства. Иногда всадники, возвращавшиеся из Булонского леса, окружали какую-нибудь широкополую соломенную шляпу с разноцветными лентами, видневшуюся над открытыми бортами экипажа, и почтительно раскланивались. Софи, с жадным интересом рассматривая туалеты дам, не могла не признать, что французская мода этого сезона прелестна, и внезапно ощутила себя одетой, словно провинциалка. Платье непомерной тяжестью легло на плечи, шляпа сдавила лоб. Надо как можно скорее заняться своим гардеробом! Стук копыт сопровождал ее размышления отрывистой мелодией. Мельком глянув на – наконец-то достроенную! – Триумфальную арку, она велела отвезти себя в Мариньи, выбралась из кареты и отправилась прогуляться по саду. И здесь большие перемены! Под деревьями раскинулся целый городок танцевальных залов, ресторанов, тут же купол цирка и ярмарочные балаганы, и все эти хрупкие пестрые полотняные сооружения окружены толпой праздношатающихся, околдованных звуками оркестра и привлеченных ароматами сидра, вафель и сосисок. Когда Софи подошла к своему экипажу, ее кучер, сдвинув шляпу на ухо, напевал: «О Помаре, царица нежных сердец!..»
Домой она вернулась совершенно очарованная всем увиденным. Жюстен приготовил хозяйке свежие газеты, и Софи с усмешкой их перелистала. Просто-таки записки из жизни блаженного края: император в начале года женился; его супруга прекрасна, умна и элегантна; весь народ без памяти любит своих государей; в городе ведутся большие работы, в театрах идут новые спектакли, в Тюильри состоится бал…
Пропустив политические новости, Софи буквально накинулась на иллюстрированные странички моды. Воздух Парижа пробудил в ней желание нравиться. Если в Каштановке она носила простые платья и не испытывала ни малейшей потребности сменить их на какие-нибудь другие наряды, то здесь ее взгляд с вожделением ласкал рисунки с изображением удивительных бальных туалетов. «Платье с кринолином, из нежно-розового муара, с тремя оборками и гирляндой листьев из розового крепа с серебряной отделкой…» Она читала, представляла себе, как это будет выглядеть, ей это страшно нравилось, и она удивлялась тому, как сильно ее привлекают столь легкомысленные предметы. Серьезное отношение к развлечениям, несомненно, было признаком исцеления, на какое она уже и не надеялась, чудесным возвращением к истокам. Газета соскользнула с ее колен. Софи перевела взгляд на свое отражение в большом наклонном зеркале. Она не понимала, что произошло, – может быть, дело в ином освещении, а может быть, в том, что иная здесь вся атмосфера, – но она показалась себе более молодой, стройной и легкой, чем была даже в Тобольске. И пожалела о том, что Фердинанд Вольф не может ее увидеть здесь, у нее дома, увидеть вот такой – настоящей парижанкой. Подумать только, с тех пор, как они расстались, она не прочла ни единого слова, написанного его рукой! Ни в Петербурге, ни в Каштановке писем от него она не получала! Но может быть, почта лучше доходила из России в Сибирь, чем в обратном направлении? Вполне возможно, он получил от нее несколько писем, и только у нее от него нет по-прежнему никаких вестей. Мысль была нелепая, но утешительная в ее одиночестве: Софи нашла для себя оправдание, чтобы не впасть в уныние в окружавшей ее пустоте. Полная нежности, она подняла крышку секретера, обмакнула перо в чернила и принялась писать своему лучшему другу, без всякой надежды на ответ, словно бросала листки на ветер.
2
Все следующие дни Софи была поглощена заботами о собственном обустройстве. Надо было привести в порядок комнаты первого этажа, где она намеревалась жить, предоставив второй этаж запустению, заказать столовое белье, посуду и кухонную утварь, потеребить обивщика, который все никак не мог управиться с креслами, обежать модные лавки и портних – ей казалось, что и целого года не хватит на то, чтобы понять, что делается в Париже, и устроить свою новую жизнь. Она боялась, что разочаруется, приехав во Францию, но пока ей все здесь нравилось: люди и камни, вкус хлеба и цвет небес. Да что говорить – всего лишь одно: она слышит на улицах французскую речь – казалось ей чудом, которое никогда не сможет прискучить. Нередко во время прогулки или оставшись одна в своей комнате, она испытывала прилив пронзительного беспричинного счастья, какое знавала только совсем юной девушкой. Блаженство ощущения, что всей своей душой она существует в согласии с первозданной истиной, не передать было никакими словами. В этом состоянии эйфории Софи купила для гостиной угловой эбеновый шкаф, а следом за ним – маленький книжный из выкрашенного в черный цвет грушевого дерева, украшенный цветными эмалями. Удовольствие, которое она испытывала, глядя на новую, современную мебель, помогало забыть о том, что такие расходы ей не по средствам.
Как-то вечером, когда Софи отдыхала у себя в спальне, Жюстен доложил о приходе гостьи: это оказалась баронесса де Шарлаз. Софи от удивления на несколько секунд замешкалась: «И как только Дельфина узнала о моем возвращении?» – но на самом деле была тронута тем, что о ней вспомнили. Конечно, после тесной дружбы в детстве они с Дельфиной постепенно стали испытывать все меньше и меньше влечения друг другу, и в последние годы, проведенные ею в Париже, Софи редко встречалась с давней подругой по пансиону, однако все еще хранила веселые воспоминания об этой легкомысленной, жизнерадостной и не слишком добродетельной особе, чья репутация попросту возмущала порядочных людей. Николай, не всегда отличавшийся хорошим вкусом, когда-то говорил ей, что Дельфина красивая. А может быть, он даже за ней и приволокнулся в свое время? Не было в Париже ни одного мужчины, которого она не попыталась бы соблазнить!
Софи с особенным тщанием оправила перед зеркалом свой туалет, привела в порядок прическу, сделала любезное лицо и перешла в гостиную, чтобы встретиться с той, кого когда-то ее близкие прозвали «чаровницей».
Когда хозяйка дома показалась в дверях, с кресла вскочила маленькая высохшая дамочка в темно-фиолетовом наряде. Сморщенная кожа так тесно обтягивала кости лица, что казалось, будто из-под шляпки с перьями смотрит череп. Но из этой смеси пудры и морщин смотрели прелестные, живые голубые глаза. Из всего прочего единственным, что еще оставалось у Дельфины привлекательного, была ее улыбка. У Софи сжалось сердце, когда эта хрупкая и надушенная развалина бросилась в ее объятия.
– Ах, Софи! – воскликнула гостья. – Неужели это возможно? Вы? Вы? После стольких лет?..
Они уселись рядышком на диване, держась за руки, как когда-то в монастырском пансионе. Смешно, но Софи не могла высвободиться, не обидев Дельфину. Не так давно встреча с Дарьей Филипповной по тем же причинам точно так же на нее подействовала. «Как ужасно снова увидеть женщину из своей молодости такой увядшей, потрепанной! – думала она. – Но, наверное, Дельфина, глядя на меня, испытывает то же удивление, смешанное с огорчением, только не смеет об этом сказать… И мы молча жалеем одна другую… Потому что видим на лице друг у друга следы разрушений, причиненных временем…» Слишком взволнованная для того, чтобы найти хоть какие-то слова, она опустила голову. Наступило молчание, полное сдерживаемых слез. Наконец Дельфина прошептала:
– Сколько же горя вам пришлось вытерпеть, бедная моя подружка!
– Откуда вы узнали?.. – изумилась Софи.
– Прежде всего, от сестры княгини Трубецкой, мадам Ванды Косаковской, – она живет в Париже. Затем, от мсье Николая Тургенева, который был очень близок к декабристам; однако ему повезло оказаться за пределами России, когда они совершали свой государственный переворот. Наконец, из газет, из книг… Я прочла «Учителя фехтования» Александра Дюма!
– Одна сплошная ложь!
– Может быть! Но ложью подобного рода не следует пренебрегать! Она пробуждает интерес и сочувствие к вам и вашим друзьям. Широкой публике известно, кто вы…
– Я не гонюсь за славой, Дельфина. Больше того, признаюсь вам, что никогда мне так сильно не хотелось оставаться незамеченной!
– Как я вас понимаю! – вздохнула Дельфина. – Свет, шум, все это было хорошо когда-то! Знаете ли вы, дорогая моя, что и мне пришлось пройти через то же испытание, что и вам? Я ведь тоже пятнадцать лет тому назад потеряла мужа!..
Софи пришлось сделать над собой усилие, чтобы изобразить огорчение. Да как она может сравнивать столь разные утраты! Барон де Шарлаз был вдвое старше Дельфины, и в том, что он скончался намного раньше, не было ничего удивительного, тогда как Николай погиб в расцвете лет, в расцвете сил… Но, может быть, после того, как всю жизнь изменяла мужу, Дельфина теперь искренне преклонялась перед ним посмертно? Нередко воспоминание о мужчине приносит женщине куда больше пользы, чем сам этот мужчина. Именно в такие сумеречные часы сплетаются венки, рождаются легенды… «Сохрани меня Господь от этой болезни запоздалого почитания!» – подумала Софи.
В течение нескольких минут подруги перебирали общих знакомых, многие из которых уже умерли, вспоминали Николая, которого Дельфина, по ее словам, почти не знала, родителей Софи… они поговорили и о политических волнениях, пронесшихся над Францией в последние годы… Дельфина, которая прежде была легитимисткой, теперь признавалась, что всей душой поддерживает Наполеона III.
– Республике так и так пришел конец, она была бессильной и прогнившей насквозь, – уверяла баронесса. – Когда Луи Бонапарт взял бразды правления в свои руки, мы катились к анархии! И все это осознавали! Сокрушительные результаты плебисцита служат тому подтверждением! Нация проголосовала за Наполеона, как правые, так и левые, за исключением нескольких безумцев! Я знаю, что вы всегда разделяли взгляды… скажем, отчасти социалистические!.. Ну, так вот! Как ни странно вам это покажется, но это может быть еще одной причиной, по которой вы должны восхищаться императором! Он любит народ, народ его избрал, и он будет управлять страной для народа! При этом нисколько не ущемляя буржуазию! С тех пор, как он с нами, мы свободнее дышим, мы снова поверили в мир, в братство, в справедливость…
– Не помню, чтобы вы когда-нибудь так увлекались государственным мужем! – с улыбкой промолвила Софи.
– Дело в том, что к этому человеку я имела счастье приблизиться. Стало быть, могу говорить о нем с достаточными основаниями. Да-да, меня не раз приглашали в Тюильри…
Эти слова Дельфина произнесла с нарочитой скромностью, но было заметно, что она гордится своим возвышением, вхождением в сферы власти.
– Удивительный человек, существо высшего порядка! – продолжала между тем гостья. – Благородный, умный, полный решимости и вместе с тем чувствительный. А императрица! Что за грация, что за прелесть, что за красота! Знаете, она, несомненно, захочет с вами познакомиться!
– Хотела бы я знать почему?
– Потому что неравнодушна к любым проявлениям человеческих страданий! Впрочем, мы с ней занимаемся одними и теми же благотворительными делами. Поверите ли, если я скажу вам, что почти все свое время отдаю Обществу Материнского Милосердия!
Софи во все глаза смотрела на это создание: похоже, начав с того, что переходила от одного мужчины к другому, Дельфина закончила тем, что полюбила всех людей без разбора. Вместе с морщинами былая вертихвостка обрела добродетель. Разве можно разглядеть прежнюю молоденькую женщину, легкомысленную и довольно-таки заурядную, в этой старой даме, держащейся с достоинством и благожелательно настроенной?
– Только от вас зависит, будет ли и ваша жизнь так же наполнена, как моя, – снова заговорила Дельфина. – Придумайте себе какое-нибудь занятие, которое окажется вам по душе. До сих пор ведь не придумано лучшего средства от одиночества, чем общество! Кстати, поскольку мы об этом заговорили, хочу сообщить вам, что в Париже сейчас очень много русских и все они совершенно очаровательные люди. Собственно, я и о вашем приезде узнала от господина Николя Киселева, русского посла во Франции. Вам, наверное, надо бы нанести ему визит…
– Если бы вы знали, сколько визитов мне пришлось нанести в России губернаторам, генералам и директорам министерских департаментов, вы бы поняли, что у меня нет ни малейшего желания продолжать заниматься тем же и здесь!
– Хорошо, хорошо! – смеясь, унимала ее Дельфина. – Оставим в стороне официальных особ. Как бы там ни было, есть один салон, в котором вы непременно должны побывать, вы не можете не появиться у княгини Ливен. Вся маленькая русская парижская колония собирается там по воскресеньям, чтобы встретиться с величайшими умами нашего времени. Никто во Франции не достиг равного величия! Княгиня сказала, что намерена вас пригласить. Вот я и предупреждаю об этом, чтобы вы не слишком удивлялись…
– Очень любезно с ее стороны, – сказала Софи. – Если не ошибаюсь, она – урожденная Бенкендорф?
– Совершенно верно; ее муж, князь Ливен, отличился, будучи послом в Лондоне. Сама она была фрейлиной русской императрицы…
– Так что же она делает в Париже?
– Лет двадцать назад она пережила огромное горе. Двое из ее сыновей умерли от скарлатины. После этого она покинула двор. Больше того, рассталась с мужем, с которым и до того не слишком ладила. И вот, ссылаясь на то, что санкт-петербургский климат для нее неблагоприятен, княгиня из любви к Франции обосновалась здесь, на улице Сен-Флорантен. Говорят, что она была подругой Меттерниха и что, хотя ей уже семьдесят лет, Гизо безумно в нее влюблен. Граф де Морни – завсегдатай ее салона. Лорд Абердин пишет ей каждую неделю. Кроме того, княгиня состоит в постоянной переписке с императрицей Александрой Федоровной, которая по-прежнему питает к ней большую нежность. Одним словом, она как здесь, так и там особа весьма влиятельная. Что-то вроде неофициального посла России во Франции. Ее даже прозвали Европейской Сивиллой. Нет, в самом деле, вам обязательно надо с ней познакомиться!..
Софи подумала о том, какие надежды на нее возлагают оставшиеся в Сибири друзья, – так разве может она упустить возможность походатайствовать за них перед особой, столь близкой ко двору!
– Досадно, что мне совершенно нечего надеть, – непритворно огорчилась она.
– Вот уж на этот счет можете совершенно не беспокоиться, – утешила ее Дельфина, – у княгини Ливен куда больше внимания уделяют уму, чем туалетам! Впрочем, я нисколько не сомневаюсь в том, что вы на себя клевещете. Насколько я вас знаю, вы должны были непременно уже заказать себе несколько прелестных нарядов! А если вам нужны адреса модных магазинов…
И разговор увяз в тряпках. Софи уже не замечала морщин на лице Дельфины. Заговорив прежним языком, женщины помолодели в глазах друг у дружки. Только для них двоих, и всего на какой-нибудь час, им стало по восемнадцать.
Дельфина поднялась и прошлась по гостиной, разглядывая мебель через лорнет.
– Вы с таким изысканным вкусом обставили свой дом! – певуче восхитилась она. – Этот угловой шкафчик – истинный шедевр! А вот этот книжный шкаф из черненой груши, должно быть, работы Фурдинуа?
– В самом деле, его, – отозвалась Софи, довольная тем, что ее покупки так высоко оценила женщина, несомненно знавшая толк в красивых вещах.
Затем баронесса принялась восторгаться предметами, которые Софи вывезла из России: малахитовой чернильницей с бронзовыми накладками, несколькими фарфоровыми статуэтками, изображавшими пляшущих русских мужиков, набором гравюр под общим названием: «Виды Санкт-Петербурга в 1812 году».
– Как называется эта площадь? – то и дело спрашивала гостья. – А это что за мост?
И Софи со странной гордостью давала пояснения. Ей вспомнилось время, когда она в сибирской избе собирала по крохам напоминания о Париже. Неужели эти душевные метания между той и другой страной никогда не прекратятся? Внезапно ее охватило веселье при мысли о том, что у нее нашлась подруга, что теперь она во Франции не одна и отныне может делиться впечатлениями с женщиной той же национальности, одного с ней круга, одних лет. И старые подруги тут же условились встретиться на следующий день.
* * *
Софи настолько отвыкла бывать в свете, что, войдя в большую белую с золотом гостиную княгини Ливен, удивилась тому, сколько людей там собралось. Перед ней в свете люстр теснились богато украшенные платья, оставлявшие плечи открытыми и, расширяясь тяжелыми складками, ниспадавшие книзу, от чего облаченные в них дамы напоминали перевернутые чаши. На фоне волнующихся шелков, мерцающей парчи и переливающегося муара-антик мужские фраки резко выделялись своим унылым цветом и строгим покроем, навеянным очертаниями стручка фасоли. Над головами плыли запахи горячей пудры и румян, а ровный гул разговоров казался благовоспитанным, медоточивым и нескончаемым. Слуга у двери выкрикивал имена гостей. Лакеи в париках и белых чулках подавали разноцветные напитки. Рассеянно скользя взглядом по лицам, Софи тревожно спрашивала себя, достаточно ли хорошо она одета, достаточно ли нарядно ее платье из кружев цвета сливы с многоярусными юбками, которое только накануне доставили от портнихи, «мадам Луизы Пьерсон». Головной убор из лакированных листьев был от Александрин, длинные перчатки – от Майера, веер – от Дювеллеруа. Давно у нее не было от себя самой впечатления подобной гармонии. Да и Дельфина, увидев подругу, вскрикнула от непритворного восторга.
– И у вас тоже совершенно прелестный наряд, – сказала Софи, разглядывая зеленое тафтяное платье баронессы, оживленное искусственными цветами из бледно-желтого газа.
– Платье-то и правда неплохое, – согласилась Дельфина, – вот только юбки из конского волоса слишком громоздкие, торчат и мешают мне ходить! Хорошо-хорошо, пойдемте же скорее! Вас ждут! Всем так не терпится вас увидеть!
Схватив Софи за руку, баронесса потащила ее в глубину гостиной, где на софе полулежала старая, высохшая, суровая с виду дама с живыми глазами и белоснежными волосами, прикрытыми кружевным чепчиком. От шеи до щиколоток хозяйка дома была затянута в черное бархатное платье. На груди у нее сверкал бриллиантовый шифр, напоминая о том, что она была фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Окружал княгиню небольшой кружок степенных немолодых господ. Дельфина представила ей Софи и упорхнула, изобразив перед тем некое подобие реверанса. Старая дама с царственным спокойствием оглядела новоприбывшую с головы до ног, указала ей на стул рядом с собой и произнесла по-французски, надтреснутым голосом:
– Очень рада видеть вас у себя, сударыня. Надеюсь, вы расскажете, что делается в моей стране.
– Думаю, вы, княгиня, знаете о том, что происходит в России, лучше моего, – с улыбкой возразила Софи.
– Да, конечно, я знаю о том, что делается в Санкт-Петербурге, однако истинная Россия не там, а совсем в другом месте. Некоторые уверяют даже, будто в наши дни следует искать ее по ту сторону Урала!
В группе мужчин послышались смешки. Довольная произведенным ею впечатлением, княгиня продолжала:
– Дорогие моему сердцу люди по-прежнему находятся там: Трубецкие, Волконские. Что вам о них известно?
Софи не знала, что с ними стало с тех пор, как сама покинула Сибирь, но рассказала, просто и без прикрас, о прежней их совместной жизни в Чите и Петровске. Рассказ гостьи глубоко тронул княгиню.
– Это чудовищно! Какая низость! – повторяла она. – Как бы сильно ни провинились эти мальчики, император давным-давно должен был их помиловать! Упрямство его величества нелепо, несправедливо, это не христианское поведение!
Окружавшие княгиню Ливен мужчины принялись ей вторить. Софи, удивленная тем, что особа, столь близкая к императорской семье, прилюдно и так сурово судит царя, опасаясь ловушки, не присоединилась к возмущенному хору. Княгиня же, словно бы услышав ее мысли и задетая недоверием, наклонилась к ней и прибавила вполголоса:
– Знаете, сударыня, я ведь и сама, в некотором роде, принадлежу к гонимым. Царь в бешенстве от того, что я отказываюсь вернуться в Россию. Он сделал все, чтобы принудить моего мужа привезти меня туда, ничего не вышло. И, поскольку я настояла на своем, император потребовал от мужа разрыва со мной. Смирился Николай Павлович только теперь: он предоставил мне находиться там, где я нахожусь, но читает письма, которые я пишу императрице, извлекает из этого выгоду и в душе меня ненавидит!
– Как трудно в это поверить, княгиня… – задумчиво сказала Софи.
– Да-да, поверьте, он в самом деле меня ненавидит! Это необыкновенный человек, он умнее и сильнее, чем о нем думают, но его душит злоба. Он не умеет прощать! Ваши друзья-декабристы подтвердили бы мои слова!
– Значит, вы полагаете, им не на что рассчитывать?
– Я сто раз говорила о них в своих письмах к императрице. Обещаю вам, что сделаю так еще не раз. Но, к сожалению, это был и будет напрасный труд!
На этом месте их разговор прервали другие гости, подошедшие засвидетельствовать свое почтение хозяйке дома. Некоторых из новоприбывших княгиня представила Софи. Прославленные французские имена чередовались с не менее прославленными русскими. Долгоруков, Тургенев, Ермолов, Шувалов, Демидов – слыша все эти фамилии, Софи удивлялась тому, как много подданных русского царя обосновалось в Париже. Все гости кн. Ливен были одеты по последней моде и с наслаждением, упоенно говорили по-французски, раскатывая «р». Все они изо всех сил старались выглядеть истинными парижанами, но тем не менее зрелище оставляло довольно-таки тягостное впечатление плохой комедии…
К Софи, наваливаясь всем своим весом на трость с золотым набалдашником, приблизился согбенный старец с гладко выбритым лицом и задумчивым взглядом. Это был Николай Тургенев, которого пятью минутами раньше представила ей княгиня. Воспользовавшись передышкой в беседе хозяйки дома с прибывшей из России гостьей, он отвел ее в сторонку, чтобы поговорить о друзьях, отбывавших сибирскую ссылку. Софи показалось, будто он хочет оправдаться перед ней за то, что в момент восстания находился за границей. Слушая Тургенева, Софи вспоминала путаные, жалкие объяснения Васи Волкова. Обоих настигла одна и та же болезнь: избегнув в свое время наказания, выпавшего на долю заговорщиков, после они стали терзаться муками совести из-за того, что им повезло больше, чем товарищам. Однако Николай Тургенев был человеком совсем другого полета, чем несчастный Вася: во взгляде старца светился ум, от него исходило ощущение спокойствия, честности и решимости. В нескольких словах он рассказал о том, как бежал в Эдинбург, как получил царский приказ предстать перед комиссией по расследованию в качестве сообщника декабристов, как отказался покинуть Великобританию и как был заочно приговорен сначала к смертной казни, затем к каторжным работам. Позже Тургенев перебрался во Францию, где с тех пор и живет на вилле вблизи Буживаля. Его навязчивой идеей была отмена крепостного права в России, и он надеялся поспособствовать проведению этой реформы своими сочинениями.
– Шесть лет назад я издал на французском языке труд, наделавший немало шума, его название – «Россия и русские», – объяснил старик. – Я пришлю его вам. В этой работе я подверг анализу все, что неладно в нашей стране. И это позволило мне мимоходом воздать дань уважения моим друзьям декабристам…
Услышав последние слова, белокурая и розовощекая мадам Грибова молитвенно сложила руки и воскликнула:
– Ах, непременно, непременно надо прочесть эту восхитительную книгу! Только человек, глубоко и сильно любящий свою родину, может так ее критиковать! – И, повернувшись к Софи, прибавила: – А знаете, я ведь тоже была в очень близкой дружбе с некоторыми декабристами! Вы, несомненно, знавали в Сибири Юрия Алмазова? Так вот: я – его племянница. Разумеется, я была слишком мала, когда его арестовали, и совсем его не помню, но матушка много мне о нем говорила. Разрешите попросить вас о величайшей милости: доставьте мне удовольствие, придите к нам на ужин 18 июня.
Софи от души приняла приглашение – ради воспоминаний о Юрии Алмазове. Едва Грибова, довольная тем, как легко добилась своего, отошла от них, Николай Тургенев тотчас шепнул, наклонившись к уху Софи:
– Она католичка!
– Да что вы? – пробормотала Софи, не проявив ни малейшего удивления.
– Я хочу сказать, она была православной, а потом заново крестилась в католическую веру. И она сама, и ее муж, и сын… и не они одни! Князь Гагарин, граф Шувалов, Николай… Во Франции образовался целый небольшой клан русских, бог весть почему переменивших веру. Ими руководит добродетельнейшая мадам Свечина. Вы, несомненно, слышали о ней!
– Да, – согласилась Софи, – ее слава достигла и России. Говорят, она едва ли не святая…
– Весьма предприимчивая святая: постоянно вербует новообращенных. Стоит к ней приблизиться, и она тотчас начинает расспрашивать, как поживает ваша душа, и таким тоном, будто интересуется, прошел ли у вас насморк!
Софи почудилось, будто она уловила язвительную нотку в высказываниях Николая Тургенева насчет русских, перешедших в католичество. Но как не понять такие настроения у человека, который хоть и эмигрировал во Францию, однако считал себя более русским, чем те, кто остался на родине… Несомненно, в этой блестящей и праздной маленькой колонии существуют и соперничество, и зависть, и ревность, и разногласия, кое-как прикрытые лоском французской любезности… Все эти бояре, одетые как денди, все эти владельцы земель и крепостных искали в Париже более утонченной культуры, более легкой и приятной жизни, большей свободы, однако они плутовали с самими собой: основа их характера все равно была русской, и, покинув родину, они усваивали манеры космополитического общества, однако не могли расстаться с предрассудками, свойственными далекому отечеству… Софи внезапно остановилась посреди своих рассуждений, удивленная собственной непоследовательностью и суровостью вынесенного ею же самой приговора. Глядя на этих более или менее добровольных изгнанников, она чувствовала себя то непримиримой, как истинная русская, не желающая прощать соотечественников, отдавших предпочтение радостям Запада перед тем, что они находили в родной стране, то француженкой-ксенофобкой, которой больно видеть, что на ее земле обосновались чужестранцы.
К ней подошел какой-то в высшей степени благовоспитанный престарелый господин и стал расспрашивать о последнем театральном сезоне в Санкт-Петербурге. Софи машинально отвечала, считая, что беседует с русским, и растерялась, узнав, что перед ней граф де Сент-Олер. Зато экспансивная, говорливая и разряженная в пух и прах немолодая дама, которую она приняла за француженку, живо обернулась, когда кто-то окликнул Настасью Константиновну. Франция и Россия обменивались масками. Своего рода салонная игра, в которой Софи выпало водить.
Внезапно в гостиной поднялся шум, все засуетились: прошел слух, будто приехал граф де Морни. Однако слуга, докладывавший о гостях, обманул их ожидания, выкрикнув безвестное и даже не аристократическое имя.
– Но граф ведь обещал приехать! – жалобно твердила Дельфина. – Я хотела спросить у него, верно ли, что императрица намерена дать сто тысяч франков Обществу Материнского Милосердия.
– Если он и не придет, так Гизо-то появится наверняка, – заметил Николай Тургенев.
– Да на что мне Гизо? Гизо – это прошлое…
– Прошлое, которое вполне может возродиться из пепла!
– Тише, тише! Что, если кто-нибудь услышит…
– А разве возможно, чтобы господин Гизо встретился здесь с графом де Морни? – удивилась Софи.
– Ну конечно! Вполне возможно, сударыня, – заверил ее Николай Тургенев. – Это чудо, которое сотворила наша княгиня. Все ее прежние друзья, с Гизо во главе, оказались после государственного переворота 2 декабря[27] в числе побежденных. С провозглашением империи княгиня Ливен вполне могла бы закрыть дверь перед победителями, однако она слишком жаждет информации, она жить не может, не вдыхая душок государственных дел. Вот и приглашает к себе новых правителей, не отрекаясь от прежних. И знаете, для того, чтобы заставить их всех собраться вокруг ее дивана, требовался такт, требовалась дипломатичность, какие лишь очень немногие женщины способны проявить!..
Говоря, старец приблизился к софе, на которой по-прежнему полулежала княгиня, обмахивая впалую грудь черным веером.
– Расскажите, месье, какой же вы теперь измышляете заговор? – спросила она, вытянув тощую шею, на которой покачивалась змеиная головка.
– Я знакомил мадам Озарёву с нашим русским парижским обществом, – ответил Тургенев.
– Тут гордиться особенно нечем! – заметила княгиня. – Недостатки каждого из нас за границей становятся заметнее. Мне кое-что известно на этот счет, я три четверти жизни провела за пределами своей страны. Но что поделаешь? Мне хорошо только во Франции. Разве моя вина, что я не родилась здесь?
Она вздохнула, накрыла руку Софи своей холодной лягушачьей лапкой и продолжала:
– Ах, как жаль, что наша милая Ванда Коссаковская не смогла сегодня прийти! Вы рассказали бы ей о сестре, княгине Трубецкой!..
– А где сейчас Ванда? – поинтересовался граф де Сент-Олер.
– Думаю, в Ницце.
– В это время года?
– Да, странная затея! Она вернется к нам поджаренной, как сухарик. А знаете ли, сударыня, что именно Ванда побудила господина Альфреда де Виньи написать поэму о декабристах?
– Поэму о декабристах? – переспросила Софи. – Но я вообще ничего об этом не слышала…
Ее неведение привело в восторг хозяйку. Княгиня Ливен буквально возликовала, большой подвижный рот растянулся в улыбке, глаза загорелись.
– Вы ничего не знаете?.. Вы, кого это касается в первую очередь?.. Вот это мило! Поэма ведь написана пять или шесть лет тому назад!.. Правда, господин де Виньи до сих пор нигде ее не печатал!.. У меня есть рукорись. Хотите прочитать?
Не дожидаясь ответа Софи, она насильно усадила ее рядом с собой и приказала какой-то молоденькой девушке, должно быть, своей компаньонке:
– Немедленно идите в мой рабочий кабинет, откройте левый ящик письменного стола, сверху вы увидите большие листы бумаги…
Девушка вернулась с рукописью, и княгиня попросила Николая Тургенева прочесть поэму. Тот опустился в кресло и уложил больную ногу на табурет. Несколько человек из числа гостей окружили его. Откашлявшись, чтобы прочистить горло, Тургенев с пафосом начал читать. Поэма была написана в форме диалога, который ведут между собой во время бала французский поэт и молодая русская девушка по имени Ванда. В ответ на расспросы поэта Ванда рассказывает ему о том, как ее сестра, княгиня, решила отправиться вслед за мужем в Сибирь, чтобы там каждое утро «пить слезы долга». Страдания узника были изображены живописно: его «раздавленную грудь» согнула усталость, ноги вспухли от холода на дурных российских дорогах, где снег «сыпал потоками» на его обритую голову, где он колол лед на болотах…
По мере того, как развертывалось действие поэмы, Софи чувствовала все большую неловкость от выспренности стиля и фальши образа. Разделив изгнание декабристов, она сделалась болезненно чувствительной ко всякому искажению действительности и прекрасно понимала, что это сочинение было написано ради того, чтобы прославить ее друзей, однако лирическое преувеличение здесь коробило ее сильнее, чем задело бы безразличие. Когда она слушала рассказы о «могиле рудокопа», о том, как жена поддерживает руку мужа, орудующего «рогатиной», о сотканном все той же женой полотне для «погребального савана», в ее памяти вставали еще не остывшие воспоминания о Чите, и воспоминания эти отнюдь не желали мириться с услышанным! Она снова видела перед собой, как декабристы отправляются на работу со своим снаряжением для пикника, как Николай с Юрием Алмазовым играют в шахматы, разложив доску на большом камне, как генерал Лепарский пьет чай вместе с заключенными, вспомнила прогулки в коляске с Полиной Анненковой, Марией Волконской, Натальей Фонвизиной, заново ощутила сложную смесь дружеских чувств, ностальгии, надежды и зависимости – одним словом, то счастье в несчастье, какие, наверное, доступны пониманию лишь того, кто был там и все это пережил…
Тем временем Николай Тургенев, насупив брови и возвысив голос, принялся читать ответ негодующего поэта на откровения Ванды. Оказалось, что, пока он слушал девушку, в его жилах «глухо вскипали» проклятия; он восхищался «римскими женами», которые, в отличие от него, «не проклинали», но «молча влачили свое ярмо» и «поддерживали раба в глубине катакомб»…
Все взгляды обратились к Софи. Каждый старался угадать, какое впечатление произвела на нее поэма. Она сознавала это, и ей было мучительно от того, что ее чувства оказались таким образом выставлены напоказ. Это их всех, жен декабристов, это ее саму в образе сестры Ванды автор сравнивал с героинями Древнего Рима! Нет, она чувствует себя недостойной таких почестей. Что такого необыкновенного совершает женщина, последовав за мужем к месту его ссылки? Зачем надо превращать Каташу Трубецкую и ее подруг в статуи долга, если они – создания из плоти и крови, наделенные не только стойкостью и мужеством, но и слабостями?
Внезапно Софи захотелось выкрикнуть: «Это все неправда! Мы вовсе не такие великие, такие благородные, такие бескорыстные! Наша жизнь была далеко не так трагична! Она была менее трагична, но куда более печальна в своей простоте, в своей заурядности, в низменной зависти и повседневной скуке, в ослаблении чувств и угасании темпераментов! Зачем он лезет в нашу святая святых, этот господин Альфред де Виньи, со своим напыщенным вдохновением? Пусть оставит нас в покое! Пусть замолчит!» Но она не имела права разрушать пусть даже сильно раздражавшую ее легенду. Не она одна к этому причастна, речь не только о ней. Ее друзья, оставшиеся там, нуждаются в ореоле мучеников. Может быть, когда-нибудь выпавшим на их долю прощением, своим возвращением в Россию они будут обязаны поэтической шумихе, поднявшейся вокруг их несчастья. И с этой точки зрения все, что могло пробудить сочувствие и жалость к ним, сделать их привлекательными и вместе с тем возвысить, заслуживало лишь поощрения. «Тем хуже для истины, – подумала Софи, – если их счастье должно быть оплачено ценой лжи!» И снова, как когда-то в Тобольске, из солидарности с ними она отреклась от самой себя. Ей, пленнице мифа, предстояло испить до дна чашу стыда за то, что заслуги ее переоценили.
Поэт же, в припадке мстительного красноречия, теперь обрушился на Николая I, который, несмотря на то что со времен восстания прошло много времени, отказывал мятежникам в помиловании. Описанием безмолвного царя перед безмолвствующим же войском поэма и завершилась.
Вот и все. Чтец умолк. Дамы вздыхали, прикрываясь веерами. Дельфина с чувством высморкалась. Затем раздались восклицания:
– Гениально! Всю душу переворачивает!
– Мне непременно надо переписать себе этот текст!
– Виньи – великий поэт!
– А я предпочитаю Гюго!
– Потому что он оказался в изгнании?
– Ну, а вы-то что об этом думаете? – обратилась к Софи княгиня Ливен. – Есть в этой картине сходство? Верна ли она?
Софи, обуздав себя, попыталась улыбнуться и пробормотала:
– Прекрасная поэма… Может быть, она даже слишком прекрасна… Словом, я хочу сказать… мы не заслуживаем такой чести… В конце концов, каждая из нас всего лишь исполнила свой долг женщины, жены…
– Будет вам! – вскричала княгиня Ливен. – Вы достойны восхищения, но сами не можете об этом судить. Что касается рассказа, думаю, вы все же делаете поправку на поэтическое преображение действительности? Господин Альфред де Виньи внес в свое сочинение немалую долю романтизма. Он, несомненно, был бы очень тронут, если бы узнал, что вы, спасшаяся из сибирских застенков узница, оценили его творение. Хотите, устрою вам встречу с ним?
– Нет-нет, благодарю вас, – в испуге пролепетала Софи.
– Почему же?
– Не знаю… Меня это, скорее, смутило бы, я чувствовала бы себя неловко…
Она была в ярости оттого, что не нашла лучшего оправдания для своего отказа. Все эти люди, все эти незнакомые ей мужчины и женщины, которые с такой жадностью разглядывают «диковинку», внезапно лишили ее всякой уверенности. К счастью, княгиня Ливен, сжалившись над вконец растерявшейся гостьей, перевела разговор на другое, и вскоре все принялись обсуждать недавние разногласия царя с Блистательной Портой из-за царского протектората над греками-православными Оттоманской империи. Несмотря на то что князь Меншиков предъявил султану по этому поводу ультиматум и что ультиматум был отвергнут, оснований для того, чтобы опасаться возможной войны, вроде бы не было.
– Турки ничего не предпримут, если Франция их не поддержит, – уверяла княгиня Ливен. – А Франция ничего делать не станет, потому что никогда такого не бывало, чтобы только что установившийся режим, не успевший еще укрепить свои основы, пустился в военную авантюру, когда границам страны нет никакой угрозы.
Это рассуждение было таким ясным, что, казалось, убедило всех. Один только граф де Сент-Олер осмелился заметить:
– Вы говорите о Франции, княгиня, но забываете об Англии. У Англии нет тех внутренних проблем, какие существуют у нас. Лорд Стратфорд де Редклифф, по-моему, твердо намерен расстроить в Константинополе планы России. Поступая так, он действует не только в соответствии с главным направлением британской дипломатии, но и повинуясь личной ненависти, которую питает к Николаю I с тех пор, как тот, если память мне не изменяет, отказался дать согласие на назначение его послом в Санкт-Петербурге…
– Я бы точно так же поступила, будь я на месте царя! – воскликнула княгиня Ливен. – Этот Редклифф – поистине зловещий персонаж. Когда он проездом был в Париже, меня от одного его вида бросало в дрожь! Не говорю уже о том, что он явился в воскресенье в мой салон в черно-зеленом галстуке, тогда как у вас у всех, господа, достает вкуса на то, чтобы надеть белый галстук!
Смех распространялся по комнате, постепенно заражая всех присутствующих; переждав немного, княгиня заговорила вновь:
– Нет-нет, вооруженного столкновения не произойдет. Все закончится просто-напросто сделкой дипломатов между собой: поторгуются и столкуются в конце концов. Лорд Абердин в своем последнем письме заверил меня в том, что иного исхода не будет.
Несколько жадных до политических новостей мужчин из числа гостей, зная, что княгиня состоит в постоянной переписке с английским премьер-министром, столпились вокруг нее тесным кружком – так, словно стремились припасть к живительному источнику. Софи воспользовалась этими перемещениями для того, чтобы незаметно отойти. Поверх барьера из черных фраков до нее долетали имена, все время одни и те же: Меншиков, Редклифф, Нессельроде, Абдул-Меджид… О декабристах все уже позабыли. Они так мало значили теперь, когда всколыхнулись целые народы!
Дельфину она отыскала посреди дамского кружка, обсуждавшего моды и театральные новости. Но и здесь Софи чувствовала себя скованно, ей было не по себе, и она решила, что слишком недавно вернулась во Францию и еще не освоилась, потому и чувствует себя потерянной в этой новой, непривычной для нее обстановке. И в точности так же, как задаешь себе урок, дабы воспитать волю, она принудила себя остаться еще на полчаса, болтая то с одними, то с другими, улыбаясь, внимательно присматриваясь и рассеянно блуждая умом. Наконец, она позволила себе распрощаться с княгиней Ливен, которая осыпала ее неумеренными комплиментами и просила приходить еще – так часто, как ей только захочется. Софи уже стояла у дверей, когда слуга выкрикнул долгожданное имя:
– Его превосходительство господин граф де Морни.
По залу пробежала зыбь, приглашенные раздвинулись по сторонам, и Софи увидела человека в черном фраке, с узким бледным лицом, высоким лбом с залысинами. Человек этот шел по гостиной, выставив грудь вперед, словно военный. Мужчины, когда сводный брат императора проходил мимо них, слегка кланялись, дамы обольстительно улыбались. Граф направился прямо к княгине Ливен и поцеловал ей руку. Затем толпа скрыла его от глаз Софи. Вечер был в самом разгаре. Дамы собирались группками, располагаясь на низких стульях, казалось, не по взаимному влечению, но по цвету платьев; стоявшие мужчины – во фраках, с крахмальной грудью, увешанной орденами, – приосанивались и безудержно разглагольствовали. На всех лицах, даже у самых пожилых из гостей, было одно и то же напряженное, перевозбужденное выражение, будто у актеров на сцене. Софи, проскользнув между группками, вынырнула на верхнюю площадку парадной лестницы, обрамленной цветочными корзинами и растениями в горшках. Шум разговоров постепенно угасал у нее за спиной. Ее охватила приятная прохлада. Две только что прибывшие пары поднимались по ступенькам ей навстречу. Софи залюбовалась молодой женщиной в платье с глубоким декольте, с шелковистым шлейфом, шуршавшим при каждом шаге, затем отвернулась, проходя мимо зеркала, и попросила слугу подозвать ее карету.
3
После недельного ожидания Софи уверилась в том, что Николай Тургенев позабыл о своем обещании, и решила, что сама купит ту книгу о России и русских, о которой он ей говорил. Не зная, к какому книготорговцу обратиться, без всякой надежды снова отправилась на улицу Жакоб, но здесь, к величайшему ее удивлению, лавка оказалась открытой. За пыльным стеклом витрины выстроились, как прежде, ряды томов в истрепанных переплетах. Разглядеть, что происходит внутри, было невозможно. Толкнув дверь, Софи услышала – словно вода закапала на голову – звон колокольчика и увидела перед собой молодую женщину с болезненным лицом, небрежно одетую, в окружении четверых детей: самому младшему на вид было года два, старшему – не больше двенадцати.
– Здесь ли господин Вавассер? – спросила Софи.
– Нет, сударыня, – ответила незнакомка, сделав несколько шагов ей навстречу.
– Мы с ним давние друзья. Я хотела бы что-нибудь о нем узнать. Может быть, вы могли бы…
Молодая женщина отрицательно покачала головой, испуганно глядя на гостью. Двое детей помладше крепко ухватились за юбки матери. Поскольку она больше ни слова не произнесла, Софи тщетно пыталась догадаться, кто она такая: родственница? соседка, которую попросили присмотреть за лавкой?
– Но ведь господин Вавассер, несомненно, должен был сказать вам, где его можно найти! – продолжала допытываться она. – Вы его родственница?
– Я его жена.
Софи растерялась. Как это может быть? Ее собеседнице было, наверное, лет двадцать восемь, тогда как Вавассеру теперь должно было быть уже под шестьдесят. Да и вообще удивительно уже то, что такой закоренелый холостяк решился связать себя узами брака!
– Боже! Мадам Вавассер! Как же я рада с вами познакомиться! – воскликнула Софи. – Может быть, муж рассказывал вам обо мне? Я – Софи Озарёва… Софи де Шамплитт, если угодно…
На усталом лице госпожи Вавассер появилась улыбка, черты его разгладились.
– О да! – с жаром отозвалась она. – Конечно же, он говорил мне о вас! Вот он обрадуется, когда узнает, что вы вернулись! Но как же вам удалось выбраться из России?
– Слишком долго было бы объяснять в подробностях. Главное – что мне это удалось. И теперь я во Франции, я навсегда свободна! Но где же ваш муж?
– В тюрьме, – коротко ответила госпожа Вавассер.
Софи не слишком-то удивилась, но все же вскрикнула:
– Ах, Господи! Да что же он такого сделал?
Госпожа Вавассер возвела глаза к потолку и вздохнула:
– Вы еще спрашиваете? Всегда одно и то же, ничего нового: вступил в заговор против правительства!
– Против какого же правительства?
– Против всех. Но посадило его под замок последнее правительство! Начиная с того дня, как Луи-Наполеон был избран президентом республики, Огюстен объявил ему войну. И принялся печатать памфлеты, революционные прокламации, всякие подпольные листки! Нисколько не сомневаюсь, что донес на него наш привратник!
– Он и впрямь смахивает на доносчика, – согласилась с ней Софи. – Теперь понятно, почему ваш привратник меня так неласково встретил, когда я пришла сюда в первый раз!
– Вы уже приходили сюда? И магазин был закрыт? Ох, до чего нескладно получилось… Но я ведь теперь открываю лавку всего два-три раза в неделю! Сюда так редко кто-нибудь заглядывает, и я делаю это скорее для того, чтобы проветрить, чем для того, чтобы что-нибудь продать. Когда мой муж вернется, ему придется снова заманивать сюда покупателей.
– Надеюсь, господина Вавассера посадили ненадолго?
– Толком неизвестно. В первый раз он был арестован вместе со своими друзьями после государственного переворота 2 декабря, через полгода его отпустили на свободу, но он немедленно снова принялся за свое. И пишет, и пишет, и что-то там затевает, и строит заговоры!.. Вот в октябре прошлого года они снова его и уволокли. На этот раз посадили на один год и один день. Только я подала прошение и думаю, его выпустят досрочно. Меня бы это очень устроило! Все-таки отец семейства, человек в летах, почтенный коммерсант, выплачивающий налоги!..
– Куда же его отправили?
– В Сент-Пелажи. Я постоянно его там навещаю.
– А нельзя ли и мне тоже к нему пойти?
– Нет ничего проще! Конечно, вам потребуется особое разрешение, поскольку вы ему не родственница. Но я знакома с одним человеком в префектуре полиции, и он устраивает мне любые пропуска, какие только попрошу, в двадцать четыре часа. Послезавтра вам подходит?
– Замечательно! Если бы только я могла что-то для него сделать!..
– О да! – молитвенно сложив руки, отозвалась госпожа Вавассер. – У вас ведь, несомненно, есть связи в высших кругах!
Она казалась такой трогательной простушкой в окружении своих чумазых малышей! Похоже, молодая женщина ровным счетом ничего не смыслила в политике, просто замирала в восхищении перед ученостью своего мужа и дрожала от страха, как бы все это не закончилось плохо, как бы она не осталась в нищете со своим выводком.
– Стало быть, я зайду за вами завтра, в два часа пополудни, – снова заговорила госпожа Вавассер. – Вы где живете?
– В доме восемьдесят один по улице Гренель, – ответила Софи.
И, внезапно вспомнив о цели своего прихода, спросила:
– Чуть было не забыла… нет ли у вас книги Николая Тургенева «Россия и русские»?
– Может быть, и есть. Я, конечно, заменяю мужа в лавке, но совсем ничего там не знаю. Все книги о России вот в этом углу. Посмотрите лучше сами…
Софи направилась в глубину лавки, в тот угол, который указала ей хозяйка. Тем временем младший сын Вавассера, ползавший по полу, стукнулся лбом об угол прилавка и громко разревелся. Софи, как раз с ним поравнявшаяся, подхватила малыша, приласкала и передала с рук на руки матери. Мальчик был одутловатый и грустный. Госпожа Вавассер утерла ему нос и тотчас, рассердившись, шлепнула мальчика постарше, который принялся связывать стулья между собой веревочкой.
– Какие милые у вас детки! – сказала Софи. – Как их зовут?
– Младшенького – Максимилиан-Франсуа-Изидор…
Софи не удержалась от улыбки: надо же, до чего забавно.
– Да-да, – подтвердила ее догадку госпожа Вавассер, – его назвали в честь Робеспьера; среднего зовут Пьер-Жозеф, в честь Прудона, а старшего – Клод-Анри, в честь Сен-Симона…
Софи с умилением разглядывала этих великих мужей, благодаря неким чарам вернувшихся в детство.
– А девочку? – поинтересовалась она.
– Анн-Жозеф. Как Теруань де Мерикур!
– Нелегкое им досталось наследие!
– Мне-то все эти имена не так уж и нравятся! Говорила я мужу, что это смешно и нелепо! Но попробуйте-ка ему что-нибудь втемяшить в голову!..
Трехтомный труд Николая Тургенева Софи увидела на одной из верхних полок, прямо перед собой. Отложив книги в сторону, она продолжала рыться в пыльных изданиях, оставлявших на пальцах бархатистый след. Чуть дальше выстроились несколько экземпляров небольшой книжечки в голубой обложке под названием «Русский народ и социализм, письмо господину Ж. Мишле, профессору Французского Коллежа». Вытащив одну из книжечек, она бегло ее перелистала.
– Мой муж знаком с автором, – пояснила госпожа Вавассер, – вот и взял побольше таких книжечек на продажу. Только никто их не покупает! – вздохнула она.
Софи прочла на обложке имя автора: Искандер.
– Он подписывается Искандером, но настоящая его фамилия – Герцен, – продолжала госпожа Вавассер. – Александр Герцен… Этот господин – русский… Он часто приходил в нашу лавку. Очень приятный, образованный человек, которому пришлось покинуть родину из-за своих политических взглядов. Вам доводилось о нем слышать там, в России?
– Да, в самом деле, – ответила Софи. – Я слышала о нем, когда была в Тобольске, в Сибири. Но не читала никаких его сочинений.
Перед ней, словно живые, встали молодые и пылкие участники заговора, петрашевцы, спорящие о Бакунине, Прудоне, Герцене в гостиной тюремного надзирателя. Все связано между собой. Одна и та же нить связывает из страны в страну, из года в год тех, кто сражается за переменчивую и неуловимую свободу.
– Герцен все еще живет во Франции? – спросила Софи.
– Теперь уже нет, – ответила госпожа Вавассер. – Года два тому назад выслали, потому что он печатал сочинения, в которых высказывался против правительства. А вы знаете, что он потерял мать и сына во время кораблекрушения? Это случилось поблизости от Йера. А потом и жена его умерла. Между нами говоря, она наставляла ему рога! Но все равно после ее смерти он совершенно обезумел от горя. Живет теперь в Лондоне. Возьмете его книжку?
– Да, – ответила Софи.
Пришлось настоять, чтобы госпожа Вавассер согласилась взять с нее деньги. Покончив с делами, молодая женщина упросила гостью остаться еще ненадолго и выпить немного мадеры. Анн-Жозеф отчаянно спорила с Пьером-Жозефом, дети вырывали друг у друга куклу, каждый тянул ее к себе, изо всех сил ухватив за ногу. Максимилиан-Франсуа-Изидор нашел на полу, в трещинке паркета, булавку, которую надо было у него отнять, не обращая внимания на отчаянные вопли малыша. Клод-Анри, устроившись в стороне, подальше от всей этой толкотни, сосредоточенно раскрашивал картинки в книжке, положив ее на колени, и громко пел. Теперь, когда дети попривыкли к гостье, они вели себя естественно, и несчастной госпоже Вавассер, которой приходилось одновременно приглядывать за всем квартетом, довольно трудно было поддерживать разговор.
– Этим крошкам необходим отец! – в конце концов, не выдержав, простонала она. – Они меня с ума сведут!
А когда Софи уже собралась уходить, перед тем как с ней распрощаться, госпожа Вавассер попросила впредь называть ее попросту Луизой.
* * *
Сразу, как вернулась домой, Софи набросилась на сочинение Николая Тургенева. Бегло просмотрев книгу, она решила, что вещь серьезная, беспристрастная, основанная на документах. Страницы, посвященные их с автором общим друзьям-декабристам, дышали искренней дружбой. План освобождения крепостных выглядел разумным и последовательным. Однако Софи показалось, будто все это она знала и раньше, до того, как прочла. Зато книжечка Герцена ее потрясла, показалась ей откровением. Отвечая Мишле, назвавшему Россию варварским государством, публицист заявлял, что вполне согласен со всеми обвинениями автора в адрес правительства, но яростно вставал на защиту народа. Для него единственной силой, которая могла противостоять безудержному царскому самодержавию, были крестьяне. Дело в том, считал он, что крепостные не знали частной собственности и жили общинами, коммунами на чужих землях. Таким образом, понятие «коммунизма», который рано или поздно изменит облик мира, было у них в крови. «Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиною; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии, – писал Герцен. – У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; эта нравственность глубоко народная; немногое, что известно ему из Евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству… Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти, она благополучно дожила до развития социализма в Европе… Из всего этого вы видите, какое счастие для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастие для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания… Европа на первом шагу к социальной революции встречается с этим народом, который представляет ей осуществление полудикое, неустроенное, – но все-таки осуществление – постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы – не больше, как средство, как кваска, как посредники между русским народом и революционной Европой. Человек будущего в России – мужик, точно так же как во Франции работник».[28]
В конечном счете, призывая к свержению нынешнего режима, Герцен не объяснял, чем его заменить, и единственную свою надежду возлагал на сельскохозяйственную общину. Не было ли это утопической затеей интеллектуала? Софи отложила книгу. Покой уютного парижского жилища показался ей странным после той бури чувств, которая только что ее всколыхнула.
Она сидела в пятне света, падавшего от лампы под абажуром. Через приоткрытое окно из сумеречного сада доносилось щебетание птиц, круживших над своими гнездами. Вот-вот Жюстен придет объявить хозяйке, что кушать подано. Софи провела рукой по усталым глазам. «Как странно, – подумала она, – я приехала во Францию, радуясь тому, что покинула Россию, и первые же книги, которые я здесь читаю, написаны русскими, написаны – о России!..»
* * *
Госпожа Вавассер пришла в назначенный час, с ней были Анн-Жозеф и Клод-Анри. Софи удивилась, что Луиза явилась не одна, но та объяснила:
– Дети привыкли. Я всегда беру их туда с собой, по очереди, чтобы отец мог с ними повидаться…
В руках у молодой женщины было по пакету. Ее соломенная шляпка с прорезями, в которые были продернуты вишневые ленты, казалась великоватой для исхудавшего лица. Клода-Анри нарядили в длинную синюю блузу навыпуск поверх коротких штанишек, на голове у него была бархатная каскетка с лакированным козырьком; Анн-Жозеф, в своей широкой розовой юбке, из-под которой выглядывали панталончики с фестонами, держалась весьма чопорно. Все трое явно приоделись ради визита в тюрьму. Софи прихватила две бутылки шампанского, Жюстен уже заранее принес их из подвала.
– Ах, зачем, зачем вы… – прошелестела Луиза. – Вы его слишком балуете!..
Вчетвером они кое-как уместились в коляске. Когда Софи велела Базилю везти всю компанию в Сент-Пелажи, тот возмущенно округлил глаза и потребовал повторить адрес. Пока коляска катила по залитым солнцем улицам, дети весело щебетали, ни дать ни взять – птички: можно было подумать, семейство выехало на воскресную прогулку. Но вот они въехали на улицу с таинственным названием «улица Колодца Отшельника», и тюрьма накрыла их своей тенью. Здание было серым, тяжеловесным, фасад, казалось, мог в любую минуту рухнуть, несмотря на грубые подпоры, нарушавшие однообразие стен. Кое-где виднелись узкие, забранные частыми решетками окна.
Коляска остановилась, дамы с детьми сошли на землю. Прохожие оборачивались им вслед, перешептываясь. Луиза постучала в дверь тяжелым железным молотком.
– В Сент-Пелажи можно встретить кого угодно, – сказала она. – Здесь сидят даже уголовные преступники. Но содержат всех отдельно, политические размещены в Корпусе Принцев! – Последние слова она произнесла с оттенком гордости.
За дверью послышались приближающиеся шаги. Открылось окошко, в нем показался большой блестящий глаз. Луиза предъявила разрешение на свидание, и створка со скрипом повернулась на петлях, открыв темный провал, готовый поглотить гостей. В прихожей добродушный служащий еще раз изучил бумаги, потрепал по щечке детей, с которыми, похоже, был хорошо знаком, смерил Софи взглядом с головы до ног и, наконец, велел сторожу проводить «семейство» к господину Вавассеру.
Они вступили в прохладный темный коридор с сырыми стенами. По обе стороны тянулись ряды огромных дверей, у которых не меньше четверти поверхности занимали засовы. Софи, еще не осознав этого, с первого мгновения принялась жадно вдыхать тюремный запах. Ей почудилось, будто она снова в Сибири, в какой-нибудь пересыльной тюрьме. Человеческое убожество повсюду пахнет дурно. Однако общий для всех дух зловония, не знающий национальных границ, разнообразили мелкие отличия. Так, например, явно отличались кухонные запахи. Если в России тянуло, как правило, кислой капустой и квасом, то здесь – тушеной говядиной с овощами и плохим вином. За глухими стенами слышались ворчание, покашливание; муравейник был плотно заселен, ни одна его ниша не пустовала.
– Вот этой дорогой и идут в Корпус Принцев, – пояснила Луиза. – Поначалу мой муж спал в камере с двумя десятками других заключенных, потом его перевели в Великую Сибирь…
– Великая Сибирь? – перебила рассказчицу Софи, заинтересовавшись странным названием. – Это еще что такое?
– Большое помещение на пятом этаже, предназначенное для нескольких узников. Эту камеру так прозвали, потому что она самая холодная из всех. У моего мужа слабые бронхи, и он попросил перевести его куда-нибудь еще. Теперь у него отдельная камера, на четвертом этаже. Я смогла даже обставить ее кое-какими домашними вещами, чтобы он хоть немного почувствовал себя дома…
Софи вспомнились жены декабристов, обставляющие камеры мужей на Петровской каторге. Решительно, между пенитенциарными режимами самых далеких друг от друга стран существует удивительное сходство.
Теперь они поднимались по широкой каменной лестнице: перешли в отделение политических, и атмосфера заметно изменилась. Если на первом этаже, отведенном для администрации, было спокойно, то уже на втором Софи заметила немалое оживление. Все двери, ведущие в коридор, были распахнуты. Молодые бородачи покуривали трубки, собравшись вокруг чугунной печки, на которой булькал котелок. Несомненно, в этом заведении ели когда вздумается – стоит только почувствовать голод. Несколько заключенных любезно поздоровались с госпожой Вавассер.
– Мой муж наверху? – спросила она.
– Должно быть; мы с утра его не видели.
Где-то наверху раздался взрыв женского смеха. Две бесстыжие лоретки отчаянно заигрывали, стоя в дверном проеме, с невидимым узником. В том же коридоре старушка-мать во вдовьем капоре мелкими шажками семенила рядом с сыном, который брел, опустив голову. На третьем этаже ожесточенно спорила целая компания. Софи разобрала обрывки фраз:
– Задушенная свобода… личность тирана… До тех пор, пока народ… говорю тебе, до тех пор, пока народ… Нет-нет, надо все разрушить и строить заново!..
Затем шум утих. Запела женщина. У нее был красивый печальный голос. Софи, запыхавшись, остановилась и прислушалась. Невольно прижала руку к груди: недомогание напомнило ей о возрасте…
– Еще всего один этаж, – подбодрила спутницу Луиза.
Они снова стали подниматься. Навстречу по лестнице шла какая-то ярко накрашенная и сильно надушенная особа. Дети поглядели на особу с таким изумлением, как будто мимо них пролетел над ступеньками воздушный змей.
– Это недопустимо! – прошипела Луиза.
Сторож, шедший впереди, только вздохнул:
– Ну да! А что поделаешь? В этом заведении утратили всякое понятие о нравственности! Люди должны приходить сюда семьями, а тут только что не пристают к арестантам – хуже, чем на улице Фоссе-дю-Тампль! Что ж, вот и пришли. Я с вами прощаюсь…
Луиза поправила шляпку, одернула блузу на сыне, разгладила юбочку дочки и, сияя супружеской радостью, легонько постучала согнутым пальцем в дверь одной из камер.
– Войдите! – надменно произнес голос из-за двери.
Молодая женщина распахнула дверь, подтолкнула детей вперед себя, подождала, пока они поцелуют отца, и только тогда объявила:
– Огюстен, не представляешь, какой я припасла для тебя сюрприз! Погляди-ка сюда!..
Переступив порог, Софи увидела сидящего в кресле иссохшего старика с тощей шеей в распахнутом вороте рубашки, с всклокоченными седыми волосами, с глазами, блестящими, словно бутылочные осколки. Поспешно встав, он долго разглядывал Софи. Его морщины подрагивали, разглаживались, он на глазах молодел. Наконец, вдоволь наглядевшись, Вавассер проворчал:
– Я знал, что вы вернулись в Париж!
– Да как же это может быть? – удивилась она.
– В Сент-Пелажи люди осведомлены лучше, чем где-либо еще: новости из внешнего мира быстро доходят в тюрьму. Ах, дорогая Софи! Наперсница и союзница в первых моих битвах, какое же счастье снова увидеть вас! Мне известна ваша трагическая история! Известно, что вы и в России остались верны вашему революционному призванию, как я остался верен своему здесь, во Франции! Но вы на свободе, а я все еще в темнице! Сейчас вы все мне расскажете! Мне просто необходимо знать подробности!..
Схватив гостью за обе руки, старик требовательно заглядывал ей в глаза. Но Софи устала повторяться, ей прискучило что ни день рассказывать одно и то же, и с каждым днем изложение событий собственной жизни казалось ей все менее и менее искренним: словно она произносила монолог из пьесы, заранее зная, какое действие он произведет на публику. Больше того, пришли раздумья о том, не впадает ли она из-за того, что постоянно рассказывает о себе и своих друзьях, в ту самую фальшивую литературность, в которой упрекала льстецов, неустанно воспевающих подвиг декабристов. Нехотя заговорила о восстании 14 декабря, о годах, проведенных на каторге и в ссылке, о братстве, соединившем узников между собой, о смерти Николая… Вавассер слушал старую знакомую, затаив дыхание. Лицо его временами подергивалось. Наконец, он со страстью воскликнул:
– Ваши жертвы были ненапрасны!
– Именно эти слова всегда говорят, когда хотят утешить кого-нибудь, кто потерпел поражение! – пробормотала она.
– В подобном деле поражения не бывает, есть только отсрочка на некоторое время, и за это время прежних бойцов сменяют новые!
– Может быть, вы правы, но я вижу, что проходят годы, сменяются поколения, а у власти всегда стоит одна и та же порода людей, и все той же породы люди сидят за решеткой.
– Наберитесь терпения! Мы движемся вперед!
– Кружа по своим камерам?
– Да хватит уже политики! – с неожиданной решительностью воскликнула Луиза.
Она заставила мужа и Софи сесть и развернула принесенные свертки, в одном из которых оказались книги, в другом – пирог. Анн-Жозеф отправилась за тарелками и стаканами к буфету, который явно был предоставлен не тюремным начальством. Кроме него, обстановка камеры состояла из нескольких разрозненных стульев, письменного стола, походной складной кровати, лохани и кувшина с водой. В одном из углов, прямо на полу, высились кипы бумаг. На стенах красовались гравюры 1848 года с изображением боев на баррикадах и карикатура на Наполеона III. Свет проникал сюда через квадратное окно, забранное решеткой из толстых железных прутьев. Размером камера была приблизительно пять на шесть шагов.
– Как это вам позволили развесить такие картинки по стенам? – удивилась Софи.
– Я здесь у себя дома, – с гордостью ответил Вавассер. – Они имеют право заключить меня под стражу, но не имеют ни малейшего права лишать меня моих убеждений!
– Решительно, французская империя куда более терпима, чем российская! На каторге в Петровском Заводе мы могли обставлять свои камеры, как нам вздумается, но хотела бы я посмотреть на того из нас, который посмел бы развесить по стенам картинки опасного содержания!.. Скажите, а вас заставляют заниматься уборкой?
– Только этого еще недоставало! По своему статусу мы приравнены к военнопленным! Что касается хозяйства, этим занимаются помощники, заключенные из уголовных, за пятнадцать франков в месяц.
– А как вас кормят?
– Вполне прилично. Если мы не хотим есть то, что дают, можно поесть в столовой или заказать еду из ресторана.
– А переписку вашу читают?
– Думаю, да. Но в любом случае нам позволено писать все, что захотим, и письма доходят по назначению.
– У нас камеры запирали только на ночь.
– У нас тоже. В остальное время мы можем разгуливать по всей тюрьме, ходить из камеры в камеру, во всякое время спускаться во двор, устраивать собрания, принимать друзей, устраивать в своей камере ужины на несколько персон…
– Одним словом, вам не разрешено только выходить отсюда!
– Даже это мы можем делать время от времени, при условии что вернемся к полуночи.
Софи с понимающим видом покивала головой: генерал Лепарский ничего нового не выдумал.
– А когда же вас в следующий раз отпустят? – спросила она.
– Чуть больше чем через месяц, – поспешно вмешалась Луиза. – И тогда мы устроим дома маленький праздник!
Ее глаза сияли робким счастьем. Софи с Вавассером долго обсуждали свой тюремный опыт, сравнивали русские тюрьмы с французскими, одно одобряли, другое критиковали, и все это очень серьезно, с видом знатоков. Затем, пока Анн-Жозеф расставляла на столе стаканы и тарелки, Софи поднялась, чтобы прочитать выцарапанные на каменных стенах надписи. Среди путаницы имен и дат разобрала несколько дышащих местью высказываний: «Преследуют и тиранят почти всегда именем закона. – Ламенне». «Умри, если надо, но скажи правду! – Марат». «Говорить, бездействуя, – самый низкий вид предательства. – Вавассер».
Софи села на прежнее место, подумав: «Он не меняется». И почувствовала неловкость, смутилась, как будто замедлила шаг, чтобы перевести дыхание, идя рядом с человеком моложе себя.
– Как вам показалась Франция? – внезапно спросил Вавассер.
– Чудесная! – не подумав, ляпнула застигнутая врасплох Софи первое, что пришло в голову.
Вавассер нахмурился.
– Ну вот, ты опять за свое! – вмешалась Луиза. – Лучше посмотри, что мадам Озарёва тебе принесла!
А Софи-то совсем позабыла про шампанское. Надо было срочно исправить положение, и, вытащив обе бутылки, она поставила их на стол. Вавассер схватил одну и принялся откупоривать, приговаривая:
– Но как же это мило… как мило…
Потом вернулся к прежней теме:
– Так, значит, Франция вам показалась чудесной?
– В сравнении с Россией – да, – ответила Софи.
– И этот режим чудесен, по-вашему?..
– Пока что я не могу о нем судить. Но вынуждена признать, что, попробовав жить при республике, большинство французов проголосовало за возвращение к автократии. Человеку, который ставит волю народа превыше всего, трудно поспорить с таким фактом!
Пробка стрельнула в потолок, из горлышка полезла пена, дети захлопали в ладоши, и Вавассер принялся разливать шампанское.
– Не знаю, с кем вы встречались с тех пор, как приехали сюда, но позвольте вам сказать, что вы плохо осведомлены! – бурчал он при этом. – Народ был обманут авантюристом, который, объявив себя верным принципу всеобщего избирательного права, никогда не имел других намерений, кроме того, чтобы править единолично. Если Наполеону удался государственный переворот 2 декабря, то лишь потому, что он предварительно усыпил обещаниями бдительность рабочих масс. И потом, на его стороне была армия. В мгновение ока все предводители оппозиции были арестованы или изгнаны из страны… Эдгар Кине, Виктор Гюго, Дюссу, и это далеко не все… Людей сотнями высылали в Кайенн, в Алжир… Газеты закрывали, тайные общества разгоняли, полиция везде совала свой нос! Покой благодаря пустоте, послушание благодаря угрозам!..
– Какой ужас! – воскликнула Софи. – Но я же этого не знала…
– Потому что, приехав в Париж, вы постучались не в ту дверь!
– Если все обстоит таким образом, у императорской власти больше не осталось противников!
– Нельзя одним ударом снести все головы, которые высовываются из ряда. Республика в течение четырех лет представляла собой законное правление в стране. Благодаря ей в толпе распространились некоторые теории, зародились кое-какие надежды, и деспотизму, каким бы жестоким он ни был, уже не удастся их задушить. Полиция нас преследует, повсюду кишат доносчики, но уже намечается движение среди молодежи Латинского квартала, в мастерских, на заводах и даже в некоторых салонах!..
Вавассер поднял свой стакан.
– За республику! – провозгласил он.
– Ты слишком много налил детям, – забеспокоилась Луиза.
– Ничего, капелька шампанского, да еще и в такой день, не может им повредить!
Зазвенели бокалами, выпили, Вавассер вытер усы. Его глаза сверкали злобной радостью.
– Вот увидите, не сегодня завтра все это взлетит на воздух! – сказал он.
Луиза разрезала пирог. Софи думала о том, что Франция выглядит совершенно по-разному, в зависимости от того, смотришь ли ты на нее из салона княгини Ливен или из камеры в тюрьме Сент-Пелажи. Тогда – где же истина? Должно быть, где-то посередине между двумя крайностями… Настроение в стране не было ни таким безмятежным, как его изображали приверженцы императора, ни таким безрадостным, как утверждали сторонники республики. И все же ей неудержимо хотелось признать правоту последних. Она с интересом слушала Вавассера, который рассказывал о том, как некоторые преподаватели университета отказывались принести присягу, как некоторые студенты носили подпольные брошюры, изданные за границей, как молодые адвокаты устраивали в своем кружке еженедельные политические собрания…
Время от времени какой-нибудь арестант стучал в дверь, заглядывал в щелку, произносил: «Ой, прости, ты занят!» – и уходил восвояси. Анн-Жозеф, расправившись со своим куском пирога, взялась пришивать пуговицы к отцовским сорочкам. Клод-Анри изо всех сил раскачивался на стуле, рискуя его сломать. Луиза шлепнула сынишку, и тот разревелся. Тогда мать пригрозила, что, если он не будет слушаться, отдаст его сторожу.
– Ну и пусть, мне все равно! – ответил мальчик.
Вавассер отправил его в угол за такую дерзость, затем снова наполнил стаканы. От шампанского он раскис, разнежился. Обвив рукой плечи молодой жены, старик прочувствованно сказал:
– Ах, Луиза, деточка! Нелегко тебе со мной приходится! Но ничего, и трех лет не пройдет, клянусь, наше дело победит!..
– Ты уже так давно мне это обещаешь… – прошептала она.
– Да, пока не забыл, мне тут в голову пришло: когда я следующий раз приду на побывку, то приглашу к нам в гости Прудона! Я хочу, чтобы наша подруга с ним познакомилась. Вот это человек! Гений! Провидец! Я преклоняюсь перед ним!..
Опустошив свой стакан, арестант прищелкнул языком и уточнил:
– Я перед Прудоном преклоняюсь, но далеко не всегда согласен с его взглядами. А вам известно, что и он провел немало времени здесь, в Сент-Пелажи? Даже здесь и женился! Его выпустили в прошлом году. И с тех пор он затаился, сидит тихо.
В окно влетел теплый ветерок и принес с собой такой пьянящий аромат, что Софи спросила:
– Чем это так чудесно пахнет?
– Да ведь мы же в двух шагах от Ботанического сада, – объяснила Луиза. – Как только пригреет солнышко, все начинает благоухать!
– Еще одно утонченное проявление заботы о нас! – воскликнул Вавассер. – И, несмотря на это, я все равно недоволен!..
– Можно мне выйти из угла? – подал голос Клод-Анри.
– Нет, – сурово отрезал отец.
На лестнице послышались торопливые шаги. Хор громких голосов затянул «Марсельезу». Вдали другие голоса, менее многочисленные, откликнулись: «О Ричард, о мой король!» Два враждебных гимна смешались в чудовищный рев, из которого вырывались отдельные возгласы. Вавассер расхохотался.
– Слышите, как вопят? Это сделалось традицией! В Сент-Пелажи еще осталось несколько орлеанистов. Каждый вечер, в один и тот же час, республиканцы устраивают вот такой кошачий концерт, а те им отвечают. В остальном все прекрасно друг к другу относятся и друг друга уважают, поскольку все мы здесь – жертвы этого коронованного Робера Макера![29]
– А чем вы занимаетесь целый день? – спросила Софи.
– Пишу, пишу и пишу, доводя до совершенства мою теорию государства, – ответил тот. – Великое дело! Между нами говоря, никогда и нигде мне так хорошо не работалось, как в тюрьме!
– Тем не менее тебе давно пора выйти отсюда! – воскликнула Луиза. – Мадам Озарёва пообещала, что подумает, сможет ли со своей стороны что-нибудь для тебя сделать…
– У меня не так много связей! – призналась Софи. – Может быть, через княгиню Ливен…
– Эта-то? – усмехнулся Вавассер. – Да, забавная гражданка! Она хочет угодить и нашим и вашим, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Одну улыбочку империи, другую – республике, там подмигнет Франции, здесь – России… Все эти богатые, обаятельные, образованные русские кажутся мне слишком любезными для того, чтобы быть честными. Они приезжают в Париж из любви к демократии или к искусству, но глядишь – один коммерческий советник внимательно изучает наши заводы, другой отставной артиллерийский офицер, из личного любопытства осмотрев наше литейное производство, отправляется отсюда в Льеж и Серен продолжать свои исследования, а еще какая-нибудь светская дама устраивает приемы, чтобы заставить разговориться наших министров…
– Лучше сразу так и скажите, что всех парижских русских считаете шпионами!
– Не случайно же царь позволяет им жить за границей!
Софи овладела собой. Она уже и сама не понимала, отчего так вспылила. Разве не раздражали ее саму некоторые слишком уж офранцузившиеся русские, с которыми она встретилась у княгини Ливен? Но получается странно: если она сама и склонна критиковать этих эмигрантов, ведущих роскошную жизнь, то потерпеть, чтобы вместо нее это делал кто-то другой, не может! Словно между ними и ею самой существуют некие родственные связи, позволяющие ей строго их судить, сохраняя свое расположение к ним, в то время как какой-нибудь Вавассер, смотрящий на них с чисто французской точки зрения, способен высказать на их счет лишь мнение, исполненное невежества, глупости и злости. Луиза расстроилась.
– Посмотри, Огюстен, – сказала она, – ты огорчил мадам Озарёву! А ведь княгиня могла бы тебе помочь…
– Да я только о том и мечтаю! – смеясь, ответил ей муж. – Даже если бы Арсен Уссе предложил мне свои услуги, чтобы вытащить из Сент-Пелажи, я и то протянул бы ему обе руки!
Софи тоже засмеялась.
– Меня удивляет, – заметила она, – что вы нападаете на русских, живущих во Франции, после того, как познакомились с Герценом.
– И то правда, – согласился Вавассер. – Это чистый человек, это – брат. Но назовите мне еще хоть кого-нибудь, кто походил бы на него.
Клода-Анри выпустили из угла. Прозвонил колокол. Пора было уходить. Супруги нежно распрощались.
– Тебе что-нибудь надо? – спрашивала Луиза. – Я оставила тебе кусок пирога… В следующий раз принесу заштопанные носки…
Вавассер сгреб в охапку сына и дочь одновременно, приподнял их, расцеловал, потом опустил на пол – могучий, усталый и нежный отец семейства и вместе с тем политический борец.
Выйдя из тюрьмы, Софи с удовольствием вернулась к свету и оживлению свободного мира. Сумерки еще не опустились на улицы. В окнах верхних этажей горели отблески красного вечернего солнца. Кучер болтал с часовым, небрежно прислонившимся к своей будке. Луиза предложила вернуться пешком, чтобы дети немного погуляли, предложение привело Софи в восторг, и она тотчас отослала Базиля, который уехал с оскорбленным видом, едва придерживая вожжи.
Женщины двинулись вдоль набережных Сены. Анн-Жозеф и Клод-Анри шли впереди, держась за руки. Проходя мимо собора Парижской Богоматери, Луиза вздохнула:
– Красота-то какая! Как жаль, что он этого не видит!
– А разве он это видел, когда был на свободе? – возразила Софи.
4
На конверте стоял прусский штемпель, адрес был надписан незнакомым почерком. Сорвав печать, Софи нашла внутри письмо от Фердинанда Вольфа. Удивление, радость, страх охватили ее с такой силой, что на мгновение помутился разум. Как он оказался в Германии? Его освободили? Он бежал? Да нет же, вот, на самом верху листа написано: «Тобольск, 23 марта 1853 года». Новости всего-навсего трехмесячной давности! Она и надеяться на такое не смела! И Софи, словно изголодавшаяся, набросилась на послание.
«Дорогая и милая подруга!
Я больше десяти раз писал к вам в Каштановку, но, вероятно, ни одно из моих писем не дошло до вас, как до ваших друзей не дошло ни одно из ваших. Нет, одно все-таки дошло: Мария Францева, которую как дочь губернатора цензура все-таки совсем или почти не трогает, получила записку, посланную вами, когда вы решили покинуть Россию. Вот так я и узнал ваш будущий адрес в Париже. Я совершенно уверен в том, что теперь вы уже там, а потому спешу воспользоваться исключительной возможностью: молодой немецкий дипломат, проезжавший через Тобольск, любезно согласился взять на себя труд „почтальона“, он и передаст вам эти несколько строк, которые я сейчас наспех пишу.
То обстоятельство, что вы теперь во Франции, облегчит переписку между нами. Вы можете писать мне на приведенный ниже адрес в Берлин – с просьбой передать письмо через доктора Готфрида Августа Кенига. Как же вы, должно быть, счастливы, дорогая Софи, оттого, что вернулись на родину! Вы так ее любите! Вы так чудесно о ней говорили! Я все еще помню, как вы рассказывали мне о ней, когда мы вместе ходили смотреть тот дом в Тобольске, который теперь, благодаря вам, превратился в лечебницу. Минуты, проведенные рядом с вами в этих обветшалых, насквозь промерзших комнатах, были едва ли не самыми прекрасными за всю мою жизнь. Я часто перебираю воспоминания, они возвращают мне мужество и вместе с тем печалят, и эгоистически сожалею о том, что вы еще сильнее от меня отдалились, поселившись в Париже. Боюсь, как бы расстояние, перемена образа жизни, блеск западной цивилизации не заставили вас позабыть о ваших сибирских друзьях. Расскажите мне, что с вами стало! Опишите мне ваш дом, вашу мебель, ваши платья, вашу прическу!.. Это все очень важно для старого медведя вроде меня! Я превращу эти подробности в восхитительные грезы для долгих сибирских зим! Расскажите мне и о ваших друзьях – ведь у вас, конечно же, есть друзья! И с ними, должно быть, куда веселее, чем со славными тобольскими увальнями? Видите, какой я ревнивый! Ах, все эти спектакли, балы, парижские салоны! Здесь все серо, однообразно, провинциально; наши друзья мирно старятся; молодые женятся и разъезжаются; я работаю по четырнадцать часов в день и собираюсь расширить лечебницу. И среди всего этого постоянно думаю о вас…»
Почерк в нижней части страницы сделался таким мелким, что Софи не смогла читать дальше. Ах да, ведь она на прошлой неделе купила себе лорнет! Поспешно выдернув ящик, Софи достала лорнет, приблизила к глазам…
«Ваш милый образ ни на минуту меня не покидает. Каждую ночь я тайно беседую с вами. Когда мне надо на что-то решиться, я спрашиваю ваше мнение, когда я радуюсь выздоровлению больного, я делюсь с вами своей радостью, когда я чувствую себя усталым (а такое случается нередко), я представляю себе, как вы меня браните, и это очень приятно…»
Глаза у Софи затуманились. Ее охватила молодая радость, с которой она не могла справиться, хоть и сочла ее нелепой. Теперь она снова была в жизни не одна! Сознание мужской приязни помогало ей нравиться самой себе. За тысячи верст от Фердинанда Вольфа она расцветала, согретая его восхищением.
Выучив письмо наизусть от первого до последнего слова, она, наконец, собралась ответить: излить все, чем было переполнено ее сердце. Она рассказала Фердинанду Богдановичу о своей парижской жизни, о своих покупках, о том, где побывала и с кем виделась, однако тут же заверила его в том, что все это вовсе не заставило ее забыть об оставшихся в Тобольске дорогих сердцу людях. «Когда-нибудь вы выйдете на свободу, – писала она, – и, может быть, приедете сюда. Я покажу вам город, который так люблю, познакомлю с друзьями…» Софи баюкала себя мечтой, отлично при этом зная, что ей не суждено сбыться…
Отогнав непрошеную печаль, после недолгих колебаний, она прибавила: «Вот видите, и я тоже постоянно думаю о вас среди всех занятий, которые требуют моего внимания, но ничуть не развлекают». Внезапно пробудившаяся стыдливость помешала Софи сказать больше. Она закончила обычной формулой вежливости и подписалась: «Софи Озарёва».
Шесть страниц! Софи перечла их, положила в конверт, на котором надписала имя доктора Вольфа, затем вложила все это в другой конверт, побольше, с адресом доктора Готфрида Августа Кенига, запечатала. Это послание было для нее так важно, что Софи решила сама отнести его на центральную почту на улице Жан-Жака Руссо, чтобы самой убедиться в том, что на конверт наклеены все марки, как полагается, и что послание в самый короткий срок доберется до Берлина.
С почты она вышла сияющая: наконец-то восстановилась связь между ней и ее сибирскими друзьями! Даже если будет получать всего-навсего по одному письму в год от Фердинанда Вольфа – и то будет довольна. Ее душе, привыкшей к созерцанию, ее чувствам не требовалось почти никакой материальной пищи для того, чтобы продолжать жить. Идя по улице, Софи чувствовала себя куда богаче любой молодой женщины, которая ей встречалась.
В тот день ее пригласила на ужин мадам Грибова. Выбирая платье, она думала о Фердинанде Богдановиче. За столом блистала как никогда. И тем не менее, когда она улыбалась, шутила или задумчиво смотрела в пустоту, то делала это вовсе не для присутствовавших за столом гостей… Если не считать старенького длинноволосого аббата и ее самой, здесь были одни только русские, но все эти русские перешли в католичество и образовали, по выражению хозяйки дома, «маленькую паству». Пока слуги в белых чулках разносили заливное из молодых куропаток, мадам Грибова излагала проект, зародившийся в ее голове: устроить в Париже пансионат для русских детей, где им прививали бы знание родного языка, уважение к далекой родине и приверженность к Римско-католической церкви.
– Потому что и речи быть не может о том, чтобы наши сыновья и дочери, сделавшись католиками, стали от этого менее русскими! – подчеркнула она.
Сотрапезники шумно поддержали высказывание хозяйки дома. Все они явно и нескрываемо опасались, как бы их не сочли людьми, отрекшимися от своего происхождения. Отделенные от соотечественников вероисповеданием, они благодаря этому с еще большей страстью цеплялись за то единственное, что у них еще оставалось общего: национальную гордость, надежду на славное будущее страны. Софи наклонилась к соседу слева, господину Крестову, бывшему секретарю посольства, который, завершив свою карьеру, остался в Париже, и вполголоса спросила:
– А как царь относится к тем из его подданных, которые отвернулись от православной веры?
Вокруг нее мгновенно воцарилась тишина. То, что предназначалось для ушей одного-единственного человека, услышали все. Лица окаменели. В эту парижскую столовую, где красная кожа обивки стульев резко выделялась на темно-зеленом фоне стен, только что вошла тень Николая I, затянутая в мундир и сапоги.
– К чему скрывать? – ответил господин Крестов. – Царь сильно разгневан, относится к нам едва ли не как к предателям и не желает понять того, что, поставленные перед выбором, повиноваться ли его приказаниям или приказаниям нашей совести, мы сделали свой выбор без колебаний!
Его ответ тронул Софи своей искренностью. Она смотрела на этих серьезных, спокойных, немного печальных людей, хорошо понимая, какую драму они переживают.
– Но ведь вам не запрещено вернуться в Россию? – спросила она.
– Прямо не запрещено, – ответил Крестов. – Однако, если мы туда приедем, нас, вероятнее всего, встретят сдержанно, а то и враждебно…
– А здесь, во Франции, нам так хорошо! – вздохнула молодая беременная женщина с небесно-голубыми глазами.
– Только бы эти проклятые турки не испортили отношений между двумя нашими странами! – воскликнул господин Грибов.
У него была остроконечная бородка, напоминавшая кисточку для акварели, и обширная плешь, которую пересекали восемь черных волосков.
Аббат, накануне беседовавший с одним важным сенатором, всех успокоил. Мир не нарушится из-за восточных проблем. Несмотря на то что английский флот с Мальты соединился с французским флотом вблизи Дарданелл, а русские оказались всего в нескольких верстах от молдавской границы на реке Прут, никогда еще страны не были так близки к полюбовному соглашению.
– Ход дипломатических качелей завораживает, но не следует этому поддаваться, – подхватил Крестов. – Падение на бирже ценных бумаг, выпускаемых государством, – всего лишь маневр, предназначенный задушить мелких вкладчиков. Говорят, уже есть такие, кто вконец разорился – за десять минут!
Софи похвалила себя за то, что послушалась совета мэтра Пеле, отговорившего ее играть на бирже. Уж она-то точно потеряла бы все!
После десерта перешли в гостиную, чтобы там, как принято во Франции, выпить кофе. В гостиной Софи увидела цветы в темно-красных вазах, фаянсовые вставки на полотке, простенки, расписанные неуклюжим соперником Ватто, горки, заполненные мелкими пыльными безделушками, шелковые камчатные занавеси, персидские ковры… все это заливал желтый свет десятка ламп. Мадам Грибова утащила приехавшую с родины гостью в сторонку, к окну, чтобы расспросить о Юрии Алмазове. Странно, что он так ее интересовал, ведь она едва его знала… Затем, взяв из рук Софи пустую чашку, хозяйка поставила ее на круглый одноногий столик и вздохнула:
– До чего же странно быть русской по сердцу, католичкой по вероисповеданию и жить во Франции, не имея сил отказаться от России! Некоторые из наших соотечественников судят нас очень сурово. Я надеюсь, что вы-то понимаете нас, сударыня…
– Разумеется, – сделав над собой некоторое усилие, заверила ее Софи. – Давно ли вы перешли в католическую веру?
– Девять лет назад. Для меня и для моего мужа это было очень тяжело – такие сомнения, такой душевный разлад… Мадам Свечина нам тогда так помогла. И аббат месье Гагарин тоже…
Пока она говорила, Софи краешком глаза наблюдала за стареньким аббатом, окруженным почтительно внимающей ему паствой. Перехватив ее взгляд, мадам Грибова внезапно спросила:
– Вы предпочли бы видеть у меня за столом православного священника?
Софи от неожиданности вздрогнула и растерянно пробормотала:
– Нет, что вы! Почему же!
Но подумала, что и в самом деле ей было бы уютнее, если бы среди всех этих русских в изгнании ее встретил бородатый православный священник.
5
С приближением лета парижан охватило лихорадочное стремление устраивать светские вечера. Казалось, будто перед тем, как отбыть в деревню, в родовой замок или на воды, хозяйка каждого дома спешила как можно скорее вернуть долг вежливости, пригласив к себе всех, чьи приглашения принимала в течение зимнего сезона. Дельфина де Шарлаз устроила у себя большой раут с пианистом, певицей, чтецом-декламатором и благотворительной лотереей. Софи тоже устроила прием. Она ждала, что будет человек пятьдесят, однако к ней явилось две сотни. Всех, несомненно, привело сюда любопытство: каждому хотелось посмотреть, где живет эта дама, спасшаяся с царской каторги, и как она принимает друзей.
С первой до последней минуты Софи не покидало ощущение, что она сдает экзамен. Она наняла слуг на этот вечер и теперь страдала, видя, какие поношенные у них ливреи. Гости столпились вокруг буфета, и она беспокоилась, хватит ли на всех пунша и мороженого. То и дело ей приходилось тормошить сонных лакеев, которые слишком медленно разносили бутерброды и печенье. Незаметно наблюдая за тем, как прислуживают гостям, Софи переходила от одной группы к другой, делала вид, будто ее занимает бессвязный разговор, – там дарила комплимент, здесь, наоборот, получала и все время улыбалась, да так, что челюсти сводило. Княгиня Ливен, не побоявшаяся себя побеспокоить и оказавшая ей честь своим присутствием, похвалила скромное обаяние жилища госпожи Озарёвой и засиделась едва ли не дольше всех, что служило признаком несомненного успеха вечера.
После ухода гостей Софи философски оглядела свою разоренную гостиную, где повсюду: на камине, на подоконниках, на инкрустированных столиках – теснились грязные тарелки и стаканы, затем ушла в спальню и принялась отвечать на письма. Дарья Филипповна, Мария Францева, Полина Анненкова… болтая со своими подругами, оставшимися в России, она словно сбрасывала чужое платье и становилась самой собой. Несмотря на то что от доктора Вольфа ни строчки в ответ на ее письмо не пришло, она снова написала ему, на тот же берлинский адрес. И на этот раз, заканчивая письмо, отважилась заверить Фердинанда Богдановича в том, что «с нежностью о нем вспоминает». В ту ночь она долго не могла уснуть и ворочалась в постели, взволнованная, тяжело дыша, неотступно думая о дерзости своего признания.
Назавтра Дельфина, явившись с утра пораньше, застала хозяйку за туалетом и с порога принялась уверять, что в городе только и говорят, что о приеме, устроенном «обворожительной мадам Озарёвой». Софи угадала лесть, но все же ей очень было приятно слушать. По мере того, как расширялся круг знакомых, она все больше удивлялась тому, как мало знают о России ее соотечественники. Наиболее осведомленные прочли путевые заметки маркиза де Кюстина и поверили, будто Москва девять месяцев из двенадцати погребена под снегом, а Пушкин им был известен лишь благодаря тому, что шестнадцатью годами раньше был убит на дуэли французом, бароном Жоржем де Геккереном-Дантесом. Последний, впрочем, жил теперь в Париже, и политическое его влияние все возрастало. Блестящий кавалергард, лишивший Россию величайшего из ее поэтов, сделался сенатором Империи. Софи спросили, хочет ли она с Дантесом познакомиться, но она категорически отказалась, инстинктивно встав в этом поединке на сторону русских. Зато сочла за честь встретиться с некоторыми выдающимися художниками, философами, литераторами, о которых только и говорили в ее окружении. У мадам д’Агу встретила Литтре, который оказался до того учен и до того безобразен, что она и двух слов сказать с ним не решилась. Когда была у мадам Свечиной, маленькой слащавой старушонки, одетой в темное и грубое одеяние наподобие монашеского, увенчанной кружевным чепцом и надушенной фиалкой, ей показалось, будто нравственное совершенство хозяйки дома побуждает всех ее близких делать ангельское выражение лица. У Жюля Симона она слушала Ипполита Карно, клявшегося, что его демократические убеждения непоколебимы… Нет, Вавассер не обманывал: республиканские надежды прочно укоренились в сердце некоторых людей, помнивших счастливые дни 1848 года. Вроде бы это обстоятельство должно было бы ее порадовать, ан нет – оставило Софи равнодушной. Ей казалось, будто у нее внутри сломалась какая-то пружина и она утратила способность отзываться на политические волнения. Тем не менее она снова побывала у княгини Ливен, правда, лишь для того, чтобы рассказать той историю Вавассера. Княгиня пообещала употребить свое влияние на графа де Морни, чтобы ускорить освобождение узника. К несчастью, всего через три дня, пятого июля, полиция открыла существование заговора с целью покушения на жизнь императора. Все газеты наперебой писали об аресте двенадцати членов тайного общества в Опера-Комик – прямо во время представления, на котором присутствовала императорская чета. Княгиня Ливен известила Софи о том, что теперь, к сожалению, не самый подходящий момент для того, чтобы пытаться улучшить судьбу ее подопечного.
Дельфина де Шарлаз собиралась ехать в Виши; многие другие знакомые Софи предпочитали Трувиль, Этрета, Биарриц. Можно было подумать, будто для них для всех оставаться в Париже летом означало нарушить правила хорошего тона. Богатые кварталы внезапно лишились своих обитателей, улицы заполнились провинциалами. Театральные афиши – несомненно, в угоду публике самого последнего разбора – запестрели незатейливыми комедиями и слезливыми мелодрамами. В самые жаркие часы мужчины выстраивались в очередь у окошечка кассы купален Делиньи на Сене. Танцевальные залы Мабий и Шато де Флер не могли вместить всех желающих. В Имперском театральном цирке[30] школьники и их родители просвещались на пышном и шумном представлении пьесы, посвященной победам Консульства и Империи. Пятнадцатого августа, в день именин императора, были устроены военный парад и фейерверк. Софи, закрывшись у себя в гостиной, долго прислушивалась к веселому гулу довольной толпы. Этот Париж, откуда сбежали все мало-мальски важные особы, стал для нее отдохновением от того, другого города.
В субботу, двадцатого августа, император и императрица специальным поездом выехали в Дьепп, и придавленная зноем столица окончательно впала в беспробудный сон. Софи собралась было поехать в Булонский лес подышать свежим воздухом, но тут внезапно объявилась госпожа Вавассер: после нескольких отсрочек, вызванных недоброжелательством тюремного начальства, ее муж наконец-то получил разрешение в воскресенье, то есть завтра, до полуночи отлучиться из тюрьмы. Его друзья устраивают небольшой импровизированный праздник в его честь в лавке на улице Жакоб. Софи пообещала быть и предложила, что принесет какую-нибудь готовую еду и напитки. Однако Луиза, с высоты своей хозяйственной гордости, заявила, что ничего не нужно.
И в самом деле, когда Софи на следующий день вошла в лавку Вавассера, она увидела перед собой прилавок, застеленный скатертью и уставленный тарелками с холодным мясом, разнообразными салатами, бутылками вина. В тесном помещении толпилось человек тридцать. Женщин оказалось немного, самое большее – четыре или пять, мужчины были по большей части бедно одетые, бородатые, громкоголосые. Среди всей этой сутолоки восседал Огюстен Вавассер – без сюртука, с лоснящимся от пота лицом, с безумным весельем в глазах. Едва завидев Софи, он тотчас в нее вцепился, ей же больше не удалось вставить ни слова. Возвысив голос, чтобы быть услышанным всеми, он для начала рассказал обо всем, что эта дама сделала для Республики во Франции, затем перешел к ее деяниям на той же ниве в России. Послушать его, так это именно она принесла мысль о свободе в Санкт-Петербург; и движение декабристов – исключительно ее рук дело; и даже на каторге она не переставала призывать к борьбе против царя! Окружавшая Софи молодежь взирала на нее так, словно она исторический персонаж, бабушка мировой революции. И как бы она ни протестовала против этих неумеренных похвал, легенда уже родилась. Если в салоне княгини Ливен восхищались ее супружеской преданностью и самоотверженностью, то здесь превозносили самоотверженность политическую. Как в том, так и в другом случае люди заблуждались, и эта незаслуженная репутация была для нее непереносима. Поначалу она смеялась над тем, как невольно узурпировала славу, теперь же ей хотелось забиться поглубже в нору. Но ее расспрашивали, малейшее ее замечание выслушивалось с нелепой почтительностью. Что она думает о будущем царизма? Верит ли в то, что Франция способна плавно, без перебоев двигаться в сторону демократического режима? Софи очень хотелось сказать, что она знает обо всем этом ничуть не больше, чем те, кто засыпает ее вопросами, что она вообще давным-давно устала от пустого шума политической говорильни. Но ей не хотелось обижать друзей Вавассера: все они были искренними социалистами, и на самом-то деле их убеждения были очень близки к тем, которые исповедовали молодые люди, причастные к заговору петрашевцев. Как для одних, так и для других великой идеей теперь стал уже не либерализм, порожденный французской революцией, но народное объединение с целью раздела даров природы. Их жажда равенства и справедливости, их презрение к различиям, происходящим не от заслуг, вели прямиком к мечте об однородном обществе, где никто ничем бы не обладал и где каждый пользовался бы трудом всех. Борьба против деспотизма, которую вели их предшественники, превратилась для них в борьбу против собственности. Они ссылались на Герцена, Фурье, Прудона и некоего Карла Маркса, о котором Софи до тех пор никогда не слышала. Поскольку спорщики разгорячились и уже не говорили, а кричали, Софи спросила Вавассера, не опасается ли он, что – несомненно, подслушивающий – консьерж на них донесет. А тот с гордостью ответил: что бы ни говорилось здесь, в его доме, это не может быть вменено ему в вину. И Софи пришла в восхищение от того, что, шельмуя режим, этот человек настолько доверяет полиции и считает себя защищенным одними только правилами игры.
Луиза ходила между гостями и просила их попробовать угощение. Поскольку стульев на всех не хватало, многие ели и пили стоя, прислонившись к тесно набитым книжным полкам. В удушливой атмосфере чадили и коптили керосиновые лампы. Слабенький сквознячок пробирался сквозь полукруглую фрамугу окна, выходившего на улицу. Софи, изнемогая от жары, села у стойки, развернула веер и принялась обмахивать лицо. Куда ни глянь, со всех сторон колоннадой обступают брюки… Внезапно среди шума голосов послышался стук в дверь: четыре отрывистых, резких удара.
– Это он! – радостно закричал Вавассер.
Поспешно отодвинув засов, он распахнул дверь и впустил крупного улыбающегося мужчину. Новоприбывший был одет в зеленый сюртук. Сняв шляпу, он принялся пожимать тянущиеся к нему со всех сторон руки. Под его высоким, гладким, словно выточенным из слоновой кости лбом притаились маленькие подслеповатые глазки, искаженные очками, вокруг подбородка клубилось плотное облако бороды, и всем своим обликом он напоминал неотесанного сельского учителя. Вавассер подвел гостя к Софи и величественно провозгласил:
– Хочу представить вам Прудона! Вам известно, кто он, и я хочу, чтобы ему стало известно, кто вы!
И он снова начал, обращаясь на этот раз к Прудону, свой панегирик в адрес той, что была, по его словам, музой и тайной советчицей декабристов. Вавассер настолько раздражал Софи своим пафосом, что ей пришлось попросить его умолкнуть. Тем временем около них успели собраться в кружок все прочие гости. Желая сменить тему, Софи спросила у Прудона, что он теперь пишет.
– Много разного! – ответил тот. – Историю демократии, заметки к очерку о Наполеоне…
Вид у него был скучающий и рассеянный. Какой-то молодой нечесаный нахал с некоторым вызовом поинтересовался его «новыми отношениями с властью», Прудон в ответ пробормотал:
– Не на что жаловаться… Меня оставили в покое…
– И не без оснований! Говорят, вы покорились режиму!
– Вы плохо осведомлены, молодой человек! – проворчал Прудон. – Вот именно потому, что я не испытываю ни малейшего уважения к Луи-Наполеону, я и не хочу выступать против него в открытую. Своей бездарностью он куда лучше посодействует осуществлению наших планов, чем могли бы послужить мы своими талантами. Пытаясь сбросить Луи-Наполеона раньше, чем общественное мнение его возненавидит, мы превратили бы его в мученика, и власть его преемника над страной лишь укрепилась бы. Предоставив же ему, напротив, путаться во лжи, плестись от одной ошибки к другой, мы, несомненно, выиграем!
– Значит, по-вашему выходит, что нелепо желать остаться в тюрьме или в изгнании из верности демократическому идеалу? – спросил другой распетушившийся подросток.
– Совершенно верно! Дураки все те, кто отказывается от амнистии! Я вот ни секунды не колебался и тотчас воспользовался предложенной мне свободой! На первый взгляд, я веду себя сейчас прилично и благонамеренно. Я печатаюсь с разрешения правительства. И жду часа, когда убогий манекен, которого вытолкнул на подмостки государственный переворот 2 декабря, рухнет сам собой…
– Весьма буржуазное понимание революции!
– Ну и что с того? Я и в самом деле хочу примирить буржуазию и пролетариат, заработную плату и капитал, согласовать их, объединить в социализме, не знающем ненависти. Я хочу, посредством экономической комбинации, вернуть обществу богатства, отнятые у него посредством другой экономической комбинации. Я хочу сжечь собственность на медленном огне, потому что, устроив Варфоломеевскую ночь для собственников, могу ненароком придать ей некую мистическую силу.
Весьма умеренные высказывания Прудона привели слушателей в уныние.
– Вы можете сколько угодно верить, что усталая и прогнившая империя рано или поздно завершит свое существование, – сказал Вавассер, – но я больше ждать не могу. Из поколения в поколение осторожные теоретики откладывают на все более поздний срок миг окончательного решения. Мне кажется, если несколько решительных людей объединятся ради того, чтобы свергнуть режим…
Прудон пожал массивными плечами.
– В этом предприятии я к вам не присоединюсь. Политическое насилие – понятие устаревшее. Социализму требуются экономисты, а не палачи!
– Стало быть, если завтра император призовет вас, чтобы посоветоваться, вы к нему пойдете?
– Разумеется! И, поскольку он провозглашает себя сторонником социального прогресса, стану побуждать его тысячами великодушных мер улучшать жизнь простых людей, сделаю так, чтобы он взял на себя ответственность за один из разделов нашей программы и таким образом отказался от прежних решений, короче, я воспользуюсь им для того, чтобы подготовить пришествие демократии.
– Я восхищаюсь вами, – сказал Вавассер. – Если бы ко мне завтра обратился за советом Наполеон III, я, может быть, и пошел бы к нему, но под полой сюртука припрятал бы бомбу!
Раздался дружный смех, который снял владевшее всеми болезненное напряжение. Затем кто-то заговорил об опасности войны, и Вавассер заявил:
– Это было бы в высшей степени желательно!
– Как вы можете так говорить! – в негодовании воскликнула Софи.
– А как мне говорить? Ну подумайте сами, дорогая моя! – ответил Вавассер. – Война станет роковым испытанием для Наполеона III. Если он отправит свои войска к черту на рога, куда-нибудь в Турцию, никого не останется, чтобы защитить его в случае народного восстания! Всякий истинный революционер должен надеяться на крепкую драку на Востоке! Но, к сожалению, дипломаты как раз сейчас все улаживают, Франция умеряет свои притязания, да и Россия тоже. Скорее всего, желая хоть чем-нибудь занять наших генералов, ограничатся тем, что продолжат усмирять Алжир.[31] Добрых кабилов будут по-прежнему убивать ради славы генерала Мак-Магона, а читатели, листая газеты, будут убеждать себя в непобедимой силе империи!
Горькая ирония Вавассера раздражала Софи. Были ли виной тому возраст? Как бы там ни было, ей казалось, что никакие политические убеждения не стоят того, чтобы ради них проливалась кровь. А ведь когда-то ее мало заботил выбор средств, если цель представлялась справедливой! Теперь же она испытывала мучительную нежность ко всему человеческому роду… Может быть, один только Прудон, с его основательным здравым смыслом, из всех присутствующих здесь мог бы ее понять. Но он молчал, сидел с задумчивым и недовольным видом, зарывшись в собственную бороду.
Вавассер и его друзья тем временем принялись обсуждать лондонских изгнанников, затем стали рассказывать друг другу забавные истории про тюрьму Сент-Пелажи.
Дверь, ведущая в комнату за лавкой, приоткрылась, в щель просунулись детские головки. Затаив дыхание, малыши во все глаза смотрели на взрослых, занятых непостижимыми играми. Луиза отослала детей в детскую, сунув каждому по куску сдобной булки. Вскоре Прудон объявил, что жена его больна и он обещал вернуться пораньше, после чего, ссутулившись, ушел.
Едва дверь за ним затворилась, голоса зазвучали громче – словно в классе после ухода надзирателя: этот сильный и умный человек явно сдерживал общий порыв к революционному безумию. Некоторые принялись обсуждать возможность покушения на Наполеона III. Софи наблюдала за Вавассером: тот ликовал, грозно сверкая глазами. Должно быть, он был из породы вечных мятежников, которым любой политический режим представляется непереносимым. Если бы завтра Франция стала такой, какой он желал видеть ее сегодня, – нашел бы предлог для того, чтобы снова перейти в оппозицию. Этот человек чувствовал себя счастливым лишь в своей стихии – стихии поношения, шельмования, заговоров, ненависти.
Луиза с улыбкой сновала взад и вперед, разносила сладкое. Софи, в свою очередь, тоже хотела откланяться: ей было душно. Луиза умолила потерпеть еще несколько минут: увольнение Огюстена заканчивается в полночь, сейчас они все вместе проводят его до ворот тюрьмы… Молодая женщина так трогательно старалась убедить ее, что Софи сдалась.
В лавке оставалось всего-навсего человек восемь, не больше, когда Вавассер, поглядев на часы, объявил:
– Мне пора, друзья мои! Я дал слово!
Луиза потушила лампы, и небольшая компания высыпала на улицу. Огюстен с женой устроились в коляске Софи, остальные гости расселись по двум фиакрам, и караван рысью тронулся с места. Конские копыта звонко стучали, пробуждая мостовые уснувшего города. Ни в одном окне не видно было огня, лишь кое-где тускло светились фонари. Тени повозок удлинялись, ломались, ложась на лунного цвета стены. Изредка можно было прочесть на какой-нибудь стене надпись углем: «Да здравствует Барбес!» или «Долой Бонапарта!» Остановились на углу. Опоздали всего на двадцать пять минут – ничего страшного. Часовой стоя дремал в своей будке. Вавассер поцеловал жену, сжал руки Софи, похлопал по плечу каждого из друзей и вздохнул:
– «Оставь надежду всяк сюда входящий!»
Его тотчас принялись подбадривать:
– Ну, держись! Смелее! Осталось-то всего ничего!
– Когда ты отсюда выберешься, мы совершим великие дела!
– Ты точно ничего не забыл? – спросила Луиза.
Он распрямился, стукнул молотком в дверь и скрестил руки на груди с видом человека, безмятежно ждущего прихода палача. Окошко в воротах приоткрылось. Недовольный голос спросил:
– Чего надо?
– Я вернулся, – ответил Вавассер.
– Вы кто?
– Вавассер, Огюстен-Жан-Мари.
– Погодите минутку.
Сторож удалился. Должно быть, пошел сверяться со своим журналом.
– Еще немного, и он откажется меня впустить! – возмутился Вавассер.
Прошло минуты две. В доме напротив, на втором этаже, открылось окно, кто-то выплеснул на мостовую помои. Сторож вернулся.
– Входите, – объявил он.
Дверь повернулась, заскрипели петли. Вавассер, с гордо поднятой головой, перешагнул порог.
6
Причуды российской почты были необъяснимы: после нескольких месяцев молчания Софи внезапно получила письмо от Васи Волкова. Он просил прощения за то, что отвечает вместо матери, которая слегла в постель с желтухой.
«…Вам, должно быть, хочется узнать, что делается в Каштановке, – писал Вася. – Ну что ж! Ваш племянник ведет себя теперь совсем уже странно: больше и разговоров нет о его женитьбе на дочке губернатора. Барышня отделалась легким испугом! Впрочем, у меня сложилось впечатление, что он никогда и ни на ком не женится. Жену ему заменяет поместье. Мысль о собственной власти над землей и теми, кто живет на ней, кружит Сергею голову, и это уже перерастает в манию величия. Поверите ли, если расскажу, что он велел выкрасить все крестьянские дома белой краской, поставив на каждом сбоку черной краской номер, что крестьяне в каждой деревне носят рубахи одного и того же цвета (в Шаткове – синие, в Болотном – зеленые и так далее), что на работу они идут под барабанный бой, а ведут их несколько „погонял“, надсмотрщиков, вооруженных дубинками, словом, что все имение теперь выглядит полем для военных учений, деревушки превратились в казармы, мужики – в солдат? Все это было бы попросту смешно, если бы так много несчастных не сделались жертвами этой блажи! Однако заметьте, сами крестьяне не жалуются: их сытно кормят, у них крепкие дома, будущее их обеспечено, они твердо знают, что ни в чем не будут иметь нужды… Только вчера я говорил матушке о том, как я рад, что вы не присутствовали при этом сведении в полк ваших крепостных: вы были бы бессильны противостоять и, пожалуй, еще заболели бы от огорчения… В мечтах я представляю себе вашу жизнь в Париже, столице остроумия и утонченности. У вас, должно быть, и минуты свободной нет, дух перевести некогда… Здесь-то жизнь течет однообразно, подобно одной из наших так хорошо вам знакомых широких русских рек. Мое существование – одна сплошная, бесконечная зевота, даже читать уже прискучило. За весь день, с утра до вечера, много если четырьмя избитыми, затасканными фразами обменяюсь с матушкой, ем слишком много, пью не от жажды… Позавчера была сильная гроза… Наша черная кобыла жеребилась, не смогла разродиться и пала… Картошка в прошлом году очень хорошо уродилась…»
Читая, Софи словно переселялась в совершенно другой мир. Мало-помалу она втянулась в прежние заботы: участь мужиков, жатвы, град… Она чувствовала себя так, словно почти уже прижилась во Франции, и вдруг на нее пахнуло русским воздухом. Внезапно она рассердилась на эту далекую страну за то, что не дает о себе забыть. Какое ей теперь дело до всех этих каштановских жителей! Сергей, Антип, кучер Давыд, горничная Зоя, Дарья Филипповна, Вася… Тени! Отложив лорнет, Софи тщательно свернула письмо. Смятение ее все возрастало, радость, охватившая поначалу, медленно сменялась бесплодной печалью. Вместо того чтобы, как собиралась, отправиться на прогулку, Софи осталась дома: перебирала воспоминания, открывая один ящик за другим, складывая пожелтевшие листки. Какой странный осадок, состоящий из счетов, деловых бумаг, свидетельств и удостоверений, паспортов, театральных программок, забытых писем оставляет после себя человеческая жизнь! Сергей ни разу не написал ей с тех пор, как она покинула Россию, но деньги присылал с неукоснительной аккуратностью. Из Сибири тоже больше писем не приходило. Допустим, письма декабристов перехватывала цензура, но это не должно было помешать переписке с Машей Францевой, защищенной высокой должностью своего отца, уж ее-то письма во Францию должны были доходить! Как-то там поживает Фердинанд Богданович? Софи представила себе, как он принимает больных в маленькой комнатке, разговаривает с ними, выписывает рецепты, и душу ее захлестнуло счастье. Она почувствовала себя любимой, любимой на расстоянии, но навсегда. Софи просидела так до вечера, разбирая ненужные бумаги. В девять часов, устав ворошить прошлое, она поужинала, зябко пристроившись поближе к горящему камину.
Сентябрь выдался сырой и холодный. Многие парижане уже возвращались в город. Дельфина, ожившая на водах в Виши, едва появившись, захотела немедленно окунуться в светскую жизнь. Софи отправилась вместе с ней на костюмированный бал, устроенный богатым судовладельцем в театре Порт-Сен-Мартен после представления. Гости танцевали на сцене под звуки оркестра, музыканты которого были одеты пожарными. Среди расписанных красками полотнищ с изображением французского сада мелькали мушкетеры, миньоны,[32] наполеоновские солдаты, сильфиды, коломбины, маркизы и гладиаторы. Софи забавлялась, глядя из ложи на всю эту суету. Многие из приглашенных дам казались ей красивыми – легконогие, с блестящими в прорезях маски глазами, с дерзко выставленной круглой грудью. С возрастом она становилась все более чувствительной к женской красоте. Свежее личико, изящество движений сами по себе внушали ей расположение. Всякое едва вступившее в жизнь существо было для нее неодолимо привлекательным и пробуждало желание помочь. До самого рассвета она не чувствовала усталости. Когда она вместе с Дельфиной вышла из бального зала на улицу, лавочники уже открывали деревянные ставни на окнах своих лавок, хозяйки в папильотках выходили на улицу, у дверей ресторанов мусорщики нагружали в двухколесные тележки устричные раковины, в небе занималась заря, обливая крыши розовым светом, сиявшим между черными зубцами труб. Коляска резво катила по сонному, недомытому Парижу. Софи мечтала о постели, заранее предвкушая, как блаженно в ней вытянется.
Она-то думала, что целую неделю теперь будет отдыхать, что у нее ни на что не осталось сил, однако назавтра же отправилась в «Жимназ» смотреть пьесу Жорж Санд из сельской жизни, еще через день – в Комеди Франсез, где шла комедия-балет Мольера «Брак поневоле», и ее пленили легкость текста и естественность актерской игры. В фойе завзятые театралы горестно обсуждали недавний отъезд мадемуазель Рашель в Санкт-Петербург по приглашению царя: ей предстояло дать сотню представлений. Шушукались, будто она получит за это четыреста тысяч франков из личной императорской казны. Их всех этих слухов Софи сделала только один вывод: если царь приглашает в Россию мадемуазель Рашель, стало быть, война сегодня-завтра не начнется. Однако после недолгого затишья газетные страницы вновь заполнились тревожными известиями. Турция ужесточает свои позиции. Встреча царя в Ольмюце с прусскими и австрийскими союзниками ничего не дала, и теперь только чудо могло предотвратить грозу. Однако граф Киселев,[33] русский посланник в Париже, с которым Софи в один из вечеров встретилась у княгини Ливен, придерживался другого мнения и лучился простодушным оптимизмом. Выслушав заверения высокопоставленной особы, Софи немного успокоилась, а вскоре – прочла в газете о начале военных действий между турками и русскими.
В начале ноября в газетах появилось воззвание Николая I, таким образом откликнувшегося на объявление Турцией войны России: он просил Всевышнего благословить его войско, сражающееся за «святое и праведное дело», которое всегда защищали его царские благочестивые предки. Казалось бы, все ясно, но, несмотря на это заявление, русские парижане цеплялись за надежду на то, что ничто не омрачит отношений между их родиной и Францией. «Повод к войне был слишком смехотворным для того, чтобы ее поддержали цивилизованные страны! – уверяла княгиня Ливен. – Собственно говоря, о чем идет речь? О том, большее или меньшее покровительство окажет царь нескольким священникам, исповедующим веру, которая не имеет ни малейшего отношения ни к религии французов, ни к религии англичан! И из-за этой мелочи, которая никоим образом их не касается, Франция и Англия станут проливать кровь?..» Более серьезные толкователи замечали, что если Францию эта история непосредственно и не затрагивает, то Англия завидует успехам московской торговли и весьма обеспокоена все более глубоким проникновением русских в придунайские области, в Центральную Азию и на Дальний Восток. Софи, которая прежде газет почти не читала, теперь скупала их все и не на шутку волновалась из-за противоречивых известий. Во время битвы при Олтенице, на Дунае, русские войска князя Горчакова были наголову, как говорили, разбиты турками Омер-паши, зато адмирал Нахимов 30 ноября во главе шести линкоров ворвался на рейд в Синопской бухте и за какой-нибудь час уничтожил мощную оттоманскую эскадру. Эти первые сражения, в которых и та и другая сторона бились яростно, позволяли предположить, что война будет долгой и жестокой. Общественное мнение в Париже уже понемногу менялось, отношение к русским неприметно делалось враждебным. В благонадежных кругах считалось, что поведение Франции в истории со Святой Землей было продиктовано высшими религиозными соображениями. Виктор Гюго в сборнике политических стихотворений «Возмездие», только что тайно переправленном через границу, называл Николая I «тираном» и «вампиром» и жалел русский народ, покорный его воле.
Было очень холодно, и Софи с трудом переносила пасмурную парижскую зиму. Впервые за тридцать лет она не увидит снега на Рождество и под Новый год! Ей казалось, что это лишит праздники их поэзии. Она настолько привыкла к северному обычаю[34] украшать елку игрушками и свечками, что сожалела о равнодушии к нему парижан. Здесь привычными были полночная месса, праздничные подарки и балы. Витрины лавок в богатых кварталах соперничали в роскоши. Люди обращались друг к другу приветливо, с радостными лицами. Но где же эта маленькая тайна – наполовину христианская, наполовину языческая, – сотканная из мороза, легенд и семейного уюта тамошнего, русского Рождества? Нередко, прогуливаясь по городу, Софи поднимала глаза к окнам, и ей становилось грустно оттого, что она не видит сквозь занавески темного островерхого силуэта дерева, о котором весь год до Рождества мечтали русские дети. А в Каштановке, думала она, Рождество Христово отпразднуют на двенадцать дней позже, из-за расхождения между григорианским и юлианским календарями. В эти дни во всех православных городах и селах хозяйки готовят постную еду, идет последняя неделя рождественского поста… Софи вместе с Дельфиной отправилась на полночную мессу, но от праздничного ужина отказалась, и в самое Рождество она решила остаться дома и сидела одна, обложившись книгами.
Назавтра она еще лежала в постели, когда Валентина принесла – на подносе вместе с завтраком – несколько писем. Одно было со штампом Тобольска, и Софи торопливо, дрожащими руками распечатала его первым. Она и мечтать не могла о таком подарке к празднику!
Письмо оказалось от Маши Францевой. Софи пробежала начало, затем ее взгляд, словно провалившись в выбоину на дороге, упал на строку посередине страницы: «Наш дорогой доктор Вольф…» И чуть дальше – слово «умер». Софи словно обухом по голове ударили. Между этими двумя обрывками фразы не могло быть ничего общего! С тревогой в сердце она вернулась к началу фразы и прочла: «Наш дорогой доктор Вольф, который сделал столько добра окружавшим его людям, умер четырнадцатого мая. Воспаление мозга сломило его подточенный усталостью организм. Он слишком много работал, не давал себе за день и часа передышки; для нас для всех это тяжелая утрата…» Софи уронила голову на подушку; на несколько мгновений она словно погрузилась в беспредельное торжественное и скорбное пространство. Все ее тело ныло, словно разбитое, сломленное этой бедой, во рту появился горький привкус, глаза щипало от непролитых слез. Она задыхалась, дрожала, до крови кусала губы. Внезапно она откинула одеяло, вскочила с постели, ринулась к секретеру, лихорадочно дернула ящик, выхватила оттуда письмо Фердинанда Богдановича и устремила на него растерянный взгляд через лорнет. Когда она в июне месяце получила это письмо, доктора уже не было в живых! Она отвечала на письмо мертвому – отвечала весело, с надеждой и даже слегка заигрывая с ним! Мертвому полунамеками признавалась в любви! Мертвому совсем недавно писала снова, рассказывая о том, с кем виделась, и о том, что намерена делать! «Бедный! Бедный! – твердила она. – До чего глупо, до чего нелепо все вышло! Может быть, если бы я осталась с ним, если бы заботилась о его здоровье, он и сейчас еще был бы жив?» Она представляла себе, как он лежит, совсем один, стонет в забытьи на своей узкой железной кровати в плохо освещенной комнате. Звал ли он ее в бреду? Как ей хотелось бы знать, о чем он думал в последнюю минуту! Вскоре она смирилась, затихла: к чему теперь суетиться? В памяти всплывали несвязные воспоминания: привычная поза Фердинанда Богдановича, голова наклонена к плечу, бархатная ермолка сдвинута на затылок… его насмешливая улыбка… тонкие руки, обожженные кислотами… Потом лицо врача стало медленно расплываться, меняться, молодеть, превращаясь в лицо Николая. Это превращение нимало не удивило Софи. «Фердинанд Богданович – это Николя», – подумала она, чувствуя, что мысли ее несутся с непривычной быстротой и что она не вполне собой владеет. От одного горя к другому чувствительная поверхность ее души съеживалась. Вскоре у нее и сознания-то не будет достаточно, чтобы страдать…
Все утро Софи, оглушенная и словно одеревеневшая, провела в постели. В полдень Валентина помогла ей одеться. Софи машинально, не чувствуя вкуса, поела за маленьким столиком в гостиной. По оконным стеклам струился дождь. Снега не было, снега теперь никогда уже не будет. Выпила подряд три чашки горького, крепчайшего черного кофе. Взгляд притягивали плясавшие в камине языки пламени: там разыгрывались удивительные рыцарские истории, героями которых были искры, декорациями – золотые и пурпурные замки и дымящиеся развалины угольков. Жюстен прервал грезы хозяйки, внезапно явившись перед ней и сообщив:
– Господин Вавассер спрашивает, примете ли вы его.
Софи невольно поморщилась. Ей хотелось бы остаться одной, побыть наедине со своим горем. Но Огюстена, должно быть, по случаю праздника отпустили на несколько часов, нельзя же ему отказать!
– Пусть войдет, – ответила с досадой.
И постаралась сделать приветливое лицо.
Уже с порога Вавассер закричал:
– Дело сделано! Я свободен! Подарок императора к Новому году самым достойным узникам!
Его морщинистое лицо сияло радостью под взлохмаченными седыми патлами.
– Чудесно! – с притворным оживлением воскликнула Софи. – Значит, не зря мы все старались. Когда же вас выпустили?
– Сегодня утром. Как видите, первым делом явился к вам!
– Я очень тронута… Представляю, каким счастьем для вас было вернуться к жене и детям! А теперь вы должны сидеть тихо, чтобы о вас позабыли.
Вавассер нахмурил брови и, скривив губы, проговорил:
– Прежде всего, надо готовить будущее. Я пришел для того, чтобы поговорить с вами о делах. Вы ведь знаете, что наши друзья готовы перейти к действию!
– Что за друзья? К какому действию? – резко спросила она.
Вавассер уселся у камина и протянул руки к огню. Кончик его носа, подбородок и верхняя губа, освещенные снизу, отливали медным блеском. Он тихонько шевелил пальцами, наслаждаясь теплом очага.
– Настало время скинуть этого карнавального Цезаря! – провозгласил он. – Сейчас создается организация, которая объединит искренних республиканцев. Я первым делом подумал о вас, вы должны в нее вступить…
Софи вздохнула.
– Я устала, месье Вавассер. Разве вы не слышали, что сказал Прудон? Лучше предоставить событиям идти своим чередом, и пусть все само собой распадается…
Вавассер вскочил и забегал по комнате, резко, точно цапля, вздергивая ноги. Взгляд его полыхал такой яростью, что казалось – еще немного, и он спалит все вокруг.
– Представления Прудона устарели! – закричал он. – Он апостол, а не практик! Предоставленный сам себе, он топтался бы на месте в круге непогрешимых аксиом. Истинные работники революции – не те, кто мечтает, но те, кто рискует собственной шкурой в предприятиях, настолько далеких от идеала, насколько возможно. Ваши декабристы не побоялись взяться за оружие – почему же и нам не быть такими же смелыми, как русские? Вот только мы не повторим ту же ошибку, не станем начинать с военного мятежа. Прежде чем нападать на империю, надо устранить императора. Это легко. Его можно убить на ипподроме, бросить в него бомбу в опере, взорвать его вагон во время официальной поездки. Среди моих друзей есть химики, вполне способные смастерить адскую машину!..
Поначалу Софи слушала нежданного гостя с удивлением, но вскоре ее обуял гнев: до какой же степени может доходить фанатизм! Убивать, только и делать, что убивать, возбуждать ослепленные толпы, свергать власть ради того, чтобы заменить ее другой, и та на деле окажется ничем не лучше прежней… Да просто осточертела уже эта бессмысленная и кровавая игра, в которой лучшие люди истощают свои умственные способности! И вообще, какого черта он ей тут толкует о политике, когда она только что узнала о кончине единственного друга? И смерть Фердинанда напомнила о других потерях, от которых ей никогда не оправиться… С высоты своей печали она воспринимала Вавассера как отвратительного, нелепого и зловредного паяца. Все, что он говорил, выглядело мелким, пошлым и тупым рядом с горем, то и дело ее настигавшим. Ну когда же этот фанатик наконец поймет, что, если в жизни есть нечто важное, это вовсе не Наполеон III и не Николай I, а люди, чьих имен не сохранит история, простые, честные, прекрасные люди, которых звали Фердинанд Вольф, Николай Озарёв, Никита?.. И неожиданно для самой себя Софи спокойно и размеренно произнесла:
– Вавассер, мне совершенно безразличны все эти ваши истории.
Он отшатнулся и строго взглянул на нее:
– Простите?.. О чем это вы?.. Что хотите этим сказать?..
– Что я вышла из возраста заговоров и сражений!..
– Ну уж нет! – закричал он. – Вы не имеете права отказываться! Только не вы! Все те, кто в России погиб за то же дело, подталкивают вас в спину. Нам необходим знаменосец. Вы, с вашим прошлым, просто предназначены для этой роли! Хотите вы того или нет, вы будете с нами, нет, что я говорю: вы уже с нами!
– Если я и приду к вам, то лишь для того, чтобы призывать к терпимости, – спокойно возразила Софи.
Вавассер усмехнулся.
– Уж не ваше ли пребывание в Сибири внушило вам такое почтение к установившемуся порядку?
– Может быть и так. Столько людей на моих глазах понапрасну страдало, столько людей умерло, что теперь я и слышать не хочу о политике!
– Такими речами вы льете воду на мельницу самодержавия! А может быть, вы на стороне Наполеона III, против народа?
– После того как жизнь пропала даром, я хочу только покоя и забвения!
Он опустил голову:
– Вы меня просто убили!
Софи стало жаль этого фанатика: сама того не желая, она стала причиной жестокого разочарования.
– Не надо, месье Вавассер, – прошептала она. – Вы слишком высоко меня вознесли – это смешно и нелепо! Дайте мне прожить последние оставшиеся годы не так, как вам хочется, а так, как смогу.
В наступившей тишине было слышно, как с треском рассыпалось полено. Вавассер, неподвижно стоя у камина, задумчиво глядел в огонь. Внезапно он метнул на Софи яростный взгляд и проговорил, будто выплюнул:
– Этого и следовало ожидать! Вы ведь всего-навсего женщина!
И вышел, изо всех сил хлопнув дверью. Софи потянулась за письмом Маши Францевой и медленно перечитала те строки, в которых говорилось о смерти Фердинанда Богдановича.
7
Корабли, выстроившиеся на рейде, открыли огонь – все одновременно. С бортов вспухали облака белого дыма. Вдали, в городе, карабкающемся в гору, слабо отзывались береговые батареи. На одном из складов начался пожар. Слева только что взорвался пороховой погреб, и в небо среди огромных клубов пара взлетели пылающие обломки. Эта картинка, помещенная в газете «Иллюстрация», буквально заворожила Софи. Она в десятый раз перечитала подпись: «Обстрел Одесского порта», ей никак не удавалось заставить себя смириться с такой чудовищной ситуацией, как война между Францией и Россией. После двухмесячных переговоров дипломаты умолкли, предоставив высказываться военным, и то, что представлялось невозможным, произошло самым естественным образом: 7 февраля 1854 года граф Николай Киселев и все служащие российского посольства сложили вещи и сели в поезд…
Если их отъезд совершился предельно тихо и незаметно, то совсем по-другому обстояло дело с членами обитавшей в Париже маленькой русской колонии. Внезапно оказавшись представителями враждебного государства, они также вынуждены были покинуть пределы Франции. Их прощание с французским обществом было душераздирающим. Большинство предпочло не возвращаться на родину, а вместо того поселиться как можно ближе к французским границам и ждать возможности вернуться. И теперь, найдя приют в Бельгии, Германии или Швейцарии, подданные Николая I продолжали переписываться со своими парижскими друзьями и в письмах жаловаться на жестокость войны, которой ни те, ни другие вовсе не хотели. Даже княгиня Ливен, попытавшаяся было добиться через графа де Морни разрешения остаться в своей квартире на улице Сен-Флорантен, вынуждена была перебраться в Брюссель. Говорили, что она и оттуда пыталась воздействовать на ход событий и для этого каждый день писала в Париж, Санкт-Петербург и Лондон.
Софи, несколько сбитая с толку исчезновением всех этих русских, чувствовала себя потерянной. Конечно, с некоторых пор она совсем перестала у них бывать, но одна только мысль о том, что можно в любой день встретить кого-то из них в салоне и услышать французскую речь со славянским акцентом, приносила ей душевное спокойствие. Она машинально прочла рассказ о блестящем нападении английского и французского флота на Одесский порт, пропустила парижскую хронику и литературную болтовню и погрузилась в статью, в которой подробно рассказывалось о том, каким образом было объявлено о начале войны соединенным эскадрам в Черном море. «Пробило полдень, и на мачтах судов появился сигнал „Война с Россией“. Флаги стран-союзниц взвились на трех мачтах всех кораблей. Трижды повторенный возглас французского флота „Да здравствует император!“ смешался с оглушительным криком „Ура!“, доносившимся с английских судов; трудно сказать, кто с большим энтузиазмом приветствовал это, столь желанное событие». На губах Софи появилась печальная улыбка. Ей противна была патриотическая ложь газетчиков: «столь желанное событие»! Господи, да кто же мог его желать, подумала она. Маловероятно, чтобы оно было желанным для славных французских моряков, которым со дня на день придется рисковать жизнью, защищая права Блистательной Порты! Она стала разглядывать на рисунке, сопровождавшем текст, крохотные фигурки матросов, выстроившихся на реях, чтобы приветствовать объявление грядущих боев. Французский, английский и турецкий флаги дружно развевались на ветру. С низкого серого неба на неспокойное море сыпал снег. Софи сложила газету, убрала лорнет и повернулась к окну. Какая скучная, безрадостная весна. Дожди, дожди, дожди… Вот и опять в саду с черных, с едва проклюнувшимися почками веток стекают капли. Дельфина обещала зайти часов в пять. И снова они будут говорить о войне. Разумеется, с тех пор как были разорваны дипломатические отношения между Францией и Россией, Софи больше не получала денег от племянника. Конечно, он вполне мог бы присылать их ей через посредство третьего лица, проживающего в какой-нибудь нейтральной стране, но, должно быть, слишком рад был найти столь убедительное оправдание для того, чтобы перестать помогать «тетушке». Лишившись доходов, она подсчитала: того, что у нее есть, хватит, чтобы прожить год. А к тому времени война, вероятнее всего, кончится. По крайней мере, так говорили в салонах, в которых она по привычке продолжала бывать. Новости с театра военных действий нисколько не мешали тем, кто там собирался, интересоваться нарядами, столоверчением и скачками на Марсовом поле или в Шантильи. Больше того, правилами хорошего тона даже предписывалось избегать того, чтобы дурно говорить о русских: к ним было положено относиться как к достойным уважения врагам. Однако Софи предчувствовала, что рано или поздно и высшим светом овладеет патриотический восторг: она не могла забыть, как на следующий день после объявления войны парижане с пением на протяжении трех лье сопровождали полки, выступившие на соединение со своим армейским корпусом. Архиепископ Сибур в своем ерхипастырском послании объявил: «Война была необходима: из этого, несомненно, воспоследует какое-нибудь благо!» В театрах, воспользовавшись случаем, ставили пьесы, в которых высмеивали противника. Здесь на афише красовались «Русские», там – «Казаки», в одном театре играли «Встречу на Дунае», в другом нечто под названием «Русские, изображенные ими самими», оказавшееся, впрочем, не чем иным, как примитивной переделкой гоголевского «Ревизора». Что ни день, появлялись все новые злобные пасквили на «страну кнута» – карикатуристы буквально набросились на «кровожадного царя» и его «порочных бояр». Адриан Пеладан напечатал сочинение, озаглавленное «Россия, настроившая против себя весь мир и католицизм», а совсем недавно, проходя по Итальянскому бульвару, Софи заметила на прилавке «Нового книжного дела» изданную этим заведением книжицу под названием «Правда об императоре Николае». Вместо имени автор подписался «Русский». На вопросы Софи продавец с хитрой улыбкой, доверительно сообщил ей, что под этим псевдонимом скрывается Александр Герцен. Софи купила книжку, не отрываясь ее прочла, и от этого чтения у нее остался неприятный привкус горечи, как бывает, когда при тебе совершают дурной поступок. Полностью разделяя нелюбовь Герцена к царю и даже озлобление против него, она сожалела о том, что автор решился в разгар войны высказаться в поддержку тех, кто, находясь в Париже и Лондоне, клеветал на свою страну. Она воспринимала это как предательство, которое невозможно оправдать никакими политическими целями. По ее мнению, единственным достойным выбором для изгнанника оставалось молчание.
Внезапно Софи заметила, что довольно давно сидит с забытой на коленях газетой и, глядя перед собой широко раскрытыми глазами, мучается оттого, что по-настоящему не может быть ни на стороне русских, ни на стороне французов. Любая насмешка, любой выпад, направленный против России, ранили ее, задевали за живое, попадая в самое уязвимое место ее воспоминаний. Такая же ярость охватывала ее в прежние времена, когда покойный свекор принимался, поддразнивая ее, критиковать Францию, но тогда у нее был всего-навсего один противник в споре, а сейчас целый народ впал в помешательство шельмования. Эта война, повод к которой иные старались возвысить, в ее глазах была чудовищной и братоубийственной, как бы ни прославляли вокруг подвиги воинов. И ведь пока что речь шла лишь об отдаленных военных действиях на берегах Дуная! А что будет, если французский и английский флот, начав осуществление своих планов, нападут на Россию с севера, с Балтийского моря? Представить себе невозможно – резня у самого Санкт-Петербурга!..
Софи была настолько поглощена своими размышлениями, что не заметила, как пролетело время, и очнулась лишь с приходом Дельфины. Валентина накрыла им чай на маленьком столике в гостиной. Как обычно, Дельфина явилась с целым ворохом новостей: мадемуазель Рашель, которой вскружил голову успех в Санкт-Петербурге, только что подала в отставку, не желая больше служить в Комеди Франсез; избрание монсеньора Дюпанлу[35] в Академию, говорят, дело решенное; рассказывают, что скоро будут ходить увеселительные поезда в Константинополь; в моду снова вошли кружева и сдержанные цвета… Софи слушала, кивала, улыбалась, ненадолго отвлекаясь от главной своей заботы. Внезапно Дельфина сделала значительное лицо и заговорила о планах, которыми уже делилась с Софи прежде: она хотела устроить у себя лотерею в пользу семей солдат, воевавших на Востоке.
– Самое лучшее время для этого – после Пасхи! – заявила гостья. – Я соберу блестящее общество! Вы непременно должны войти в комитет!
– О нет, Дельфина, не надо! – взмолилась Софи. – Вы же знаете, что свет все меньше и меньше меня привлекает!
– Однако вам следует постараться и являться там все чаще и чаще!
– Зачем?
– Для того чтобы рассеять некоторые слухи, которые уже ходят на ваш счет. Слишком многие забрали в голову, что ваше сочувствие и любовь к русским заставляют вас забыть о том, что вы – француженка!
Софи, залившись краской, пробормотала:
– Это недостойно!
– Можете не сомневаться в том, что я всякий раз встаю на вашу защиту! – заверила ее Дельфина, грызя сухарик. – Но репутацию одними словами не спасают!
– Меня и в самом деле глубоко опечалила эта война! – сказала Софи. – И я хочу, чтобы она как можно скорее закончилась! Каким бы ни был исход сражений, для меня в этой войне нет и не будет ни победителей, ни побежденных!
Дельфина вздохнула, с упреком глядя на подругу.
– А вот такие слова, Софи, вслух произносить не стоит!
– Вы не можете понять!..
– Как бы там ни было, ваша русская жизнь закончилась. Вы вернулись к нам и останетесь с нами навсегда. И вы должны постараться следовать за нами в наших стремлениях!
– Даже если вы ошибаетесь?
– Да, Софи.
Наступило тягостное молчание. Софи всем телом ощущала мучительный разлад, словно резали на куски ее живую плоть.
– Моя лотерея – дело не политическое, а благотворительное, – снова принялась уговаривать ее Дельфина. – Помогая мне, вам не нужно отказываться от своих убеждений. Работы будет очень много. Принимать пожертвования, продавать билеты… От себя я выставляю в качестве главного приза заказ на портрет кисти Винтерхальтера…[36]
Софи понемногу поддалась восторженному настроению Дельфины. Она никогда не могла устоять перед вот таким дружеским и вместе с тем решительным тоном…
– Ну, хорошо, согласна, – произнесла она наконец. – Я присоединяюсь к вам.
* * *
Дельфина сделала все как нельзя лучше. Над столом, где были собраны призы – настольные и каминные часы, вышитые домашние туфли, музыкальные шкатулки, кружевные чепчики, табакерки… тянулась лента с надписью: «Слава нашей храброй Восточной армии!» Раскрашенные картонные фигуры в человеческий рост, изображавшие стоящих навытяжку солдат, были прислонены к каждой из колонн зала, простенки украшены связанными вместе французскими, английскими и турецкими флагами, над камином красовался портрет Наполеона III, по бокам буфета стояли две маленькие пушечки, одолженные у антиквара. Билеты из корзины доставала стоявшая на возвышении девочка с трехцветными кокардами в волосах. По мере того, как появлялись все новые выигрышные номера, их объявлял господин Сансон,[37] актер Французского Театра. Голос у него был громоподобный, однако никто его не слушал. Сюда шли не в надежде заполучить какую-нибудь безделушку, но ради того, чтобы встретиться с людьми своего круга. Более того, если бы кто-то заинтересовался выставленными предметами, это сочли бы проявлением дурного тона.
Все предместье Сен-Жермен собралось здесь. Софи, оглушенная гомоном несвязных разговоров, пробиралась между сенаторами в парадных мундирах – шитый золотом синий фрак, белые казимировые[38] брюки, на боку шпага, – пухлыми розовощекими свежевыбритыми кюре, негнущимися, словно палку проглотили, офицерами с эспаньолками и напомаженными усами, литераторами, учеными и крупными коммерсантами в черных фраках и белых галстуках и разнообразнейшими дамами, молодыми и старыми, красивыми и безобразными, в пышных юбках, разноцветных шалях и венках из искусственных цветов. От них веяло сладкими ароматами, голоса пронзительно звенели. Среди всей этой толпы мелькала Дельфина в платье оттенка меда: она явно наслаждалась успехом своей затеи, ни минуты не могла не то что усидеть – устоять на месте, то и дело запросто окликала кого-нибудь по имени и смешивала моду, театр, войну и благотворительность в стремительной и пустой болтовне. В какую-то минуту она оказалась рядом с Софи, вокруг тотчас собралась толпа, подруги очутились в плотном кольце. Около них молодой лейтенант, гордый своим новеньким мундиром, объяснял двум млевшим от восторга девицам, как ему не терпится отправиться вместе со своим полком на театр военных действий.
– Нам надо смыть позор отступления 1812 года! – говорил он. – Урок, которого не сумел дать русским Наполеон I, им даст Наполеон III!
Лицо офицера над синим мундиром с красными обшлагами, белым пластроном и золотыми эполетами казалось совсем детским.
– Разрешите представить вам виконта де Кайеле, – обратилась к Софи Дельфина.
Лейтенант щелкнул каблуками и сухо, по-военному поклонился. Софи не смогла устоять перед искушением посмеяться над его воинственным пылом.
– Уж слишком вы молоды, сударь, для того, чтобы питать такую ненависть к русским! – с улыбкой попеняла ему она.
– Мне в наследство достались родительские воспоминания, сударыня! – живо откликнулся офицер.
Софи медленно наклонила голову, зная, что это движение всегда получается у нее грациозным.
– Распри никогда не закончатся, если сыновья будут продолжать думать так, как думали отцы.
– Во время войны надо ненавидеть, для того чтобы победить!
– Ненавидеть – кого? Царя, русский народ, тамошних мужиков?..
Виконт де Кайеле смутился, грозно насупил тонкие светлые бровки.
– Его величество император указал нам, в чем состоит наш долг, сударыня! – отчеканил он. – Я не рассуждаю, я повинуюсь.
– Прекрасный ответ, лейтенант! – вскричал старик с круглым, словно луна, лицом (Софи не раз встречала этого луноликого в салонах) и, повернувшись к ней, сурово прибавил: – Как вы можете, сударыня, забавляться тем, что своими высказываниями подрывать боевой дух защитника отечества?
– Разве взывать к человеческим чувствам означает подрывать боевой дух? – удивилась она.
– Именно так! Во время войны мысли должны быть острыми, как лезвие сабли!
– И тупыми, словно пушечные ядра!
Старик отпрянул, лицо его побагровело.
– Сударыня, – проговорил он, – может быть, вам неизвестно, кто я, зато мне прекрасно известно, кто вы. Испытания, которые, как говорят, выпали на вашу долю в России, должны были сделать вас вдвойне француженкой!
– Но я и есть француженка! Точно так же, как и вы, и может быть, даже больше, чем вы! – воскликнула она.
– Вот уж чего не скажешь, – прошипел кто-то у нее за спиной.
– Русский посланник уехал, но оставил вместо себя посланницу! – подхватил другой.
Софи внезапно почувствовала прилив бешенства, кровь прихлынула к щекам. Она медленно обводила взглядом окружавшие ее недружелюбные лица. Дельфина между тем поспешно стиснула ее руку, зашептала на ухо:
– Дорогая моя, это все пустяки!.. Ну, успокойтесь же!..
Покрывая нестройный шум, голос Сансона объявил:
– Номер сто восемьдесят семь выиграл бронзовую статуэтку, изображающую подвиг Жозефа Бара.[39] Номер двенадцатый – рабочую шкатулку…
Софи развернулась и направилась к выходу. Люди нехотя сторонились, пропуская ее. «И ведь я во Франции! – думала она. – Во Франции! У себя дома!» Слезы ярости застилали ей глаза. За их пеленой ей казалось, будто все плывет, меняет очертания – широкая лента с надписью «Слава нашей храброй Восточной армии!», растения в кадках, флаги… Дельфина нагнала ее, схватила за руку:
– Неужели вы из-за такой глупости уйдете? Это же недоразумение! Просто недоразумение!..
– Нет! – едва ли не стоном откликнулась Софи. – Пустите меня! Напрасно я сюда пришла! Вы же видите, что мне здесь не место!
Высвободившись, она устремилась в прихожую, где сонные лакеи стерегли груду пальто и шинелей.
8
Газеты трубили победу: едва высадившись на берег в Галлиполи и Варне, французская армия маршала Сен-Арно и английская армия лорда Реглана заставили русских снять осаду Силистрии и покинуть придунайские княжества. К несчастью, холера и тиф грозили подорвать мужество войск. Лето началось в тревожном настроении, поскольку, если верить редким сообщениям газет, здоровье солдат ухудшалось с наступлением жары. Пятнадцатого августа День святого Наполеона был отпразднован хотя и в отсутствие императора, путешествовавшего по югу, но еще более торжественно, чем в прошлом году: артиллерийские залпы, благодарственный молебен, водные состязания на Сене и конкурс наемных экипажей, украшенных трехцветными флагами, позолоченными орлами и букетами цветов… Все театры давали бесплатные представления: в Порт-Сен-Мартен шла пьеса о Шамиле, черкесском вожде, непримиримом враге Николая I; в Имперском цирке – военная пантомима, изображавшая снятие осады Силистрии и героическую гибель Муса-паши. Повсюду чествовали мусульман и смешивали с грязью русских. В пять часов Софи, забившаяся на время этих патриотических увеселений в самый дальний уголок своего сада, увидела, как в небо поднимается огромный шар с надписью: «Турция, Англия, Франция», а на следующее утро с волнением прочла в газете воззвание императора к Восточной армии. У стольких парижан сыновья были на войне! «Они покрывают себя славой, – писал репортер здесь же, – но страдания их велики». Затем появились сообщения о том, что французские и английские войска погрузились на суда, об отправке их в Евпаторию и о первых боях в Крыму. Двадцатого сентября союзники, брошенные в наступление, взяли приступом гористый берег реки Альма, и сразу после этого началась осада Севастополя. Ложные известия множились с каждым днем. Сегодня говорили, что крепость взята и царь запросил мира, назавтра оказывалось, что ничего не изменилось, враги окопались друг против друга, война закончится не скоро… Памятная ссора во время лотереи у Дельфины заставила Софи неизменно отказываться от всех приглашений, а когда Дельфина приходила к ней, дамы, с общего согласия, избегали разговоров на политические темы, и обе из-за этого испытывали неловкость, будто что-то друг от друга скрывают…
Однажды утром, когда Софи собиралась выйти из дома, Жюстен, явившись к ней в комнату, доложил, что хозяйку желают видеть два господина. Лакей выглядел пришибленным, смотрел куда-то в сторону.
– Но я никого не жду, – удивилась Софи. – Вы спросили их имена?
– Я не думал, сударыня, что мне следовало…
– Ну, так вы ошиблись! Идите!
– Дело в том, сударыня… эти господа сказали мне, что они из полиции…
Софи невольно вздрогнула. Этим-то что еще от нее понадобилось?
– Проводите их в гостиную, – коротко приказала она.
Шляпка была уже надета, и теперь, потянувшись, чтобы ее снять, Софи вдруг опомнилась. Нет уж, лучше выйти к незваным гостям как есть, пусть видят, что она собиралась уходить, что они ей помешали, нарушили ее планы.
Полицейские расхаживали взад и вперед по гостиной, заложив руки за спину, и заглядывали во все углы – словно принюхивались. Когда вошла хозяйка дома, оба с забавной слаженностью движений разом повернулись к ней. Один был высоким и тощим, второй – маленьким толстяком; на обоих – длинные темные сюртуки, застегнутые до самого подбородка, нелепый наряд довершали цилиндры и дубинки. Не успела Софи и рта раскрыть, как тот, что повыше, надменно проговорил:
– Нам предписано произвести у вас обыск, сударыня.
И сунул ей под нос какую-то бумагу. Бланк префектуры полиции, посреди страницы крупными буквами, черным по белому – ее имя. Неразборчивые подписи и печать удостоверяли, что документ подлинный. Софи на мгновение оторопела, ей показалось, будто она висит в пустоте, она не понимала ни что это с ней такое происходит, ни что она должна сказать в свою защиту. Наконец, снова обретя дар речи, воскликнула:
– Это невозможно, господа! В чем меня обвиняют?
– Узнаете, когда придет время. А пока, прошу вас, не мешайте нам работать…
Один из полицейских направился к секретеру, второй – к комоду. Софи даже и не попыталась протестовать. Она на собственном опыте имела возможность убедиться в том, что совершенно бесполезно вступать в переговоры с полицейским, которому отдан какой бы то ни было приказ.
– Ключи? – требовательно спросил полицейский.
– Они вам не нужны, сударь, – ответила Софи. – Все отперто.
Полицейские по локти запустили руки в ящики, принялись с профессиональной ловкостью ворошить бумаги. Это было так, будто они елозили пальцами по ее собственной коже. Софи передернулась. До чего омерзительно! Ну вот, все начинается сызнова. Раньше в России, теперь во Франции. Административный рок с тупой физиономией преследует ее из года в год, из страны в страну. Внезапно она заметила в руках у полицейского письма от Николая, Фердинанда Вольфа, Полины Анненковой, Натальи Фонвизиной… совсем недавно она разбирала их и перечитывала. Кровь прилила к сердцу. Софи беспомощно пролепетала:
– Господа! Оставьте, не трогайте! Это личные письма!
Толстый коротышка, не моргнув глазом, сунул в карман одну связку писем, протянул другую своему коллеге и ответил:
– Вам их вернут после того, как с ними ознакомятся. Перейдем в соседнюю комнату. Не угодно ли вам нас проводить…
Под ее руководством они переходили из комнаты в комнату, везде распахивали двери, рылись во всех шкафах, ворошили белье, перетряхивали платья, простукивали стены, изучали книги на полках. Затем тощий дылда, нацарапав несколько слов в записной книжке, произнес:
– Извольте следовать за нами.
– Куда? – не поняла она.
– В префектуру полиции.
От страха заныло в животе. Сейчас ее арестуют, посадят в тюрьму! Но за что? Сознание того, что она ни в чем не провинилась, не только не успокаивало, но, напротив, смутно тревожило. Нелепость ситуации достигла такого накала, что Софи проще было бы защищаться, если бы у нее на совести была хоть какая-то определенная провинность.
– Да говорю же я вам, что ни в чем не виновата! – слабо возразила она.
Вместо ответа толстый коротышка грубо схватил ее за руку. Она резким движением высвободилась. В прихожей стояли Жюстен и Валентина. Окаменев от ужаса, они во все глаза смотрели на хозяйку, которую, словно воровку, уводили двое полицейских. Она бросила им на ходу:
– Ничего страшного! Я скоро вернусь!
И попыталась улыбнуться: пусть видят, что хозяйку не так-то легко запугать. Посреди двора ждала двухместная карета. Софи без посторонней помощи села в нее. Один из полицейских устроился с ней на сиденье, второй примостился рядом с кучером. За всю дорогу сосед Софи ни разу к ней не обратился. Она задыхалась, запертая в наглухо закрытой карете с этим незнакомцем, от которого несло вином и табаком. На каждой выбоине он толкал ее локтем или коленом. Наконец, колеса в последний раз вздрогнули, переезжая глубокую рытвину, и замерли.
Мощеный двор префектуры полиции, длинные серые коридоры, заполненные просителями или подозреваемыми, рабочие в картузах, девицы в тюремных чепцах, белые плевательницы, застекленные двери с табличками… Попав в этот безрадостный мир, Софи мгновенно вспомнила, как Николя пришел вызволять ее отсюда, из этого самого места, в день, когда ее по ошибке арестовали. Это было в 1815 году, незадолго до того, как они обвенчались. Он был в парадном мундире гвардейского полка. Как тогда растрогало ее влюбленное и обеспокоенное выражение его лица! А сегодня некому поспешить ей на помощь, никто ее не защитит… Да, это так: отныне она может рассчитывать только на себя. Но что же Николя сказал тогда, едва ее увидев?..
– Входите, – проворчал толстый коротышка, толкнув одну из дверей.
Она вошла в комнату с выкрашенными светло-зеленой краской стенами, в глубине которой стоял шкаф с бумагами. За дубовым письменным столом сидел человек, все лицо которого состояло, казалось, из лба и челюстей. Вдоль щек спускались желтовато-седые пушистые бакенбарды. Он поднял взгляд на Софи и вдруг сделался очень похож на внимательно присматривающуюся лягушку. Полицейские выложили начальнику на стол письма и прочие бумаги, которые они прихватили из дома Софи, он кивком отослал обоих. Оставшись наедине с задержанной, представился: «Инспектор Мартинелли» – и предложил сесть напротив него, на стул с плетеным сиденьем.
– Сударь, – начала она, – я очень удивлена, не могу понять…
Он жестом прервал ее:
– Вскоре вы все поймете, сударыня, но прежде мне необходимо задать вам несколько вопросов. Ваше имя, фамилия, дата рождения…
Она послушно отвечала, но инспектор явно ее не слушал. Разумеется, все это было ему уже известно. Софи заметила горбатого писца, тот сидел в углу кабинета перед высокой конторкой на табурете и записывал каждое ее слово пером с дрожащей бородкой. Внезапно Мартинелли, наклонившись вперед, спросил:
– Вы получали средства к существованию из России, не так ли?
– Да, – признала Софи. – А что, это противозаконно?
– Ни в коей мере! Однако, если полученные мной сведения верны, вы в этой стране не на очень хорошем счету. Ваш муж был осужден за принадлежность к тайному обществу. Вместо того, чтобы от него отказаться, вы последовали за ним в Сибирь…
– Во Франции намерены заново пересмотреть дело декабристов? Начать новый процесс?
– Нет, но для нас это служит свидетельством.
– Свидетельством чего?
– Ваших политических предпочтений.
Софи взорвалась:
– Это неслыханно! Мы воюем с Россией, и вы преследуете меня своими подозрениями, хотя я пострадала от российского империализма! Кому вы подчиняетесь – Николаю I или Наполеону III?
Мартинелли улыбнулся, и его лицо, казалось, изменило форму, словно было сделано из каучука. Оно и так было шире, чем длиннее, а теперь еще и расползлось книзу, к шее, где его подпирал белый воротник.
– Тут есть одно отличие, сударыня, и им нельзя пренебрегать! – сказал он. – В том, что касается внешней политики, мы, разумеется, против русских. Но в плане политики внутренней наши интересы и наши заботы совпадают. Как и российские власти, мы стремимся поддерживать порядок и отстаивать законность. То обстоятельство, что человек был в Санкт-Петербурге возмутителем спокойствия, никак не может служить рекомендацией для парижской полиции. Совсем напротив! Вы прибыли к нам оттуда с опасным грузом пагубных привычек. Вас окружает легенда…
Наконец-то хоть что-то забрезжило, наконец-то он объяснил, в чем дело, и у нее появилась надежда.
– Да ведь я же почти не выхожу из дома! – возразила она. – Нигде не бываю, никого не вижу! Я не занимаюсь политикой!..
– Однако многие слышали, как вы произносили в обществе пренебрежительные, если не сказать – антифранцузские речи.
Ей тут же пришло в голову, что доносчики повторили в искаженном виде то, что она говорила у Дельфины. И ей сделалась противна эта фальшивая свобода, так мало соответствующая тому, чего она ждала от Франции.
– В России меня обвиняли в том, что я – французская шпионка, – сказала она, – во Франции обвиняют в том, что я русская шпионка!
Мартинелли сложил руки на животе, между его заплывшими веками блеснул холодный взгляд.
– Замените слова «русский» и «французский» словом «революционный», и вам все станет понятно, – произнес он.
– Почему «революционный», а не «республиканский»?
– Простите, я не слишком хорошо улавливаю разницу.
– Революция – средство, республика – цель, – объяснила она.
– А империя?
Софи не ответила.
– Кстати, – снова заговорил Мартинелли, – не знакомы ли вы с неким Вавассером?
«Вот оно!» – подумала Софи. И прошептала:
– Да.
– Вы навещали его в тюрьме Сент-Пелажи; затем вы были у него в книжной лавке.
– Совершенно верно.
– Его только что арестовали. Мы подозреваем, что он участвовал в заговоре с целью покушения на жизнь императора. Предполагаю, что вы в полном неведении насчет этого?
– Да, мне об этом совершенно ничего не известно, – заверила его Софи.
Сердце у нее упало.
– Он не предлагал вам присоединиться к заговору?
– Нет.
– Однако вы для него и для его товарищей представляете собой живой символ!
– Должно быть, он осознал, что я враждебно отношусь к его взглядам!
– Вы ему об этом сказали?
– Кажется, да.
– Получается, он все-таки посвятил вас в свои планы, раз пришлось об этом говорить?
– Да нет… он никогда не говорил об этом определенно, – покраснев, пролепетала Софи.
– То есть мимоходом… хотя бы намеками упоминал?
– Может быть, я сейчас уже не вспомню…
Мартинелли откинулся на спинку кресла.
– Лучше бы вам говорить со мной откровенно, сударыня!
– Я так и делаю.
– К сожалению, нет, сударыня…
Софи вздрогнула. Опять она оказалась в кольце подозрений – а ведь думала, что, покинув Россию, из него вырвалась. Она уже так и видела себя стоящей перед судьями, обвиненной на основании ложных свидетельств, брошенной в тюрьму, сосланной… И на этот раз она расстанется со всем этим не ради того, чтобы уехать к мужу. Да что у нее общего с Вавассером?! Она ненавидела его, она была против его рискованных политических затей, ей теперь хотелось жить только спокойными привычками зрелого возраста, лишь теплом вновь обретенного дома!
– Клянусь вам, – снова принялась уверять она, – больше мне ничего не известно.
И тут же устыдилась того, что пытается таким образом себя защитить. Да почему же это в большинстве случаев покой приходится покупать ценой унижений?
– Скажите мне, кто с ним заодно, и я тотчас вас отпущу, – смягчившись, проворчал Мартинелли.
Софи пожала плечами.
– Я не смогу… Мне пришлось бы выдумывать!
– Я подскажу вам: Антонен Лакруа, Марсель Пьедефер, Жорж Клаус…
– Никогда о таких не слышала!
– А Прудон? Вы ведь встречались с ним, на улице Жакоб?
– Да, в самом деле!
– И что он говорил?
– Ничего особенно толкового.
– Одним словом, все дружно радовались успехам нового режима?
– Я ничего подобного не утверждала, сударь. У некоторых из тогдашних гостей были весьма передовые социальные взгляды. Однако они излагали их спокойно, без всякого запала. Даже сам император, если бы ему довелось их услышать, не смог бы на них рассердиться.
– Мне рассказывали совсем не так!
– А почему бы вам не допустить, что на этот раз вас плохо осведомили?
Понемногу Софи успокоилась, собралась с мыслями. Опыт допросов помогал ей овладеть положением. Мартинелли провел рукой по лицу снизу вверх. Казалось, он устал бороться с упрямством Софи. Она чувствовала, что ее будущее зависит от того, что происходит сейчас за этим огромным лбом. Пока что она на свободе, но что будет через минуту? Орел или решка? Сердце у нее так колотилось, что отзывалось даже в челюстях. Мартинелли медленно взял со стола письма от Николая, стал разворачивать одно за другим. Она вспомнила слова любви, по которым сейчас скользит взгляд этой ищейки, этого держиморды.
– От кого эти письма? – спросил он.
– От моего мужа.
– А вот это?
– От моего друга из Сибири.
– Он тоже декабрист?
– Да, сударь.
Мартинелли вновь погрузился в чтение. В окно вливался странный, словно бы подводный свет. Поскрипывало перо горбуна. От плохо выструганного пола поднимался запах мокрой пыли. Внезапно Мартинелли подтолкнул весь ворох писем по направлению к Софи.
– Забирайте!
Она сунула письма в сумочку. Пачка была такая большая, что застежку пришлось оставить незащелкнутой.
– Я подумаю, стоит ли давать ход этому делу, – продолжал инспектор. – На сегодня вы свободны, сударыня!
Словно камень с души свалился! Софи с облегчением вздохнула, стараясь, чтобы вышло не слишком заметно. Однако она хорошо знала, что полиция так просто от своих подозрений не отказывается. Если инспектор ее и отпускает сейчас, то, несомненно, лишь для того, чтобы выследить и попытаться разузнать побольше о людях, с которыми она встречается. Писец перестал скрипеть пером. Софи поднялась со стула. Мартинелли тоже встал и с подчеркнутой любезностью проводил ее до двери.
Она снова, теперь в обратном направлении, прошла через скучную преисподнюю коридоров. Во дворе, сблизив двурогие шляпы, болтали полицейские. Усы и бородки придавали всем им сходство с Наполеоном III. В ворота с грохотом въехал полицейский фургон, остановился у крыльца. Яркий дневной свет ударил в глаза, шум Иерусалимской улицы оглушил Софи, и она улыбнулась тому, что жизнь продолжается. На Новом мосту обернулась посмотреть, нет ли за ней слежки. Может, и есть, не поймешь, – у прилавков толпится слишком много народа. Все лица сливались в неясное пятно. Собачьи стригали, чистильщики сапог, лудильщики, литейщики ложек, продавцы шляп, лент, крысиного яда, ароматических лепешек старались перекричать друг друга, завлекая покупателей. Софи заторопилась, стала выбираться из толпы. Ей по-прежнему было неспокойно, не проходило неприятное ощущение, будто смотрят в спину. Она заставила себя распрямиться, поднять голову. Давным-давно забытое ощущение слежки. Даже в России в последние месяцы ей удавалось забыть о том, что она под подозрением.
Валентина с Жюстеном ждали хозяйку дома, когда пришла – посмотрели сочувственно.
– Вышла ошибка! – объяснила она.
Слуги сделали вид, будто поверили. Пока ее не было, они прибрали в комнатах, и от присутствия полицейских в доме следа не осталось. Софи с благодарностью оглядела мебель – так встречаешься с друзьями после несчастного случая, который мог стоить тебе жизни. Валентина предложила помочь раздеться, хотела уложить в постель.
– Зачем? Я нисколько не устала! – живо возразила Софи.
Отослав горничную, она уселась в кресло, и тут нервы, которые слишком долго оставались натянутыми до предела, не выдержали, сдали. Ее всю трясло, она хотела поплакать, но не могла, слез не было. «Когда я была помоложе, – думала Софи, – я легче справлялась с волнением». И вдруг – не потому ли, что сама едва не угодила за решетку? – она озаботилась участью Вавассера, одновременно и осуждая, и жалея его. Безумец, одержимый. Этого следовало ожидать: ни к чему другому его помешательство, его навязчивая идея привести не могли. Она ведь его предупреждала, но он только посмеялся над ней. «Вы ведь всего-навсего женщина!» – эта фраза все еще продолжала звучать у нее в голове. Софи думала обо всех тех людях, которые, подобно Вавассеру, пожертвовали своей свободой, своей безопасностью, принесли в жертву политическим убеждениям свои семьи. Решительно, у мужчин просто в крови эта страсть к грандиозным замыслам, и – в девяти случаях из десяти – вся их суета ни к чему не приводит. Единственное благо, какое творится в мире, идет от скромных, повседневных женских начинаний. Вот и сама она – когда она приносила больше пользы ближним? Когда упивалась безумными политическими теориями в Париже или когда довольствовалась тем, что лечила мужиков в Каштановке? Именно там, в краю нищеты и невежества, она могла наилучшим образом осуществить свое женское предназначение. Вот только Сережа этому воспротивился, и из-за него ей пришлось отказаться от образа жизни, который дал бы возможность гордиться собой. Софи немного помечтала о том, каким счастьем могла бы одарить всех этих простых людей, если бы племянник не стоял у нее на пути, если бы он не мешал ей. Жаль… Очень жаль! Но этот путь для нее закрыт. Надо думать о чем-то другом. Вдруг она вспомнила о Луизе и снова встревожилась: бедняжка, должно быть, в полном отчаянии. Вся усталость Софи разом исчезла. Она снова надела пальто и шляпу, снова вышла на улицу.
Луизу она застала в книжной лавке – всю в слезах. Какая-то полная немолодая женщина – наверное, ее мать – сидела рядом, гладя ее по руке. Дети за прилавком возились с волчком. Луиза подняла на Софи полные слез глаза и простонала:
– До чего же нам не везет в жизни! И он ведь пообещал мне, что теперь будет осторожнее!
9
Несмотря на то что обвинению так и не удалось доказать существование какого бы то ни было заговора против императора, Огюстена Вавассера приговорили к пяти годам строгой изоляции и отправили в Бель-Иль, где содержались уже многие политические заключенные. Совершенно убитая новым ударом судьбы, Луиза взяла в привычку несколько раз в неделю приходить к Софи, чтобы пожаловаться на свои горести, попросить совета и прочесть очередное письмо, полученное от мужа. Он почти не сетовал по поводу тюремного режима, очень хорошо отзывался о товарищах по заключению, уверял, что его республиканские убеждения в этих испытаниях лишь окрепли, и рассказывал, как в свободное время работает на земле и занимается музыкой.
– Мне кажется, он куда более счастлив в тюрьме с людьми одних с ним взглядов, чем со мной в книжной лавке! – вздыхала Луиза.
Ее бесхитростность, весь ее простонародный облик забавляли Софи, приятно было поговорить с ней, душа отдыхала от лживости света. Два одиночества гармонично сливались в этих мирных встречах. Пили чай, потом Луиза принималась болтать о разных пустяках, а Софи слушала, склонившись над своей вышивкой. Дельфина де Шарлаз ни разу не нарушила их уединения. Должно быть, она, при ее положении, не могла позволить себе бывать по-прежнему в доме особы, объявленной политически неблагонадежной. Да и к себе не приглашала. Хозяйки всех приличных салонов последовали ее примеру, но Софи только радовалась тому, что теперь ее никуда не зовут. Нехватка денег вынуждала себя во всем ограничивать, и, если бы захотелось выйти в свет, она все равно не смогла бы купить или заказать наряды, соответствующие ее положению в обществе. Луиза время от времени приводила кого-нибудь из детей, малыш смирно сидел в уголке, листая книжки с картинками. За остальными детьми в это время присматривала ее мать, за лавкой – тоже. Покупатели заглядывали сюда редко, прибыль была скромной, однако надо было любой ценой обеспечить хоть какую-то торговлю, чтобы Вавассер, вернувшись из заключения, смог снова взять дело в свои руки. Софи, разумеется, не раз предлагала Луизе свою помощь, но та неизменно отказывалась, уверяя, что у нее есть сбережения; для нее достоинство заключалось в том, чтобы не быть ни у кого в долгу. Едва войдя в дом, она объявляла:
– Сегодня за мной следили.
Или же:
– Не знаю, куда это подевался мой шпион, что-то сегодня его с самого утра не видно!
У Софи тоже был свой шпион, ходивший за ней по пятам. Она к нему привыкла, здоровалась кивком на улице, когда замечала, поворачивая за угол. На следующий день его сменял другой, не менее узнаваемый благодаря строгому покрою одежды и хитроватому выражению лица. Полиция явно проявляла к Софи большой интерес. Однако со временем, как ей показалось, эти господа начали утомляться, им прискучило держать ее под подозрением. Только бы война поскорее кончилась!
Но осада Севастополя затягивалась, побуждая ту и другую сторону совершать подвиги и творить истинные чудеса героизма. Рассказывали, что противники ведут себя по отношению друг к другу настолько галантно, что после нескольких часов кровопролитного сражения не на жизнь, а на смерть используют краткое затишье для того, чтобы дружески поболтать и обменяться мелкими подарками. Всякий раз, как Софи доводилось услышать о рыцарском поведении русского офицера, это трогало ее до слез. Ей хотелось бы, чтобы все ее соотечественники прониклись таким же уважением к нынешним врагам Франции, какое она испытывала сама. Делясь с Луизой сибирскими воспоминаниями – а делала она это нередко! – и произнося имя Николая или Фердинанда Богдановича, Софи чувствовала, что сердце у нее начинает биться быстрее. Молодая жена Вавассера слушала ее, завороженная рассказом, по-детски приоткрыв рот, и казалась прелестной в своей простоте. Если она день или два не появлялась, Софи начинала скучать. «И почему я так привязалась к этой девочке? – думала она. – Я о ней ничего не знаю или почти ничего. Мне кажется, я даже и не выбирала ее в собеседницы! Она нужна мне только для того, чтобы не испытывать головокружительного страха перед пустотой…»
В среду, третьего марта, когда дамы вдвоем коротали время за чаем, в гостиную вошел Жюстен с постным лицом. Он принес газеты.
– Знаете новость, сударыня? – прошептал он. – Царь умер!
– Да что вы говорите? – воскликнула Софи.
Она схватила лежавший на протянутом ей подносе «Всемирный вестник». Новость была напечатана на первой странице под рубрикой «неофициальные известия». Софи исполнилась торжественной радости, глубоко проникшей в ее душу. Пишут, что император скончался от легочного паралича, а на самом деле, должно быть, неудачи русской армии в Крыму подорвали его силы. Вот только каких же политических последствий можно ждать от такого события? Софи хотелось верить в то, что война закончится со смертью того, кто был главным ее зачинщиком. Она поделилась этими соображениями с Луизой, та слушала ее, мелкими глотками попивая чай, – и впервые ее ласковое безразличие только что не взбесило Софи.
После ухода молодой женщины она осталась сидеть в одиночестве в своей гостиной, среди вороха смятых газет. И только к тому времени, как на улице стемнело окончательно, осознала, что Николая I больше нет. Нет и не будет никогда! Значит, и эта несокрушимая мраморная глыба в конце концов тоже исчезла с горизонта. Как же много людей страдало по его вине! Позавчера – декабристы, заживо погребенные в Сибири, вчера – петрашевцы, сегодня – солдаты, ставшие жертвой его политики в Севастополе. За тридцать лет слепая воля этого властителя, его грубый и ограниченный ум, его безжалостность, бесчувственность и бездушие изменили судьбы миллионов людей. И ее собственная жизнь тоже оказалась раздавленной гордостью и жестокостью хозяина России. Ну и кто станет оплакивать его, кроме нескольких придворных, которым он дал возможность возвыситься? Весь русский народ, должно быть, вздохнул с облегчением, и этот вздох облегчения пронесся над всей страной, от берегов Балтийского моря до побережья Тихого океана, от берегов Северного Ледовитого океана до южных границ. Наверное, с особенной радостью, думала Софи, этот «всенародный траур» был встречен в Сибири. Как жалко, что многие политические заключенные умерли, так и не дождавшись помилования! Николя нет на свете уже больше двадцати лет, всего двух лет не дожил до этого дня Фердинанд Вольф… Она представила себе, как уцелевшие декабристы собираются в доме у одного из них, в Иркутске, в Тобольске, в Кургане, обсуждают случившееся за самоваром. Тайное сборище скелетов. Несомненно, новый царь, Александр II, их простит. О нем рассказывали, что это просвещенный, добрый, искренний человек. И она вспомнила, с каким волнением смотрела на него, в те времена еще – робкого юного цесаревича, когда в 1837 году он приезжал в Курган. Как он тогда перекрестился, повернувшись к декабристам, во время молитвы об отверженных… Да, да, конечно, он непременно освободит политических заключенных и заключит перемирие! Если только на нового царя не повлияет дурно его окружение… Ох, только бы он не оставил при себе советников отца!
Софи горько пожалела о том, что рядом с ней нет ни одного русского человека, с которым она могла бы поговорить, обменяться мыслями. Французам ее не понять. Для них смерть Николая I относится к событиям мировой политики. Для нее это событие семейное.
Она плохо спала ночь, а все следующие дни с возраставшим нетерпением ждала, что будет дальше. Но газеты по-прежнему были заполнены подробными сообщениями о поучительной кончине Николая I, а его наследник, похоже, не спешил положить конец сражениям. Наверное, Александр II не хотел принимать такое важное решение до того, как будет коронован в Кремле. Но ведь это могло затянуться на несколько месяцев! Пока что в России ограничивались тем, что заменяли генералов. Здесь, в лагере союзников, Наполеон III с императрицей отправились в Англию, чтобы торжественно отпраздновать заключение франко-британского договора. Вскоре после возвращения император счастливо избежал пули убийцы на Елисейских Полях, и все газеты хором благословляли Провидение. Когда Софи читала восхваления, обращенные газетчиками к государю, ей начинало казаться, будто она перенеслась в Россию. Разумеется, у французов были основания гордиться главой своего государства, поскольку его правительство успешно справлялось как с военными, так и с мирными делами. Военные действия в окрестностях Севастополя нисколько не мешали ни разрушать старое и возводить новое в столице, ни устраивать праздники в честь войск или иностранных монархов. Повсюду начиналось строительство зданий из тесаного камня. Строилось новое здание Лувра, одновременно с этим улицу Риволи продолжали до Ратуши, а вдоль Страсбургского бульвара вырастали один за другим огромные дома – в целых шесть этажей! Но самыми лихорадочными темпами строительство шло на Елисейских Полях – здесь рабочие спешили закончить сооружение Дворца Промышленности, где должна была проходить Всемирная выставка 1855 года. Наконец, 15 мая здание было окончательно освобождено от лесов, и его посетила императорская чета. Газеты только и писали что о собранных в этом здании чудесах, сотворенных участниками выставки, которых было ни много ни мало двадцать тысяч, французов и иностранцев. России также было предложено прислать образцы своей сельскохозяйственной и фабричной продукции, однако она отклонила приглашение «по причине войны».
Луиза, сильно возбудившаяся от чтения газетных отчетов, непременно хотела побывать на выставке вместе с Софи. Как-то утром они туда отправились, и толпа едва не раздавила их. Полузадушенные, они отдались на волю течения, и поток любопытствующих увлекал их от одной витрины к другой с такой скоростью, что они ничего не успевали толком разглядеть. В огромном, переполненном, гудящем, душном, жарком, раскаленном от солнечных лучей, отвесно падающих сквозь стеклянную крышу, павильоне шерстяные ткани соседствовали с керамикой, бронзовые накладки на мебели поблескивали рядом с мелкими украшениями. Бросались в глаза названия стран, крупными буквами выведенные на больших указателях: Соединенные Штаты, Египет, Греция, Китай… Все страны явились в гости к Франции, весь мир пребывал с ней в дружбе. Отсутствие России в глаза не бросалось. Софи хотелось бы обойти всю выставку, но, прокладывая два часа подряд дорогу в толпе и дыша пылью, она в конце концов устала и присела отдохнуть на скамью. Именно в это мгновение Луиза увидела знакомого, стоявшего рядом с отделом резной мебели: молодой человек, плохо одетый, с приятным лицом и легкой, словно бы кружевной, бородкой.
Казалось, незнакомец только и ждал, чтобы его заметили. Луиза представила юношу Софи: Марсьяль Лувуа, художник, друг Вавассера. Софи смутно припомнила, что видела его в лавке в тот вечер, когда там собрались все приятели Огюстена. Марсьяль предложил проводить дам в отделение изящных искусств. Стоило Луизе услышать это предложение – и ее лицо тотчас засияло несколько подозрительной радостью, казалось, будто у нее внезапно пробудился интерес к современной живописи.
– О, да, да! Пойдемте туда скорее! – воскликнула она.
Софи, которую позабавило мгновенное преображение приятельницы, согласилась пойти с молодыми людьми. Толпа со всех сторон прибывала в залы, где художники, возглавлявшие французскую школу, выставили свои работы. Публика замирала в восхищении перед «Лежащей одалиской» господина Энгра, «Резней на Хиосе» господина Делакруа, «Большим турецким базаром» господина Декана, «Позорным столбом» господина Глеза… Комментарии зрителей раздражали Марсьяля Лувуа, который переходил от полотна к полотну, злобно на них поглядывая и не вынимая рук из карманов. Он называл себя «натуралистом» и восторгался художниками, о которых Софи прежде никогда не слышала. Вскоре он объявил во всеуслышание, что все тут «мерзко и гнусно», несколько человек обернулись и с возмущением на него поглядели.
– Пойдемте отсюда! – сказал Лувуа. – Давайте лучше посидим в кафе, и я объясню вам, что такое настоящая живопись!
Луиза тотчас согласилась и так устремилась к выходу, что у нее на шляпке разом затрепетали все цветы. Но Софи слишком устала и предпочла вернуться домой.
На следующий день, снова встретившись с Луизой, она спросила, как поживает Марсьяль Лувуа.
– Он весь вечер мне надоедал своими разговорами про искусство и философию, такая скучища, – ответила Луиза. – Правильно вы поступили, что не остались!
Однако Софи заметила, что начиная с этого дня Луиза стала больше следить за собой, одеваться более продуманно. С наступлением лета в ней явно пробудилось желание нравиться, и навещать Софи она стала куда реже. Луиза, совершенно очевидно, была увлечена, и увлечение это отнимало все ее время. Софи жалела Вавассера, но считала себя не вправе воспитывать преступную жену, читать ей мораль. И вообще Луизина страстишка казалась ей смешной и нелепой рядом с беспредельной тоской, которая с каждым днем все сильнее сжимала ее собственное сердце, стоило только развернуть любую газету. Во всех без исключения – высокопарные отчеты о визите королевы Виктории в Париж, рецензии на концерты в Тюильри или спектакли парижских театров не могли заслонить страшной и отвратительной реальности войны. Время от времени появлялось краткое сообщение о том, что раненых стали успешнее выносить с поля боя или что число погибших с французской стороны незначительно. Разумеется, русским досталось куда сильнее. Захваченные в плен солдаты русской армии признавались в том, что теперь в Севастополе никто не верит в победу. Сражаются и умирают ради чести, ради славы. Взятие Зеленого Холма, сражение на реке Черной, штурм Малахова кургана – за всеми этими банальными обозначениями виделись горы мертвых тел! «Все идет хорошо, все в порядке, мы наступаем», – телеграфировал генерал Пелисье, новый главнокомандующий Восточной армией, военному министру. В иллюстрированных газетах появлялись ужасающие рисунки с изображением рукопашных боев среди похожих на цветную капусту облаков дыма от разорвавшихся снарядов. Зуавам под их фесками рисовали благородные лица, русским – зверские тигриные морды. Внезапно десятого сентября на первой странице «Всемирного вестника» появился текст депеши: «Корабельной и всей южной части Севастополя больше не существует. Враг, видя, что мы прочно заняли Малахов курган, решил отступить, перед тем разрушив и взорвав почти все оборонительные сооружения».
Назавтра взятие Севастополя было подтверждено, и император приказал отслужить в соборе Парижской Богоматери благодарственный молебен, а все парижские театры в этот день дали бесплатные представления. Известие было встречено приливом восторга. Софи решила, что после такой неудачи царь сложит оружие. Мысль о том, что вскоре война закончится, примиряла ее с исступлением обезумевшей от радости толпы. Но сколько времени потребуется французам и русским для того, чтобы забыть о пролитой крови? День 13 сентября был предоставлен для народного веселья. Жюстен с Валентиной отпросились у Софи в город, чтобы отпраздновать победу. Она охотно позволила им уйти, радуясь тому, что может побыть дома одна. За стенами гудела толпа. Вскоре прибежала разрумянившаяся, растрепанная Луиза в измятом платье, рассказала, что была на утреннем представлении в Опере. Один из певцов, стоя на фоне задника с изображением Севастополя, прочел стихотворение, прославлявшее французскую армию.
– Это было так прекрасно! У меня слезы выступили на глаза! Я кричала вместе со всеми! А сегодня вечером будет иллюминация. У господина Марсьяля Лувуа есть друг, который живет рядом с ратушей. Из его окон будут видны бенгальские огни. Не хотите ли вы пойти с нами?
Софи поблагодарила и отказалась, немного стыдясь своей вялости рядом с этой разгоряченной бабенкой. И Луиза снова упорхнула, окрыленная патриотическими чувствами и любовью. Взятие Севастополя стало очередным предлогом для того, чтобы изменить мужу.
10
В воскресенье, тридцатого марта 1856 года, в два часа пополудни, пушка Дома инвалидов выстрелом оповестила о том, что подписан мир. В Париже уже больше месяца шли переговоры между полномочными представителями стран-союзниц и России, и люди ждали этого известия со дня на день. В каждом доме были давно приготовлены флаги и цветные бумажные фонарики, и теперь они мгновенно расцветили фасады. Жюстен, исполняя приказание Софи, тоже бросился украшать подъезд особняка. Событие, произошедшее всего через две недели после рождения его императорского высочества, наследного принца, вызвало новый прилив восторга. Выйдя на улицу, Софи заметила толпу, собравшуюся у только что вывешенного, еще не просохшего, с проступающим клеем объявления: «Парижский конгресс: сегодня, в час пополудни, в особняке министерства иностранных дел был подписан мирный договор…» От волнения у нее подкосились ноги. Она подумала, что ее счастье несопоставимо с радостью окружающих ее людей – ведь она радуется одновременно и за Францию, и за Россию. Ей хотелось плакать от этого двойного блаженства, порожденного двойной любовью. Ее толкали торговцы газетами. Рядом с ней смеялся в рыжую бороду однорукий солдат, женщина в трауре прислонилась к плечу мужа, а тот театральным жестом приподнял шляпу. Где-то вдали звонили колокола. Софи заторопилась домой, ей не терпелось остаться одной, как будто она боялась расплескать, растерять в толпе свою радость.
Следующие дни были отмечены парадами и официальными приемами. Рассказывали, что Наполеон III был особенно любезен с графом Алексеем Орловым, представлявшим Россию. С обеих сторон было очевидным желание заново соединить то, что разорвала война. Как только мирный договор был подтвержден, царь и император обменялись братскими поздравлениями; двери русского посольства в Париже приоткрылись в ожидании возвращения министра, графа Киселева; граф де Морни, назначенный чрезвычайным послом Франции в России, собирался отбыть в Санкт-Петербург, где для него был приготовлен дворец Воронцова-Дашкова. Княгиня Ливен еще до окончания войны получила разрешение снова поселиться в своей квартире на улице Сен-Флорантен. Понемногу и другие русские, робко и боязливо, стали появляться в Париже, и французские друзья встречали с распростертыми объятиями этих изумленных выздоравливающих больных. К Софи внезапно заявилась Дельфина, непременно желавшая видеть ее на ближайшем своем рауте.
– Это так глупо, так нелепо! Мы совершенно потеряли друг друга из виду! У меня будет множество людей, которые вас знают и постоянно меня о вас спрашивали!
Внезапно проснувшийся к ней интерес дал Софи возможность сделать вывод, что она перестала быть «зачумленной» и не представляет опасности распространения заразы. Поскольку полиция отныне ею пренебрегала, совершенно естественным было возвращение благосклонности порядочных людей. Из любопытства Софи отправилась-таки на прием, устроенный Дельфиной, и вернулась оттуда оглушенная бессмысленными речами, в глазах рябило от ярких платьев. Отвыкла она от этой демонстрации нарядов, от злословия и самодовольной пустоты! Но ее собственное платье выглядело старомодным, и это обстоятельство ее огорчало. Надо обновить весь свой гардероб! Вот только – как? Несмотря на то что с Россией возобновилась нормальная почтовая связь, Софи по-прежнему не получала денег от племянника. Она обращалась к губернатору, к псковскому предводителю дворянства – все ее старания были тщетными. Может быть, ей надо обратиться прямо к Сереже? Никак она не могла на это решиться! Совершенно ясно, что ему было так удобно не выплачивать ей ее долю доходов во время войны, что он и теперь по-прежнему будет делать вид, будто никакой тетушки не существует. А она была слишком горда для того, чтобы потребовать у него то, что ей причитается, угрожая судом. Может быть, еще и потому… или главным образом потому, что на самом деле ей всегда казалось: не имеет она никаких прав на эти деньги. Они достались ей от свекра, которого она ненавидела. Мысль о том, что ее в некотором роде содержит покойный, особенно смущала ее с тех пор, как рядом с ней не стало Николая. В конце концов, Сережа был единственным наследником Михаила Борисовича. Каштановка должна была безраздельно принадлежать ему. Всякие противоречащие этому распоряжения были всего лишь пустыми бумагами… Он ее обманул? Ну и что с того! Ее не в первый раз подвергают унижению! Оставалось только решить, каким образом ей теперь добывать средства к существованию. Софи попыталась спокойно оценить положение: проще всего было бы сдать жильцам нижний этаж дома. Привычки ее были достаточно простыми и скромными для того, чтобы она могла прожить на те деньги, которые получит от сдачи внаем жилья. А если потребуется, она сможет давать уроки французского, истории, географии, как в Тобольске. Перспектива бедности и труда Софи не устрашала. Думая об этом, она вновь обретала прежний молодой задор и почти что основания для надежды.
Начались реформы. Для начала Софи рассталась с кучером и наемной каретой. Затем рассчитала Жюстена. Он воспринял свою отставку очень плохо, почувствовал себя оскорбленным и вместе с тем отнесся к бывшей хозяйке презрительно, долго торговался, стараясь выцарапать побольше денег. Валентина непрестанно лила слезы, дожидаясь своей очереди, но Софи пообещала, что расстанется с ней только в случае крайней необходимости. И подумала, что Сережа повеселился бы от души, глядя на то, как она робеет перед своими слугами. Что-то часто она в последнее время вспоминала племянника. И когда представляла его себе, у него всегда губы были насмешливо сложены, а в глазах горела ненависть. А у Софи теперь не было даже Луизы, которая все-таки ее развлекала. Молодая женщина, совершенно поглощенная своей преступной любовью, позабыла дорогу на улицу Гренель. По правде сказать, Софи не очень-то и хотелось, чтобы она приходила: Луиза бы ее стесняла. Откровенность между ними теперь была невозможна – ну и о чем тогда они стали бы говорить?
Однажды утром Валентина подала хозяйке письмо на официальном бланке псковского предводителя дворянства. Софи боязливо распечатала конверт, дрожащей рукой протерла стекла лорнета и прочла следующее:
«Сударыня!
Мне выпала тяжкая обязанность сообщить вам о том, что ваш племянник, Сергей Владимирович Седов, скончался при трагических обстоятельствах седьмого февраля сего года. В поместье господина Седова начались волнения, он попытался урезонить своих крестьян и был подло убит ими. Разумеется, злодеи были немедленно арестованы, предстали перед судом и были сосланы в Сибирь. Почтовая связь между нашими странами на время войны была прервана, и я не смог известить вас вовремя об этих событиях, за что покорно прошу меня простить. В соответствии с завещательными распоряжениями Михаила Борисовича Озарёва после кончины Сергея Владимировича вы остаетесь единственной наследницей имения. Бумаги, удостоверяющие это положение вещей, направлены в генеральное консульство России в Париже, которое передаст их в канцелярию министерства иностранных дел. Вас, несомненно, в ближайшее время пригласят в это высокое учреждение. Думаю, нет необходимости говорить вам о том, что с согласия губернатора я поставил в Каштановке управляющего с тем, чтобы он распоряжался использованием ваших земель в ожидании решений, которые вы примете в этом отношении…»
Софи дочитала письмо до конца с ощущением, что все это происходит не вполне наяву. Атмосфера кошмара, из которой она вырвалась, покинув Каштановку, вновь начала ее окутывать; вернулось чувство принадлежности к лишенному логики миру, где можно ожидать любого проявления грубости, любого насилия, где господа и крепостные связаны между собой странным договором о жестокости, где богатство и нищета взаимно питают друг друга, где душа мертвых проникает в плоть живых… Когда Сережа приказывал пороть своих крестьян, знал же он, что каждый удар ему зачтется! Он знал это и не мог удержаться от того, чтобы делаться все более и более безжалостным, – словно не терпелось довести дело до развязки, которая принесет гибель ему самому. Бездна неодолимо притягивала его. Каштановские господа падали в нее один за другим, никого эта участь не миновала. Над их семьей, над их родом тяготело проклятие. Это суеверное представление раздражало Софи, и она, досадуя сама на себя, то отвергала его, то снова ему поддавалась. Представляла себе Сережу – обезображенного, залитого кровью, думала о сосланных в Сибирь мужиках, о том, в каком смятении, должно быть, сейчас умы во всех деревнях, и все ходила взад и вперед по гостиной, металась от стены к стене, стараясь как-нибудь успокоить нервы. Внезапно она укорила себя в том, что, скорее всего, обвинила племянника необдуманно. Пав под ударами своих крестьян, он тем самым доказал, что и отец его вполне мог быть убит точно так же. Потому теперь, что бы она там ни думала, следовало признать, что доведенные до предела крепостные вполне способны убить своего господина. Да, но что из этого следует?.. Подозрения, касавшиеся Сережиных действий, были слишком тяжкими для того, чтобы их рассеял этот, один-единственный довод. Был ли он или не был отцеубийцей? Ответ на этот вопрос, каким бы он ни был, нисколько не умалял Сережиной вины перед мужиками. И она не станет по нему плакать после всего, на что насмотрелась в Каштановке! Но как же ей разузнать побольше об обстоятельствах убийства? Должно быть, лучше всего обратиться в российское генеральное консульство.
Фиакр в два счета домчал ее к дому 33 по улице Фобур-Сент-Оноре. Софи пересекла посыпанный песком двор, взошла на крыльцо под стеклянным навесом в виде ротонды. На верхней ступеньке ее встретил швейцар с широкой золотой перевязью, осведомился о том, что сударыне угодно, и передал ее с рук на руки какому-то секретарю с цепью. В консульстве и посольстве, расположенных под одной крышей, все было перевернуто вверх дном: после двухлетнего отсутствия служащие заново устраивались на рабочих местах. В обширной, точно собор, прихожей громоздились некрашеные деревянные ящики, лежали кучи соломы. Рабочие закрепляли на парадной лестнице красную ковровую дорожку. На площадке второго этажа Софи пришлось подождать, пока служащий, который ее провожал, о ней доложит. Тот вскоре вернулся и на дурном французском сообщил ей, что господина генерального консула на месте нет, но его личный секретарь, господин Скрябин, сочтет за удовольствие ее принять.
Она думала, что увидит перед собой важную на вид особу, но личный секретарь оказался невысоким молодым человеком, свеженьким, белокурым и румяным. Он сидел под огромным портретом Александра II. Видимо, это была первая заграничная должность господина Скрябина, потому что его, казалось, чрезвычайно возбуждало и пьянило сознание того, что он находится в собственном кабинете и принимает даму. Когда же Софи изложила цель своего визита, он возликовал. Только накануне он получил сообщение об этом деле и теперь не мог опомниться от восторга: как же, такой счастливый случай – вот прямо сейчас, не сходя с места, проявить свою осведомленность. В течение минуты господин Скрябин исполнял пантомиму, изображая перегруженного делами дипломата, рылся в своих архивах, отыскивая понадобившийся документ. Затем, внезапно вспомнив, что речь вообще-то идет об убийстве, мгновенно напустил на себя скорбный вид и подтвердил, что Сергей Владимирович Седов действительно отдал Богу душу 7 февраля сего года.
– Весьма печальное стечение обстоятельств! – со вздохом произнес он.
– Как это произошло? – спросила Софи.
– В лежащем сейчас передо мной донесении сказано, что Сергей Владимирович Седов хотел отправить своих крестьян на ночную работу: они должны были расчищать от снега дорогу, пересекающую поместье. Мужики отказались ему повиноваться. Он верхом выехал им навстречу. Произошла ссора. Эти несчастные осмелились поднять руку на своего господина… Мне очень жаль, сударыня, что я вынужден сообщать вам такие жестокие подробности!.. Но подчеркиваю: вынужден. И позвольте мне хотя бы выразить вам соболезнование!..
В душе Софи его сочувствие настолько не встретило отклика, что ей стало даже неловко. Конечно, не в ее привычках было притворяться огорченной, чувствуя себя совершенно спокойной, однако следовало соблюдать приличия. Поблагодарив Скрябина, она спросила:
– Из каких деревень были убийцы?
– Из Крапинова и Шаткова.
– Знаете ли вы в точности, кто из мужиков был осужден?
– Да… подождите одну минутку…
Господин Скрябин прочел список из шести имен. Ни одного из них Софи прежде не слышала и теперь испытала облегчение.
– Но, – продолжал Скрябин, – все уже уладилось. Как вам, должно быть, уже написал псковский предводитель дворянства, вашим поместьем занимается управляющий. Стало быть, у вас есть время подумать, прежде чем на что-либо решиться.
Софи ошеломленно уставилась на него. Она как-то до сих пор не осознавала, что сделалась единственной владелицей Каштановки. Все эти поля, все эти деревни, все эти мужики! Что ей с ними делать теперь, когда она живет во Франции? Освободить крепостных? Да, разумеется, но только, внезапно оказавшись на свободе после того, как всю жизнь провели в подчинении, они будут еще больше нуждаться в ней для того, чтобы за ними присматривать, помогать им, содействовать в устройстве новой жизни. Оставить все как есть, поручив управляющему распоряжаться имением и присылать ей деньги? Она слишком уважала человеческий труд для того, чтобы воспринимать Каштановку всего-навсего как источник доходов. Поскольку она не может сама заниматься своими людьми и своими землями, лучше уж тогда их продать. Ее крестьяне будут куда более счастливы под началом у нового хозяина, чем под холодным надзором управляющего, состоящего у нее на жалованье. Может быть, для того, чтобы все это устроить, ей следует самой поехать в Россию? Что ж, подобным путешествием ее не испугаешь! Съездит в Россию и вернется назад… Дойдя до этого места в своих размышлениях, Софи задалась вопросом о том, осуществима ли продажа при нынешнем положении дел с передачей наследства. Не существует ли каких-либо сроков, которые она обязана соблюдать по закону? Скрябин, к которому она обратилась со своими сомнениями, ее успокоил, сказав, что стоит ей только высказать желание продать поместье, и никаких препятствий к уступке собственности не появится. Однако он советовал отложить поездку в Россию до окончания празднеств по случаю коронации, которые должны были начаться 26 августа.
– Для России это событие такой важности, – объяснил он, – что сейчас вся страна занята лихорадочной подготовкой к нему. Никто, начиная от губернатора и заканчивая последним коллежским асессором, не может думать о работе. Вам пришлось бы заниматься продажей имения в далеко не лучших условиях. Так что подождите немножко, пока закончится всенародное ликование!..
Софи признала его правоту. Торопиться и впрямь некуда. Провожая до дверей, Скрябин похвалил ее за то, что она выбрала наиболее разумное решение: продать Каштановку.
– Вы ведь понимаете, что, когда нельзя быть на месте, чтобы лично заниматься сельским хозяйством, лучше совсем от этого отказаться! – сказал он. – Тем более что, насколько мне известно, ваше поместье представляет собой неплохой капитал. Так что совет вам: не идите на поводу у покупателей, держитесь вашей цены. И жду вас снова, когда вам потребуется виза. Вы получите ее через сорок восемь часов.
Пока он говорил, Софи почувствовала долетевший сюда, в коридор, из какой-то отдаленной кухни запах русского блюда: рубленое мясо с укропом, должно быть, приправленное сметаной. Мысли у нее путались. Скрябин поцеловал ей руку. Давешний секретарь был чем-то занят, и вниз по большой лестнице, до прихожей, ее провожал выездной лакей в коротких штанах и синей с золотом ливрее. Она украдкой его разглядывала. Лицо под напудренным париком с буклями было лицом сибирского крестьянина – скуластое и курносое.
Выйдя из генерального консульства, Софи почувствовала себя так, словно вернулась из долгого путешествия: все вокруг казалось немного чужим. Яркое солнце заливало резкой белизной тротуар перед ней, наряды дам переливались, словно крылья бабочек. Городской шум нахлынул на нее, но не смог отвлечь от завладевших ею мыслей. Она шла через площадь Согласия, а за ней по пятам толпой следовали все до одного каштановские мужики.
На следующее утро пришло письмо от Дарьи Филипповны, в котором говорилось примерно то же, что она уже знала.
«Я не хотела писать вам об этом до тех пор, пока дело не рассудят: опасалась попасть в неприятное положение. Теперь же, когда ваш племянник лежит в земле (упокой, Господи, его душу!), а его убийцы – на каторжных работах (отпусти им грехи их, Господи!), не могу устоять перед желанием сказать вам, насколько это нас потрясло, меня и сына. Какая чудовищная история! Знаете ли вы, что мужики стащили Сергея Владимировича наземь с коня, избили, задушили, а потом утопили в реке, кинув в прорубь? Он-то рассчитывал, что погонщики за него заступятся, а они стояли сложа руки – и они тоже в конце концов возненавидели своего барина. А ведь он им хорошо платил! Я две ночи не могла уснуть! Со времен войны в наших местах то и дело случаются беспорядки, мужики бунтуют. Даже наши, в Славянке, начали пить и чваниться! До чего печальные настали времена! Управляющий, которого вам назначили, человек очень хороший, порядочный, из немцев. Вася считает, что вы можете полностью ему доверять. Конечно, теперь, когда вы поселились в Париже, ваш каштановский дом потерял для вас всякую привлекательность! Здесь все думают, что вы продадите это прекрасное имение, и меня это очень огорчает – вы ведь знаете, нам с Васей очень приятно было ваше соседство. Иногда, когда мы с ним сумерничаем, случается заговорить об этом. Но, между нами, вы совершенно правы. Непонятно, какое будущее ожидает большие земельные владения. Сельское хозяйство почти никаких доходов не приносит, крестьяне обленились, стали дерзкими. Повсюду царит неуверенность, денег вечно не хватает. Говорят, наш новый царь – истинный ангел кротости и великодушия! – твердо намерен в ближайшие годы освободить крепостных. Это благородное намерение, и Васю оно очень тронуло. Он говорит, что для России настает заря новой эры, сбываются чаяния его друзей. Дай-то Бог! Да только я опасаюсь, что наши мужики, как только их освободят, не будут знать, куда податься, и все хозяйство в стране расстроится. „Вот и еще одна причина для меня расстаться с Каштановкой!“ – скажете вы. Да, конечно, такая уж я уродилась, вот и опять выступаю против собственных интересов. Ну, что бы вы там ни решили, я надеюсь, что вы все-таки приедете сюда на месте уладить все дела, и, если вы пробудете здесь хоть несколько дней, если мы хоть ненадолго увидимся – это смягчит огорчение, которое я испытываю при одной только мысли о том, что вскоре в вашем имении, может быть, станет хозяйничать чужой человек…»
11
Известие о том, что Софи получила наследство, мгновенно распространилось в парижских салонах. Дельфина так радовалась, словно это счастье выпало ей самой. Теперь она не расставалась с подругой детства и непременно хотела давать ей советы по любому поводу. Послушать ее, так следовало немедленно начать ремонт в особняке на улице Гренель, купить хорошую мебель, перекрасить стены, сменить занавеси и обивку, нанять слуг. Софи, едва успевшая получить из Каштановки прежние недоимки, не хотела влезать в серьезные расходы до того, как продаст имение. Ей казалось, что все эти обновления могут подождать до ее возвращения из России, да и голова у нее к тому времени будет яснее, она сможет свободнее решать, как поступать дальше. Тем не менее она все же решила заказать себе несколько платьев, правда, речь шла о дорожной одежде, а не о вечерних нарядах. Дельфина, неизменно присутствовавшая на всех примерках, как-то заметила, когда Софи стояла перед большим зеркалом в своей комнате, безраздельно отдавшись во власть ощетинившейся булавками портнихи:
– Напрасно вы откладываете на завтра обновление своего дома. Работы такого рода всегда затягиваются надолго, но и ваш дом, и вы сами непременно должны быть готовы к началу зимнего сезона!
– Ничего страшного не произойдет, если я на несколько месяцев запоздаю! – ответила Софи.
– Произойдет, дорогая моя! – возразила Дельфина. – Вы больше не можете позволить себе отставать от светской жизни!
– Да что вы, – воскликнула Софи, – будет вам! Я живу вдали от всего, я никому не интересна!..
– А вот тут вы ошибаетесь! Времена изменились! И ваше положение обещает сделаться совершенно исключительным…
Поскольку Софи никак на это заманчивое обещание не отозвалась, Дельфина присунулась лицом к ней поближе и продолжала, понизив голос, с таинственным видом:
– Ваши связи с Россией, с одной стороны, и с Францией – с другой, совершенно естественно предназначают вас для роли посредника между этими двумя мирами. Княгиня Ливен стара. Она уже никого не принимает. Ее уже никто не слушает. Вы вполне можете занять ее место!
Софи искренне расхохоталась:
– Вы шутите! У меня нет ни способности, ни желания этим заниматься!
– Что касается способности – вы себя недооцениваете! А что касается желания – оно понемногу пробудится! Разве вам не хотелось бы воздействовать на мнение ваших соотечественников в том, что касается отношений с Россией?
Софи только плечами пожала; портниха, в это время на коленях ползавшая по ковру вокруг нее, взмолилась: она не может работать в таких условиях. Дельфина на мгновение отвлеклась, заметила, что верх рукава выходит слишком плоским, затем, снова взявшись за свое, воскликнула, трепеща ресницами:
– Ах, Софи, как мне хотелось бы вас убедить! Вы не можете после всего, что вам довелось пережить, не интересоваться общественной жизнью! Я недавно беседовала на эту тему с мадам д’Агу. Она придерживается совершенно тех же взглядов, и вот она считает…
Дельфина еще долго говорила, подробно расхваливая заслуги светской дамы, у которой выдающиеся мужи ищут вдохновения, покуривая сигару и попивая пунш. Разве может Софи найти лучшее применение своему богатству, чем посвятив себя созданию в самом сердце Парижа интеллектуального франко-русского очага?
– Прошу вас, повернитесь, сударыня, – вмешалась портниха. – Теперь рукав вас устраивает?
Софи развернулась на каблуках. В большом наклонном зеркале отразилась немолодая дама с темными волосами, в которых поблескивали серебряные нити, с выпуклым лбом, четко обрисованными бровями, живым взглядом черных глаз, тонким орлиным носом, узким, резко очерченным подбородком, решительно сжатым и вместе с тем женственным ртом. Темно-лиловое платье, наметанное крупными белыми стежками, плотно облегало грудь и пышно расходилось книзу.
– Да, все очень хорошо, – сказала она.
И подумала: «А в самом деле, отчего бы не занять подобающее место в парижском обществе? Почему бы не попытаться объяснить французам, что такое Россия? Денег, которые я получу от продажи Каштановки, мне вполне хватит на то, чтобы устраивать большие приемы. Я заставлю к себе прислушаться. От меня наконец-то будет хоть какая-то польза!» Но тут, словно споткнувшись, резко оборвала свои рассуждения. Снова с разбегу наткнулась, как на осязаемое препятствие, на мысль о том, что надо продать Каштановку. Уступить чужим людям эту полную воспоминаний землю, торговаться о цене мужиков: столько-то за голову, будто это скот, – достанет ли у нее на это сил? «Тем не менее придется через все это пройти, – сказала она себе. – Со смертью Сережи ничего не изменилось. Мне нечего больше делать в этой стране, с этими крепостными. Они меня не любят, они мне это доказали. А я уже не чувствую в себе сил заниматься ими, как прежде, независимо от того, освободят их или нет. Слишком поздно пала преграда. Нельзя разогреть угасшую страсть. Если бы мой сын остался жить, мне было бы кому оставить это имение в наследство. А так – что ждет Каштановку, когда меня не станет? Некому прийти мне на смену. Как это страшно! Ах, скорее, скорее бы все это закончилось, чтобы мне больше никогда не слышать о Каштановке!» Она наклонилась к Дельфине, наблюдавшей за ней из глубины своего кресла, и тихонько проговорила:
– Вы смотрите далеко вперед! Но может быть, вы и правы! Мне хотелось бы здесь, во Франции, служить сближению двух народов, хорошо мне знакомых! Особенно теперь, после такой кровавой войны! Мы еще поговорим об этом после моего возвращения из поездки…
Дельфина вскочила и схватила ее за руки, вскричав:
– Я так рада видеть вас снова такой, решительной и здравомыслящей, полной веры в будущее! Это платье удивительно вам идет!
Лицо портнихи просияло: наконец-то заговорили на понятном ей языке! Она предложила добавить внизу оборку – совсем, совсем легкую! И между тремя женщинами завязался оживленный разговор.
* * *
Лихорадочное возбуждение, охватившее Россию в ожидании празднеств по случаю коронации, казалось, мало-помалу, распространилось и на Францию. Парижские газеты с удовольствием рассказывали о приготовлениях к этим удивительным дням, о том, как роскошно убрана Москва, о предполагаемом составе процессии, объясняли смысл некоторых православных обрядов. Те же самые газетчики, которые совсем недавно призывали к беспощадной войне с варварами, теперь умилялись живописности нравов этого великого народа и взахлеб расхваливали благородные качества Александра II. Граф де Морни должен был лично возглавить французскую делегацию. Говорили, что в Санкт-Петербурге весьма и весьма прочувствовали оказанную честь.
На следующий день после коронования Софи прочитала во «Всемирном вестнике» сообщение, которое глубоко ее тронуло. Среди положений манифеста, обнародованного новым царем по случаю его восшествия на престол, корреспондент газеты отметил следующее: «Полное помилование 31 заговорщика 1825 года – тех, кто еще оставался в сибирской ссылке». Таким образом, наказание декабристов наконец закончилось! После тридцати лет каторжных работ и ссылки они получат право вернуться в те места, где протекла их счастливая юность. Софи несколько раз перечла строки, набранные мелким шрифтом, и ее глаза наполнились слезами при воспоминании о друзьях.
Вскоре после этого она получила письмо от Маши Францевой, в котором известие подтверждалось:
«Мы здесь, в Сибири, еще ничего не знали. Но Миша, сын Волконских, был в Москве во время коронации. Именно ему император, проявив душевную тонкость, поручил передать декабристам весть о помиловании. Он сорвался с места, словно обезумев, и проделал весь длинный путь всего-навсего за две недели. Добравшись до дома отца, Миша едва стоял на ногах и от усталости потерял голос. Можете себе представить радость наших друзей! Радость, которая, впрочем, очень скоро омрачилась печалью. В их преклонные годы нелегко менять привычки. И вот теперь они готовятся покинуть знакомые им края ради неведомой родины – неохотно!.. Впрочем, им запрещено жить в Москве и Санкт-Петербурге. В газетах пишут о помиловании 31 изгнанника, однако на деле их осталось всего 19. Те, у кого есть дети, радуются, думая о семье, тому, что им возвращены честь и свобода. Однако все прочие, скажу вам по секрету, охотно обошлись бы без этого запоздалого проявления царского милосердия. Они чувствуют себя нравственно обязанными принять оказанную им милость и плачут, когда я говорю с ними об отъезде. Мне и самой тоже очень грустно. Что со мной станется, когда все они будут далеко?.. Более недавние и более трагические события уже отодвинули их историю на второй план. После Крымской войны и ее жестоких последствий прошлое, которым мы так дорожим, отодвинулось на целый век! Как-то вы прожили эти страшные годы? Какие чувства питают к нам сегодня французы?..»
Софи со всею пылкостью отозвалась на это послание. Написала она и Полине Анненковой, и Марии Волконской, поздравляя их со скорым возвращением в Россию. Перед тем, как запечатать последний конверт, она вдруг задумалась, уронив руки и устремив взгляд куда-то вдаль. Лампа под стеклянным колпаком освещала доску секретера. За темными окнами завывал осенний ветер. Софи подсчитала, что до отъезда осталось девять дней. На этот раз она решила ехать другим путем. По железной дороге она через Кельн и Берлин доберется от Парижа до Штеттина, а в Штеттине сядет на пароход, идущий в Санкт-Петербург. По словам людей знающих, этот путь был самым удобным и разумным. На то, чтобы уладить в Пскове свои дела, ей потребуется не больше месяца. И какую же легкость она почувствует, избавившись от Каштановки! Софи вновь принялась обдумывать перемены, которые решила произвести в своем доме на улице Гренель. Рядом с большой, обставленной по-старинному гостиной она устроит будуар в современном вкусе, со стегаными креслами, настенным фарфоровым фонтаном, диваном, подушками с помпонами, тяжелыми занавесями с бахромой… Она уже выбрала цвета, которые будут преобладать в отделке: розовый и жемчужно-серый. Говорят, это любимые цвета императрицы… Но не будет ли это выглядеть безвкусно? Мелкие заботы вихрем кружились в голове Софи. Внезапно она представила себе, как принимает здесь, в своем парижском доме, Фонвизиных, Анненковых, Волконских, всех своих сибирских друзей. Они печально глядели на нее и ее не понимали. Ей вспомнилась фраза из Библии, которую в прежние времена иные декабристы охотно цитировали: «Свет праведных весело горит; светильник же нечестивых угасает».[40] Светильник нечестивых угас со смертью царя. Но где же веселье праведных? Они слишком стары для того, чтобы возвеселиться; они все потеряли из-за идеи, и другие, после них, тоже потеряют все – и напрасно, напрасно! Воздух полон умершими великими мечтами, неудавшимися благородными замыслами. Но, может быть, это упорное желание изменить облик мира и есть неотъемлемый признак человека в исполинской фантасмагории, где каждое следующее поколение перечеркивает, забывает предшествующее и все всегда надо начинать заново? Может быть, потребность воспылать страстью пересиливает потребность быть счастливым? Может быть, загубленной бывает лишь та жизнь, которую проживают с осторожностью? Никто не имеет права жаловаться, пока видит перед собой открытый путь. Усилие, независимо от того, увенчается ли оно успехом, вознаграждает того, кто его совершает. И, если это действительно так, кто может утверждать, будто декабристы сражались напрасно, будто Николаю жизнь не удалась? Взволнованная всеми этими противоречивыми мыслями, Софи встала, выдвинула ящик комода, вытащила оттуда старые письма, медальон с портретом, и в ее душе ожили нежные воспоминания.
…В гостиную входит молодой офицер вражеской армии. Высокий, светловолосый, на загорелом лице сверкают белые зубы. Смотрит на нее почтительно, восторженно. От тех прекрасных лет осталось так мало – тающий след наподобие того, что прочерчивает в небе брошенный мальчишкой камень. Софи прижала руки к груди. Где-то под ветром захлопали ставни. И ей вспомнились иные ночи в Каштановке, яростный шум деревьев вокруг дома, черные ели под снегом вдоль аллеи, бубенцы тройки вдали… Радостные голоса кричат: «Барыня! Барыня! Кто-то едет!..» Давным-давно никто ее не называет барыней.
В дверь постучали. Явилась Валентина – улыбающаяся, с чашкой бульона на подносе. Софи знаком ее подозвала. Все в ее жизни теперь так покойно, безмятежно! Неужели и впрямь битвам настал конец?
* * *
Как ни отговаривала Софи Дельфину, та пожелала непременно проводить подругу до Северного вокзала. Прибыв за три четверти часа до отхода поезда, дамы устроились в зале ожидания для пассажиров первых классов и теперь молча сидели бок о бок, выпрямившись, раскинув широкие юбки. Вечерело. От нескольких высоко подвешенных ламп падал белый газовый свет. Дверь поминутно распахивалась, впуская все новых путешественников. Господа в высоких черных цилиндрах, дамы, закутанные в пыльники, принаряженные дети, грумы в сапогах с отворотами и фуражках с галунами, волокущие портпледы и корзины с провизией на всю семью. Разместив свой выводок на скамейках, мужчины собирались кучками, чтобы спокойно покурить и поболтать у двух монументальных каминов, придававших залу ожидания вид ренессансного замка. Повсюду, куда ни глянь, кованое железо, резное дерево и искусственный мрамор. За стеклянной стеной двигались яростно пыхтевшие, окутанные паром поезда. Пол дрожал, словно на мельнице. Каждый раз, как слышался свисток, женщины испуганно вздрагивали. Дельфина держала у лица платочек – очень уж сильный здесь стоял запах угля. Когда ждать оставалось всего-навсего двадцать пять минут, она снова взялась повторять Софи советы, продиктованные дружескими чувствами и жизненным опытом.
Железнодорожный служащий, подойдя к ним, сказал, что пора идти в вагон. Дамы вышли и смешались с толпой на платформе. Здесь уже не оставалось никакого различия между классами. Головы ошалело поворачивались все разом в одну сторону, как катятся яблоки из опрокинутой корзины. При свете газовых рожков Софи разглядела цепочку вагонов, у которых рабочие проверяли колеса, дымящий локомотив. Кто-то прокричал в громкоговоритель:
– Пассажиры на Кельн, Берлин, Штеттин!..
По наклонной стеклянной крыше стекали струи дождя. Порыв ветра ударил в лицо обеим женщинам. Впереди шел носильщик с вещами. Он помог Софи войти в вагон. Кринолин мешал ей, она с трудом влезла на подножку. Добравшись до купе, тотчас выглянула наружу. Дельфина стояла на перроне, пряча руки в меховую муфту. Ее напудренное, высохшее, как у мумии, лицо выглядывало из капора, сплошь покрытого сиреневыми и лимонными бантами. Она выглядела столетней старухой!
– Обещайте мне, что очень скоро вернетесь, – попросила она.
– Ну, конечно!
– Вы ведь знаете, что двадцать пятого ноября я устраиваю музыкальный вечер!
– Я не позволю себе об этом забыть!
– Значит, до скорой встречи!
– До скорой встречи!..
Они улыбались друг другу, тихонько поводили из стороны в сторону затянутыми в перчатки руками, однако поезд все медлил у перрона, никак не отходил. Минутная стрелка медленно ползла по циферблату часов, висевших над западной стороной прохода. Наконец раздался пронзительный свисток. Вагоны дрогнули, качнулись, стукнулись, увлекаемые слепой силой. Перед Софи медленно поплыли незнакомые лица. Она поискала глазами Дельфину, которая уже удалялась, уменьшалась, взмахивая крошечным платочком. Вокруг кричали:
– До свиданья! До свиданья! Счастливого пути! До скорой встречи!
– До скорой встречи! – в последний раз крикнула и Софи.
Но в глубине души она уже знала, что ей не хватит мужества продать своих крестьян и что она до конца своих дней будет жить в Каштановке.
Примечания
1
Гудсон Лоу– губернатор острова Святой Елены, которому долгое время приписывали исключительную ненависть к сосланному туда Наполеону. (Примеч. перев.)
(обратно)2
Господарь – титул правителей Дунайских княжеств Молдовы и Валахии XIV–XIX веков, употребляемый в молдавских документах, написанных на русском языке в XVIII–XIX веках, а также в русской исторической литературе. (Примеч. перев.)
(обратно)3
Паша, по Брокгаузу и Ефрону, – титул высших чиновников и генералов в Турции, сераскир, – начальник действующих войск. (Примеч. перев.)
(обратно)4
Псалтырь: 46,9. (Примеч. перев.)
(обратно)5
Псалтырь: 33: 2,5, 5.
(обратно)6
Сажень (русская мера длины) равнялась трем аршинам, или семи футам, а если в метрической системе, то 2,1336 метра.
(обратно)7
Лавинский, Александр Степанович (1776–1844) – восточносибирский генерал-губернатор с 1822 по 1833 г. Освобожден от должности с назначением в Государственный совет. (Примеч. перев.)
(обратно)8
Король Карл Х в августе 1829 г. распустил сравнительно либеральный кабинет, поставив во главе нового, консервативного князя Полиньяка.
(обратно)9
Луи-Филипп – французский король в 1830–1848 гг. Из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов. Во время Великой французской революции вслед за своим отцом – герцогом Филиппом Орлеанским отрекся от титула герцога Шартрского и принял фамилию Эгалите (равенство). В 1792 г. в составе французских революционных войск участвовал в победоносных сражениях с 1-й антифранцузской коалицией при Вальми и Жемаппе.
(обратно)10
Делать на караул (воен. устар.) – отдавать честь ружьем (особый воинский ружейный прием). (Примеч. перев.)
(обратно)11
Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер дю Мотье маркиз де Лафайет (1757–1834) – французский политический деятель, в период Великой французской революции – лидер конституционалистов. Именно его проект был положен Учредительным собранием в основу «Декларации прав человека и гражданина». (Примеч. перев.)
(обратно)12
Вот первые впечатления о тюрьме многократно поминаемой в романе Александрины Муравьевой (из письма отцу от 1 октября 1830 года): «Мы в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых, здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью, за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты». (Примеч. перев.)
(обратно)13
Из рапорта С.Р. Лепарского государю: «Находя теперь по размещении их в Петровском Заводе во вновь построенной полуказарме комнаты столь темными, что даже в ясные дни не только невозможно заниматься каким ни есть рукоделием, но и чтением книг, что было им в Читинском остроге мною предоставлено; а ныне с новым перемещением как они всего того лишены, то я опасаюсь худших последствий для их здоровья, и особенно для тех, которые, получив от природы меланхолическое расположение, быв больше в своем положении стесненными, могут подвергнуться от всегдашней в комнатах темноты не только гипохондрическим болезням, но иногда и лишению ума». Далее Лепарский спрашивает: «Не дозволено ли мне будет в предупреждение сказанных случаев приказать сделать с наружной стены по одному окошку на каждую комнату?» Рапорт Лепарского рассмотрели 19 ноября 1830 года и решили внести изменения… Летом 1831 года завершили строительные работы, штукатурку комнат, прорубили небольшие окна, тюрьму снаружи обшили тесом. По словам декабриста Якушкина, в тюрьме стало несравненно лучше прежнего. (Из газеты «Забайкальский рабочий» № 112 от 8 июня 2006 г.) (Примеч. перев.)
(обратно)14
Бланджини, или Бланжини, Джузеппе Марко Мария Феличе (1781–1841) – французский композитор и преподаватель пения, по происхождению итальянец. (Примеч. перев.)
(обратно)15
Дибич-Забалканский, Иван Иванович (1785–1831) – русский военный деятель, генерал-фельдмаршал. Вызванный царем из Берлина, Дибич обещал подавить восстание одним ударом; но обещание это осталось неисполненным, несмотря на то что случай к тому представился после сражения под Гроховом. Кампания затянулась на 7 месяцев. После разгрома поляков при Остролеаке оставалось только взятием Варшавы окончить войну, но в ночь на 29 мая в с. Клешеве, близ Пултуска, фельдмаршал скончался от холеры. (Примеч. перев.)
(обратно)16
Паскевич, Иван Федорович (1782–1856) – русский военный деятель. Участвовал в Русско-турецкой войне 1806–1812 годов, которую завершил в чине генерал-майора с золотой саблей за храбрость, орденом Св. Георгия 4-й степени, в ходе военных действий получил пулевое ранение в голову, но в условиях вторжения Наполеона продолжил службу. Во время Отечественной войны и заграничных походов был участником важнейших сражений, проявил храбрость (при Бородине под ним убили двух лошадей), трудоспособность и ревность к службе, командовал дивизией при взятии Парижа. В 1817—1821годах состоял при великом князе Михаиле Павловиче и командовал пехотной дивизией, где проходил военную практику Николай I, называвший Паскевича «отцом-командиром». В 1825-м произведен в генерал-адъютанты, назначен членом Верховного суда по делу декабристов, а в 1826-м был отправлен на Кавказ командовать войсками вместе с А.П.Ермоловым. (Примеч. перев.)
(обратно)17
Любопытно, что в Петровском Заводе местные жители называли улицу, где выстроили себе дома жены декабристов, не Дамской, как было в Чите, а Барской или Княжеской. См.: Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М., Мысль, 1988.
(обратно)18
В России того времени существовали крепостные помещичьи и государственные (приписанные к казне). Государственные крепостные платили подушную подать, отбывали натуральную земскую и рекрутскую повинности, не могли никуда уехать, т. к. были прикреплены к определенному месту общинной круговой порукой и паспортной системой. Некоторые государственные крепостные были приписаны к лесному ведомству, другие – к адмиралтейству, часть – к казенным и частным заводам.
(обратно)19
Нет слаще парижского поцелуя! (фр.)
(обратно)20
Хамар-Дабан (в переводе с бурятского хребет-нос, ореховый перевал) – это название горной страны у Байкала, а Мертвый Култук, кстати, название залива Каспийского мора на территории Казахстана… (Примеч. перев.)
(обратно)21
Заменила книгу некоего Сафронова без инициалов с примерно тем же названием этой книгой, ибо занимавшихся декабристами Сафроновых, Софроновых, Сафоновых и пр. вагон и маленькая тележка, но именно такой работы нет ни у одного.
(обратно)22
Бедный дровосек, заваленный срезанными ветками… (фр.)
(обратно)23
Кончина исцелит от всего, /Но мы не будем спешить:/Лучше страдать, чем умереть,/Вот девиз человека (фр.).
(обратно)24
Редуте, Пьер-Жозеф (1759–1840) – бельгийский акварелист и гравер, прозванный «Цветочным Рафаэлем». (Примеч. перев.)
(обратно)25
Имеется в виду Жак-Анж Габриэль (1698–1782), наиболее известный представитель династии архитекторов; помимо переустройства площади Согласия (бывшая площадь Людовика XV), прославился строительством Оперы и Малого Трианона в Версале, Военной школы в Париже. (Примеч. перев.)
(обратно)26
Ролан, Манон (1754–1793) – жена французского политического деятеля Жана-Мари Ролана де ла Платьер, женщина большого ума и весьма образованная, увлекалась литературой и искусствами, по убеждениям – непоколебимая республиканка. Держала в Париже знаменитый салон, который посещали главным образом жирондисты. Ненависть монтаньяров отправила ее на эшафот, куда она взошла, произнеся перед смертью знаменитую фразу: «О Свобода! Сколько преступлений совершается слугами во имя твое». Оставила интересные мемуары. (Примеч. перев.; по материалам словаря Larousse.)
(обратно)27
2 декабря 1853 года Луи-Наполеон был провозглашен французским императором. (Примеч. перев.)
(обратно)28
Герцен А.И. Полн. собр. соч. и писем / Под ред. Лемке Б. М., 1919. Т. 4. С. 445–450.
(обратно)29
Робер Макер – беглый каторжник, персонаж мелодрамы «Постоялый двор Адре» Антье, Сент-Амана и Полианта (1823). В 1834 г. Фредерик Леметр, игравший эту роль, воплотил новый вариант образа Робера Макера – крупного бандита и афериста в одноименной комедии, написанной им в соавторстве с Сент-Аманом, Оверне, Антье и Алуа. Робером Макером, натянувшим на себя корону, назвал Луи-Наполеона Виктор Гюго. (Примеч. перев.)
(обратно)30
До 1870 года Имперским театральным цирком назывался театр Шатле. Его спектакли стали уже не совсем цирковыми, но еще не превратились в полностью театральные. Это были массовые представления с участием «более или менее дрессированных лошадей, слонов и прочих животных». (Примеч. перев., по материалам сайта «Галопом по Европам».)
(обратно)31
В 1830 г. началась французская колонизация Алжира. Лучшие земли страны стали заселять европейские колонисты. В 1848 году Алжир был объявлен территорией Франции, разделен на департаменты, во главе которых стояли префекты, высшей властью в стране наделили французского генерал-губернатора. (Примеч. перев.)
(обратно)32
То же, что фаворит; миньонами называли фаворитов короля Генриха III. (Примеч. перев.)
(обратно)33
Киселев, Николай Дмитриевич (1800–1869) – дипломат. С 1844 по 1854 г. был сначала посланником, а затем полномочным послом в Париже. Натянутые отношения перед Восточной войной заставили его выехать из Франции. В 1856–1864 гг. он был послом при папском дворе, а с 1864 г. до самой смерти – при короле Италии. (Примеч. перев.; по материалам сайта «Русский князь».)
(обратно)34
Обычай был действительно северным: традиция украшать рождественскую елку пришла из Германии и скандинавских стран. Вот только в России этот обычай начал распространяться повсеместно как раз тогда, когда Софи оттуда уехала: в середине XIX века – сначала в Петербурге, затем в провинции. Софи, которая провела много лет в далекой ссылке, вряд ли могла вспоминать силуэт елки за каждым окном. (Примеч. перев.)
(обратно)35
Дюпанлу, Феликс Антон (1802–1878) – французский проповедник и писатель, профессор Сорбонны, директор парижской семинарии св. Николая; с 1849 г. – епископ Орлеанский (позже – архиепископ); член Французской академии, усердный сотрудник клерикальных газет; один из главных авторов закона 1850 г. о народном образовании. Был противником светского и обязательного начального обучения, распространения светских женских среднеучебных заведений. (Примеч. перев.)
(обратно)36
Винтерхальтер, Франц Ксавер (1805 или 1806–1873) – немецкий живописец, придворный художник императорской четы. (Примеч. перев.)
(обратно)37
Сансон, Жозеф Исидор (1793–1871) – актер театров Одеон и Комеди Франсез, с 1843 г. – пайщик Комеди Франсез (Французского Театра). (Примеч. перев.)
(обратно)38
Казимир (фр. сasimir) – вышедший из употребления сорт полушерстяной ткани. (Примеч. перев.)
(обратно)39
Жозеф Бара (1779–1893) – мальчик, прославившийся своим героизмом. Когда, сражаясь в республиканской армии под началом генерала Демарра, он попал в засаду и его заставляли крикнуть: «Да здравствует король!», он закричал: «Да здравствует Республика!» – и упал, сраженный пулями. Конвент объявил, что бюст героического мальчика поместят в Пантеон, а гравюра, прославляющая его подвиг, будет разослана во все начальные школы. (Примеч. перев.)
(обратно)40
Притчи, 12, 9.
(обратно)



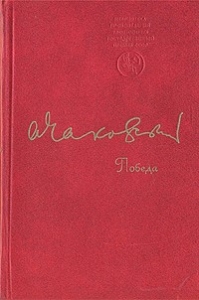

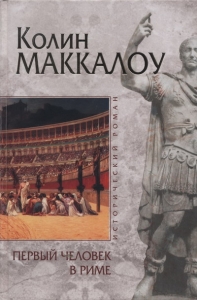
Комментарии к книге «Свет праведных. Том 2. Декабристки», Анри Труайя
Всего 0 комментариев