Анри Труайя Павел Первый
I. Сирота при живых родителях
Во время последних месяцев своей беременности великая княгиня Екатерина, как и любая женщина в этом положении, затревожилась о том, как пройдут предстоящие роды ребенка, которого она вынашивала в своей утробе, и все чаще задумывалась об уготованной ему судьбе. Однако к этим вполне естественным опасениям прибавлялись и другие, проистекавшие из ситуации, которая сложилась при российском дворе. К тому времени Екатерине исполнилось двадцать пять лет. В шестнадцатилетнем возрасте она вышла замуж за еще молодого и малопривлекательного человека – великого князя Петра, племянника императрицы Елизаветы, объявленного наследником Российского трона. На протяжении целых шести лет, находясь рядом с этим грубым мужланом, одержимым болезненным преклонением перед Пруссией и к тому же неполноценным мужчиной, она оставалась девственницей. Претерпевая смены его настроения, грубость и оскорбления, она, доведенная до полного отчаяния подобным обращением, нашла вскоре утешение в объятиях своего первого любовника – удачливого и вездесущего камергера, графа Сергея Салтыкова. Но, едва испытав сладостное чувство, она была вынуждена отдаваться мужу, который наконец-то избавился от своей сексуальной беспомощности: для этого он согласился, послушавшись уговоров своих близких, подвергнуться небольшой хирургической операции. Незначительное вмешательство хирургического скальпеля избавило его от легкого физического недуга, препятствовавшего осуществлению сексуальных потребностей, и позволило ему открыть для себя радость плотской любви. Несмотря на испытываемое к мужу отвращение, Екатерина все же вынуждена была принимать его в своей постели. Не отказывала она, насколько это было возможно, и красавцу Сергею. При соблюдении внешних приличий подобная ситуация могла продолжаться бесконечно. Но только теперь, забеременев, ей хотелось знать, кто же отец ребенка: великий князь Петр или Салтыков? В сущности, ей это было неважно! Главное, рассуждала она, чтобы ребенок родился живым и здоровым и чтобы он был наделен правом на престолонаследие. Гораздо позже, когда Екатерина напишет свои «Воспоминания», она оставит повод для некоторых сомнений насчет происхождения своего отпрыска, но в то время она, не поведя бровью, утверждала, что вынашивала в своей утробе подлинного наследника российской короны. За стенами дворца вся нация едва ли не с мистическим трепетом ожидала, когда она произведет на свет будущего повелителя империи. Зная об этом, Екатерина испытывала одновременно и воодушевление, и трепет, поскольку осознавала свою ответственность перед всеми этими людьми, для которых она оставалась пока лишь обрусевшей иностранкой. Мелкопоместная немецкая принцесса, родившаяся в Штеттине в 1729 году, с осознанным энтузиазмом и благоволением отнеслась к тому, чтобы отправиться в страну, о которой ей рассказывали как о варварской. Ехала же она с единственным намерением – в один прекрасный день добиться высокого положения, о котором мечтала в свои еще совсем юные годы. С похвальным усердием она принялась изучать русский язык, приобщаться к обычаям и нравам своей новой родины. Урожденная принцесса Фредерика София Августа Ангальт-Цербстская воспитывалась в духе лютеранских религиозных традиций. В России она приняла православие и была наречена Екатериной Алексеевной. Истинно женственное изящество ее манер скрывало неукротимую волю и сластолюбие, которые, сливаясь в ее сознании, внутренне побуждали ее к активному действию и проявлению повышенного интереса к культуре, в особенности французской. Но в данный момент она не испытывала ничего, кроме очень болезненных ощущений, доставляемых ей младенцем, который шевелился в утробе и требовал выхода.
Наконец 20 сентября 1754 года в девять часов утра, после долгих родовых мук, вынесенных в присутствии императрицы Елизаветы, великого князя Петра и нескольких близких придворных, Екатерина произвела на свет нормально сложенного и оглушительно орущего мальчика. Теперь благодаря ей династия Романовых была продолжена. Ничего другого от нее и не требовалось. Две сотни орудийных залпов раздались с крепостных стен, извещая о благой вести в царской семье. Вельможные сановники во дворцах, так же как и мужики в избах, благодарили Бога за то, что он милостиво отнесся к чаяниям нации.
Исполнив, таким образом, предназначенную ей роль, Екатерина была убеждена, что вторая часть ее миссии заключается в проявлении заботы о здоровье и воспитании своего сына. Однако у императрицы на сей счет были свои соображения. По ее мнению, имевшему силу закона, Екатерина являлась не кем иным, как только детородной утробой. Поскольку на сей раз ее задача была выполнена, то теперь она должна была посторониться, а еще лучше по возможности совсем исчезнуть из виду. Новорожденный принадлежал всей России и, следовательно, ей, императрице, которая, со своей стороны, сделала все, чтобы планы по его появлению на свет стали реальностью. Как только волнения, связанные с рождением наследника трона, благополучно завершились, императрица забрала новорожденного, крещенного с именем Павел, у родителей и приказала няньке отнести его в свои личные покои, где полдюжины тщательно отобранных кормилиц принялись ухаживать за ним. Это были самые простые крестьянки, но их невежество восполнялось их самоотверженностью и слепой готовностью служить и любить. Екатерина, оставленная после родов в одиночестве, изможденная, потная, с лицом, залитым слезами, всеми остатками сил старалась совладать со своей печалью и гневом. И в то время как ее муж бурно отмечал произошедшее событие, напившись до бесчувствия со своими верными собутыльниками, она трезво размышляла о своем непростом положении, осознавая, что попала в общество, где царит мир парадности, традиций, жестокости и лжи. Неужели царица поступает так оттого, размышляла она, что ревнует ее, молодую супругу, к своему племяннику, а может быть, она просто не доверяет ей воспитывать ребенка, которому уготована историческая судьба, из-за ее распутной репутации? Как долго еще Ее Величество будет противиться проявлению необходимых им обоим нежных отношений между матерью и сыном? Елизавете, вероятно, очень бы хотелось оставить их друг для друга чужими, не испытывающими близких родственных чувств.
С сентября 1754 года и до весны 1755 года Екатерине всего лишь три раза было милостиво дозволено повидаться накоротке с маленьким Павлом, но даже эти встречи происходили при личном присутствии Ее Величества.
Императрица, строго-настрого запретившая допускать великую княгиню к мальчику, сама, тем не менее, была постоянно занята, и ей было вовсе недосуг заниматься с маленьким ребенком. Политические хлопоты и развратные утехи отнимали все ее время, и поэтому она предоставила все дела, связанные с заботой о малыше, довольно многочисленной когорте всевозможных нянек и кормилиц. Оберегая его от малейшего сквозняка, эти женщины укутывали его теплыми одеялами и никогда не проветривали комнату. Однажды тайком навестив ребенка, который лежал в своей кроватке, Екатерина, не выдержав, накричала на них, а в своих «Воспоминаниях» писала: «Его держали в неимоверно душной комнате, укутанного во фланелевые пеленки, в колыбельке, обложенной мехом чернобурой лисы; при этом покрыт он был атласным ватным одеялом, а поверх – другое одеяло, розового бархата, на меху тех же чернобурок. Таким я видела его неоднократно, лицо и все тело его были залиты потом, отчего, когда он подрос, малейший ветерок вызывал переохлаждение и заболевание»[1].
В детстве Павел из-за слабого здоровья был склонен к насморку, расстройству пищеварения, ко всякого рода галлюцинациям и нервным припадкам. При малейшем подозрительном шуме он вздрагивал и прятался за мебель или под одеялом в кровати. Чтобы хоть как-то его отвлечь, прислуга, приставленная к нему, целыми днями рассказывала ему сказки про невероятные приключения леших и колдуний. Общаясь с простыми людьми, приставленными заботиться о нем, Павел познавал через них все народные суеверия. Вскоре и черти, и гномы, и колдуны, и домовые не были для него чем-то необычным. Повсюду ему мерещились угрозы и опасность. Появление в его комнате императрицы вызывало у него ничем не изъяснимый страх, доводивший прислугу до полуобморочного состояния. Маленький Павел принимал ее за посланницу потустороннего мира. Ему казалось, что если она пришла к нему, то не иначе как для того, чтобы сообщить ему неприятную новость. Даже в домочадцах, которые были приставлены для ухода за ним непосредственно Ее Величеством, он видел людей, имеющих по отношению к нему пагубные намерения. Однажды, когда одна из служанок императрицы, придя его навестить, захлопнула за собой дверь, его охватил такой панический страх, что он спрятался за стол, ухватился за ножку мебели и, трепеща, скрежетал зубами от испуга.
Осведомленная об этой слабости его характера, императрица Елизавета решила отказаться от кормилиц, от которых, при всей их старательности, в этой ситуации было несравненно больше вреда, чем пользы. Она поручила воспитание Павла более ученому наставнику. Изначально она назначила на эту роль Федора Бехтеева, который прежде выполнял поручения при Версальском дворе и в этом качестве прослыл человеком остроумным и обладающим великосветскими манерами. Разумеется, что с Екатериной никто по этому вопросу не собирался советоваться, и она не могла иметь права выбирать того, кто бы мог заниматься воспитанием ее сына. Крайне униженная и безмерно опечаленная, она также отлично понимала, что ее любовник Сергей Салтыков отныне будет скомпрометирован и что при дворе ему уже не будет места. Под благовидным предлогом его отправляют вскоре в Стокгольм – для официального уведомления короля Швеции о рождении наследника Российского трона мужского пола. В эту почетную ссылку последуют и другие опальные лица, от которых необходимо было окончательно отделаться. Мужественно пережив свои душевные страдания в связи с расставанием с Салтыковым, Екатерина вскоре была готова предаться новым романтическим приключениям. Ее алкоголик-муж, не проявлявший к ней более никакого мужского интереса, все больше ненавидел и унижал ее. Он не давал ей возможности даже со вкусом одеваться и был совершенно безразличен к своему сыну. К ее великому прискорбию, она, со своей стороны, совсем не допускалась к воспитанию и интеллектуальному развитию маленького Павла. Мальчик рос и развивался вдали от нее, запертый в золотую клетку, главным тюремным смотрителем которой являлась императрица и самодержица Всероссийская, в то время как сама Екатерина была только сторонней наблюдательницей, не имевшей никаких прав вмешиваться в происходящее.
По прошествии некоторого времени императрица Елизавета, впрочем, приходит к мысли, что ее подопечный заслуживает более благородного наставника, чем Федор Бехтеев. Она назначает на этот ответственный пост другого бывшего дипломата, человека высокого полета, с неоспоримыми способностями и испытанной преданностью. Современник энциклопедистов, любитель литературы и философии, Никита Панин слывет в культурных кругах санкт-петербургского общества «русским вольтерьянцем». Едва назначенный на свою должность, он тут же принимается за реорганизацию апартаментов юного великого князя. По его указанию для ухода за ребенком были приставлены шесть лакеев. Они стараются выполнять все капризы мальчика, развлекают его, но так, чтобы он не уставал, катают его в детской карете по отведенным ему покоям. Между этими разъездами, которые сопровождались бурными криками малыша, Его Высочество милостиво соглашался осваивать орфографию, счет и пополнять элементарный словарный запас русского, французского и немецкого языков, а кроме того, проявляя мужской атавизм, выказывал интерес к овладению оружием. Между тем чтение Евангелия и заучивание молитв почему-то вызывали у мальчика непонятное проявление сентиментальных чувств. Во время молитвы по его лицу всегда стекали слезы. Его окружение было обеспокоено проявлением подобной необычной эмоциональности. Он мог спокойно издеваться над кошкой или собакой, но в то же время расчувствоваться по поводу жалкой участи домашних животных. В сознании его совершенно не было разграничения между милосердием и жестокостью, между хорошим или плохим поступком. Одно дополнялось другим, или, скорее всего, и из того и из другого одинаково извлекалась выгода. Ничего нет более приятного, утверждал он, чем утешать того, кто только что ранен, или, наоборот, издеваться над беззащитным. Гораздо позже, рассказывая о нем, писатель Николай Греч отметит в своих «Воспоминаниях» эту странную черту характера Павла и процитирует профессора Эпинуса, одного из воспитателей великого князя: «Голова у него умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке. Порвется эта ниточка; машинка завернется, и тут конец уму и рассудку».
Год от года эмоциональная неуравновешенность Павла принимала все более обостренный характер. Великий князь, цесаревич Петр запутался в клубке семейной неприязни, а также своей пруссомании, никогда не переступал порога комнаты сына, которого, по всей вероятности, и не считал своим ребенком. Екатерина после недолгих переживаний по поводу несправедливого отлучения от сына предалась новым любовным интригам, о которых сплетничал весь двор. Говорили, что она безумно влюбилась в молодого, хорошо образованного и элегантного поляка знатного происхождения Станислава Понятовского, который являлся завсегдатаем лучших салонов Европы и обладал бесподобным искусством делать комплименты на французском языке. Будучи в курсе похождений великой княгини, императрица Елизавета не делала попыток отчитать ее за безнравственное поведение, которое во многом напоминало ей собственные амурные увлечения.
Однако ситуация осложнилась тем, что великая княгиня вновь забеременела. Подобный поворот дела принимал уже форму государственной проблемы. Простому люду совершенно невозможно было объявить, что будущий ребенок является плодом прелюбодеяния и что речь идет об отпрыске Станислава Понятовского. В этой ситуации, для того чтобы хоть как-то сохранить в глазах нации супружескую честь Петра, который сам был связан любовными отношениями с Елизаветой Воронцовой, его убеждают взять на себя это подозрительное отцовство. Более того, вице-канцлер Михаил Воронцов, дядя Елизаветы Воронцовой, добивается в отношении к Станиславу Понятовскому применения репрессивных мер, в результате которых последний был отозван в Польшу. Единственная уступка, которой Екатерина смогла-таки добиться от своих мучителей, – это отложить отъезд своего любовника до того времени, пока не состоятся роды. В ночь с 8 на 9 декабря 1757 года она наконец произвела на свет дочь. Стремясь снискать расположение императрицы, Екатерина объявляет о своем желании назвать ребенка Елизаветой. Расчувствовавшись от подобного проявления почтительности со стороны согрешившей невестки, Ее Величество, тем не менее, нарекает новорожденную Анной. После этого, совершив крещение ребенка в присутствии Екатерины, она объявляет о том, что полностью берет на себя заботы по воспитанию ребенка, так же как ранее занималась этим с ее братом Павлом. Акушерка, принимавшая роды, хорошо знала установленные порядки и отнесла новорожденную в апартаменты императрицы, Екатерина не посмела больше протестовать. Впрочем, в апреле следующего года со смертью маленькой Анны этот вопрос окончательно отпал сам собой. Скандал был сразу же исчерпан.
С этого дня отношения между великой княгиней и царицей познали и взлеты, и падения. Их скрытое соперничество происходило из-за узурпации императрицей детей, а единственное, что их сближало, – это неприязненное отношение к великому князю Петру. Своего племянника Ее Величество расценивала как бездарную личность с помутившимся рассудком, которая не заслуживает ни такой жены, как Екатерина, ни наследия престола, каковым являлся трон России. У нее были свои планы относительно будущего маленького Павла. Однако если некоторое время она еще уделяла внимание его развитию и следила за успехами на учебных занятиях, то уже вскоре была поглощена только государственными делами и относилась к нему, как к пуделю, который перестал ее развлекать. По ее мнению, будущий император России вовсе не нуждается в любви ни отца, ни матери. Родительская любовь только размягчает. Великий князь Павел имеет семьей всю нацию. А его наставник Никита Панин, которого она назначила ответственным за воспитание своего питомца, наилучшим образом подготовит его и к человеческой судьбе, и к роли суверена. К тому же, обладая богатым опытом работы в прошлом послом в Швеции и несомненным педагогическим даром, Панин не утратил ни мужества, ни способности, чтобы вновь послужить отечеству. И надо отдать ему должное – с самого начала он взялся за свою роль не как за обязанность, а как за выполнение священного долга. Конечно, сначала его очень обеспокоил тот хаос, который он обнаружил в душе и в поведении своего юного питомца. Но постепенно он привязался к этому подозрительному и сумасбродному мальчику, бурный гнев которого внезапно сменялся вспышками искренней нежности. Во время доверительных разговоров с ним Панин пытается приучить его к мысли о том, что однажды, безусловно, он будет царствовать, так же как его двоюродная бабушка-императрица, и что для этого ему необходимо будет научиться проявлять себя одновременно и благоразумным, и снисходительным, и твердым. Однако, когда маленький Павел, пока еще страшившийся сколь величественной, столь и суровой перспективы, любил расспрашивать его об обстоятельствах своего рождения, о родителях, о жизни других детей, Панин старался избегать говорить ему правду и отвечал на подобные вопросы лишь в общих чертах. Несмотря на долгие годы дипломатической службы, которые должны были бы развить в нем цинизм и скрытность, Панин не мог воздержаться от выражения чистосердечной жалости к этому сироте при живых родителях, ненастоящему князю, ненастоящему русскому, который всегда, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, обречен быть непонятым. Весьма искушенный знаток политических интриг и в России, и за рубежом, Панин, несомненно, догадывался, что тайным помыслом великой княгини Екатерины является желание дождаться, пока императрица отвернется от своего омерзительного племянника Петра, откажет ему в наследовании трона и назначит своим преемником маленького Павла, и, учитывая его юный возраст, стать его регентшей. Добиться власти, чтобы однажды править Россией, за хрупкими плечами своего сына, – таковой была тайная мечта Екатерины, ободряемая моральной поддержкой Франции и Австрии, стремившихся противодействовать милитаристским устремлениям все более и более вызывающей Пруссии. Через своего посла в России, барона де Бретеля, Людовик XV, к которому, между прочим, Елизавета относилась с большой симпатией, пытался даже убедить императрицу в том, что отстранение от наследия трона племянника Петра, помешанного на германофилии, и назначение единственным наследником юного Павла под попечительством Екатерины принесло бы России и всему миру только пользу.
Первое из этих пожеланий уже начало претворяться в жизнь, поскольку по приказу императрицы русская армия начала кампанию против Пруссии. После нескольких унизительных поражений ее полки все же перешли к наступательным действиям. Одерживая победу за победой, русские, к большому разочарованию Фридриха II, считавшего себя непобедимым, все больше углублялись на вражескую территорию. Что касается второго пожелания, переданного бароном де Бретелем, относительно проявления опалы к великому князю Петру, то оно также соответствовало тайным замыслам императрицы. Инстинктивно она ненавидела этого сумасброда, используемого Голштинским двором, к тому же, будучи цесаревичем, призванным к правлению русским народом, он выказывал явное презрение к тем, за счет кого существовал, и в принципе не имел представления о национальных традициях этой страны, зато с великим пристрастием относился и восхвалял прусскую военную дисциплину. И если он даже и являлся внуком Петра Великого по материнской линии, то по своему чрезмерному пристрастию к мундиру и казарме был родным сыном Фридриха II.
Обескураженная экстравагантностью своего племянника, который с годами все больше и больше становился немцем, Ее Величество всерьез задумалась над тем, чтобы отдалить его от власти и предотвратить возможные пагубные последствия его правления. Их отношения стали настолько натянутыми, что Екатерина не могла не упомянуть о них в своих «Мемуарах»: «Она (Елизавета) знала его так хорошо, что не могла находиться и четверть часа без того, чтобы не впасть в раздражение, гнев или печаль. Когда она говорила о нем в узком кругу, то не могла удержаться от слез». Опасаясь вспышки слепой ярости презираемого ею князя, императрица, тем не менее, продумывает про себя различные варианты безболезненного решения этой проблемы. Может быть, направить его с долгосрочной миссией в какой-нибудь отдаленный уголок Германии, раз уж он предпочитает эту страну России? Время от времени императрица из опасения, что Петр, почувствовав холодное отношение к нему своей тети, может подготовить покушение против нее, меняла замки на дверях своих покоев.
Со своей стороны, Екатерина надеялась, что Ее Величество, здоровье которой было подорвано невоздержанным образом жизни и заметно пошатнулось, достаточно прожила для того, чтобы понять сущность племянника и лишить его наследства, и предпочтет ему своего внука Павла, регентшей которого могла бы стать его молодая мать. Однако и Петр имел на сей счет свои далекоидущие планы. Он с нетерпением дожидался ухода императрицы в мир иной, с тем чтобы сразу же навести свои порядки в стране. По его замыслам, после кончины императрицы он тут же обвинит Екатерину в супружеской неверности, официально с ней разведется и, объявив Павла незаконнорожденным, повелит взять мать и сына под стражу и заточить их в Шлиссельбургскую крепость. Затем, воцарившись на трон, он намеревался жениться на своей любовнице, графине Елизавете Воронцовой. Поговаривали, что он даже приготовил по этому случаю специальный манифест.
Хотя взрослые и уклонялись от разговоров об этих изощренных интригах в покоях ребенка, Павел замечал неестественную возбужденность окружающих, что только подливало масла в огонь его кошмарных воображений. Ничего не зная о готовящейся драме, он все же интуитивно догадывался, что весь окружающий его мир живет в зависти и ненависти друг к другу. Среди всех, кого он мог видеть перед собой, единственно, к кому он хоть изредка проявлял сострадание, были животные и старухи-няньки, безвинная болтовня которых, по крайней мере, не приводила к человеческим трагедиям. Для того чтобы уберечь Павла от излишних эмоциональных переживаний, окружающие его люди получили строгое указание скрывать от него факт болезни Ее Величества. Сам же он с нетерпением дожидался наступления Рождества, которое, без сомнения, как и в былые времена, должно было принести с собой новые развлечения и подарки. Однако 25 декабря 1761 года дворец был необычно безмолвен. Не просчитались ли взрослые с наступлением этой даты?
Неожиданно к полудню лихорадочная суматоха охватила все помещения дворца. Мертвенно-бледный Никита Панин, пришедший к своему воспитаннику, трагическим голосом объявляет ему о том, что Ее Величество отдала свою душу Господу Богу. Павел, которому к этому времени едва минуло семь лет, не мог до конца осознать значения слов своего наставника и воспринять эту потерю, из-за которой все вокруг обрели вдруг траурный вид. Он лишь безропотно дозволяет сопроводить себя до покоев императрицы, идя, как лунатик, через залы, заполненные присмиревшими придворными. В вестибюле с серьезными лицами толпились министры, послы, важные сановники. Там за двойными створками дверей, преграждавшими вход в покои императрицы, свершалась таинственная мистерия: смерть, не знавшая гуманного отношения ни к кому, забирала из жизни ту, кто еще вчера сама властвовала над жизнью и смертью других. Охваченный сакральным ужасом, Павел увидел свою мать, опустившую глаза, молившуюся или делавшую вид, что молится, и своего отца, заносчивый и злобный взгляд которого был прикован к двери: он словно бы ждал возможности распахнуть ее настежь и возвестить благую весть, которую с нетерпением дожидался в течение последних лет. Священник причастил Ее Величество в последние минуты жизни и, стоя у изголовья, читал молитвы, за ним застыл высоченный камергер. В полной тишине, изредка нарушаемой всхлипываниями женщин, граф Воронцов сообщил, что Ее Величество скончалась. Затем, поклонившись великому князю, он твердым голосом объявляет о восшествии на престол императора Петра III.
После этих слов лицо Петра еще отчетливей исказилось в злобной усмешке. Ухмыляясь, он обвел присутствующих вызывающим взглядом. И в этот момент придворные, минутой раньше пребывавшие в глубоком трауре, спешат выразить ему свое безмерное ликование. Забыв о своей притворной печали, они проталкиваются к новому хозяину, раболепно целуя его руки. В это время, сотрясая стены Санкт-Петербурга, прогремели сто артиллерийский залпов. Разорвав тишину небесного свода, зазвенели церковные колокола. Ошеломленный подобной внезапной сменой настроения присутствующих, ребенок недоуменно искал глазами свою мать, но она исчезла куда-то в суматохе, как будто бы хотела, чтобы о ней поскорее забыли. Павел растерянно взирал на происходящее, не понимая, что случилось во дворце. Почему его отец вдруг так преобразился, сияя самодовольством, в то время как мать выглядела явно обеспокоенной. Единственное, что он уловил из прозвучавшего за весь этот безумный день, что он теперь из сына великого князя Петра стал сыном императора Петра III. Это положение придаст ему, безусловно, еще больше прав над своими поддаными. Никто уже не посмеет перечить цесаревичу. Но разрешат ли ему теперь играть в деревянных и оловянных солдатиков из его коллекции? В этот момент это было главным, что занимало его детскую головку. Он также очень хотел, чтобы его верный слуга Никита Панин продолжил заниматься с ним и всегда был рядом. Вдвоем, мечтал он, они непременно одолеют всех врагов, которые подстерегают наследника короны, – и реальных, и воображаемых.
А несколько недель спустя цесаревич вновь подвергся суровому испытанию. 25 января 1762 года, в пятницу, согласно церемониальному протоколу, он, в соответствии со своим официальным статусом, был допущен для участия в похоронах императрицы Елизаветы. Длинный кортеж сопровождал катафалк на пути от Зимнего дворца до Петропавловского кафедрального собора. Маленький мальчик во время процессии следовал в экипаже. Несколько раз через окно кареты он видел своего отца, который, суетясь, жестикулировал, давая указания, и вышагивал позади гроба. Время от времени новый император Петр III, забавляясь, то замедлял шаг, выбиваясь из общего ритма движения, то, напротив, ускорял его, догоняя идущих. Камергеры, которые несли полы его черного траурного плаща, из-за этих рывков теряли их концы и, пытаясь вновь ухватиться за ускользавшую из рук ткань, раздуваемую ветром, вынуждены были проделывать прыжки с комическими гримасами на лицах. Пройдя таким образом около тридцати шагов, император снова замедлял темп, шел, еле переставляя ноги под невозмутимо исполняемую оркестром скорбную музыку. Чуть погодя он совершал новый бросок и вновь разрушал отлаженный ход церемонии. Однако никто даже не пытался призвать его к благоразумию. Когда же шутовство и зубоскальство его отца продолжились и в соборе во время отпевания, Павел, вопреки своему обыкновению противоречить чувствительным душам, что было для него высшим искушением, не проявил внешне своего отношения к этому святотатственному ослеплению отца, сравнимому разве что с беснованием. Не принимая участия в оскорбительном упоении императора, он с тяжелым чувством начал понимать, что все наблюдаемое им: золотое убранство храма, ризы, слова священнослужителя, пение хора, верноподданническое коленопреклонение окружающих – является не чем иным, как поразительной фальшью. Он явственно стал осознавать, что поведение взрослых основывается не на следовании принципам, выработанным их предшественниками, а на потакании каждый раз и повсюду своей прихоти. И все же, подумал он, своими капризами, сумасбродством, угрызениями совести и всякими другими комическими выдумками он, безусловно, очень походил на своего отца. Наверное, он и в самом деле его сын? В ожидании ответа на этот немой вопрос он выплеснул свои эмоции, предавшись горьким слезам. Но на кого же теперь ему остается надеяться? На покойную императрицу, которую он почти не знал; на свою мать, которая, вероятно, не испытывала по отношению к нему никаких родительских чувств; на своего отца, который возликовал, увидев претворение в жизнь своей мечты; или же на самого себя, который совершенно не знал, за что ухватиться в закрутившем его потоке?
II. Первые ошибки великого князя Павла
Злопамятность Петра III по отношению к покойной императрице проявилась сразу после его восшествия на престол. Он тут же провозгласил, что намерен впредь проводить политику, диаметрально противоположную той, которую осуществляла Елизавета внутри и за пределами страны. Это было с его стороны больше, чем утверждение своего характера и своих принципов; это было стремлением принизить все то, что царица создала за годы своего правления, и оскорбить ее память. В ночь своего пришествия к власти он отдал приказ русским войскам, которые к этому моменту, взяв Берлин и сломив сопротивление неприятеля, завершали его разгром, приостановить военные действия и оставить занятые ими территории. Положив своей властью конец Семилетней войне, он попросту проигнорировал интересы своих союзников: Франции и Австрии. В то же время он написал личное послание Фридриху II, выражая ему свои искренние заверения в неизменном восхищении и расположении к нему. Король, который еще вчера сотрясался от непрерывных поражений и готовился окончательно распроститься с правами на Восточную Пруссию, возликовал и возблагодарил Небо за неожиданно свершившееся чудо. Во всем свете нашелся-таки один безумец, который пришел, чтобы спасти его лицо перед народом и историей. Доведя свое решение до конца, Петр III выработал совместно с бароном фон Гойцем, специальным эмиссаром Берлинского кабинета, условия сепаратного мира, который был подписан 5 мая 1762 года.
По данному соглашению победительница в лице России не только ограничилась реституцией всех захваченных территорий, но и сама предложила объединить свои войска с прусскими для совместных действий против австрийцев, своих главных союзников. Эта постыдная перемена взглядов вызвала бурю негодования у лучших представителей русской армии, которые совершенно не могли примириться с тем, что император мог так поступить, лишив их славы, добытой ценой неимоверных страданий и жертв. Ощущение предательства со стороны того, кто был в первую очередь призван поддерживать и чествовать своих героев, особенно обострилось, когда Петр III, верный своей мании, решил установить в русской армии прусскую дисциплину и даже переодеть ее в прусскую униформу. В своей германофилии он опустился до того, что поставил во главе некоторых русских полков офицеров – выходцев из Голштинии, не скрывал восхищения, когда видел на парадах солдат, одетых на немецкий манер, и приказал многократно увеличить число артиллерийских салютов по каждому поводу, приучая жителей столицы к воинственному сознанию, проповедуемому его кумиром Фридрихом II.
Но и этого было недостаточно для удовлетворения его воинственных амбиций: лютеранин по рождению и православный по необходимости, он принялся наводить свои порядки и в Церкви, которую осуждал за устарелое богословие и за чрезмерную пышность. Он мечтал поменять рясы попов на пасторские рединготы, а заодно и сбрить священникам их бороды. С тем же порывом новатора он повелевает проявлять терпимость по отношению к еретикам и особенно по отношению к старообрядцам, преследуемым церковными властями. Наконец, в апогее безбожного кощунства, он принимается за секуляризацию части монастырских владений и имущества Церкви, которая, обладая огромными землями, заселенными крепостными, не выплачивала государству установленные налоги. Высшее духовенство решительно воспротивилось принятию против Церкви сталь жестких мер, расценив эти действия как святотатственные, которые, по мнению некоторых представителей духовенства, свидетельствовали о расстройстве религиозных воззрений императора.
Для того чтобы хоть как-то снискать к себе расположение в глазах общественного консервативного сознания и особенно аристократии, Петр III подписывает после очередной ночной попойки указ, освобождающий дворянство от военной службы в мирное время, и закрепляет за дворянами право на владение крепостными мужиками, отныне являющимися их собственностью согласно реестру, по которому также ведется учет поголовья скота в их конюшнях и стойлах.
Град указов один за другим посыпался на головы горожан и сельских жителей, а между тем Петр III, увлеченный своими военными амбициями, уже подумывает о походе на Данию, чтобы отвоевать наследственную провинцию его семьи Шлезвиг.
Однако Петру III крайне недостает последовательности в осуществлении своих планов. Перепрыгивая с одного проекта на другой, он разрушает все только что созданное, развлекается в кутежах после бессонного корпения над докладами министров и послов. Пробуждаясь, его подчиненные каждое утро задавались вопросом: какая прихоть взбредет в голову Его Величества на этот раз и не нарушит ли она их обычный уклад жизни?
Эта ухабистая ситуация не могла продолжаться бесконечно. То здесь, то там в провинциях начинали вспыхивать мятежи, на усмирение которых направлялись регулярные войска. Осведомленная своими друзьями о потрясениях, которые переживает российский народ, Екатерина прекрасно понимала, что ей предоставляется уникальный шанс раз и навсегда сбросить иго человека, который и измучил ее, и довел до отчаяния всю страну. Через некоторых очевидцев она узнала, что Петр III во время одной из своих оргий во всеуслышание заявил, что пострижет свою неверную жену в монахини и запрет ее в монастыре, по примеру своего тезки Петра Великого, поступившего так со своей первой женой императрицей Евдокией Лопухиной.
Почти каждый вечер он публично поносит Екатерину, ругается, как извозчик, со своей любовницей Воронцовой, такой же пьяницей и сквернословницей, как и он сам.
Болезненно воспринимая позорную деградацию достоинства Российской империи, Никита Панин мучительно размышлял над тем, как найти лучший способ из сложившейся ситуации и свести к минимальному ее ущерб. Среди других сторонников Екатерины, во главе которых стоял ее любовник Григорий Орлов, наибольшей дерзостью в своих далекоидущих планах отличались четверо его братьев: Алексей, Федор, Иван и Владимир, которые утверждали, что время действовать настало, и ратовали за необходимость заручиться поддержкой армии. Благодаря помощи близкой подруги Екатерины княгини Екатерины Дашковой интриги плелись и в салонах, и в казармах. Суть замысла заговорщиков сводилась к смещению Петра III и приведению к власти Екатерины, но не как регентши юного Павла, а как полноправной императрицы. Они были настолько уверены в возможности осуществления этого рискованного плана, что Екатерина, не колеблясь, полностью доверилась их энтузиазму. Готовясь совершить этот отчаянный шаг, она набиралась хладнокровия, чтобы не выдать преждевременно свои амбиции, а также тревожилась за сына, регентом которого, по ее замыслу, предстояло стать Никите Панину.
Восьмилетний Павел, не догадываясь о заговоре, который затевался у него за спиной, проводил время между набившей оскомину учебой с разными учителями и баталиями, которые он устраивал со своими деревянными солдатиками на другом конце того же стола. Если какие-то странные слухи и просачивались в его окружение, то он старался затыкать уши, оставаться в неведении, противясь вникать в суть происходящего и быть начеку. Дела взрослых людей не касались его. По крайней мере, пока. Но, тем не менее, в один из вечеров ему довелось почувствовать, что гроза совсем рядом.
На рассвете 28 июня 1762 года ребенок был разбужен внезапным приходом к нему в комнату Никиты Панина. Растормошив оторопевшую прислугу, Панин приказал им, не мешкая, одеть молодого хозяина. Но, не довольствуясь их медлительностью, сам обувает Его Высочество, набрасывает ему на плечи пальто и уводит полуодетого и полусонного Павла из помещения на глазах у оторопевших домочадцев.
Панин помогает мальчику вскарабкаться в дорожную карету, дожидавшуюся их на улице. Все еще сонный, Павел спросил своего наставника о причинах, побудивших их к столь спешному и раннему подъему. И пока экипаж колесил по улицам Санкт-Петербурга, Панин осторожно ввел его в курс дела, разъясняя в нескольких словах ситуацию в столице. Так и не поняв толком исторического значения происходившего действа, Павел узнает, что в те часы, пока его отец находился на отдыхе в Ораниенбауме, его мать при поддержке группы союзников покинула Петергоф, где жила в последнее время, и прибыла в Санкт-Петербург, чтобы поднять недовольные государем полки и заручиться их поддержкой для спасения империи. Екатерина уже получила благословение духовенства в Казанском кафедральном соборе и, в радостном настроении проехавшись по городу, прибыла в Зимний дворец, где принимала в этот момент поздравления и свидетельствования общественного признания в присутствии иностранных дипломатов. Вот на эту торжественную церемонию Никита Панин и вез своего подопечного в это раннее, свежее утро. По мере того как карета приближалась к месту назначения, на улицах становилось все больше и больше людей, со всех сторон раздавались крики толпы. Что это было – приветственные возгласы или ругательства? Настороженный в ожидании неизвестного, Павел съежился, сидя напротив своего невозмутимого покровителя. Прибыв на место встречи, они оказались среди шумной толпы придворных и сановников, которые теснились и в залах, и на лестницах. С тревогой Павел узнает в этом пестром и гудящем улье некоторые лица, которые видел в день кончины императрицы Елизаветы. Не собрались ли они здесь по поводу еще одной траурной церемонии последнего прощания? Но пока ему ничего не было сказано ни о смерти матери, ни, по крайней мере, об ее болезни. Да, кажется, здесь что-то другое, камергер с жизнерадостным выражением лица подошел к нему и повел за собой в гущу собравшихся людей. Среди них он неожиданно увидел свою мать. Она стояла в окружении толпы, оживленная, светящаяся, надменная и помолодевшая. Протянув к нему руки, она вместо того, чтобы усадить его рядом, подняла его на руки и направилась к большому открытому окну. Внизу из окна он увидел оживленную людскую массу. При виде Екатерины и ее сына тысячи глоток в едином порыве стали кричать: «Да здравствует Екатерина! Да здравствует наша матушка Екатерина! Да здравствует царевич!» Гром артиллерийских залпов раздался, поддержав приветственные возгласы народа. Сильно напуганный этим ликованием, Павел тесно прижался к груди матери, а толпа продолжала неистовствовать с удвоенной энергией. Улучив момент среди непрекращающегося потока оваций, Екатерина грациозным движением руки поприветствовала своих возбужденных сторонников и, немного погодя, ретировалась в свои покои. Но поскольку на подступах к Зимнему дворцу здравицы в ее честь все еще продолжали раздаваться, она попросила Никиту Панина препроводить сына в Летний дворец. Вновь расставшись с матерью, Павел захотел узнать, почему же на этой патриотической манифестации не присутствовал его отец. Осмотрительный Никита Панин ответил, что Его Величество император находится, несомненно, в Ораниенбауме, задержанный важными делами, но его возвращение не замедлит вскоре случиться. На самом деле этот старый волк политики давно уже понял, что Екатерина ни на йоту не отступится от своего решения стать императрицей и ей вовсе не хотелось быть регентшей при своем сыне. Что же касается Петра III, то он, вероятнее всего, пока еще не отрекся от престола, так что и государственный переворот можно считать состоявшимся только наполовину.
Это событие произошло на следующий день, 29 июня 1762 года. Всю ночь Екатерина проскакала на коне во главе отряда перешедших на ее сторону полков по направлению к Ораниенбауму. Утром, расположившись в Петергофе, она диктует акт об отречении своего мужа императора Петра III и направляет в Ораниенбаум своих эмиссаров. Под угрозой вмешательства армии они требуют от него отречения без всяких условий. Перед посланцами своей жены Петра III охватила безумная паника, он разрыдался, как ребенок, стал умолять о пощаде, но все завершилось тем, что он собственноручно переписывает и подписывает этот документ. Никита Панин от имени Екатерины гарантировал Петру III сохранение жизни, но с условием, что он как государственный узник будет препровожден в крепость Ропша, находящуюся неподалеку от Санкт-Петербурга. Неделю спустя, 6 июля, Екатерина опубликовала второй манифест, возвестивший разом и об ее восшествии на престол, и об отречении Петра III.
В тот же вечер она получает записку от Алексея Орлова, которому поручила проследить за своим арестованным мужем. В нескольких нескладных фразах последний уведомлял ее, что между Его Величеством и князем Федором (Барятинским) произошел спор, и во время вспыхнувшей потасовки, которую охрана не успела разнять, император, к сожалению для всех, внезапно помер от удара. Негодуя по поводу кровопролитного исхода предприятия, которое, по ее замыслу, должно было произойти мирно, Екатерина, по крайней мере, не могла не утешиться тем, что была избавлена от соперника, который долгое время стоял преградой на ее пути. Для того чтобы сразу же отсечь появление слухов, она заявила, что Его Величество Петр III скончался «припадком геморроидическим, впав в прежестокую колику». Эта успокоительная версия, однако, никого не ввела в заблуждение, но все сделали вид, что поверили ей, дабы не скомпрометировать новую государыню и не понизить ее шансы на успех, который мог бы быть достигнут только через забвение ошибок ее супруга.
Маленький Павел также старался делать вид, что его мать никаким образом не причастна к трагедии, связанной с исчезновением его отца. И все же его терзало какое-то сомнение. Всегда одно и то же: отец, который вовсе не проявлял к нему любви и так мало уделял внимания своему сыну, тем не менее, имел с ним такую удивительную схожесть! Их роднило и пристрастие к парадам, к мундирам, к командованию, и тяга к совершению безрассудно смелого поступка, и одновременно способность беспричинно в припадке безумства ранить тех, кого любил. С матерью же, казалось, наоборот, ребенок совсем не имел ничего общего. О ней говорили, что она иностранка. Но она была такой здравомыслящей, такой рациональной, такой властной и такой жизнерадостной одновременно, что временами Павел терялся – то ли он должен ею восхищаться, то ли ненавидеть ее, то ли опасаться.
Останки Петра III были перевезены в Александро-Невскую лавру, где были выставлены на несколько дней. Но оказание погребальных почестей ему было ограничено и проведено на месте, поскольку покойник представлял собой лишь свергнутого государя. Ни Екатерина, ни Павел на похоронах не присутствовали. И хотя ребенок не понимал основ политических хитросплетений, он чувствовал, что мать отдалила его от трона, захватив в свои руки всю полноту власти и ущемив наследное право своего сына. В целях упрочения своего положения она решила в спешном порядке короноваться в Москве. В противоположность Петру III, который проигнорировал благословение Церковью своего вступления на трон, она назначила дату этой церемонии на 22 сентября 1762 года. Павла также обязали присутствовать на этом торжестве. Однако, прибыв в столицу царей, он заболел и был не в состоянии принять участие в триумфе новой императрицы. Единственно, что он запомнил в этот день, так это радостные возгласы простого люда, пришедшего на территорию Кремля приветствовать восхождение на трон Екатерины II.
Вернувшись в Санкт-Петербург, где вновь был оглушен торжественным звоном колоколов и криками многократного ура, Павел отметил про себя, что, несмотря на происшедшие многочисленные перемены в составе придворных, Екатерина сохранила подле него в качестве гувернера мудрого и доброжелательного Никиту Панина. Она еще возвела его также и в ранг своего личного советника. В действительности же эта дополнительная обязанность была настолько обременительной для Панина, что он не мог располагать достаточным временем, как прежде, для занятий со своим подопечным. Тем не менее, его усилиями Павел был окружен группой неплохих преподавателей, которые подменяли его в выполнении педагогической задачи. В дополнение к учителю немецкого происхождения Эпинусу, обучавшему наследника трона математике, он пригласил писателей Анри Николаи, Франсуа Лаферье и Лавека для преподавания немецкой и французской литературы. В числе учителей Павла состоял также лучший богослов этой эпохи архимандрит (будущий митрополит) Платон, который приобщал ребенка к возвышенным ценностям религии. И наконец, специалист по политическим вопросам некий Теплов, объяснявший царевичу основное предназначение и деятельность государственных учреждений империи. Все это обучение контролировалось самим Паниным, внимательно следившим за подготовкой своего подопечного, который должен был в результате стать достаточно образованным, развитым человеком, свободно владеть русским и французским языками. И прежде всего он хотел бы, чтобы его подопечный к моменту, когда ему суждено будет обрести трон, стал просвещенным самодержцем, озабоченным благополучием своих подданных, противником мошенничества, несправедливости и фаворитизма.
К сожалению, из этого благоразумного воспитания маленький Павел извлекал прежде всего лишь то, что потворствовало его спесивому характеру. Чувство своего превосходства и своей безнаказанности было характерно для него со дня рождения. Да и жизнь во дворце способствовала тому, что он расценивал себя как существо, которое может не следовать общему закону, а только указывать всем себе подобным. Один из его верных учителей, малоизвестный Семен Порошин, ежедневно записывал высказывания и жесты своего подопечного.
22 сентября 1764 года этот почтительный свидетель был поражен непринужденностью поведения маленького десятилетнего Павла, который, сев рядом со своей августейшей матерью во время празднования дня коронации, ничуть не смущался того, что ему прислуживал граф Никита Панин, стоявший за его спиной и почтительно предлагавший ему каждое блюдо. Два дня спустя тот же мемуарист констатирует, что «Его Высочество [молодой Павел] имеет живой характер и нежное сердце», но никто не знает точно, чем может обернуться его юмор. 7 октября ребенок присутствует на премьере «Ученые женщины» и очень негодует по поводу того, что публика аплодирует актерам, не дождавшись, пока ей будет дан знак взмахом его собственной руки. Он был так раздосадован, что, вернувшись во дворец, заявил: «Вперед я выпрошу, чтоб тех можно было высылать вон, кои начнут при мне хлопать, когда я не хлопаю. Это против благопристойности». Точно так же он раздражался, когда ему подносили чашечку кофе, до того как Панин еще не попробовал и не одобрил вкус и температуру напитка. На следующий год, когда Порошин известил своего ученика о том, что поэт и ученый Ломоносов скончался, тот зло съязвил: «Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал!» Никто даже и не пытался осмелиться оспорить категоричность суждений Его Высочества. Обычно, высказав свои замечания, ребенок вновь обретал свое естественное состояние. Когда же он развлекался своими деревянными солдатиками, или скрипкой, или игрушечным ружьем, его воспитатели никогда не решались оторвать его от этого занятия. Несколько месяцев спустя, когда Порошин позволил себе прочитать ему Пятую оду Ломоносова, молодой Павел воскликнул: «Ужасть как хорошо! Это наш Волтер!» Эта резкая перемена взглядов, характерная для нестабильного темперамента Павла, очень беспокоила его окружение. Но, как исстари сложилось при российском дворе, почитание иерархов здесь всегда заглушало выражение истины. Из опасения за себя всегда замалчивалось то, что могло не понравиться.
В августе 1765 года Павел, несмотря на то что не умел еще танцевать, вышел и открыл бал с молодой и красивой Анной Воронцовой. Затем, разгорячившись и развеселившись, он вытанцовывает минует с Анной Шереметевой и продолжает приглашать по очереди всех фрейлин императрицы. Никто и не посмел отказать ему пройтись с ним под музыку. Позже он признается Порошину, что влюбился в одну из этих «красоток», но не захотел назвать ее имени, чтобы не скомпрометировать девушку, и довольствовался лишь тем, что начертил пальцем инициалы своей избранницы на стекле, запотевшем от его дыхания. В пылу отваги он даже набрался смелости за обедом взять с вазы грушу и предложить ее своей соседке по столу. Последующие дни проходили в случайных встречах, развлечениях придворного общества и балах-маскарадах. Царевичу так понравилось в компании молодых девушек, что он начал становиться франтом. Порошин обратил особое внимание, что великий князь настойчиво просит во время своего утреннего туалета «на каждой стороне класть по семи буколь, а преж сего обыкновенно только по одной букле». Тот же Порошин отмечает, что «любовь творит чудеса» с его подопечным, потому что «чулки раза два или три ныне в день приказывает перевязывать, чтобы были глаже». От признания к признанию, доверительно сообщая о своих делах, Павел убеждал своего наставника, что влюбился «навсегда». Он даже намекал, что речь идет о Вере Чоглоковой и что во время полонеза прошептал ей на ушко: «Теперь, если б пристойно было, то я поцеловал бы вашу руку!» Но, увы, «сердце этой девушки было отдано другому»! Когда же она призналась ему в этом, он был сильно уязвлен. Разве может он, наследник трона, иметь какого-то соперника? Он тут же потребовал у девушки назвать имя того, кто посмел стать предметом ее мечтаний. Но девушка отказалась раскрыть свою тайну, что только еще больше обозлило Павла, и его первое увлечение вскоре завершилось размолвкой.
После этой легкой неудачи его обидчивость, тщеславие и недоверчивость еще более обострились, причиняя значительный ущерб его благоразумию. «Военное пристрастие», унаследованное от семейства Голштенов, окончательно засело в его голове. Воинственные звуки барабана затмили для него сладкое щебетание женских голосов. Он грезил о беспощадных баталиях с музыкой, канонадой, развернутыми знаменами во всех частях цивилизованного мира. Ничто ему не нравилось больше, чем участвовать в грандиозных парадах, стоя рядом со своей матерью-императрицей. Он мечтал о том, как бы поскорей облачиться в парадный мундир полковника кирасиров, право на ношение которого он имел, несмотря на свой юный возраст. Подбоченившись и нахмурив брови, он с восторгом смотрел на строевое прохождение солдат, отличавшихся безукоризненной выправкой и отточенными движениями. Деревянные солдатики, которых он передвигал по своему усмотрению по столу или бильярду, как бы обрели плоть и кровь, они были так же покорны и послушны, как и игрушечные. Это превращение игры в реальность было таким опьяняющим чувством, что он даже помыслить себе не мог, как можно провести день иначе.
Скромный Порошин ужаснулся этому пристрастию своего ученика ко всему, что касалось армии, войны, пороха и деспотических развлечений. Ему, кому согласно директивам Никиты Панина предписывалось беспрестанно обучать царевича терпимости, этикету, любви к ближнему, раскрылось в своем визави непредугаданное, неответственное существо, способное поочередно проявлять то привязанность, то грубость, то проницательность, то ослепление и вести себя, подобно домашнему деспоту, чьи капризы все безропотно выполняют.
Однажды, обескураженный подобной непоследовательностью и заносчивостью, он пишет Павлу: «В один прекрасный день, господин мой, Вы, движимые самыми наилучшими намерениями в мире, способны будете вызвать к себе лютую ненависть!» Не вследствие ли этого нелицеприятного замечания или по причине недостаточности проведенных уроков Никита Панин отправил Порошина в декабре 1766 года в отставку и возвратил его в армию, откуда он был приглашен для того, чтобы прислуживать великому князю?
В то же самое время Екатерина, которая между тем уже основательно прибрала управление империей в свои руки, поручает «Совету при высочайшем присутствии» выработку текста нового законодательного кодекса, обеспечивающего одновременно свободу граждан и авторитарность монархии. В течение долгих месяцев, пока длилась работа по редакции этого основополагающего документа, она сумела расстроить замыслы заговорщиков, которые хотели опротестовать ее восшествие на трон; закрепить гегемонию России над Польшей, заставив избрать во главе польского государства человека набожного, своего бывшего любовника Станислава Понятовского; и в конце концов настойчиво повела войну против Турции. Эти глобальные интересы не помешали ей также интересоваться интеллектуальным и чувственным развитием своего сына. Она была в курсе его заблуждений и, всегда улыбаясь в ответ на рассказ о простодушных идиллиях мальчика, понимала, что он будет нуждаться в равновесии, которое может дать только женщина, способная одновременно привлекать чувственно и соответствовать умственно. Для того чтобы пробудить его сладострастие, которое на всем протяжении жизни являлось для нее вдохновляющей энергией, она сама направляет ему обворожительных жриц любви, среди которых была и энергичная актриса Кадич, и красавица София Ушакова, и вдова бывшего адъютанта Петра III Михаила Чарторижского вездесущая графиня Прасковья Брус, услугами которой она неоднократно пользовалась для предварительной оценки мужских способностей своих вероятных фаворитов. Заботясь о сохранении здоровья цесаревича, она приказала английскому доктору Томасу Димсдалу сделать себе и ему одновременно вакцинацию против оспы, хотя в то время эта прививка была еще в новинку, конечно, полезной, но и непредсказуемой по своим последствиям.
По прошествии ряда лет Екатерина добилась триумфальных успехов в войне против турок, захватив Крым, подписала договор с Австрией и Пруссией по разделу Польши. За делами она не упускала из виду и идею женитьбы своего, наконец лишенного невинности, сына, которому к этому времени пошел восемнадцатый год. Он уже был молодым человеком среднего роста, с правильными чертами лица, симпатичным, но с изменчивым выражением глаз: то ласковых, то вдруг агрессивных. Иностранные послы, имевшие возможность пообщаться с ним поближе, отмечали, со своей стороны, его любезность и, разумеется, выделяли внешне больше хорошего, чем плохого. «Воспитание цесаревича совсем оставлено без внимания, – сообщал 27 августа 1773 года полномочный посол по делам Франции мсье Дюран, – и нет никакой возможности это исправить, по крайней мере, его натура не способна на чудеса… Здоровье и нравственность великого князя окончательно расшатаны»[2]. Неважно! В глазах Екатерины ее «мальчик», несмотря на все своеобразия своего характера, представлялся партией, о которой могла бы мечтать любая нормальная молодая девушка.
С тревожным беспокойством ожидая выбора своей матери, Павел терял терпение и изливал душу своему новому другу – ровеснику, молодому аристократу с элегантными и великосветскими манерами графу Андрею Разумовскому. Никогда больше у него не было другого доверенного лица, и он не знал этого ощущения мужской общности и абсолютной защищенности. «Вы уже совершили чудо дружбы со мной, – писал он ему, – поскольку я начал отрекаться от моей прежней подозрительности, но, мой друг, необходимо, чтобы вы были постоянны со мной, поскольку вы выступаете против десятилетних привычек и вы боритесь с тем, что страх и стеснение укоренились во мне»[3]. Два месяца спустя он настаивает: «Я провел время в удивительном согласии со всем, что меня окружало […]. Я вел себя уравновешенно и воздержанно […]. Я размышлял над собой и понял, что стал избавляться от беспокойства, и эти догадки возвратили мне уверенность в жизни»[4]. С какого-то времени он достиг сознательного возраста и, оставаясь наедине с собой, подвергал критике постыдное поведение своей матери, коллекционирующей любовников, осыпающей их золотом лишь для того, чтобы использовать их в постели. Последний из них по времени, Григорий Орлов, испытывал по отношению к Павлу чувство отвращения, схожее с ревностью. Павел же считал его тщеславным слабоумком и выскочкой. И как же мать, которая так плохо разбирается в своих фаворитах, сможет подобрать ему подходящую супругу, соответствующую его сердцу?
Догадываясь о нетерпении своего простодушного сына, Екатерина предпринимает зондирование всех дворов Европы с целью разыскать идеальную невесту. Согласно инструкциям, которые она дала своим «вербовщикам», невесте не обязательно быть красивой. Она должна была иметь достаточное представление о том, как выгодно произвести впечатление во время светской беседы, быть тактичной и не выставлять каждый раз напоказ свои знания, наконец, уметь правильно воспринимать своих собеседников. Вообще, чем большими качествами она будет обладать, тем большее предпочтение ей будет отдаваться. Приняв к сведению эти рекомендации, барон Ассебург, эксперт по брачным сделкам, предпринял кампанию в высший германский свет.
После всесторонних консультаций он пришел к выводу, что царевич может иметь хорошие шансы в отношении к трем принцессам Гессен-Дармштадтским, принцессе Луизе Саксон-Готской и принцессе Софии-Доротее-Августе Вюртембергской – все они протестантского вероисповедания и имеют безупречную репутацию. В подтверждение этой информации он направил в Санкт-Петербург портреты всех кандидаток. Будучи в курсе этих политико-лирических торгов, великий князь изошелся в нетерпении. Однако Екатерина выдержала еще какую-то паузу. Наконец, после того как она добилась совета Фридриха II, главного поставщика невест в Россию, она решила выбрать одну из трех наиболее молодых девушек из ландграфства Гессен-Дармштадтского. Ее невесткой могла стать Амалия-Фредерика, Августа-Вильгельмина или Луиза. Все они должны будут приехать вместе со своей матерью в Россию, а на месте и будет решено, которой из трех девушек отдать предпочтение. Дома в ожидании вердикта соискательницы совершенствовались в знании французского языка, широко распространенного среди элиты в Европе, учились модным танцам и осваивались с обиходом двора. Поскольку подготовка к смотринам потребовала долгого времени, великий князь изнывал в ожидании. «Вспомните, с каким страхом я ожидал прибытия принцесс, – писал он своему другу Андрею Разумовскому. – И я ждал, пока их представит сама великая императрица. Я продумал план своего поведения, о котором поведал вчера графу Панину, и он его одобрил».
Именно Андрею Разумовскому императрица поручила поехать за приглашенными во главе флотилии из четырех кораблей. Он любезно принял девушек и их мать на борту фрегата «Святой Марк», которым командовал самолично, и доставил высоких путешественниц вместе с багажом по месту назначения. Обворожительность манер Андрея Разумовского и умение вести беседу очаровали его подопечных. Радуясь благополучному завершению достаточно спокойного плавания, они прибыли во дворец Екатерины, чтобы быть представленными императрице. Каждая из трех кандидаток реверансом приветствовала Екатерину II и поцеловала ей руку. Павел, допущенный наконец посмотреть на тройственный объект своего вожделения, не колеблясь, сразу же был покорен блондинкой и веселушкой Вильгельминой, именно ее он хотел бы выбрать в жены. И все-таки результаты смотрин явились для него неожиданными: Екатерина милостиво одобрила его выбор. Тем не менее он тут же забеспокоился о том, как бы она не передумала и не приняла другое решение после того, как смотрины завершатся. Хватит ли ему тогда отваги отстоять свой выбор? И не придется ли ему жениться на молоденькой девушке, которая не прельщает его, но может понравиться матери? В глубине души он надеялся, что все обойдется и что его опасения напрасны, и даже поздравил себя с тем, что в первый раз его мнение совпало со вкусом Ее Величества.
18 июня 1773 года императрица официально попросила у ландграфини Каролины Гессен-Дармштадтской руки ее дочери Вильгельмины для своего сына, великого князя Павла. Но перед тем как провести церемонию бракосочетания, необходимо было, чтобы будущая великая княгиня приняла православие, однако ее отец ландграф Гессен-Дармштадтский, который оставался дома, воспротивился тому, чтобы его дочь отреклась от протестантской веры. Сделав соответствующий вывод из своего жизненного эксперимента, Екатерина была убеждена, что переход из одной религии в другую совсем не означает вероотступничества, поскольку во всех христианских церквях верующие молятся одному и тому же богу, она считала, что, если два существа любят друг друга, Небо всегда готово пойти навстречу и освятить их союз. Переубедив отца и преодолев это последнее препятствие, 15 августа 1773 года урожденная принцесса Августа-Вильгельмина восприяла в лоне православной церкви святое миропомазание с титулом и именем великой княжны Наталии Алексеевны. На следующий день была торжественно обнародована ее помолвка с великим князем Павлом. Это заявление было воспринято как повод для различных увеселений. Балы, банкеты, спектакли проводились одновременно повсюду в честь благополучия обрученных. К тому же одерживались новые победы над турками, предпринявшими абсурдную затею – воевать с Россией. 29 сентября 1773 года бракосочетание между великим князем Павлом и великой княгиней Наталией было проведено с большой помпезностью и пышностью в Казанском кафедральном соборе. Артиллерийские залпы, ликующий звон колоколов приветствовали свадебный кортеж. Философ Дидро, прибывший в Санкт-Петербург по приглашению императрицы, по наивности предположил, что вся эта торжественность с украшением города и артиллерийским салютом была устроена в его честь. Узнав о своем заблуждении, он всякий раз подсмеивался над собой, когда видел, как княжеской чете желают счастья, процветания и многочисленного потомства.
На следующий день императрица устроила ужин, который завершился продолжительным балом. Наталия до изнурения танцевала с Павлом, который казался ей очень привлекательным в своей парадной форме. Облаченная в тяжелое парчовое платье, воротник и корсаж которого были украшены драгоценными камнями, новобрачная, устав, сникла под всей праздничной амуницией и даже вынуждена была отказаться от последнего менуэта. Увидев ее в таком состоянии, Екатерина сразу же задалась вопросом: не слишком ли хрупка конституция ее невестки для роли первой дамы, которая была ей предложена? Павел же, напротив, не усмотрел в ее усталости ничего предрассудительного и, более того, заметил, что это прибавляет супруге дополнительный шарм. Открыв для себя удовольствие в обладании этим грациозным и соблазнительным созданием, с которым можно не только ласкаться, но и беседовать, он, тем не менее, про себя решил, что, кроме их семейного благополучия, он не откажется и от другой цели в жизни. Для этого следовало бы, размышлял он, забыть о своих наваждениях, таких как тайна рождения, загадочная смерть отца, тирания матери, менявшей любовников так же легко, как министров, мстительное раболепство куртизанок, которые, улыбаясь, держали за спиной кинжал. Ему казалось, что, женившись, он обрел для себя не только наслаждение, но и душевную чистоту. Отныне он чувствовал отвращение ко всему, что не связывало его с женой. Как только ландграфиня Каролина Гессен-Дармштадтская и две ее дочери на выданье стали готовиться к возвращению на родину, Павел заметил, что Наталия загрустила по этому поводу, и он тут же стал обижаться на нее, желая в раздражении, чтобы она тоже уехала с ними.
III. Быстро утешившийся вдовец
Став молодоженом, великий князь не утратил своего везения. Его жена нравилась ему в любое время дня и ночи. Она обладала, в его представлении, самыми лучшими качествами: красотой, рассудительностью, веселым нравом и, кроме того, необходимым кокетством для того, чтобы приправить супружескую повседневность чем-то пикантным. Вместе с ней он забывал о своих заботах, скуку политики и этикета. Он восхищался вкусом Наталии, ее умением подбирать красивые платья для балов, для прогулок на лошадях по сельской местности, для пикников на траве и вечеров среди друзей. Она находила развлечение даже в переодевании театральных костюмов, когда играла в комедии на небольшой сцене в составе любительской труппы. Ее неисчерпаемая фантазия была всегда бальзамом на сердце Павла, который ощущал себя больше любовником, чем супругом. Поначалу Екатерина выражала восхищение добрыми отношениями, установившимися между ними. Говоря о своем сыне, она писала своей корреспондентке госпоже Бьельке: «Ну вот так идут дела в семье; он начал буржуазный образ жизни, не оставляет ни на шаг свою супругу, и это похоже на самую красивую дружбу в мире». Она написала также ландграфине Каролине Гессен-Дармштадтской: «Ваша дочь здорова. Она всегда тиха и любезна, какой вы ее знаете. Муж ее обожает. Он только и делает, что хвалит ее и всем рекомендует. Я слушаю его и задыхаюсь иногда от смеха, потому что она не нуждается в рекомендации. Ее рекомендация в моем сердце; я люблю ее, она этого заслуживает, и я чрезвычайно этим довольна»[5].
Но вот императрица стала замечать, что ее очаровательная невестка проявляет себя ветреной и бестолковой девицей, стремящейся всегда только повеселиться, что она неспособна заставить себя заниматься изучением русского языка. В городе и во дворце стали поговаривать о том, что молодая Наталия действительно уделяет совсем мало времени освоению языка, традиций и нравов своих будущих подданных. Если она останется немкой в душе, то как же она станет великой русской княгиней и зачем же она тогда окрестилась в православную веру? Но если Павел не придавал всему этому никакого значения, то Екатерину же такое отношение сильно раздражало. Ставя Никите Панину в упрек неспособность привить ее сыну и невестке обязанностей почтительности и патриотизма, вменяющихся им по положению, она принимает решение заменить этого благодушного человека, который уже исчерпал себя, и отсылает его из дворца, назначив на его место генерала Николая Салтыкова, пользующегося отныне ее полнейшим доверием. Взбешенный лишением своего старого гувернера, который, по сути, стал его близким другом, Павел принял нового в штыки, проявляя к нему колючее недоверие. Последний, повинуясь приказу Екатерины, посоветовал ей удалить Андрея Разумовского, который, по его мнению, рассчитывал на «высокое место», а его влияние на княжескую чету могло быть негативным. Великий князь, очень озлобленный этим решением, вместе с Наталией тут же поспешил требовать объяснений от матери. Та, посчитав, что это возмущение было инспирировано ее невесткой, резко отчитала их, поставив обоих на свое место. Они покинули апартаменты Ее Величества с понуренными головами, словно наказанные дети после проявленной шалости. В то же время, когда Павел сам испросил у Екатерины позволения присутствовать иногда на заседаниях министров для того, чтобы, хотя бы поверхностно, быть, наконец, в курсе государственных дел, она дала ему свое согласие на эту просьбу, которую сочла разумной. Но спустя какое-то время она спохватилась и стала подозревать Наталию в вынашивании амбициозных намерений. Не поговаривали ли в прихожих дворца приглушенным голосом о том, что эта молодая женщина, внешне ветреная, внушает своему мужу мысли о занятии трона после смещения действующей императрицы? Перейдя от снисходительности к негодованию, Екатерина пишет, как всегда, на французском, своему постоянному корреспонденту барону Гримму: «Великая княгиня любит все экстремальное. Все у этой дамы чрезмерное: если прогуляться пешком, то не менее двадцати верст, если танцевать, то двадцать кадрилей, столько же минуэтов, бесчетное количество немецких танцев; чтобы не было жарко в помещении, она совсем не разводит огня; если другие растирают лицо льдом, то она это проделывает со всем телом; было бы лучше, если бы она была подальше от нас. Бойся злых, задирая друг друга, они угрожают всей земле и не слушают ни хороших, ни плохих советов […]; не слушают никого […]; и сами себе на уме. Представьте, что в течение полутора лет или даже больше мы не говорим ни слова еще на русском языке: мы хотим, чтобы нас обучали, но для этого мы не находим ни минуты в течение дня, все вертится волчком […]». И еще: «Я не вижу в ней ни обольщения, ни ума, ни разума». Все это было далеко от тех гиперболических похвал, которые были адресованы ландграфине Каролине Гессен-Дармштадтской сразу после замужества ее дочери![6]
Но вот список заговорщиков, которые мечтают короновать Павла после того, как будет отстранена его мать, попадает в руки императрицы. Она проводит тщательное дознание и, пригласив к себе сына и Наталию, холодным тоном упрекает их в поддержке интриг, организованных против нее. Сильно испугавшись, Павел рассыпается в извинениях, отрицая все и заверяя ее в своей верности. Он умоляет мать забыть этот вызывающий сожаление инцидент и быть уверенной, что он не хочет ничего подобного. Выслушав эти отречения, великодушная Екатерина бросает в огонь бумагу со списком имен «заправил» этого заговора на глазах у великого князя и великой княгини.
Как государыня она имела уже достаточно заслуг, с достоинством проявив себя перед угрозой государственного заговора и в 1762 и в 1770 годах, а также перед опасностью смуты, посеянной появившимися на юге России четырьмя Лжепетрами III, которым только чудом удалось избежать наемных убийц царицы. Эти узурпаторы, конечно же, были побеждены, однако пятый претендент, именовавшийся Пугачевым, возник внезапно, в начале 1773 года на Южном Урале, на берегах реки Яик. Он, провозгласив себя истинным царем, собрал вокруг себя многочисленных сторонников. Этот простой донской казак, дезертировавший из армии и несколько раз бежавший из тюрьмы, красноречиво выступал перед толпой, провозглашая манифесты, в которых обещал свободу крепостным и право собственности всему народу. Он утверждал, что имеет намерение изгнать из дворца «преступную немку», «дочь злого дьявола» и установить, наконец, в России благополучие, которое по воле Божьей должны иметь все народности. Неграмотные мужики и суеверные люди видели в нем будущего спасителя народа, а более осторожные казаки воображали, что при его помощи они смогут завоевать достаточно земель, чтобы создать автономное государство, которым будут управлять по своему усмотрению. Во главе этих фанатичных орд Пугачев успешно противостоит регулярным частям, направленным с целью преградить ему дорогу. Покоряя город за городом на своем пути, он взял в осаду Оренбург, угрожает Казани и готовится выступить на Москву и Санкт-Петербург. Связанная возобновлением войны с Турцией, Екатерина с нетерпением ожидала возможности поскорей покончить с этим нескончаемым конфликтом, направив против повстанцев свои лучшие части. Опасность была настолько значима, что Пугачев уже воспринимался народом как легендарная личность. Наконец в июле 1774 года, после двух лет противостояния, генералами Суворовым и Румянцевым были одержаны победы над турками, позволившие России подписать выгодный мир. Получив доступ к Черному и Эгейскому морям, армия Ее Величества могла переместиться на север, чтобы разбить сторонников самозванца. Напуганные размахом репрессий, которые угрожали им, часть из них изменили делу своего предводителя и выдали его. 24 августа 1774 года Пугачев был пленен. Обезоруженный и закованный в цепи, он был заперт в клеть, как опасное животное, и затем провезен через города и деревни на место казни в Москву.
Когда Пугачева доставили к месту казни в самом начале января 1775 года, императрица, ее сын и невестка прибыли с официальным визитом в древний город царей. По приказу Екатерины Пугачев был приговорен к публичной смертной казни четвертованием и отсечением головы. Говоря об этом святотатственном мятеже, Екатерина напишет своему дорогому Вольтеру, мнение которого так много значило для нее: «Он не умел ни читать, ни писать, но это был человек дерзкий и необузданный. До сих пор нет ни малейшего следа, что он был инструментом в руках некоторых заинтересованных сил […]. Можно предположить, что Пугачев являлся вожаком разбойников, а не ставленником другой души. Никто не был таким вредоносным со времен Темерлана. Он надеялся на свое везение и на кураж. Если бы он меня не оскорбил, то я бы, возможно, и простила бы его, но это обстоятельство ухудшает положение того, кто имеет свои законы». Из милости Ее Величество согласилась, чтобы голова преступника была отсечена прежде, чем его тело будет подвергнуто четвертованию. Казнь состоялась 10 января 1775 года перед большой толпой любопытствующих. Павел не присутствовал на этой экзекуции, поскольку не мог переносить вида крови, а возможно, из-за тайного сострадания к этому безумцу, который имел дерзновение покуситься на императрицу. Не означало ли это показательное наказание предуведомление, предназначенное тем, кто попытается противодействовать воле Ее Величества? Обезглавив Пугачева, Екатерина тем самым обезглавила волю своего сына. Обязанный знать свое место, он понимал, что в дальнейшем будет обязан повиноваться беспрекословно. В двадцать лет он попал из рук гувернеров в другие – в более суровые руки своей матери.
Тем не менее, во время праздников, которые Москва подготовила для императорской семьи, он смог услышать при его появлении перед народом приветствия более громогласные, чем те, которые обычно предназначались его матери. Это могло означать, что если народ и отдавал дань уважения Ее Величеству, то в душе вынашивал надежду на наследника короны. Повышенное внимание толпы к молодому великому князю было так явно, что Андрей Разумовский скажет ему после очередного выхода в город: «Вы видите, князь, как вы любимы! Ах, если б вы только захотели!..» Смущенный этим неуместным замечанием, Павел бросил суровый взгляд на своего друга, но не сказал ни слова. Его занимали семейные заботы, обидчивость его матери, которая даже была против того, чтобы он проявил любезность по отношению к ее последнему фавориту Григорию Потемкину. Этот одноглазый, но атлетического сложения гигант при всей своей солдатской суровости не был лишен привлекательности. Он покрыл себя славой в многочисленных сражениях до того, как преуспел в постели у Екатерины. На этом месте он заменил фаворита Васильчикова, которому царица дала отставку. В этой ситуации Наталия, со своей стороны, старалась внушить Павлу, что ему следует проявлять осмотрительность при общении с ближайшим окружением его матери, оказывающим, по ее мнению, негативное влияние на императрицу. Она явственно ощущала, что ее саму вовлекают в сети черной неприязни и обжигающей подозрительности. И даже если Екатерина не говорила ей об этом открыто, она знала, что царица порицает ее за легкомыслие, двусмысленную симпатию, которую она проявляет к Андрею Разумовскому, за ее пренебрежение к русскому языку и прежде всего за то, что после двух лет замужества она еще до сих пор не беременна.
Для того чтобы ускорить вмешательство в природу, Екатерина принимает обет совершить 18 мая 1775 года пешком паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Этот набожный поступок, по ее мнению, должен благотворно сказаться на зачатии ребенка. 10 июля того же года Ее Императорское Высочество Наталия сообщает, что ждет ребенка. В то время как Екатерина, довольная таким поворотом событий, принимает привычные поздравления, некоторые доброжелатели намекают ей, что ее невестка, возможно, небезупречного поведения. Если верить этим сплетницам, она каждый вечер за ужином подсыпает мужу немного опиума, тот засыпает где-нибудь в углу и оставляет свою жену развлекаться наедине с Андреем Разумовским. Эти настойчивые слухи побуждают Екатерину расспросить невестку, от кого она беременна – от сына или его лучшего друга. Но сейчас это не так уж и важно! Она и сама уже сталкивалась с подобной ситуацией, но это не помешало ей обернуть дело так, как она того хотела. Главное заключается в том, что для всей России ребенок, которого вынашивает Наталия, будет подлинным наследником трона. Забеременела? От кого? Молодая женщина теперь пала в глазах императрицы Екатерины, так же как и сама Екатерина в свое время – в глазах Елизаветы. Гордость Павла по поводу этого отцовства была безграничной. Его любовь к жене обретает форму благоговения и мистического обожания. Малейший признак усталости у Наталии вызывает у него панику, и он посылает за врачом. Ей очень не хотелось рожать в Москве, где она не ощущала себя «как дома». Из-за недомогания Наталии супруги только в декабре 1775 года смогли отправиться в обратный путь и вынуждены были со многими остановками добираться до Санкт-Петербурга.
Наконец в апреле великая княгиня почувствовала первые признаки надвигающихся родов. Во время родов императрица находится у изголовья невестки и внимательно следит за всеми действиями врачей. Надев поверх платья большой фартук, она помогает акушеркам и дает советы. Однако роды осложнились. Утробный плод продвигался плохо. В конвульсиях, с мокрым от пота лицом, роженица орала, раздирая все горло. Врачи и вызванные на подмогу проявляли все большую обеспокоенность. Наконец ребенок был вытащен из утробы матери. Это был мальчик. Его тело было безжизненно. Мертворожденный! Собравшиеся предприняли было усилия по спасению цесаревны, находящейся при смерти, но, освободившись от умершего младенца, Наталия умирала. Зловоние обволакивало комнату. Павлу не дали войти, чтобы избавить его от излишних переживаний. 15 апреля 1776 года в пять часов тридцать минут пополудни Наталия испустила последний вздох.
Увидев перед собой неподвижное тело жены, с закрытыми глазами и умиротворенными чертами лица, Павел сначала заплакал навзрыд, а затем, обезумев от горя и побагровев от ярости, стал крушить мебель. Екатерина хладнокровно приказала присутствующим лекарям подготовить письменное заключение о смерти великой княгини, указав, что ее кончина произошла по естественной причине. Она опасалась, что вероломное публичное мнение не простит ей травлю невестки или, по крайней мере, обвинит ее в ненадлежащем уходе. Тем же вечером, когда стало ясно, что Павел вне себя от горя и даже пытался выброситься из окна, Екатерина вынуждена была отвезти его в Царское Село. Однако одной только смены обстановки было недостаточно для того, чтобы умерить его тоску и облегчить несчастье. Сочувствуя горю сына, Екатерина в то же время старается отвести от себя всяческие подозрения в ответственности за неблагоприятный исход этого дела. В письме своему постоянному корреспонденту, мадам Бьельке, она пишет: «Спасти великую княгиню было свыше человеческих возможностей… Она была обречена. После смерти, по вскрытии трупа выяснилось, что для выхода плода было отверстие в четыре пальца, а плечи ребенка были шириной в восемь пальцев». Однако французский поверенный в делах в России барон де Корберон даже наполовину не был убежден в правдивости официальной версии кончины молодой великой княгини. После конфиденциального разговора на эту тему за обедом со своим соседом по столу, хирургом Моро, барон де Корберон напишет в своих «Мемуарах»: «Он сказал, что считает врачей остолопами. Цесаревна вполне могла выжить. Поистине, можно удивляться, как плохо обращались с ней. Народ возмущен, люди плачут, озлобляются. Вчера и сегодня в лавках только и слышно: „Молоденькие умирают, а старые бабы живут“. Несмотря на эти нелицеприятные разговоры, императрица не отступилась от своей версии: кончина Наталии не вменялась в вину акушеркам и не являлась следствием недосмотра или невнимания близких. Это была роковая случайность, происшедшая по воле Бога. После положенного оплакивания преждевременной утраты Екатерина в своем письме мадам Бьельке напишет фразу, окончательно подытоживающую ее отношение к покойной невестке: „Как выяснилось, она не могла иметь жизнеспособного ребенка или, скорее, произвести его на свет, и будет лучше об этом больше не вспоминать“»[7].
По приказу Ее Величества гроб с телом покойной был установлен в Александро-Невской лавре. Официальный траур не объявлялся. Великий князь в похоронах покойной участия не принимал. Что касается императрицы, то она после выноса тела распорядилась очистить апартаменты великой княгини так, чтобы ни одна вещь усопшей не вызвала у Павла горестных воспоминаний. Екатерина догадывалась, что сын, открыто не осуждая, считал ее, тем не менее, ответственной за свое несчастье. Лишенный любви, он предается ненависти. Он нуждался в мести даже и за меньшее страдание. Плача, крича и ругая всех вокруг, он как будто хотел вовлечь весь мир в свое беснование, переложить на него всю тяжесть своего горя. Более того, движимый здравым чувством самосохранения, он, таким образом, всеми силами пытался вырваться из плена своих похоронных наваждений и прилагал к этому даже больше усилий, чем те, что сочувственно предпринимала императрица. Она же, не говоря об этом своему обезумевшему от горя сыну, полагала, что ее материнская обязанность в данный момент заключается в том, чтобы срочно подыскать ему другую женщину. Не теряя времени, Екатерина ставит в известность о своих планах Потемкина, корректность которого ей была хорошо известна. Она дает ему поручение направить великого князя в Берлин, где для него необходимо будет подобрать свободную немецкую принцессу взамен предыдущей. Обязав молодую девушку принять православие, этих двух голубков тотчас же надлежало поженить в Санкт-Петербурге. Определив маршрут следования, она снабдила записку своему любовнику следующим предостережением: «Пока все не будет на мази – молчок!»
Перед тем как отослать свое послание с повелением подыскать сыну подходящую невесту, Екатерина просматривает личные бумаги, оставшиеся от Наталии. Воспользовавшись отсутствием Павла, она вскрывает ящики секретера, где, как она предполагала, была спрятана любовная переписка умершей молодой женщины и Андрея Разумовского. Из милосердия к сыну она должна была бы сжечь эти письма, оставив его в неведении или в иллюзиях, поскольку обнародование их, с одной стороны, было бы унизительным для его достоинства, с другой – могло спровоцировать у него приступ очередного безумия. Но она не могла обойтись без применения крайнего средства. Если гангрена поражает один из органов, то для сохранения всего организма необходимо ампутировать зараженную часть. В сентиментальных отношениях хирургическое воздействие также применимо, если обычное увещевание не имеет шансов на успех. С этим заранее просчитанным намерением, а не из садистских побуждений Екатерина пошла разыскивать сына, погруженного в свои безутешные причитания, и сунула ему под нос найденные доказательства неверности его умершей жены. Онемев от ужаса, он читал и перечитывал фразы, приговорившие к неверности ту, которую он почитал за святую. Ярость внезапно прорвалась изнутри. Крышка котелка подскочила. Он завопил, приведя в смятение весь дворец. Екатерина, стоявшая поодаль, ожидала, пока кризис немного поутихнет. Наконец нервы его обмякли, он сник и безропотно согласился повиноваться наставлениям матери. Екатерина торжествовала. Не часто ее сын склонял перед нею колена. Немного дипломатичней, но все же в свойственной ей повелительной манере она сделала то, что задумала. Игривым тоном она пишет барону Гримму, который должен был прибыть к ней для того, чтобы отвезти письмо соболезнования родителям покойной: «Я никогда не отвечаю на жалобы […]. Увидев, что корабль накренился набок, я не теряла времени; наклонила его на другой и стала ковать железо, пока горячо, чтобы восполнить потерю. И я сумела разогнать глубокую тоску, нас охватившую. Я начала с того, что предложила попутешествовать, погулять, поразвеяться, а после сказала: „Однако мертвых не воскресить, надобно думать о живых; да, была вера в счастье, теперь ее нет; зачем же терять надежду на новую веру? Что же, будем искать новую? – Кого же? – О, я уже припасла. – Как, уже? – Да, да, и притом прелесть. – И вот уже видно любопытство: – Кто же это? Да какова? Брюнетка? блондинка? маленькая али статная? – Миленькая, изящная, очаровательная; прелесть. […] И вот сдавленное сердце начинает расправляться“»[8].
Первой конкретной мерой, задуманной императрицей, было отдаление от двора Андрея Разумовского, она направила его с дипломатической миссией в Ревель; второй, конфиденциальной, – изложить принцу Генриху Прусскому, находившемуся в Царском Селе, брачные намерения Российского двора. Генрих Прусский с готовностью отозвался приложить все усилия для того, чтобы подыскать редкую птицу в вольере невест его брата, короля Фридриха II. Прежде всего, конечно, он имел в виду Софию-Доротею-Августу Луизу Вюртембергскую, кандидатура которой не была принята во внимание во время первого сватовства Павла в 1772 году по причине ее юного возраста. Конечно, она получила предложение от принца Людвига Гессен-Дармштадтского, но Генрих Прусский не сомневался в возможности устранить это шаткое препятствие. Когда речь идет о счастье такой интересной девушки, малозначимый принц Гессен-Дармштадтский не может тягаться в своем величии с российским великим князем, вдовым и безутешным.
Государыня и жена канцлера обменялись секретной корреспонденцией. Лихорадочно готовилась поездка Павла в Берлин. Великий князь все еще пребывал в состоянии печали и оскорбленного самолюбия, но предпринимал похвальные усилия, чтобы из него выйти. Подбодряемый своим окружением, он перестал скрываться в одиночестве, ему также не терпелось встретиться с Софией-Доротеей, дифирамбы которой ему пели со всех сторон. Он отправился в дорогу в сопровождении и в большом экипаже, достойных самого монарха. На всем пути с ним следовал принц Генрих Прусский. В Риге, где была совершена первая остановка, принц Генрих получил письмо от Екатерины: «Я не считаю, что имелся пример дела подобного характера, о котором договариваются так же, как об этом. Следовательно, это продукт дружбы и самого близкого доверия. Эта принцесса [София-Доротея] будет тому залогом. Глядя на нее, я не смогу не вспоминать, как это дело было начато, велось королевским домом Пруссии и России и как оно закончилось»[9].
Во время поездки любопытство Павла разгорелось до такой степени, что он не раз задавался вопросом: не влюбился ли он в Софию-Доротею, еще не видя ее? Встреча, как и договаривались, состоялась в Берлине под покровительством Фридриха II. Отметив про себя свежесть предназначенной ему невесты и приятность общения с ней, Павел тотчас же забыл о своем трауре и без зазрения совести начал мечтать о новом счастье. Молодая семнадцатилетняя девушка на полголовы была выше ростом. У нее – белокурые волосы и бледно-голубые глаза. Будучи племянницей принца Вюртембергского, она выросла в провинциальной европейской резиденции графства Монбельяр, расположенного в живописной местности между отрогами Вогезов, по течению реки Дуба, вдали от роскоши и интриг прусского двора. Страстная почитательница Жан-Жака Руссо, она была одновременно и сентиментальна, и простодушна, и бесхитростна. Павел сразу был покорен ее естественностью и покладистостью. 11 июля 1776 года, на следующий день после прибытия, он пишет Екатерине: «Я нашел свою невесту такову, какову только желать б мысленно себе мог: недурна собою, велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что сделала действо в сердце моем, то не без чувств и она, с своей стороны, осталась […]. Мой выбор сделан»[10].
Он был крайне признателен тому, кто познакомил его с Софией-Доротеей, но для него первостепенное значение имел тот факт, что она была рекомендована ему самим Фридрихом II.
Подобно своему предполагаемому отцу Петру III, он относился к этому воинственному королю с чувством притягательности ученика к своему учителю. Это обожествление, унаследованное им от отца, распространяется у Павла на всю Пруссию, ее народ, ее нравы и историю. Жениться на Софии-Доротее в его представлении означало то же самое, что породниться с Фридрихом II. Посредством своего брака с этой девушкой он выражал свое искреннее преклонение перед всей страной. Со своей стороны, София-Доротея в письме своей близкой подруге баронессе Оберкирх признавалась: «Ланель! Мне очень грустно расставаться с вами, но, тем не менее, я чувствую себя счастливейшей из всех принцесс вселенной». Фейерверки, балы, артиллерийские салюты чередовались один за другим, прославляя счастливый союз Софии-Доротеи и Павла и соответственно Пруссии и России. Конечно, более проницательный, чем большинство его современников, Фридрих II оценивал характер великого князя как очень беспокойный для будущего главы государства: «Слишком важен, заносчив и горяч, чтобы удержаться на престоле народа дикого, варварского и избалованного нежным женским правлением, – читаем мы в его „Мемуарах“, – он может повторить судьбу своего несчастного отца»[11].
По прибытии в Санкт-Петербург София-Доротея была принята императрицей, которая проявила к ней всю полноту материнского внимания. На этот раз Екатерина была уверена, что выбор сделан правильный. В своей эйфории она написала мадам Бьельке: «Признаюсь Вам, что я увлечена этой дивной принцессой, увлечена буквально. Она именно такова, которую хотели: стройна, как нимфа, цвет лица белый, как лилия; высокий рост с соразмерною полнотой и легкость поступи. Кротость, доброта сердца и искренность выражаются у нее на лице; все очарованы, и каждый, кто не полюбит ее, будет не прав».
Сразу же обращенная в православие, молодая девушка получила титул великой княгини и поменяла полученное при рождении имя София-Доротея на Марию Федоровну. На следующий день их помолвки она спонтанно объяснилась с Павлом, высказав ему следующее признание: «Клянусь, и письмо мое в том порукой, что буду любить Вас и обожать всю жизнь, всегда буду к Вам привязана и ничего на свете не заставит меня переменить мое к Вам отношение. Таковы чувства Вашей навеки верной и нежной суженой. От Вас же хочу просить навсегда быть нежным и соблюдать обещанную верность».
26 сентября 1776 года архиепископ Платон провел церемонию бракосочетания двух молодых людей. В апогее счастья Павел напишет Генриху Прусскому: «Повсюду, куда появляется моя жена, она имеет дар расточать радость, непринужденность, и она искусна не только в ловле черных бабочек, но и даже в том, чтобы создавать мне хорошее настроение, которое я совершенно утратил в течение трех несчастливых лет». В то же время он сообщает барону Остену Сакену: «Вы видите, я вовсе не каменный, и сердце мое вовсе не жестокое, не черствое, как об этом думают многие; дальнейшая жизнь докажет это»[12].
В эти первые дни замужества Мария Федоровна напишет своей корреспондентке баронессе Оберкирх: «Милый мой муж – сущий ангел, я его люблю безумно». Но новую великую княгиню Марию Федоровну смущала та свобода нравов, которая царила при дворе. Вокруг нее стали плестись интриги, распускались сплетни и творился разврат. Императрица сама подавала пример подобному распутству. Фавориты один за другим дефилировали в ее альков.
Завадовский, затем Зорич замещали великолепного Потемкина, стоявшего не только очень близко к трону, но и к постели Ее Величества. Во всяком случае, мораль здесь была не в почете, а Екатерина II правила согласно своему капризу и в соответствии с тем, что представлял собой тот или иной человек. Даже Павел, после того как однажды проявил строптивость по отношению к своей матери, оставил подобные намерения и предоставил ей полное право управлять и семейными, и государственными делами ее стальной рукой. Отстранившись от политики, которая казалась ему скучным занятием и на которую он не мог оказывать никакого влияния, он бездействовал, переключившись на незначительные детали военной жизни. Сменив Петра III в его извечном пристрастии, он наглядно свидетельствовал в глазах скептиков, что и в самом деле является сыном покойного царя. Он с врожденным упорством выставлял себя адептом прусских теорий и модных направлений. Страстный почитатель униформы и парадов, он сознавался, что предпочитает барабанную дробь приятной музыке, а аромату салонов – запах казарм. Однако в промежутках между этими приступами своих воинственных пристрастий в нем вновь проявлялись успокаивающие чувства толерантности и любви к ближнему. Раздираемый между врожденным пристрастием к армии и уважением к моральным ценностям, дорогим для его жены, между восхищением авторитетом матери и отвращением к беспорядочному образу жизни, который она вела, Павел напишет 4 февраля 1777 года барону Остену Сакену: «С моим характером тяжело видеть, что многие вещи проходят мимо и зачастую причиной тому является пренебрежение личными мнениями: я же предпочитаю быть преданным, делая хорошее, чем быть любимым, делая плохое».
Эта сентенция представляла собой отражение того, о чем Мария Федоровна ежедневно говорила с ним. Захотелось ли Небу вознаградить их: того и другую за эту праведность их образа мыслей? Но несколько месяцев спустя, к концу мая, Павел узнал, что его жена ждет ребенка. А поскольку его первый отцовский опыт завершился неудачей, то радость и гордость Павла проявились особенно эмоционально. 3 июня 1777 года он пишет отцу Платону: «Господь услышал меня в моей печали и пришел мне на помощь: я возлагаю большую надежду на то, что моя жена беременна». Екатерина также возликовала, и вся Россия вместе с ней. По этому случаю Ее Величество преподнесла в подарок Их Высочествам триста шестьдесят десятин земли с проживающими на них крепостными в Павловске, недалеко от Царского Села.
Роды Марии прошли без осложнений. Все происходящее вокруг ее невестки осуществлялось под присмотром императрицы, и, по впечатлению некоторых свидетелей, свекровь вела себя так, как будто сама должна была рожать. Разочарованная слишком непредсказуемым характером своего сына, она уже вынашивала большие надежды на своего будущего внука. Еще до того как ему родиться, она думала о нем как о своем истинном наследнике и мечтала с юного возраста приобщать его к власти. Несмотря на большой объем государственных дел, которым она уделяла первостепенное внимание, Екатерина принялась готовиться к роли воспитательницы, перечитывая в этих целях «Эмиля» Жан-Жака Руссо, знакомясь с исследованиями Локка, Базедова и Лаватера. В свои сорок восемь лет она как будто вновь стала двадцатипятилетней женщиной.
В свой дневник она списала правила ухода за детьми, по которым хотела бы воспитывать новорожденного. Спартанская строгость этих наставлений противоречила обычаям той эпохи: Ее Величество была уверена, что для формирования ребенка, крепкого здоровьем и сильного духом, необходимо удалить ночных нянек, избавиться от меховых покрывал, приучать его к закаливанию холодной водой и много времени проводить в играх на свежем воздухе… Ни отец, ни мать не посмеют высказывать малейших возражений по поводу содержания этой программы. Авторитету Ее Величества подчинялись все домочадцы. Не в том ли и заключалась ее ошибка, что она не умела любить, не подавив человека?
Наконец 12 декабря 1777 года в одиннадцать часов утра Мария без всяких осложнений родила прекрасного малыша, которого назвали Александром. Сто артиллерийских залпов, прогремев, возвестили во все концы города об этой новости. Повсюду разливался колокольный звон. Придворные поздравляли друг друга в коридорах дворца. Императрица ликовала: она теперь не мать, она теперь бабушка. В течение всего времени родов Екатерина находилась рядом с невесткой, вместе с акушерками. Как только новорожденный появился на свет, был омыт, запеленут и крещен, она тут же схватила его и унесла к себе. Мария и Павел едва увидели своего сына, как он исчез в лабиринтах дворца. Это отделение грудного ребенка императорских кровей от родителей стало правилом при Российском дворе. И никто не смел тому перечить. Родителям, лишенным проявления любви к своему ребенку, оставалась только горечь удовлетворения от выполнения династического долга, ради которого они и были воссоединены.
IV. Открытие европы
Каждый день теперь доставлял императрице дополнительный повод для радости, которая олицетворялась для нее внуком Александром, лежащим пока в колыбельке. Заодно она проверяла на лояльность сына Павла и невестку, предполагая, что однажды они все-таки с нетерпением заявят свои права на ребенка – а почему бы и нет? – и могут настроить против нее своих немногочисленных сторонников. Как бы то ни было, но она считала, что больше всех любит новорожденного и больше всех знает, как подготовить его к тому, что он должен будет уметь в жизни. В глубине души она желала бы, чтобы Александр остался сиротой. Утолив свой волчий аппетит по обладанию ребенком, она пишет Гримму, предвкушая те добродетели, которые будут ниспосланы провидением ее внучатому отпрыску: «Это будет исключительнейшая личность, если посредники не помешают мне развивать его». Посредник и посредница– это два презрительных выражения, которыми она называла супружескую пару великих князей. Она и сама порой удивлялась себе, обнаруживая иногда радикальные изменения в отношении к своей невестке. Скупясь на похвалу, она раскрывала теперь все недостатки этой женщины-ребенка: легкомысленность, эгоизм, лукавство, притворство, честолюбие и лучезарную глупость. Единственные вещи, которые занимают ее, – это здоровье и стремление к воспроизводству. Достаточно ли этих качеств для того, чтобы быть достойной звания великой княгини России? Что уж тут говорить! Эта дура принимает шокирующие позы и еще смеет рассуждать о распущенных нравах двора! Быстро охладев к ней, Екатерина больше даже не скрывала своей враждебности и к Павлу, и к Марии – она просто не обращала на них внимания. Сами же они, тем не менее, несмотря на явную враждебность со стороны царицы, продолжали оставаться во дворце, пребывая в тени, как гости, – одновременно необходимые и нежеланные. Бесстыдная распущенность Ее Величества вызывала в душе молодой женщины, воспитанной в пуританском духе, одно негодование. Павел, обиженный на систематическое недостойное обращение к себе со стороны матери, внутренне жаждал компенсации за положение отца, которого лишили ребенка, и положение цесаревича, который утрачивал всякие надежды на престолонаследие, и с этой целью он все больше предавался организации военных парадов, разработке политических планов, которым, как он хорошо понимал, никогда не суждено было осуществиться.
Его противоречивое душевное состояние причудливым образом сочетало преклонение перед прусской дисциплиной с живым интересом к учениям великих французских философов, амбиции которых замахивались на переустройство мира. Конечно, его интерес к ним не был сопоставим с почитанием императрицей культа Вольтера или Дидро, но, однажды сунув свой нос в их произведения, он уже размышлял о том, как наилучшим образом привить в России социальное равенство, религиозную терпимость и примирить справедливость с милосердием. В том же порыве, но с явно задней мыслью, он ратовал также за исключение женщин из династического престолонаследия. Его озлобленность против матери присовокуплялась к порицанию им предшествующих царей, до нее управлявших этой страной, он не мог простить им то, что по их попустительству стала возможной передача власти в руки столь сексуально невоздержанного создания. Насколько он восхищался грацией женщин в постели, настолько же опасался их присутствия на троне. Чуть позже в письме Никите Панину от 14 сентября 1778 года Павел, охваченный своим необузданным воображением, поделится с ним своим намерением набрать наемную армию из немцев. Для того чтобы оправдать это вмешательство в дела иностранного государства, он сослался на то, что, являясь цесаревичем, наследником Российского трона, он остается также главой Голштинского дома. Затем, раздумав, он быстро забудет об этом намерении и успокоится под воинственную дробь барабанов. К тому времени в столице поговаривали о возможном конфликте между Австрией и Пруссией. И в случае, если эта вражда разгорелась бы на самом деле, Павел уже знал, на чьей стороне пребывало бы его сердце. Как он себе представлял, он бы потребовал разрешить ему сражаться во главе полка прусских кирасиров. Но никто не придавал значения его фанфаронству. События, к которым готовились в лоне его семьи, отвлекли его от европейских дел: неустанная Мария вновь забеременела. Двор шушукался, и не было глаз, которые бы не обращали внимания на увеличившуюся полноту великой княгини. Совсем было раскритиковав свою невестку за то, что она совершенно не умеет ни управлять своим мужем, ни принимать участия в решении настоящих проблем или мелочей жизни, императрица вновь зауважала ее за подобную плодовитость. У этой племенной кобылки роды должны пройти без всяких проблем. С ней можно строить планы на будущее, не опасаясь быть уличенной в подтасовке фактов.
27 апреля 1779 года Мария без всяких осложнений произвела на свет еще одного мальчика. Хвала Господу! Но на этот раз бабушка Екатерина уже пожалела, что сделала в первый раз столь широкий жест, отблагодарив женщину, которая, по ее представлению, не обладала ни шармом, ни умом. Когда речь зашла об имени ребенка, императрица безапелляционно заявила, что этот вопрос уже не имеет отношения к семейной традиции, а всецело связан с политикой. Поскольку мальчик появился на свет в момент, когда она в очередной раз одержала верх над Турцией, которую она задумала сделать государством-сателлитом со столицей Константинополем, это означало, что великий князь мог быть наречен только соответствующим символическим именем: Константином.
Поочередно то деспотичная бабка, то стратег планетарного масштаба императрица добивается своей гегемонии не только в спальнях, но и на полях битв. Решив расстроить традиционные исторические альянсы России, она намечает сближение с Веной в ущерб Берлину. Визит императора Иосифа II в Санкт-Петербург предоставил ей возможность открыто закрепить свои связи с Австрией. Встреча Их Величеств проходила в атмосфере триумфальных праздников. Подобный альянс не мог не раздражать Павла, который проявляет мужскую солидарность с Фридрихом II. Ему представляется, что подобная политика ведет к отдалению от монарха, который так много делает в качестве брачного советника для России, и что своими действиями Екатерина II одновременно предает идеалы и своего покойного мужа, и сына, которые, впрочем, она не разделяла да и которые мало-то и заботили ее. Чтобы хоть как-то утешить себя в связи с этой разочаровывающей его новостью, Павел с жадностью внимал недоброжелательным толкам, распускаемым вокруг матери, тайком читал доставляемые ему памфлеты, в которых изобличался тиранизм императрицы и ее пагубное влияние на внешнюю политику.
Молодая супружеская чета с нескрываемым презрением относилась также к деяниям Потемкина, авантюризм которого является для императрицы истинно вдохновляющим стимулом. Покоренная этим энергичным и амбициозным человеком, Екатерина все чаще и чаще следовала его советам. Поговаривали даже, что, руководствуясь его наставлениями, она готова была даже объявить в соответствующий момент своего преемника на трон, которым, по ее замыслам, должен был стать не Павел, одержимый безумными идеями, а ее очаровательный внук Александр. Что касается другого внука, Константина, которым она, разумеется, также всецело завладела, забрав его у родителей, то он был еще совсем детем, чтобы возможно было обнаружить в его характере зачатки, определяющие перспективу на будущее. Но тот факт, что она забрала его к себе, говорил о том, что рано или поздно Константину также будет уготовлена своя определенная роль. Для того чтобы заранее готовить его к своему будущему, она пригласила греческих кормилиц, потребовав, чтобы ее внук был вскормлен греческим молоком и чтобы он с первых своих дней жизни слышал мелодию греческой речи. Под воздействием настоятельных просьб Марии Екатерина милостиво соглашается дозволить ей время от времени видеться со своими сыновьями. Когда их свидания завершались и дети возвращались к бабушке, она всегда с раздражением делала им замечания, указывая на недостойные привычки, которые они, по ее мнению, перенимали от своих родителей. По ее разумению, все, что исходило от них, не укладывалось в рамки воспитательного процесса, которым занимались ее доверенные гувернеры, подготавливающие ее внуков к тому, чтобы один из них стал российским императором, другой – османским.
В действительности же она старалась всячески принизить значимость супружеской четы, присутствие которой во дворце представляло постоянную помеху ее планам. Во время откровенного разговора, который она имела с Иосифом II в ходе его визита в Россию, тот подал ей идею предложить ее сыну и невестке совершить ознакомительную поездку по Европе. Эта мысль поначалу вызвала у Екатерины возражение, но затем, поразмыслив, она решила дать добро. Однако по своему опыту она уже знала, что если сама скажет Павлу об этом предложении, то он категорически откажется даже ее выслушать, потому что все предложения, исходившие от нее, встречались им в штыки. Все, что инстинктивно нравилось ему делать, – так это противоречить ей. Посчитав эту идею оригинальной, она прибегла к хитрости и поручила Николаю Репнину, близкому другу молодой пары, напеть на ухо Павлу, что, для того чтобы лучше утвердить свое положение, он должен попросить Ее Величество разрешить уехать с женой в длительную поездку за границу. Стремясь воспользоваться идеей и отличиться перед матерью, Павел попадает в ловушку: выставляя ей требования, он и не подозревает, что в действительности находится в ее сетях. Позабавившись подобной наивностью, она притворяется застигнутой врасплох, начинает противиться и колебаться. И вот отказ уже было готов слететь с ее губ. Павел переминается с ноги на ногу, Мария не скрывает слез, и тут Екатерина делает вид, что уступает эмоциям, и, как бы сжалившись, смилостивилась и дала свое согласие на совершение ею же самой замысленного путешествия. В то же время, зная о безумном пристрастии сына к Пруссии и к Фридриху II, Екатерина строго оговорила их маршрут следования, категорически запретив ему проезжать через Берлин. Несмотря на это ограничение, супруги горячо поблагодарили Ее Величество, которая с готовностью распахнула им дверцу в свою же клетку.
Все было бы хорошо, если бы не старый Никита Панин, который имел зуб на Екатерину с тех пор, когда она отстранила его от высоких постов при дворе. Он-то и догадался обратить внимание своего бывшего подопечного на опасность, которая, возможно, подстерегает его и супругу при отъезде из страны. Не задумала ли она в их отсутствие запретить им возвратиться в Россию? Почему императрица не стала спрашивать их о предлоге их отъезда, не для того ли, чтобы окончательно узурпировать их потомство и выпустить манифест, смещающий сына и провозглашающий внука наследником трона? Подавленные вероятностью осуществления подобных весьма вероломных замыслов, Павел и Мария тут же раскаялись, что с таким упорством добивались этой поездки. И после того как получили ее одобрение, бросились к ногам Екатерины, вновь умоляя ее теперь о том, чтобы позволить остаться подле нее. Но императрица непреклонно настояла на своем. Что сказано, то сказано! Поездку по Европе, которую она поначалу так категорически отвергала, теперь с таким же упорством отстаивала. Их сыновья останутся здесь. Она займется ими сама. Она пообещала регулярно информировать родителей о всех новостях, касающихся их детей. Несмотря на жалобные вздохи и слезы великого князя и великой княгини, приготовления к их поездке были ускорены. 19 сентября 1781 года наступил день расставания, императрица чуть ли не силой была вынуждена тащить сына за руки и усаживать его, больного от горя и тоски, в карету, в то время как князь Репнин поддерживал находящуюся в полуобморочном состоянии великую княгиню. Когда Павел наконец сел, портьера в его экипаже была задернута, а лошади стронулись с места, складывалось впечатление, что великого князя повезли на эшафот, тогда как он не совершал никакого преступления. По меньшей мере, в вину ему вменялось одно – то, что он не должен был происходить от императорских кровей!
Царица не поскряжничала на расходы по поездке и выделению свиты. Позади кареты цесаревича растянулась многочисленная вереница дорожных повозок, в которых ехали знатные сановники, сопровождающие Их Высочества в этом путешествии. Кортеж замыкали слуги, врачи, писари, повара. Среди них находился даже астролог, которому было поручено перед каждой важной встречей Их Высочеств консультировать их относительно благоприятности расположения звезд на небе. Что касается багажа, то он был достаточно многочисленным и разнообразным, чтобы обеспечить комфорт супружеской паре во все время путешествия. По приказу Ее Величества великий князь и великая княгиня передвигались инкогнито под вымышленными именами «графа и графини Северных». Эта невинная уловка использовалась многими представителями царской фамилии при их зарубежных вояжах, хотя во всех дворах Европы были в курсе о подлинном представительстве путешественников.
Постепенно отходя от угнетенного состояния, Павел начал успокаиваться и даже неожиданно стал открывать для себя удовольствие находиться в новой, непривычной обстановке. Может быть, не чувствуя за спиной присутствия матери, ему стало легче дышать? Ему даже показалось, что он полюбил свою жену еще задолго до того, как они стали мужем и женой при содействии коронованной дуэньи. Полагая, что предначертанием их истинной судьбы отныне является не прозябание под золотой лепниной дворцов в России, а пребывание в дороге, в условиях полной свободы, под сводами чужого неба, Павел вместе с тем понимал, что даже если и предположить такую вероятность, то Европа все равно не станет его родиной. Сожалея, что вынужден был подчиниться воле Ее Величества и отказаться от радости приветствовать Фридриха II в Берлине, он стал осознавать, что имеет ряд других поводов, чтобы радоваться и восхищаться, не утруждая себя оглядкой на мнение матери.
Их первая стоянка состоялась в Варшаве, где графа и графиню Северных с безграничной любезностью встретил бывший любовник Екатерины король Польши Станислав Понятовский. Мария, которая по своей натуре и воспитанию была демонстративной пуританкой, чувствовала себя стесненно при виде человека, главной заслугой которого, как она полагала, являлось то, что он когда-то делил ложе с ее свекровью. Однако Павел нашел его в высшей степени симпатичным человеком и сожалел, что тот держится отстраненно, не принимая активного участия в политической жизни Санкт-Петербурга, и уединился в ограниченных пределах Польши. Их прощание было расставанием двух лучших друзей, может быть, и потому, что уже назавтра им обоим предстояло познать горечь выпавших на их долю невзгод.
Убеждение Павла, что за границей он более почитаем, чем на своей родине, крепло все больше и больше по мере их приближения к Австрии. Во всех крупных городах, в которых они побывали по ходу своего маршрута, ему оказывали помпезные приемы, которые соответствовали по протоколу самому высокому уровню. В Вене австрийский император Иосиф II устроил для высоких путешественников роскошный банкет, бал-маскарад и грандиозный военный парад, право принимать который было любезно предоставлено цесаревичу Павлу. Повсюду раздавались возгласы приветствия в честь наследника Российского трона и в то же время (то ли по оплошности, то ли по преднамеренному умыслу) не высказывались здравицы в адрес самой российской императрицы. Все австрийцы, от самых высших сановников до простых слуг, были весьма дружелюбны и предупредительны со странствующим русским князем. Окончательно убедив его в том, что пребывание во всех странах Европы будет для него приятным времяпрепровождением, Иосиф II написал своим многочисленным корреспондентам, обитавшим в различных столицах Европы, письма с рекомендациями проявить особое почтение к будущим визитерам. В своей заботливости он даже не преминул указать список блюд, предпочтение которым отдают граф и графиня Северные. «Они совсем не привередливы в еде и в основном предпочитают простую, но качественную пищу, а фруктовые компоты являются особенно предпочтительными, – писал он одному из них. – Они пьют только воду, а госпожа великая княгиня приобщена к водам Зельтца. Если их не найдется в ваших припасах, то, возможно, им подойдет и другая минеральная вода, слегка содержащая железо, которая не слабит желудок». Выражение такой предупредительности не могло не взволновать Павла, который начинал понимать, что Пруссия не единственный рай на земле, а любезность Иосифа II столь же достойна уважения, как и военный гений Фридриха II. С другой стороны, великий князь был горд констатировать, что зарубежный монарх, в противоположность его матери, которая отказывалась признавать его компетенцию в политике и никогда не консультировалась с ним по государственным делам, ищет возможности узнать его мнение по важным вопросам текущих событий. Польщенный этим доказательством доверия и уважения, он неожиданно для себя предположил, что император Австрии, возможно, станет для него таким же надежным другом, как и король Пруссии. Даже Мария находила здешнее гостеприимство таким исключительным, что стала уговаривать Павла продлить их пребывание в этой стране. Ее удовлетворение переросло в признательность, когда Иосиф II привез из Монбельяра в Вену ее родителей. Кроме того, великий князь и великая княгиня регулярно получали очень любезные письма от Екатерины, в которых она сообщала им о новостях, касающихся Александра и Константина. Судя по ее заверениям, у них все было нормально. Ангелочки отличались отменным здоровьем и не нуждались ни в чем. Короче говоря, родители могут продолжать свое путешествие, не проявляя ни малейшего беспокойства о своих чадах. И все же, как бы то ни было и как бы ни обстояли дела во дворце и у детей, долгое отсутствие княжеской четы у себя дома воспринималось всеми как вынесенное им наказание.
Новости из дома успокаивали Павла, но все же он не мог не беспокоиться о своем будущем, которое их ждало впереди под строгим надзором Ее Величества. Без сомнения, он охотно бы задержался в Австрии, но в их планы вмешалась неожиданно распространившаяся там до сих пор не известная болезнь – лихорадка, сопровождавшаяся сильным ознобом и головной болью. Поговаривали, что «грипп» этот очень заразный и что лучшее средство избавления от него – это солнечные ванны, которые советовали принимать в средиземноморских странах. Распространившаяся эпидемия не пощадила и Марию. И тогда Павел решает спешно отправиться в дорогу. Их следующим пунктом назначения была Италия, благословенная страна, климат которой, несомненно, излечил бы молодую женщину от жестокого кашля, разрывающего ее грудь. Предсказания оправдались: и в самом деле, еще до того как они доехали до Триеста, здоровье великой княгини пошло на поправку. Открытие Венеции стало для нее и мужа незабываемым праздником. Великолепие этого исторического памятника зодчества, города, наполовину покоящегося на воде, со множеством причудливых каналов, дворцов, музеев, маскарадов, гондол произвело на них неизгладимое впечатление, им казалось, что они присутствуют на нескончаемом спектакле. Мир здесь состоял из фасадов, пируэтов, конфетти, музыки и напоминал музыкальную сцену. После посещения этого города-миража они прибыли в Рим, священную столицу античных монументов и триумфального католицизма. Принятые самим Папой, который соблаговолил выразить миловидным еретикам с Севера свое доброе напутствие, а также местной знатью, которая утомила их дискуссиями и комплиментами, они затем немного развлеклись, совершив прогулку по старому городу, посетили руины и лавчонки антикваров. Знакомство с историческим прошлым привело их, естественно, в Помпеи, раскопки которых недавно начались, а также в Неаполь, где они вновь окунулись в изнуряющую вереницу церемоний по их чествованию. Там же Павла ожидал неприятный сюрприз – он столкнулся лицом к лицу с графом Андреем Разумовским, с этим некогда коварным другом, низко предавшим его доверие, совратившим его первую жену, покойную великую княгиню Наталию. В данный момент Разумовский являлся послом России, официально назначенным Екатериной, при короле Неаполя. И было, разумеется, естественным, что он принимал участие в официальном приеме. Однако Павел, раздосадованный напоминанием о его супружеском несчастье, воспринял эту встречу как вызывающую насмешку своего бывшего некогда соперника или же как козни матери, устроенные для того, чтобы над ним посмеяться. Уже на следующий день Неаполь стал для него невыносим. Нанеся последние визиты, предусмотренные протоколом, он поспешил покинуть город.
Этот инцидент настолько испортил ему настроение, что во Флоренции, где их встретил герцог Леопольд Тосканский, Павел заговорил с ним с такой горячностью, что несколько озадачил своего собеседника. Позабыв о недавнем увлечении Иосифом II, Павел уже курил фимиам своим прежним прусским симпатиям, он стал открыто излагать свои взгляды на самые серьезные последствия, которые могут иметь место в связи с заключением альянса между Россией и Австрией, договор о котором был подписан не так давно его матерью. Леопольд выслушал его внимательно, поблагодарил за откровенность и сделал вид, что придерживается того же мнения. Тем не менее, сразу же после его отъезда он пишет: «В разговорах своих он ни разу и ни о чем не касался своего положения и императрицы, но не скрыл от меня, что не одобряет всех обширных проектов и нововведений в России, которые в действительности впоследствии оказываются имеющими более пышности и названия, чем истинной прочности […]. Однажды, говоря о делах, он обмолвился мне, что Венский двор хорошо сослужил Санкт-Петербургу […]. По этому случаю я должен предупредить тебя, что, рассуждая о делах, граф Северный […] разгорячился и кончил, сказав, что мне, вероятно, известно, кто из петербургских должностных лиц куплен Венским двором, что это мерзко, но что известны все подробности, сколько, когда и что именно получил каждый. […] Это князь Потемкин, статс-секретарь императрицы Безбородко, первый член иностранной коллегии Бакунин, оба графы Воронцовы, Семен и Александр, и Марков, теперь посланник в Голландии. Я вам называю их: я буду доволен, если узнают, что мне известно, кто они такие, и лишь только буду иметь власть, я их отстегаю […], уничтожу и выгоню»[13]. Тот же герцог Леопольд отмечал в своем письме брату в Вену: «Граф Северный, кроме большого ума, дарований и рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и предметы и быстро обнимать все их стороны и обстоятельства. Из всех его речей видно, что он исполнен желанием добра […]. В его образе мыслей видна энергия. Мне он кажется очень твердым и решительным, когда остановится на чем-нибудь, и, конечно, он не принадлежит к числу тех людей, которые позволили бы кому бы то ни было управлять собою»[14].
Путешествие продолжилось согласно заранее намеченному маршруту. Далее их путь лежал во Францию. За восемь лет до этого на трон взошел Людовик XVI; четыре года назад умер Вольтер; Дидро и Даламбер были стариками, хотя находились еще в ясном уме. Странная страна, где упражнениям мысли отдавали большее предпочтение, чем обработке земли. В поездке по Франции Павел поражался плохим состоянием дорог, опустошенностью деревень, посредственностью гостиных дворов и сумрачным настроением жителей. После короткого посещения госпиталей Лиона и армейской мануфактуры в Сент-Етьене 7 мая 1782 года[15] граф и графиня Северные торжественно въехали в Париж. Они остановились в доме русского посланника во Франции князя Барятинского. Зеваки толпились на улице, мечтая хотя бы мельком увидеть эту пару, а их искренние комплименты бурно расцветали, когда супруги проходили мимо. Однако некоторые наивно удивлялись тому, что настоящий великий князь, воплощающий такую огромную и мощную страну, не был в действительности «ни Гераклом, ни Атлантом». Те, кому повезло оказаться вблизи него, рассказывали, как выглядит великий князь: он человек среднего роста, с не совсем гармоничными чертами лица, его речь довольно-таки скована; но они подслащивали этот нелестный портрет, восхитясь живостью его мыслей и гордой улыбкой. «Ле Меркур де Франс» отмечала по этому поводу: «Говорит он мало, но весьма кстати, не эмоционально, но свободно и без демонстративной льстивости». Что касается великой княгини, то ее нашли немного полноватой, но главное – очень привлекательной. То, что эта пара персонифицировала «загадочную Россию», подогревало к ней интерес парижан, падких на славянскую экзотику. С конца этой эпохи французы познали моду на русофилию, моду непредсказуемую и сравнимую разве что со льстивой женщиной. Эта мода требовала, чтобы Россию подавали под любым соусом. Магазины стали развешивать броские вывески: «А-ля императрица России», «А-ля русская дама», «А-ля русский кавалер». Воодушевленный этой единодушной доброжелательностью, Павел горел нетерпением как можно быстрее быть принятым королем в Версальском дворце.
Наконец это осуществилось: Людовик XVI и Мария-Антуанетта приняли графа и графиню Северных в замке с помпезностью, не имеющей прецедентов. Праздник продлился несколько дней. Это были интимные ужины, гала-обеды, костюмированные балы и музыкальные спектакли. Обычные хроникеры событий этого жанра отмечали, что в вечер премьеры пьесы Гретри «Заира и Азор», в театре Пети Трианон, графиня Северная продемонстрировала очень оригинальную прическу, украшенную крошечной птичкой из драгоценного камня с подвижными крыльями, раскрывающимися при помощи пружинки. По другому случаю она, по словам баронессы Оберкирх, использовала «очень модную штучку […]: в прическу были заложены маленькие плоские бутылочки, изогнутые по форме головы, заполненные немного водой и скрытые бриллиантами. В них были вставлены живые цветы, а вода поддерживала их в невянущем виде и придавала прохладу голове». По словам этой очевидицы: «Это было прелестно: весна на голове среди снегов пудры». Прическа великой княгини произвела ошеломляющий эффект. На другой вечер на балу, устроенном в Версальском дворце в Зеркальной галерее, роскошь платьев затмила все действо, и женщины, забыв о танцах, изучали и сравнивали свои туалеты. Невозможно не упомянуть и тот день, когда графиня Северная продемонстрировала себя, «одетой в роскошное одеяние из парчи, расшитое жемчугом на панье из шести локтей». Во время приема, устроенного графом д'Артуа в Багателле в честь уважаемых русских гостей, один куплет, прочитанный экспромтом среди концерта, вызвал неистовые аплодисменты присутствующих:
К Вам достаточно лишь приблизиться, Августейшая чета, чтобы Вас познать. Если Вы и захотите внезапно скрыться, То укройтесь в добродетели, которую Вы же и являете.Затем состоялись визиты в Севр и Марли. В замке Шантильи принц Конде принимает своих гостей с королевским размахом. Обед был сервирован в золотой и серебряной посуде, и после каждого блюда прислуга выбрасывала использованные тарелки и другую утварь в окна. Как выяснилось на следующий день – под стенами дворца находился ров с водой, оттуда их вылавливали сетями. Другое развлечение, устроенное тем же принцем, – охота с факелами на оленей. Этот прилив почтения окончательно покорил Павла, и он все больше ощущал себя во Франции, как в России. Но в то же время цесаревич не мог отделаться от мысли, что из правителей государств единственный, кто не принимает его всерьез, – это его собственная мать. Присутствовавший на этой триумфальной встрече молодого великого князя, не привыкшего у себя дома находиться на первостепенных ролях, Гримм отметит в своей «Литературной корреспонденции»: «В Версале он производил впечатление знатока Французского двора, изучившего его так же хорошо, как и свой. В мастерских наших художников (с наибольшим интересом он виделся главным образом с мсье Грёза и мсье Гудоном) он выказал такие познания в искусстве, которые делали его одобрения для них более ценными. В наших лицеях и академиях своими похвалами и вопросами он доказал, что он давно знает тех людей, просвещенность или добродетели которых сделали честь их веку и их стране». Тот же придворный интриган Гримм снова пишет Екатерине, утверждая, что в Париже ее сын и невестка обрели большой успех «безо всяких „если“ и „но“. В противоположность ему государственный министр Эдельшейм, который встретил великого князя во время его визита в герцогство Бад, писал: „Цесаревич вобрал в себя все безумство, высокомерие, слабость и эгоизм. Его голова, казалось, сделана для того, чтобы носить корону из глины“. А принц Де Линь (Шарль Жозеф) также подтвердил нелицеприятное описание этого персонажа: „Ум его был обманчивым, сердце прямолинейным, мнение – чистой случайностью. Он был подозрительным, обидчивым […]. Строящий из себя фрондера, разыгрывающий из себя преследуемого […]. Горе его друзьям, врагам, союзникам и подданым! […]. Он ненавидит свой народ и говорил мне о нем когда-то в Гатчине такое, что я не могу повторить“»[16].
Во время пребывания великого князя в Вене актер Брокман, который должен был играть роль Гамлета в пьесе Шекспира, отказался появиться на сцене театра, опасаясь, как бы Его Высочество не усмотрел в душевном смятении принца Датского намек на свои собственные неурядицы с матерью, безнаказанной подстрекательницей убийства его отца.
Таким образом, несмотря на все усилия к равновесию, Павел дезориентирует свое окружение изменениями курса и перепадами своего настроения. Даже те, кто любил его и считал, что знает его, никогда не были уверены в том, будет ли человек, с которым они только что разговаривали, тем же по прошествии всего нескольких минут. Не существовало одного Павла, который следовал бы своей дорогой только ему присущей походкой, а были четыре или пять разных Павлов, с разными душами, но с одним телом. Он не вводил в заблуждение окружающих его людей и каждый раз был искренним. Просто не было никакой последовательности ни в его мыслях, ни в его поведении, ни в его личности. Всякий раз разрываясь между собой и своим двойником, он просто взвинчивал внешние обстоятельства до такого биения пульса, с каким в данный момент бурлила кровь в его артериях. Раздвоенный и непредсказуемый, он сглаживал экстравагантность своего резкого характера присущим ему великодушием.
После первого свидания с четой великих князей Людовик XVI прошептал на ухо князю Барятинскому: «Они прекрасны, я очарован знакомством с ними и очень их люблю». Мария-Антуанетта также призналась, что была пленена простотой и непринужденностью графа и графини Северных. Тем не менее день ото дня она все более догадывалась, что за этой видимой супружеской гармонией скрывается глубокая печаль. И на самом деле, к тому времени как Павлу посоветуют расстаться с радушным гостеприимством, оказанным ему Францией как весьма значимому лицу в России, тревожные вести доберутся до него из Санкт-Петербурга. Полиция перехватила и сделала копию письма, адресованного Александру Куракину, другу и члену свиты великого князя, и написанного неким полковником Бибиковым. Последний описал в этом письме дела, происходящие при Российском императорском дворе, а также перечислил в нем серьезные обвинения против фаворита Екатерины Потемкина. Взбешенная этим посягательством на свой престиж, Екатерина приказала арестовать зарвавшегося клеветника и после допроса приговорила его к ссылке. Извещая сына об этом решении, императрица выразила негодование в отношении виновного, «облагодетельствованного» ею, который по причине своей неблагодарности и наглости «будет подвергнут наказанию розгами». Она также добавила, что «это дело может послужить для преподнесения молодежи полезного морального урока». Иначе говоря: «Мы еще встретимся, до встречи!»
Несмотря на то что Павел был абсолютно поражен инициативой Бибикова, он содрогнулся от строгости, проявленной к нему его матерью. Он как будто бы почувствовал мраморную руку императрицы, опустившуюся на его плечо. Есть ли на земле такое место, где он мог бы укрыться или, по крайней мере, забыться? Она его отыщет и на краю света, если это будет необходимо для того, чтобы оттаскать его за уши. Если, конечно, она удовлетворится только этим! Но она должна пока еще держать в секрете свои весьма опасные планы. Став очень подозрительной после клеветнического письма Бибикова, не потребует ли она возвращения четы великих князей в Россию? И это будет только началом вереницы репрессий. И до каких пределов пойдет она в вымещении своей злости? Женщина, совершившая убийство своего мужа, способна так же поступить и со своим сыном. Страх Павла достиг такой силы, что во время приема в Версальском дворце он не смог сдержаться и пожаловался Марии-Антуанетте на свою зависимость и пренебрежение, которые он испытывает в России, несмотря на тот высокий статус, которым официально наделен. В порыве откровенности он воскликнул перед королем и королевой, ощущавшими себя неловко от не совсем протокольного признания: «Ах! Я бы очень досадовал, если бы в моей свите был даже пудель, верный мне, потому что мать моя велела бы его утопить тотчас после моего отъезда из Парижа!»[17]
Оставляя Французский двор удивленным этим неуместным выпадом, Павел с женой и своим высоким кортежем собирается в дорогу. Он полагал облегчить свое сердце в Версале, однако с каждым этапом пути его обеспокоенное состояние только ухудшается. Он весь обуреваем мрачными предчувствиями. В одном из брюссельских салонов он рассказывает о необычном видении, которое не так давно явилось ему. Как-то в поздний час, покинув стол после одного славно проведенного вечера, он вышел на улицу побродить по Петербургу. Стояла светлая, теплая ночь, светила луна, и вдруг в глубине одного из подъездов он увидел фигуру человека довольно высокого роста, худощавого, в испанском плаще, закрывавшем ему нижнюю часть лица, и в военной шляпе, надвинутой на глаза. Приблизившись к нему, незнакомец позвал цесаревича глухим и печальным голосом:
– Павел!
– Что тебе надобно? Кто ты таков?
– Бедный Павел! Кто я таков? Я часть той силы… я тот, кто хочет тебе добра. Чего мне надобно? Прими мой совет: не привязывайся сердцем ни к чему земному, ты недолгий гость в этом мире, ты скоро покинешь его.
И как только призрак удалился от него, Павел с изумлением узнал в нем своего прадеда. Продолжая свой рассказ, Павел уверял своих слушателей, слушавших его с раскрытыми ртами: «Я легко различил в этот момент его лицо: орлиный взгляд, обветренный лоб, строгий нос моего прадеда Петра Великого. Прежде чем я успел удивиться и ужаснуться, он исчез. Я помню мельчайшие детали этого видения, оно было одним и тем же и все время стоит перед моими глазами». В заключение Павел заметил, что его встреча лицом к лицу с призраком происходила на Сенатской площади, именно там, где императрица решила воздвигнуть конную статую Петра Великого на каменной глыбе, осуществить этот проект было поручено скульптору Фальконе. «И мне – страшно, – сказал он наконец, – страшно жить в страхе: до сих пор эта сцена стоит перед моими глазами». Эти последние слова прозвучали в полной тишине. При полном замешательстве всех присутствовавших принц Де Линь спросил великого князя: «Какую же, государь, мораль можно вывести из сей притчи? Как вы полагаете, что же может означать это видение?» Павел выпрямился и тихо ответил: «Очень простую. Я умру молодым, мсье»[18].
Это пророческое явление преследовало великого князя до Голландии, там он посетил университет Лейдена, где ему показали непритязательный швейцарский домик Саардама, где Петр Великий прожил некоторое время, пока обучался ремеслу плотника. Рассказывали, что Петр следовал своему учителю во всем. Однако что же означала для Павла эта встреча с прошлым? Означала ли она то, что он должен готовиться в скором будущем к смерти, или же то, что его прославленный предок появился из могилы для того, чтобы оценить его: достоин ли он унаследовать сей трон? И что отныне долженствует ему: страшиться или радоваться тому, что эта тень будет преследовать его по пятам?
Во Франкфурте, когда Куракин предложил ему посетить масонское собрание, он с энтузиазмом принял приглашение разделить таинство «посвященных». Ритуалы, которым его подвергли во время его посещения, доставили ему ослепление открытия. Весь неизъяснимый феномен возвестил его глазам неизбежность «великого откровения». Он находил для себя наслаждение в этом эзотерическом учении, возродившемся в Швейцарии на уроках знаменитого философа и френолога Лаватера. Он знал, что его мать соперничает с французскими философами, ненавидит идеалистов, мечтателей, коллекционеров суеверий, предзнаменований и прочей шелухи, а это подталкивало его, бросив ей вызов, утвердиться в своем интересе к иррациональным теориям.
Сторонник строгой военной дисциплины, он внимательно следил за тем, чтобы каждая пуговица на униформе была на месте, и наказывал солдат, которые их с постоянной регулярностью теряли, он не испытывал страстного желания оставить тот мир, в котором все было отрегулировано и дважды два всегда было четыре. Это противоречивое обольщение порядком и беспорядком являлось характерным своеобразием не только его натуры. Швейцария также состояла из контрастов. Он видел в ней самую спокойную страну, самую гостеприимную, но в то же время хранимую самыми недоступными и самыми грозными вершинами в мире. Описывая эту страну, Павел напишет митрополиту Платону: «Даже ужасные горы предлагают здесь прекрасный спектакль».
Когда ее муж забывал о политике, чтобы полюбоваться пейзажами, проявить интерес к религиям, нравам тех стран, которые они проезжали, у Марии в эти лучшие моменты их путешествия появлялся вкус к жизни. Во время короткого пребывания у ее родителей он, желая сделать ей приятное, сопровождал ее в прогулках по деревенским местам ее детства. Однако, к огорчению молодых супругов, совсем немного передохнувших в семейном убежище родителей жены, они должны были отправляться в дорогу. Их отдых был скоротечным. Затянувшись на долгий срок, маршрут их путешествия вновь пролегал через Вену. Вновь повстречавшись с великим князем, император Иосиф II повторял ему свои призывы к укреплению дружбы между русским и австрийским народами. Соглашаясь со всем на словах, Павел, тем не менее, чувствовал, что не в силах отказаться от своего благоговения перед Пруссией, а через нее и от уважения к своему отцу Петру III, страстному поклоннику «великого Фридриха». Пройдя небольшой экзамен на сознательность, он пишет барону Остену Сакену: «Необходимо, чтобы мы уважали друг друга, этого достаточно, чтобы постоянно выправлять […]. Все остальное не более чем химеры»[19].
Написав эти строчки, он не принял во внимание, что «химеры», о которых он так презрительно отзывается, были порождены и набрали силу как раз овациями, которыми его встречали из города в город за границей. Опьяненный своей популярностью за рубежом, он с простодушием стал воображать, что с тем же энтузиазмом будет встречен в России. Однако с первых же минут пребывания на родной земле он почувствовал, что родина далека от того, чтобы здесь забавляться, и что, возможно, он утратил в своей стране то, что обрел в других. За каждой избой, каждой рощей, каждой церковью он обнаруживал молчаливое непризнание! Непризнание, инспирированное Екатериной. Что же ожидало его в конце пути? Ведь это не сумасшедшие австрийцы, итальянцы и французы, издающие радостные возгласы, а родная мать, которая его ненавидит, лукавые и честолюбивые придворные, негодующие священники, укоряющие его за симпатии к еретикам, и народ, больше занятый тем, как утолить свой голод, чем порицанием темных интриг царских дворов! По мере того как он приближался к Санкт-Петербургу, ледяное отчуждение, которое он почувствовал всем своим существом, с головы до ног, объяснялось не только свежестью северного климата.
V. Вымуштрованная гатчина
После второго посещения Павлом и Марией Федоровной Вены Иосиф II, попрощавшись с супружеской четой, написал Екатерине, заверяя ее, что, встретив своих «детей», она увидит, как они остепенились, сделались покорными и были приняты лучшими семействами Франции и Австрии. Однако в письме своему брату Леопольду Тосканскому тот же Иосиф II выражал сомнение, что по своему возвращению в Россию «великий князь вновь не столкнется с теми неприятностями, которые он имел прежде до своего путешествия». И конечно, достаточно многочисленные посещения европейских аристократических кругов не совсем подготовили цесаревича к тому, чтобы снова надеть мундир безукоризненного наследника короны, искушенного во всех дипломатических тонкостях компромисса в ожидании своего часа. Хотя он и приобрел уверенность за восемнадцать месяцев странствий из одной европейской столицы в другую, но Екатерина осталась той же, какой и была. Благодаря донесениям своих послов и шпионов она была в курсе всех, даже малейших, поступков и любых разговоров великого князя и еще до возвращения сына и невестки знала, что первым делом ей необходимо будет снова прибрать их к рукам. Она, конечно же, не приготовила никаких иллюминаций или фейерверков, никаких народных гуляний в честь их благополучного возвращения в родные пенаты. Встреча была выдержана в почтительном духе и по-домашнему скромна. Обняв Павла и Марию Федоровну и представив им детей, которые, слава богу, прекрасно выглядели, императрица сразу же перешла в атаку. Для начала она подошла к невестке и испортила ей настроение, отчитав за напрасную трату денег на излишнюю роскошь в одежде. Молодая женщина привезла с собой более сотни коробок с украшениями, шалями и лентами. Всем этим можно было обновить гардероб тридцати шести принцесс. Счета мадемуазель Бертан, поставщицы, которую Марии Федоровне рекомендовала Мария-Антуанетта, достигали баснословных цифр. Даже великая княгиня России не имеет права выбрасывать деньги в окно, заявила Ее Величество. По ее приказу так и не раскрытые коробки с платьями и украшениями были отправлены обратно во Францию без оплаты счетов. В то же время были приглашены продавцы модной одежды из Санкт-Петербурга, которым было указано, чтобы при изготовлении туалетов для их клиентов они воздерживались от показной и дорогостоящей роскоши.
После того как им погрозили пальцем за их необдуманные поступки, княжеская чета пережила еще один мрачный период, когда продолжились карательные меры, предпринятые против одного из их спутников – милейшего Куракина. Обвиненный в том, что попустительствовал дерзостям, изложенным в печально известном письме Бибикова, несчастный был сослан в свое имение без права выезда оттуда. Хотя Павел мог еще изливать душу своему верному и испытанному другу, бывшему наставнику Никите Панину, но последний был не более чем фантом – его допускали разве что в прихожие дворца. Возраст и изнурительные труды подкосили его здоровье. 31 марта 1783 года этот старик, единственный, кто мог когда-то понять своего подопечного и управлять им, несмотря на его гнев и капризы, испустил последний вздох на руках Павла. На следующий день после этой потери у Павла появилось ощущение, что живая ограда, которая оберегала его ото всех неприятелей и, возможно, от самого себя, вдруг неожиданно рухнула. Эта внезапно образовавшаяся пустота подвигла его на сближение с женой, в которой он пытался найти защиту от превратностей судьбы и одиночества. Она, со своей стороны, всецело готова была его поддерживать, поскольку, хотя и не отличалась обидчивым характером, но в то же время не доверяла проискам и злословию окружения императрицы. Чтобы избежать всяческих толков, а также протокольной обязанности «большого» двора Ее Величества, они устроились в своем личном «малом дворе», дорогом для них поместье в Павловске. Постепенно Екатерина запретила внукам посещать это убежище родителей. В свое свободное время Мария Федоровна занималась садом, гуляла по аллеям парка, собирала травы, часто рисовала, Павел же, напротив, впал в праздность, он только и делал, что гневался, на все жаловался и критиковал при свидетелях свою мать за то, что она потакает возвышению бывшего любовника Потемкина.
После того как Потемкин окончательно покинул спальню императрицы, он достиг в своей карьере новых значительных вершин. Так, во многом благодаря его дипломатическим и военным успехам Россия смогла присоединить к себе Крым. Чтобы отблагодарить его за это, Екатерина пожаловала ему титул Его Светлейшего Высочества князя Таврического. Павел, хотя и знал, что благодаря последним победам этого бывшего фаворита России наконец обеспечен доступ к Черному морю, а Константинополь находится на расстоянии вытянутой руки, был очень недоволен тем, что его мать одаривает такими высокими почестями этого простолюдина.
Турецкая дипломатия заявила протест против насильственной аннексии Крыма. Ситуация находилась на грани возгорания нового конфликта, и Павел лелеял надежду снова схлестнуться с неверными. Но Екатерина не давала ему возможности отличиться на полях сражений и тем самым тоже снискать себе лавры Потемкина. В это время императрица оплакивала смерть одного из своих старых любовников – Григория Орлова, того самого, который двадцать лет назад помог ей избавиться от мужа и узурпировать трон. «Виновник» скончался 12 апреля в результате приступа черного бешенства. Поговаривали, что его неотступно преследовало воспоминание о своем преступлении. «Хотя и очень готовая к этому скорбному событию, я вам признаюсь, что пережила самую сильную скорбь, – писала Екатерина Гримму. – Меня утешают, и я говорю сама себе все, что можно говорить в подобных случаях: приступы рыданий являются моим ответом, и я ужасно страдаю». Ее новый любовник, молодой Александр Ланской, помогает ей забыть свою печаль. Другая новость приободряет императрицу: 29 июля 1783 года Мария Федоровна произвела на свет дочь, великую княгиню Александру. Чтобы отблагодарить ее за прибавление императорской семьи, Екатерина милостиво дозволяет оставить ребенка у матери и советует «своему любимому сыну, великому князю Павлу, чтобы он, наконец-таки, заимел свой „удел“» – поместье Гатчину, недавно выкупленное Екатериной у наследников покойного Григория Орлова.
Это обширное поместье, находящееся в пригороде столицы, насчитывало пять тысяч жителей. Если дворец в Павловске выглядел одновременно и элегантным, и скромным, то дворец в Гатчине, напротив, имел массивную архитектуру, вызывая неприятное и даже тревожное ощущение. Длинный, мрачный и однообразный фасад придавал ему видимость казармы. Внутри дворца находилась колоннада из каррарского мрамора, скульптуры под античность, фрески на стенах, выполненные в духе Рафаэля, аллегорическая роспись потолков – все это только усиливало впечатление холодной роскоши, скуки и дисциплины. Это был музей, превращенный в крепость. Мария Федоровна приспособилась так быстро, что совсем не замечала неудобств этого княжеского жилища, где даже мебель создавала впечатление приготовлений к обороне. Она все так же продолжала выращивать цветы, редкие растения и занималась живописью. Ею были даже написаны несколько портретов исторических персонажей, мудрости которых ее муж хотел бы подражать во время своего царствования: Петр Великий, Фридрих II, Генрих IV…
Павел ценил талант, высокие добродетели Марии Федоровны. В противоположность своей жене, которая почти не ощущала преимуществ их новой резиденции, самого Павла она удовлетворяла тем, что он видел в Гатчине прежде всего идеальное место для внедрения своих политических концепций. Хозяин небольшого общества и небольшой территории, он практиковался здесь в управлении всей империей, осуществляя пока свою власть над миром в уменьшенном масштабе. Озабоченный прежде всего тем, чтобы оставить в этой скромной вотчине след своих философских, социальных и военных убеждений, он воздвигает рядом с православной церковью, расположенной на этой территории, католический костел и протестантский храм. Таким образом, еще два христианских вероучения благополучно соседствуют с официальной религией России. Чтобы развеяться и оживить жизнь «второго двора», Мария Федоровна еженедельно по понедельникам и субботам устраивает балы. Иногда любителями высокой словесности на сцене гатчинского театра ставилась комедия или устраивался вечер, посвященный литературным дискуссиям, в котором принимали участие заезжие литераторы. Библиотека дворца насчитывала сорок тысяч книг. Ее хранителем был француз по происхождению, автор поэм и весьма симпатичных опер мсье Лафермьер. В перерывах между актами спектакля или декламацией играла скрипка, присутствующие порой развлекались игрой в жмурки. С визитом к Их Высочествам наведывались политики и литераторы из Франции: швейцарец по происхождению критик Лагарп, искусный дипломат, хорошо знакомый императрице граф Луи-Филипп де Сегюр. Все они с большим любопытством приезжали сюда, для того чтобы воочию познакомиться с нравами этого закрытого от посторонних глаз мира, расположенного всего в нескольких часах езды от Санкт-Петербурга, но казавшегося абсолютно чуждым остальной России.
Повинуясь указаниям Павла, Гатчина быстро превратилась в разновидность прусской заплатки в толщу национальной материи. Вся ее атмосфера была пропитана духом Потсдама. Разговоры там велись чаще на французском и немецком языках, чем на русском языке. Это искусственное отчуждение позволило великому князю легче переносить ссылку, которую создала ему императрица, сделав из него мелкопоместного властелина. Осознавая это закамуфлированное под выдвижение наказание, Павел написал 8 июня 1783 года барону Остену Сакену: «Я совершенно никак не принимаю участия в политике, я оставил это занятие газетчикам. Моя задача только помалкивать». На следующий год он уточняет свою мысль в письме Румянцеву: «Мне вот уже тридцать лет, и я еще пока ничего не сделал. Я об этом даже не помышлял. Я положился на волю Бога и этим утешился […]. Мое спокойствие […] основывается не на тишине, которая меня более или менее окружает, а только на осознании и убеждении, что существуют неизменные ценности, к которым можно стремиться некой умственной силой. Это возвышает меня, придает терпение, которое многие люди принимают за нечто мрачное в моем характере».
Всегда предупредительный по отношению к своей жене, Павел не был порой равнодушен и к красоте фрейлины великой княгини, некой Екатерины Нелидовой, выпускнице Смольного института, которой, как и ему, исполнилось тридцать лет. В отличие от Марии Федоровны – высокой, пухлой блондинки – Екатерина Нелидова была миниатюрной смуглой брюнеткой, общительной крошкой с блестящими черными глазами. Графиня Варвара Головина, тоже фрейлина, описала ее в своих «Воспоминаниях»: «С маленькими неуловимыми глазами, со ртом, растянутым до ушей, с высокой талией на небольших таксообразных ножках, она имела не очень привлекательную фигуру. Однако она была очень талантлива и умна». Мария Федоровна ценила общество этой молодой особы, наружность и реплики которой развеивали ее скуку, вызванную нудными правилами этикета. Павла же увлекло то, что она была новым лицом в их окружении. Екатерина Нелидова была неспособна разрушить гармонию, установившуюся между супругами, но ее присутствие вносило некоторую пикантность, в которой они оба нуждались для скрашивания их супружеской рутины. Не являясь любовным треугольником, Их Высочества и фрейлина составляли неразделимую коалицию, контрастирующую со всякого рода безнравственностью и извращенными искушениями. Однако недоброжелатели доносили императрице об их слишком близком союзе. Предупреждая о разговорах, которые ходили на эту тему, Екатерина Нелидова несколько лет спустя написала великому князю: «Разве я искала в Вас для себя мужчину? Клянусь Вам, с тех пор, как я к Вам привязана, мне все кажется, что Вы моя сестра»[20]. На самом же деле эта двусмысленная ситуация, в которой никто из троих ее участников особо не вникал в истинную природу их отношений, воздействовала на чувства и Павла, и его жены. Это виртуальное непостоянство помогало им более надежно сохранять реальную верность, чем та клятва, которую они дали в церкви. Доказательством тому являлось и то, что меньше чем через полтора года после рождения Александры Мария Федоровна родила маленькую Елену, четвертого ребенка. В то время как маленькая Александра еще плакала в своей люльке, их сыновей Александра и Константина продолжали натаскивать, как щенков, под любовным взглядом бабушки. Императрица считала, что ее невестка, имея такую плодовитость, не остановится и на этом. И действительно, 4 февраля 1786 года традиционные артиллерийские залпы и колокольный звон известили о рождении третьей дочери Их Высочеств – великой княгини Марии.
Удовлетворенный в своих отцовских амбициях, Павел непременно стремился стать таким же и в исполнении своих военных планов. Если уж он имел в своем полном подчинении автономное княжество в центре России, то почему бы ему не содержать армейскую часть, которая была бы прообразом той огромной действующей армии, командование которой он возьмет на себя после восшествия на трон? Наблюдая за действительностью, имевшей место в войсках великой империи, он обнаруживал в ней и небрежность, и непрофессионализм, и фаворитизм, и дезорганизованность, которые приобретали все более утрированный характер. Офицеры элитных частей больше усердствовали на балах и спектаклях, чем на войсковых смотрах, для того чтобы быстрее добиться продвижения по службе, они в большей степени рассчитывали на свои связи с двором, чем на свою воинскую выучку. Стремясь противодействовать нерадению, угрожавшему растлением дисциплины во всех наиболее прославленных полках России, Павел пригласил в военные части, находящиеся под его командованием в Гатчине, прусских инструкторов, расквартировал их на своей территории, присвоил им звания унтер-офицеров и поручил им наведение порядка и контроль за пунктуальным его соблюдением. Это нововведение, направленное на повышение духа дисциплины и самоотверженности, послужит, как полагал он, примером для всех остальных воинских формирований империи. В 1788 году в его подчинении находилось целых пять батальонов. Вскоре в них насчитывалось две тысячи пятьсот солдат, которые могли быть использованы по его личному усмотрению. Их экипировка и воинский устав радикально отличались от общепринятых в регулярных российских войсках. Меньше чем через месяц эскадроны его кавалерии и артиллерийские части скомплектуют новую армию.
Этим возвратом к «истинным ценностям» Павел решил противодействовать последним инициативам своего заклятого врага – всемогущего Потемкина. Именно по идее последнего была осуществлена «реформа» армейского обмундирования, которая со времен Семилетней войны безнадежно устарела. Согласно ей отрезались косы, отменялось использование пудры для волос, вводилась более удобная униформа (вместо долгополых мундиров – куртки; вместо коротких штанов – широкие шаровары, в которые были обычно одеты простые люди). Возмущенный этим пренебрежением традициями, Павел потребовал, чтобы его люди так же, как и он, напомаживали и напудривали головы, чтобы они носили огромные гренадерские шапки и короткую трость, высокие, до колен, сапоги, обтягивающие ноги, а также длинные, до локтей, перчатки. По его мнению, некоторое неудобство, создаваемое униформой, только побуждает к максимальной сосредоточенности перед опасностью и проявлению боевого духа при столкновении с противником.
К участию на парадах солдаты будут строго отбираться, а остальные больше уделять время для отработки боевых действий на полях сражений. Офицерам предписывалось проявлять максимальную требовательность к своим подчиненным на тренировочных занятиях. Так солдатская атмосфера Пруссии была перенесена на почву Санкт-Петербурга.
Проводя строевой смотр своих войск, Павел ощущал себя в Берлине в роли Фридриха II. И неважно, что волонтеры, набранные для развлечения гатчинского правителя, были в большей своей части отбросами полков императрицы. С этими грубыми, неграмотными отбросами и дезертирами Павел утверждался в своей способности сформировать неуязвимую армию. Он набирает офицеров с луженой глоткой и мозгами без извилин, которые безропотно приступили к выполнению своей задачи укротителей. Наиболее требовательным солдафоном среди них был некто капитан Алексей Аракчеев, прозванный «гатчинским капралом». Со своим иссохшим лицом, птичьим подбородком, крошечными серо-стальными, глубоко посаженными глазками он всегда казался воплощением злого быка, тщательно готовящего задуманное коварство. Одновременно выражая гротеск и беспокойство, он, по мнению некоторых очевидцев, имел вид обезьяны в военной форме. Павел ценил и его раболепство, и его рвение. Он мечтал, как только придет к власти, набрать таких же командиров на все должности: военные и гражданские. Не высказываясь об этом публично, он был убежден, что Россия будет когда-нибудь спасенной, если весь народ станет солдатами, а все дома будут казармами.
В ожидании создания этого рая, где все будут одеты в униформу, необходимо навести порядок в Гатчине, превратив ее в военный лагерь с охраной, конюшнями и плацами. На месте, отведенном для проведения парадов, военные подразделения часами занимались строевой подготовкой, отрабатывая прохождение по прямой в колонне, приемы с оружием, перестроения, тренируясь выполнять все это с высокой синхронностью. Во время этих нескончаемых смотров Павел, с надменным видом и тростью в руке, пьянел от чувства своего могущества – он один значил больше, чем эти тысячи взаимозаменяемых гомункулусов, проходящих перед ним, четко чеканя шаг каблуками своих сапог. Эта демонстрация мелочного деспотизма, конечно, удивляла великую княгиню, но ни в коем случае не беспокоила ее. Прежде всего она была всегда уверена в том, что Павел после проведения инспекции полков, вернувшись в семью, останется таким же нежным, как и прежде. Она считала, что эти мужские пристрастия помогают ему избавиться от накопившегося в нем самом унижения и горечи. И даже императрица, которая могла бы посчитать укрупнение некоторых его полков, происходящее вне ее армии, опасной для себя тенденцией, совсем не била по этому поводу тревоги. Она усматривала в этом ребячество и манию, которую Павел унаследовал от своего отца. Екатерина надеялась, что это безобидное увлечение отвлечет великого князя от действительно опасных намерений. Жаждущему власти порой бывает достаточно и видимости власти для удовлетворения своих амбиций. Благодаря этой «закуске» Ее Величество была уверена в том, что до конца своих дней она не будет иметь забот относительно незыблемости ее власти.
Конечно, некоторыми лицами из окружения императрицы блажь цесаревича расценивалась как предательство национальных традиций и как акт преклонения перед Пруссией. Во время своего визита в Гатчину принцесса Сакен-Кобургская, которую трудно было заподозрить в антипрусских настроениях, была поражена сценой смотра павловских полков, дефилировавших перед своим хозяином. «Хуже всего, – писала она, – видеть красивых русских солдат, изуродованных прусскими мундирами допотопного покроя времен Фридриха Вильгельма I. Русский должен оставаться русским, он это чувствует; каждый из них считает, что в рубахе навыпуск и с волосами, стриженными под горшок, он выглядит лучше, чем с косичкой и в куцем мундире: он страдает в Гатчине. Офицеры имели такой вид, как будто бы они сошли со старых альбомных фотографий. И если это не тот язык, на котором они разговаривают, то как же его могут воспринимать русские? И нельзя сказать, что эта метаморфоза является следствием большого ума. Мне было горестно увидеть такую перемену, потому что я в высшей степени люблю этот народ». Это замечание саксонской принцессы, впрочем, нисколько не смутило императрицу: чем больше ее сын предавался солдафонству, тем больше она удостоверялась в безобидности этого военного маскарада.
Другое увлечение великого князя обеспокоило как русских, так и иностранных наблюдателей: проявляемый им интерес к религиям, соперничающим с православием, в том числе к сектантским и всякого рода эзотерическим учениям шарлатанов. В противоположность своей матери, холодная трезвость которой отрицала всякое суеверие и модные интеллектуальные ниспровержения, он с жадностью читал сомнительные духовные книги. Вместо того чтобы критически отнестись к этому безусловному отклонению, Мария Федоровна, которая также воспринимала Бога только в исступлении, поощряла стремление Павла пуститься в самые авантюрные медитации. Он ознакомился с мистицизмом Сен-Мартина, с учениями других врачевателей душ и пришел к откровению, которое познал во время своего путешествия в среде франкмасонов. Завороженный таинственными ритуалами этого братства, он не признавался тем не менее в своей к нему ангажированности. Единственное, что его сдерживало, – страх быть в этом уличенным и разоблаченным. Императрица, хотя и была убежденной вольтерианкой, не простит Павлу этот достаточно необычный демарш со стороны наследника трона, который в силу своего назначения был призван защищать официальную религию.
В самом деле, пока Павел развлекался, устраивая парады со своими солдатами, и его планы не имели никакой практической реализации, Екатерина ежедневно пребывала в плену принудительной реальности. Разрываясь между двумя советами министров, она еще успевала и управляться со своими любовными делишками, которые вновь стали причиной ее озабоченности. Ее душечка Александр Ланской, которого она страстно полюбила, воспринимая его «как духовного сына», имел слабое здоровье. Чтобы не потерять лицо и оправдать ожидания своей императорской любовницы, он прибегал к использованию возбуждающих средств на базе порошка шпанской мухи. Однако этот изнуряющий режим довел его до истощения. Неведомая болезнь приковала его к постели, вызвав лихорадочное состояние. Он терял силы. Лекари определили у него дифтерию. 25 июня 1784 года, к величайшему сожалению пятидесятипятилетней Екатерины, он умер в возрасте двадцати шести лет. Она впала в ипохондрию и вообразила, что больше никогда и никого не полюбит. И на этот раз Потемкин привел ее в себя, отыскав ей фаворита, приемлемого во всех отношениях: им стал двадцатишестилетний красавец, гвардейский офицер Александр Ермолов. Она, «испробовав» его и привыкнув к нему, дала ему прозвище Господин Красный Мундир, в связи с тем что он носил мундир этого цвета, производивший впечатление прочного благополучия.
Павел был поражен подобным аппетитом, проявляемым его матерью к молодым поклонникам, поскольку в ее возрасте она должна была бы уже довольствоваться только своими воспоминаниями. Некоторые осмеливались шушукаться, когда речь заходила о любовной похоти императрицы, считая, что она страдает разновидностью «бешенства матки». Задумывалась ли Екатерина о том, что ее поведение может вызвать укоризну в ее адрес при «малом дворе» великих князей? Возможно, но она считала, что в ее положении, позволяющем ей возвышаться над всеми остальными, ей не перед кем отчитываться за свою частную жизнь. Она не принимала во внимание ничье мнение, а в особенности – мнение сына. Единственное, что для нее было по-настоящему важно, – это слава государства. А уж в политической сфере она не имела себе равных. Ее главной заботой теперь было убеждение настоящих и будущих историков в грандиозности предпринятых ею проектов. Необходимо, чтобы вся Россия служила витриной успехов Ее Величества и чтобы иностранные эмиссары считались с полетом двуглавого орла. С подсказки Потемкина одна изумительная идея зародилась в голове Екатерины – совершить грандиозную «пропагандистскую» поездку через всю империю до самого недавно завоеванного Крыма. Все иностранные канцелярии были извещены о предстоящем экстраординарном событии, организуемом прежде всего с целью демонстрации благополучия России под управлением Екатерины Великой. И сын, и невестка также стремились принять участие в этом триумфальном турне. Но она вовсе не собиралась делиться с ними лаврами славы. Не принимая во внимание обиду, которую она тем самым доставляла им, Екатерина хладнокровно вычеркнула их из списка многочисленной свиты. Вместо них, для того чтобы придать видимость целостности династической фамилии в предстоящем предприятии, она решила взять с собой в вояж десятилетнего Александра и восьмилетнего Константина. Удивившись этой экстравагантной выходке, Павел и Мария Федоровна тут же принялись упрашивать императрицу отказаться от участия детей в ее замысле. Но Ее Величество осталась непреклонной. Она утверждала, что речь здесь идет вовсе не о прихоти бабушки, захватившей их детей, а о том, что это чисто дипломатическая акция, в которой интересы государства поставлены на карту. Чтобы хоть как-то оправдаться перед ними, не прибегая к официальному языку, она пишет сыну и невестке: «Ваши дети принадлежат Вам, но они и мои, и государства. Я считала для себя приятным долгом с самого раннего их возраста заботиться о них нежнейшим образом […]. И вот как я разумею: вдали от вас для меня будет утешением, если они поедут со мной. Из пятерых детей трое остаются при вас. Неужели мне на старости лет придется в течение полугода лишиться всех членов моей семьи?» В качестве крайнего средства Павел даже прибегнул к ходатайству Потемкина, человека, которого он ненавидел больше всего, прося помочь ему преодолеть упорство Екатерины. Но и он, сделав попытку, уперся в глухую стену непонимания. К счастью или к несчастью, но за несколько дней до назначенной даты отъезда младший сын Константин заболел ветряной оспой. Болезнь передалась и старшему брату Александру. Оба ребенка были прикованы к постели. Несмотря на свое всесилие, Екатерина ничего не смогла поделать против болезни. Вопрос о том, чтобы отложить путешествие, даже не ставился, поскольку известие о нем заранее распространили повсюду.
7 января 1787 года в полярную стужу нескончаемый кортеж повозок с лошадьми, запряженными в парадную упряжь, покинул Царское Село. Позади экипажа императрицы растянулась вереница экипажей сановников, придворных, дипломатов, которые имели свою выгоду от всего этого помпезного апофеоза. Приняв участие в последних приготовлениях к экспедиции, новый фаворит Екатерины Петр Завадовский написал С.Р. Воронцову в Лондон: «Все прошло так организованно и конфиденциально, что никто из столичного начальства не знал, остается ли он или нет. Подлость, позор, лицемерие, ложь и хитрость, вся эта извечная атмосфера двора покинула берега Невы, направившись по направлению к Днепру». Оставшиеся со своим потомством в Гатчине, Павел и Мария Федоровна вынуждены были довольствоваться только письмами и отчетами о ходе этой акции, направленной на завоевание симпатий региона, который совсем недавно был присоединен к России силой оружия. Отзвуки, поступавшие от этого демонстративного спектакля, сильно раздражали великого князя, который вовсе не желал, чтобы его популярность в народе была ниже, чем у его матери.
11 июля, после полугодовых празднеств, поздравлений, приветствий, Ее Величество возвратилась в столицу. Она оставила за собой волну молвы о вероятной кампании против Турции, которая на этот раз требовала выведения русских полков из Грузии, а также права контроля за русскими кораблями при их выходе в Черное море. В ответ императрица подписывает 7 сентября манифест об объявлении войны Оттоманской Порте. Павел тут же загорелся своими воинственными планами и попросил разрешения пойти добровольцем в армию. Екатерина отказала. Но Павел упорствовал. Он был настолько уверен, что она в конце концов уступит, что 4 января 1788 года составляет завещательное письмо, предназначенное Марии Федоровне: «Любезная жена моя! Богу угодно было на свет меня произвесть для того состояния, которого хотя и не достиг, но тем не менее во всю жизнь свою тщился сделаться достойным […]. О, великие обязательства возложены на нас! […]. Тебе самой известно, сколь тебя любил […]. Ты мне была первою отрадою и подавала лучшие советы […]. Старайся о благе всех и каждого. […]. Детей воспитай в страхе Божии […]. Старайся о учении их наукам, потребным к их званию […]. Прости, мой друг, помни меня, но не плачь обо мне. Твой всегда верный муж и друг ПАВЕЛ». Другое завещательное письмо, датированное тем же числом, было посвящено детям: «Любезные дети мои! Достиг я того часа, в который угодно Всевышнему положить предел моей жизни. Иду отдать отчет всех дел своих строгому судии, но праведному и милосердному […], вы теперь обязаны перед Престолом Всевышнего посвящением жизни вашей Отечеству заслуживать и за меня, и за себя […]. Помните оба, что вы посланы от Всевышнего народу […] и для его блага […]. Вы получите сию мою волю, когда вы возмужаете. Когда Бог окончит жизнь Бабки вашей, когда тебе, старшему, вступить по ней […]. Будьте счастливы счастием земли вашей и спокойствием души вашей […]. Ваш навсегда благосклонный ПАВЕЛ». Он также составил план реформ, предшествуя его фразой «На случай…». В этом конфиденциальном документе он рекомендует для благополучия России сконцентрировать все могущество в руках царя, адаптировать некоторые законы к новым условиям, разделить общество на дворянство, духовенство, «среднего состояния» и крестьянство. Оказывать содействие большему отбору в армию и флот и их развитию, что будет гарантировать укрепление величия и прочность империи. Ничего нового в том, что он писал, кроме пожелания, особо выраженного великим князем, ознакомить со своей политической мыслью будущие поколения, не было. Поскольку он продолжал упорствовать в своем стремлении отправиться на войну с турками, где рисковал сложить голову на полях сражений, он и посчитал необходимым определить в своем последнем волеизъявлении черное и белое. Немного погодя, для того чтобы отговорить его от этого безумного намерения, у царицы появляется новый веский аргумент: великая княгиня в очередной раз забеременела. И с его стороны было бы совершенно бесчувственно покинуть ее, перед тем как она родит. Раздраженный этим замечанием, Павел отвечает, что всегда находится «какой-нибудь предлог для того, чтобы его задержать». На что императрица, также рассердившись не на шутку, заявила, что дискуссия отныне закрыта и что ее советы расцениваются как «приказы, не подлежащие никакому обсуждению». Лишенный спеси, Павел вновь втянул голову в плечи.
10 мая 1788 года Мария Федоровна разродилась четвертой дочерью, которую назвали Екатериной в честь ее знаменитой бабушки. Роженица, наконец, освободилась, и ее муж тоже: уже ничего более не мешало ему присоединиться к армии. Между тем, именно в это время король Швеции также решил усилить свои военные диспозиции. С этой стороны также запахло порохом. Великий князь неожиданно меняет свои намерения. Войну против турок он предпочел теперь войне против шведов. 30 июня Екатерина объявила войну стране Густава III, полки которого пересекли российскую границу. Из особой благосклонности в этот раз Павлу было разрешено примкнуть к графу Валентину Мусину-Пушкину, который принял командование войсками в этом секторе. Едва прибыв на место, Павел сопровождает Мусина-Пушкина, выехавшего на рекогносцировку ближайших вражеских линий. Передовой отряд шведов открыл по ним огонь. Две лошади под казаками, находившимися в сопровождении, были убиты. Вылазка завершилась без потерь и крови, а Павел был горд оттого, что ему пришлось соприкоснуться со смертью, и написал: «Теперь я окрещен!» Однако впоследствии шведы почти не проявили особого настроя продолжать свое вторжение в Россию. Убедившись, что наступление противника окончательно отбито, Павел возвратился в Гатчину, где его поджидало многочисленное семейство. Комментируя эту короткую военную стычку, императрица пишет Потемкину: «Шведы оставили Гекфорс; на нашей территории со стороны Финляндии не осталось никого. Их флот блокирован нашим в Свеаборге. Великий князь вернулся сегодня». Некоторые злонамеренные умы посмеивались по углам, поговаривая, что в качестве компенсации за проявленную наследным князем браваду царица пожалует ему крест Святого Георгия. Но они обманулись в своем злопыхательстве. Екатерина не стала отличать своего сына какой-либо почетной наградой. Она была далека от этого, и, более того, поговаривали, что, посмеиваясь над воинственными амбициями великого князя, она предложила в шутку учредить награду «Неудачник, или Несчастный вояка». Образ этого героя Екатерина изобразила в комической пьесе на французском языке. Это был простак-парень, который захотел поиграть в войну, изображая из себя рубаку, и в результате стал посмешищем для других глупцов. Эта небольшая пьеска была поставлена 31 января 1789 года в Эрмитаже в присутствии многочисленной публики, окружавшей великого князя и великую княгиню. Высказывались опасения, что во время спектакля может произойти семейный инцидент, но Павел не заметил аналогии между своим собственным приключением и театральным сюжетом. Несмотря на фарс, устроенный с тем, чтобы посмеяться над ним, он сделал вид, что не видит в этом злого умысла. Секретарь Екатерины Александр Храповицкий написал по этому поводу в своих «Воспоминаниях»: «К семи часам в присутствии царевича играли „Несчастного храбреца“ – рассказ о военных приготовлениях против короля Швеции […]. Все присутствующие позабавились, смеялись и хлопали в ладоши […]. Успех был грандиозный. Великий князь много смеялся и попросил еще раз посмотреть эту пьесу. Новая постановка состоялась 5 февраля». Каждый знал, что этот фарс обязан своим появлением таланту императрицы. Однако в программе фамилия автора не указывалась.
Среди публики, которая присутствовала вечером 31 января 1789 года на спектакле «Несчастный храбрец», находился новый фаворит императрицы Платон Зубов, который в ублажениях Ее Величества заменил Мамонова. Ему исполнилось двадцать два года, он имел розовый цвет лица, гибкий ум и сексуальный опыт. Но Екатерина не удовлетворялась только обладанием его красотой. Развращенная до мозга костей, она хотела видеть в нем столько же образованности, сколько и мужской потенции. Этот последний каприз своей стареющей матери вызывал у Павла всплеск сострадания и презрения. Он не одобрял ее увлечений молодыми, щедро оплачиваемыми жеребцами. И лишь молча сдерживал свое возмущение для того, чтобы приберечь его на будущее. Он больше не протестовал, когда Екатерина арестовала Александра Радищева, обвиненного за описание в книге «Путешествие из Петербурга в Москву» крайней бедности народа и порочности крепостничества. Оценивая это произведение, в своем письме Храповицкому Екатерина писала: «Тут рассевание французской заразы: отвращение от начальства». Осужденный 13 июля Радищев был приговорен к смертной казни, однако императрица его помиловала и согласилась на пожизненную ссылку в Сибирь.
В самом ли деле задумывался Павел о том, как вразумить тех, кто проповедует либерализм, снисходительность, любовь к обездоленным, в то время как во Франции восставший народ, не удовлетворенный взятием Бастилии, принудил короля и его семью покинуть Версаль и уехать в Париж? Кажется, в первый раз Екатерина и ее сын были единодушны по вопросу политики: если Россия хочет пресечь анархизм, подобный французскому, то ей необходимо сильное государство и покорный народ. На следующий год король Людовик XVI и Мария-Антуанетта, измученные нахождением в заточении у черни, переодевшись, попытались бежать через границу с фальшивыми документами, но были схвачены и заключены в Варен; было выявлено, что королева имела при себе фальшивый паспорт на имя некой мадам Корфф, дочери купца из Санкт-Петербурга. Посол России стал подозреваться в том, что приложил руку к этому печальному дезертирству королевской семьи. Екатерина сожалела, не по причине тактической смены официального посланника России, а потому, что плохо подготовленный побег провалился. Напуганные беспорядками в своей стране, некоторые французские эмигранты бежали в Санкт-Петербург и в Москву. И если осмотрительная Екатерина уклонялась вступать в коалицию с теми, кто желал бы использовать армию для восстановления монархии, то великий князь открыто призывал уничтожить революционную гидру. Его враждебное отношение к «красной каналье» было настолько жестким, что он даже не счел необходимым сдержаться, чтобы не задеть нового представителя Парижа мсье Женэ во время приема дипломатического корпуса, устроенного его матерью. В присутствии изумленных придворных он без всякой предосторожности дерзко произнес: «Это трудный момент для монархов. Если они не договорятся серьезно между собой о высылке из своих государств всех французов, которые будут подчинены новым законам, продиктованным Национальной ассамблеей, то я не ручаюсь, что через два года вся Европа не будет приведена в расстройство». Хотя Екатерина обычно раздражалась вмешательством сына в дела Короны, в этот раз она была вынуждена признать, что сказанное им вслух было тем, что она думала про себя. В ожидании выпровождения Женэ из России в Санкт-Петербурге ограничивались к нему холодным отношением и продолжали судачить с нарастающим гневом о действиях горстки сумасбродов в Париже, которые осмелились лишить Людовика XVI его королевских привилегий.
5 октября 1791 года по дороге в Молдавию в размышлениях о неясных перспективах будущего монархии в Европе Екатерина узнала о смерти того, кто всегда и повсюду был рядом с ней, приносил совет, преданность, любовь и победу. Не стало больше Потемкина, которого она просила начать переговоры о мире с Турцией в Яссе. Это известие настолько потрясло ее, что она потеряла сознание, и пришлось сделать кровопускание, чтобы привести ее в сознание. Лишенная этого ниспосланного ей провидением человека, она утратила решительность, почувствовала себя на краю пропасти и доверилась своему секретарю Храповицкому: «Как можно мне Потемкина заменить: он был настоящий дворянин, умный человек, его нельзя было купить. Все будет не то […]! Да и все теперь, как улитки, станут высовывать головы». Затем, схватив перо, она написала своему «козлу отпущения», дорогому Гримму, который понимал все с полуслова: «Ужасный удар дубины обрушился на мою голову […]. Я в такой печали, что вы даже не можете себе вообразить […]. Это был человек государственного уровня, в смысле совета и исполнения. Он был привязан ко мне страстно и усердно, был бранящимся и сердитым, когда считал, что можно было бы сделать лучше».
Все вокруг нее высказывали ей сочувствие, разделяющее ее огромное горе, однако ее фаворит Платон Зубов ликовал. Павел также был доволен. Его «главный притеснитель» сошел со сцены. Империя теперь последует за ним. Мир с Турцией подписан, русские полки проучили наглых польских мятежников, а уставшая императрица, не имеющая ничего, кроме моральной поддержки притворщика и интригана Платона Зубова, опустила плечи под тяжестью забот и лет. Она все чаще и чаще серьезно задумывалась о подготовке своего преемника. К тому же перемена настроения ее сына усложнила с недавних пор управление ее семейным хозяйством. Постоянные информаторы Ее Величества сообщали ей о том, что великая княгиня, поначалу очень милостиво расположенная к Екатерине Нелидовой, теперь плохо переносит присутствие этой молодой особы в близком кругу супружеской четы. Между супругами участились разногласия. Слухи о них просочились даже за границу; в Париже «Ле Монитёр универсель» в одном из своих номеров от 24 апреля 1792 года опубликовал язвительную статью на сюжет о малой драме во дворце. Рассказывая о великом князе Павле, опекаемом деспотичной матерью, журналист поведал: «Русский великий князь шествует по стезе своего несчастного отца, и если сердце великой княгини не будет преисполнено добродетелями, Павлу суждена участь Петра Третьего […]. Не удивляйтесь, если однажды из России придет сообщение о перевороте. Я давно замечал многие признаки революции: они в сердце самого великого князя. Он не скрывает своей раздражительности, оскорблен своей униженностью; он в ссоре со своей матерью императрицей; он даже дерзает ей угрожать […]. Кстати, знаете ли вы о его любовнице – девице Нелидовой […]». Иногда в России, как и за границей, возникали таинственные персоны, которые, как утверждали свидетели, были не столько хороши собой, сколько нравились живостью своего разума и смелостью взглядов. Негодуя на эти пересуды, которые подрывали уважение к царскому трону, Екатерина беседует с сыном по поводу его истинных отношений с Катериной Нелидовой. Павел отвечает ей письмом: «Что касается моих связей с госпожой Нелидовой, то я Вам клянусь Высшим Судией, перед которым мы все должны будем предстать, что мы предстанем перед ним оба с совестью, свободной от укоризны. То, что нас объединяет, это святая дружба и нежность, но невинная и чистая». Так же, как и Павел, раздосадованная слухами, которые выставляли ее как низкую интриганку и настраивали против великой княгини, которую она искренне любила, Катерина Нелидова умоляет Ее Величество поверить ей на слово и позволить покинуть дворец, чтобы уйти в монастырь. Павел находился в отчаянии от перспективы расставания, которое означало бы торжество некоторых злых языков над человеком, не имевшим никакой вины. Но число злопыхателей только множилось, и намеки на несчастья великокняжеской четы становились настолько явными, что 8 июля 1792 года Федор Ростопчин, приближенный к великому князю, писал С.Р. Воронцову в Лондон: «Считается, что она (Катерина Нелидова) хочет распалить страсть великого князя и еще больше воспламенить его». Как бы то ни было, но когда Нелидова настойчиво добивается позволения удалиться из двора «столь же жалкой и столь же чистой, какой в него вступила», императрица отказывает ей в освобождении от фрейлинских обязанностей. Согласно разумению Ее Величества, которая была сведущей в сердечных и постельных делах, необходимо, чтобы молодая женщина оставалась подле великого князя, потому, что так они оба утверждали свою кристальную невиновность и что очевидно, он нуждается в ней для того, чтобы быть счастливым. Лучший ответ на эти гнусные сплетни дала Мария Федоровна, которая в воскресенье 11 июля 1792 года родила пятую дочь, великую княгиню Ольгу. Она дала убедительное доказательство того, что вовсе не была обманутой супругой и что ее муж не оставлял своего супружеского ложа. Само собой разумеется, что в отличие от мальчиков, которые воспитывались под крылом у императрицы, Ольга, как и другие девочки, осталась на попечении матери.
Отвлекшись от перипетий этой альковной истории, в Петербурге уже говорили об ужасных событиях, происходивших во Франции. В Санкт-Петербурге стало известно, что Людовик XVI и Мария-Антуанетта арестованы, что на улицах Парижа льется кровь, что тюрьмы забиты аристократами, что низвергают статуи прежних королей и что народ, безусловно, не удовлетворится только низвержением изображений монархов. Шушукались также, что оба сына Павла, отвергая жестокость французских революционеров, к новым идеям, тем не менее, относятся не враждебно. Перед этой опасностью дикого либерализма императрица пожалела, что доверила воспитание своего любимого внука добросовестному Лагарпу, который не сумел защитить своего ученика от опасности излишнего великодушия в применении великих принципов. А ведь Александру через несколько месяцев исполнялось пятнадцать лет. Момент подходящий, надеялась Екатерина, чтобы женить его на молодой девушке (на немке, естественно!) и тем самым постепенно готовить его к императорской судьбе. Только как же его убедить в том, что со дня на день он должен будет отобрать корону у своего отца? В таком роде заговоров, в которых интересы превалируют над правом, нежность и беспринципность женщины могут помочь склонить упрямство мужчины, который не видит дальше кончика своего носа. Взяв быка за рога, императрица приглашает в Санкт-Петербург тринадцатилетнюю принцессу Баденскую Луизу-Августу, о которой говорили, что она уже вполне сформировалась. Чтобы заранее не настраивать своего внука, императрица не сказала ему об истинных намерениях приглашения молодой девушки. Поглощенная установкой этой любовной ловушки, Екатерина пишет Гримму: «Тур, который я разыгрываю, будет дьявольским, ибо этим я введу его в искушение». И она все рассчитала верно. Оказавшись в присутствии молодой девушки, которая была ему предназначена, Александр сразу же был очарован ее лучистым чистосердечием и благородными манерами. От глаз Екатерины не ускользнули эти первые симптомы любви, и 14 августа 1792 года она уже заявляет Гримму, что дело сделано: «Мой Александр женится, а затем будет коронован – церемониально, торжественно, празднично».
Екатерина не советуется по этому вопросу ни с Павлом, ни с Марией Федоровной, она даже не сочла необходимым сказать им о приготовлениях к этой скороспелой свадьбе. Однако Павел, всегда обращавший пристальное внимание на сотни мелочей и сотни других второстепенных признаков, стал подозревать, что в этот раз за его спиной снова затеваются какие-то маневры по отдалению его от трона и передаче его в пользу старшего сына. Поставленный перед трагической дилеммой, он не знал, как поступить: то ли как законный наследник со скандалом отстаивать свои права, то ли как отец пожелать успеха грабительскому плану, задуманному его же собственной матерью. Что же угодно от него: чтобы он «предпочел сам» или же «пожертвовал собой»? И как узнать, как поступить, что было бы пользой для России при разрешении этого семейного соперничества? Разве не сам Бог определил порядок передачи короны по наследию от отца сыну? Не будет ли изменение порядка наследования, установленного вековой традицией, нарушением воли Всевышнего? Чтобы помочь самому себе разобраться в этом сложном вопросе, он обратился к изучению Библии, толкований богословов и философов. Но чем больше он старается внести для себя ясность по данному вопросу, тем больше погрязает в нерешительности. Павел настойчиво заверял своего постоянного корреспондента, барона Остена Сакена, что разочаровался в политике, что думает только о несчастии, постигнувшем его страну, его семью, находящиеся под гнетом эгоизма его матери, и возмущался всем тем, что она задумывала, и всем тем, что она предпринимала. В этот раз он упрекал ее в том, что она медлит ударить кулаком своей армии, приняв участие в кампании, которая могла бы повергнуть французскую революцию и вернуть на трон Людовика XVI, захваченного разбойниками. Его протесты, его жестикуляция были как глас вопиющего в пустыне. Екатерина же писала Гримму: «Я утверждаю, что достаточно будет захватить две или три лачуги во Франции, а все остальное рухнет само собой… Не понадобится и двадцати тысяч казаков, чтобы устроить зеленый ковер от Страсбурга до Парижа…» Однако она воздержалась направить казаков воевать с ордами французских санкюлотов. По декрету от 4 декабря 1792 года на всей французской территории была провозглашена Первая республика. 15 декабря Монбельяр, фамильная колыбель Марии Федоровны, была аннексирована новым режимом. Все близкие родственники великой княгини эмигрировали, чтобы избавиться от красного болота. Перед опасностью этого проклятия, которое распространялось каждый день по земле, Павлу очень хотелось, чтобы его собственность в Гатчине представляла собой самое надежное убежище, способное противостоять европейскому распаду, и если бы мать позволила ему действовать, то он возглавил бы крестовый поход против врагов монархии, порядка и религии. Но Екатерина и в самом деле раз и навсегда повязала его по рукам шелковой веревкой. Он же, все еще мечтая стать предводителем, по крайней мере в душе, не признавал себя заложником. В начале января 1793 года оба двора, «большой» в Санкт-Петербурге и «малый» в Гатчине, содрогнулись от ужасной новости, неожиданно долетевшей из Парижа: Людовик XVI был обезглавлен на гильотине после проведения там показательного процесса. Узнав об этом омерзительном событии, Павел поспешил возложить ответственность за происшедшее на свою мать. Если бы она заранее вмешалась, оказав силовое давление, за что он всегда ратовал, то Людовик XVI был бы сейчас жив и смог бы вернуть свою корону. Екатерина же пренебрегла своей обязанностью проявить монархическую солидарность. Безусловно, она корила себя, болезненно переживая по поводу этой интернациональной катастрофы; она даже занемогла, уединилась в своих покоях, жалуясь на мигрень, и объявила по двору траур на шесть недель. Но зло уже совершилось. Чтобы искупить его, она предлагает свою моральную и денежную помощь графу д'Артуа, внуку Людовика XVI, бежавшему из Франции для того, чтобы найти себе убежище в России. Императрица повелела обращаться с ним как с «королевским генерал-лейтенантом» и рекомендовала своему послу в Лондоне открыть для этого знатного эмигранта банковский счет, фактически предназначенный для финансирования контрреволюции. И все же она с облегчением вздохнула, когда 26 апреля граф д'Артуа отбыл из России в Англию.
Разочарованная Екатерина больше не хотела думать ни о чем другом, как о женитьбе своего дорогого Александра, и о том, как лучше обеспечить передачу Российского трона внуку без возведения на него своего сына. 28 сентября 1793 года в церкви Зимнего дворца урожденная принцесса Луиза-Мария-Августа Баденская приняла православие под именем Елизаветы Алексеевны и обрела право выйти замуж за великого князя Александра. Молодожены, едва вышедшие из юношеского возраста, были так очаровательны, что их называли не иначе, как Амуром и Психеей. Екатерина усматривала в этом союзе, подстрекателем которого она сама и являлась, реванш за разочарование, испытанное ею в отношении низвержения монархии во Франции. Однако в самый последний момент возник неожиданный инцидент, который мог отрицательно сказаться на проведении свадебной церемонии. Он был связан с Павлом, обидчивость которого стала принимать болезненный характер: поссорившись со своим сыном, он отказывался участвовать в свадебном торжестве. И здесь пригодилась дипломатия Марии Федоровны, которая сумела убедить Павла пересмотреть свое решение. В течение нескончаемого религиозного обряда Павел стоял, сохраняя нахмуренный вид. Обвиняя свою мать в том, что она настроила против него всех членов семьи, Павел стал видеть врагов даже среди своих детей и близких. Его возбужденное состояние походило на реакцию загнанного на охоте зверя.
Павел стал совсем плохо спать по ночам, ему снились кошмары и мучили дурные предчувствия. Проснувшись, он иногда имел такой грустный и потерянный вид, что даже жена не могла ни успокоить его, ни понять. Из всего его окружения один только Лагарп казался ему благоприятно настроенным по отношению к нему. Однако этот ученый швейцарец определенно принимал близко к сердцу лишь только обучение Александра. Оставаясь неисправимым идеалистом, он позволял себе говорить со своим подопечным о вещах, которые привели Францию к катастрофе. У императрицы со своей стороны возникают сомнения в правильности педагогических принципов, которые Лагарп прививает ее внуку. Она опасалась, конечно, как, впрочем, и ее сын, что, охваченный своим преподавательским усердием, наставник молодого великого князя станет побуждать его к освоению философского сентиментализма, представлявшегося абсолютно неприемлемым для существующей власти. Однако больше всего Екатерину заботило на данный момент то, как воспользоваться влиянием этого человека на своего ученика, с тем чтобы он внушил ему, если представится случай, согласиться унаследовать императорскую корону вместо своего отца. Пригласив Лагарпа, она открывает ему свой план, взяв с него слово не разглашать их разговор. Увы! Сознание швейцарского мыслителя было непреклонным, а Екатерина к этому не привыкла. Почтительно выслушав ее, он прямо ответил ей, что миссия, которую на него намереваются возложить, представляется ему бесчестной и что он не чувствует себя вправе взять на себя такую ответственность. Лицо императрицы тут же превратилось в непроницаемую маску, взгляд ее застыл, и Лагарпу не оставалось ничего другого, как, пятясь, ретироваться к выходу с ясным осознанием того, что теперь он стал персоной нон грата при Российском дворе. В последующие дни он еще и усугубил свое положение, попытавшись наладить сближение Александра с отцом. Лагарп с усердным прилежанием расточал на своих занятиях, которые пока продолжал проводить с молодым князем, несмотря на то что тот был уже женат, свои наставления по оказанию сыновней почтительности и привязанности к отцу. По его наущению Александр в большей степени проникся симпатией к Павлу и даже время от времени был расположен, предвосхищая события, называть отца «Ваше Императорское Величество». Эта разновидность уважения льстила самолюбию и сладко щекотала ухо «официального претендента на трон», и он лелеял надежду, что все-таки у него не будет соперников, претендующих на трон, среди близких ему людей.
Екатерина, как обычно, очень быстро была уведомлена о настроениях, утверждавшихся в недрах «малого двора», которые имели целью настроить Александра на отказ от плана по престолонаследию, разрабатываемого его бабушкой. Ее реакция не заставила себя долго ждать. Вызвав Лагарпа к себе в кабинет, императрица, не раздумывая, подписала документ об его увольнении. Отстраненный от дел в качестве воспитателя, Лагарп единственно что мог поделать в этой ситуации, так только посетовать своему подопечному по поводу своего огорчения. Александр весь в слезах только сокрушался, будучи не в силах что-либо изменить. Что касается Павла, то он воспринял эту опалу, предпринятую по отношению к безупречному человеку, как меру, направленную Ее Величеством прежде всего против него самого. Павел высоко ценил этого человека, рассудительность которого не имела равных на всей планете. Тем временем во Франции, считавшейся некогда прибежищем здравомыслия, продолжалась ужасная вакханалия: в городах господствовал террор, междоусобица, гильотина не переставала отсекать головы. Республиканская армия не принимала активного участия в происходящих там событиях, но за пределами государства зрела враждебно настроенная сила, стремящаяся избавить страну от этих ненавистных «демонов».
Французам, бежавшим в Россию, разорвавшую с Францией дипломатические отношения, во времена, когда этой ненавистной страной правили Мараты и Робеспьеры, под страхом изгнания или же публичного осуждения Французской революцией, было строго предписано повиноваться закону их истинной родины. Для французских торговцев, занимавшихся продажей всяких безделушек и книг, российские границы были закрыты. Хотя в верхах общества продолжали говорить по-французски, чтобы продемонстрировать свою культуру, но всячески проклинали Францию, чтобы продемонстрировать свое отношение к происходящему. Екатерина заявила, что Франция – это «прибежище бандитов», что революционеры – это «мерзавцы», что необходимо «истребить самое название французов» и что не Париж, а Кобленц, место сбора эмигрантов и колыбель армии принца де Конде, отныне будет считаться столицей этого государства.
В отместку за этот антиреспубликанский и антифранцузский демарш, устроенный в европейских странах и в России, в октябре 1793 года во Франции было объявлено, что Мария-Антуанетта так же, как и ее муж, будет обезглавлена на эшафоте. Более того, усугубляя трагедию, здесь, согласно декрету Национального конвента, святыня христианской веры собор Парижской Богоматери был переименован в Храм Разума. Чем руководствовались члены конвента, переименовывая эту святыню: варварской насмешкой или атеистической глупостью? По чьей злой воле состоялось это переименование древнего кафедрального собора: подмастерья-философа или же пьяного подлеца? И действительно, думал Павел в то время, когда он находился с визитом во Франции, – и философ, и подлец занимались одним и тем же. Все отголоски сведений, которые приходили из Парижа, укрепляли его в идее, что для предотвращения распространения заразы на его личное гатчинское владение он должен повысить строгость к тем, кому повезло жить там под его началом.
В этой атмосфере полуармейского существования мелочный авторитаризм великого князя в наведении порядка и дисциплины обретал масштабы полного безумия. Одержимый второстепенными заботами, он только и делал, что занимался придирками к выправке своих солдат. Плохо пришитая пуговица на солдатском мундире раздражала его даже больше, чем ошибка, допущенная при изложении метафизической теории. Угнетенные выговорами и наказаниями, его люди жили в перманентном страхе чем-то ему не угодить. «Нельзя без жалости и ужаса видеть все то, что делает великий князь-отец, – писал Федор Ростопчин. – Впечатление такое, что изобретает средства, чтобы заставить ненавидеть себя. Он вбил себе в голову, что его презирают и стараются ему это показать; из-за этого он цепляется ко всему и наказывает без разбора… Малейшее опоздание, малейшее противоречие выводит его из себя, и он как с цепи срывается. Странным в его поведении было и то, что он никогда не исправлял свои ошибки, но продолжал гневаться против тех, кто их допускал. В Гатчине поговаривали о ежедневной жестокости и мелочных придирках»[21]. Однажды в присутствии своих сыновей, Александра и Константина, Павел для демонстрации своей принципиальности вынес офицеру за незначительный проступок в особенности жестокое наказание, процитировав его из решения Комитета общественного спасения Франции, и, смеясь, воскликнул: «Вы видите, дети мои, вы видите, что с людьми необходимо обращаться, как с собаками?!» И Александр, и Константин были удивлены его столь суровой строгостью, но не посмели ему что-либо возразить, однако оба подумали, что их бабушка, опасавшаяся за будущее страны, поступила не так уж недальновидно, отделив их от отца.
VI. Чья очередь?
Характер у Павла был такой подозрительный, такой тяжелый, такой непостоянный, что ежедневной заботой его жены было следить за его настроением и время от времени вмешиваться, чтобы избежать неприятностей. Если она и предпринимала усилия к тому, чтобы существование их пары было сносным, то для этого она должна была бороться сразу против разных сил: выходок своего мужа, который подчас грубо обрывал ее, а потом по десять раз на дню просил прощения; против своих сыновей, Александра и Константина, которые до такой степени были подчинены бабушке, что пренебрегали матерью; против Екатерины Нелидовой, которая играла в целомудрие, пользуясь им как неким орудием, разжигая желание великого князя и оставаясь при этом недоступной ему, а также против недавно появившегося среди домочадцев Его Высочества некоего Ивана Кутайсова, по происхождению турка, являвшегося «первым слугой в спальне великого князя». Этот льстец и изворотливый человек, добродушный малый, сначала служил брадобреем, но затем быстро стал доверенным лицом своего господина. Брея его по утрам, он нашептывал ему на ухо кое-какие советы по поводу того, как вести себя с женой и с детьми. Поговаривали даже, что он подыскивал ему фаворитку для того, чтобы излечить его от иссушающего увлечения Екатериной Нелидовой. Однако, несмотря на интриги своей правой руки, Павел продолжал с верностью исполнять свои супружеские обязанности. В то время как русские полки под командованием фельдмаршала Суворова полностью разгромили польских безумцев, а во Франции террор с неумолимой логикой повернулся против тех, кто его развернул, в Гатчине двор великого князя замкнулся в собственном круговороте и жил в ожидании счастливых событий.
7 января 1795 Мария Федоровна родила шестую дочь, Анну. Увы! Семейная радость неделю спустя ознаменовалась горечью тяжелой утраты: пятая дочь, двух с половиной лет, Ольга, внезапно умерла. Ни прибавления, ни убавления. Один ребенок заменил другого, количество потомства Их Высочеств осталось прежним: всех их насчитывалось семь. Этого было даже больше, чем было необходимо для продолжения династии. Но Павел не осмеливался больше строить далекоидущих планов, ни тех, что касались его лично, ни тех, которые были связаны с будущим его потомков. Все зависело от Екатерины, а она казалась все больше и больше настроенной на то, чтобы перескочить одно поколение в праве на престолонаследие. По последним слухам, она должна была вскоре объявить об этом в манифесте, в котором она в общих чертах определила бы порядок передачи наследства и обосновала бы как закономерный тот случай, когда корона переходит не к ее сыну Павлу, а к ее внуку Александру. Конечно, это могло быть не больше чем досужим вымыслом придворных сплетников. Павлу хотелось все еще верить в то, что материнские чувства окажутся сильнее, чем желание императрицы принудить его во что бы то ни стало к закону, дезориентирующему страну. В то время как Россия, Пруссия и Австрия приступили совершенно безнаказанно к расчленению Польши, Франция, наконец пресытившись заговорами, ложью и кровью, приветствовала падение Робеспьера и его приспешников и, приняв новую Конституцию, делегировала Директории, состоящей из пяти членов, полномочия по осуществлению своей политики. Но и в этот раз Екатерина подозрительно отнеслась к этому сборищу марионеток. Поскольку Франция не была ни раздавлена, ни подвержена вторжению, ни восстановила наследного короля, то эта взбалмошная нация все еще представляла опасность для своих соседей. Павел, в противоположность мнению матери, усматривал в этих шагах французов обращение к разуму, дававшее какую-то отсрочку от распространения французской заразы в Европу. Но это не было достаточным мотивом, рассуждал он, для того, чтобы ослаблять свои усилия по созданию в Гатчине вооруженной силы, способной защитить Россию против любой агрессии.
Отныне его любовь к военному искусству обратилась в безумие. Малейшее упущение по службе расценивалось им как преступление, оскорбление Величества. Добившись от императрицы того, чтобы Александр и Константин почаще приезжали подышать воздухом Гатчины, Павел приучает их к военной службе. Позже, посмеиваясь над отцовской маниакальностью, Александр тоже вкусил некоторое пристрастие к военному делу. Прибывая в свое удельное княжество, Павел первым делом с головы до ног переоблачался, одевшись, как и положено, в прусский мундир. Для того чтобы облегчить управление своими армейскими подразделениями, он приказал использовать сигналы рожка, барабанную дробь, которая определяла ритм шага при передвижении строевым, походным шагом и контрмаршем. Павел ликовал. Он был уверен, что завоюет сердца своих двух взрослеющих мальчиков под самым носом у императрицы. В своей эйфории он даже не замечал, что жена его не очень-то и рада видеть их всех троих, пораженных одним и тем же пристрастием. Павел также не замечал, что его платоническая любовница Екатерина Нелидова стала проявлять сцены ревности из-за того, что он в какое-то время заинтересовался новой жемчужиной грации и невинности – Наталией Веригиной. Задетая за самолюбие этой сентиментальной изменой, госпожа Нелидова вновь обратилась к Ее Величеству и добилась на этот раз права на «отставку» и позволения уйти в Смольный монастырь. Ее отъезд совпал с юбилеем Екатерины Великой, которая 21 апреля 1796 года отмечала свое шестидесятисемилетие. Двумя месяцами позже, 25 июня состоялось новое празднество – неустанно плодовитая великая княгиня произвела на свет девятого ребенка, третьего по счету сына – Николая. Поздравления этой многодетной паре присылали со всех сторон. Россия обрела еще одного великого князя.
Не слишком ли много счастья досталось Павлу и его быстроразмножающейся половине, подумала про себя императрица. И едва Мария Федоровна сумела оправиться от родов, как Ее Величество пригласила ее на конфиденциальный разговор. Смерив взглядом молодую женщину с головы до ног, она властным и несколько повелительным тоном потребовала от нее подписать акт, согласно которому она признавала необходимость передачи престолонаследия Российского трона не мужу, а старшему сыну – Александру. Мария Федоровна, справедливо возмутившись на это провокационное предложение императрицы, категорически отказалась стать соучастницей подобного замысла. Екатерина сделала удивленный вид, словно бы ее невестка вдруг ни с того ни с сего взбрыкнула и против добрых отношений, установившихся между ними, и даже против интересов страны. Тем не менее она не стала больше настаивать на своей просьбе и отпустила ее с миром. Вернувшись к себе в Гатчину, великая княгиня тут же написала письмо Александру, в котором просила его также отклонить предложение бабушки, чтобы не стать причастным к позору унижения своего отца. «Дитя мое, держись, ради Бога, – взывала она к нему. – Будь мужествен и тверд. Бог не оставляет невинных и добродетельных». После неудачи, с которой столкнулась Екатерина в своих переговорах с невесткой, она в открытую больше не говорила о своем манифесте, однако скрытые переговоры еще имели место и обрастали все новыми подробностями. Среди так называемых посвященных лиц ходили слухи, что Ее Величество тщательно редактирует формулировки данного документа со своим секретарем князем Безбородко и что в начале следующего года он должен быть публично оглашен. В этот период Екатерина с удвоенной энергией принялась за государственные дела. Едва завершив решение польских проблем, она занялась подготовкой военной кампании против Персии, при этом, вняв просьбе Платона Зубова, она сменила брата на брата, поручив генералу Валериану Зубову возглавить эту операцию. И неважно, что здесь и там все дипломаты обеспокоились этой экспансией России в Малую Азию. По заверению Платона Зубова, армия Ее Величества была в состоянии внушить уважение кому угодно. Между тем как в Гатчине, так и в Санкт-Петербурге живой интерес стали привлекать успешные действия молодого французского генерала, корсиканца по происхождению, некоего Бонапарта, который одерживал победы повсюду, куда только не всовывал свой нос. «Каков этот молодой Бонапарт, – писал фельдмаршал Суворов своему племяннику Гончарову. – Это герой, гений, чародей! Он возвышается над природой и людьми. И вот мое заключение. Пока генерал Бонапарт будет сохранять наличие разума, он будет победителем […]. Но если, к несчастью, он утратит целостность своего разума, он пропадет»[22].
5 ноября 1796 года Павел и Мария Федоровна обедали с некоторыми своими близкими друзьями на мельнице Гатчины в пяти верстах от дворца. Великий князь пребывал в дурном настроении духа, он знал, что через несколько дней, а точнее, 24 ноября наступает день Святой Екатерины, праздник небесной покровительницы Ее Величества, и по сему поводу ожидалось, что Екатерина огласит манифест, который определит порядок престолонаследия в пользу его сына Александра. Произойдет ли это на самом деле? Не ошибаются ли те, кто распространяет эти слухи? Во всяком случае, прогнозы были самыми противоречивыми. Некоторые утверждали, что до оглашения этого документа он хранился в шкатулке императрицы и до сих пор его никто не видел и не читал. Беспокойство, которое испытывал Павел в этой удушливой для него атмосфере завершения правления Екатерины, усугублялось тем, что предшествующей ночью ему и его жене привиделся странный сон, который утром, проснувшись, они пересказали друг другу. Оба они увидели чью-то мощную руку, которая неумолимо приподняла их от земли к небу. Что же могло значить это странное видение? Не предзнаменование ли это их смерти, которую замысливает им Ее Величество? Рассказывая этот ночной кошмар своим собеседникам за столом, великий князь имел бледное растерянное лицо, как будто бы его только что приговорили к смертной казни на эшафоте.
Покончив с трапезой, Павел потребовал побыстрей доставить их в Гатчину. По дороге домой навстречу карете Их Высочеств прискакал курьер, сообщивший, что в Гатчине их дожидается один из братьев Зубовых, который должен сообщить им «очень важную новость». Выслушав курьера, великий князь побледнел, еще раз уточнил: сколько братьев будут ожидать его во дворце? Узнав, что только один, он перекрестился и пробормотал: «Если один, то все идет к концу!»
Прибыв к себе во дворец, он сразу же был предупрежден, что его дожидается Николай Зубов, который просит немедленной аудиенции. Предлога для того, чтобы увильнуть от этой встречи, у Павла не было! На мгновение ему даже уже привиделось, что он арестован, брошен в застенки крепости и хладнокровно казнен по приказу своей матери, так же, как это случилось с его отцом, которому было всего 34 года. Преодолев минутную слабость, Павел приказал впустить Николая Зубова, прибывшего из столицы. Войдя в кабинет великого князя, его посетитель имел скорее глубоко опечаленный, чем угрожающий вид. Прерывистой речью он поведал Павлу, что его мать, Ее Императорское Величество Екатерина II, сражена апоплексическим ударом и находится в весьма плачевном состоянии и что он прибыл для того, чтобы сопроводить Его Высочество к изголовью умирающей матери. В какую-то секунду Павел вновь не знал, как ему поступить: испытав святотатственную радость от услышанной новости и одновременно страх перед предчувствием опасности, таившейся за этим сообщением, он мучительно соображал, последовать ли ему вместе с Николаем Зубовым в Санкт-Петербург и не попадет ли он там в заранее заготовленную западню. Во всяком случае, он не мог больше откладывать своего решения. С тревогой в сердце он приказал запрягать коней и вместе с женой сел в коляску. Николай Зубов поспешил выехать раньше, чтобы позаботиться о перекладных лошадях. День выдался тихим и морозным. Колокольчики весело перезванивались в зимней тишине. Снег пышно возлежал по обеим сторонам дороги и простирался до самого горизонта. Ни Павел, ни Мария Федоровна не осмеливались произнести ни слова, мысли, которые занимали их в эти минуты, были далеко не печальными.
На первой же перегонной станции им встретился камергер Федор Ростопчин, прибывший прямо из Санкт-Петербурга. Последний подробно рассказал Их Высочествам о деталях болезни императрицы. Этот придворный камергер Ее Величества обнаружил ее сегодня утром лежащей без движения в своей гардеробной. Апоплексический удар. Она парализована. Есть опасения, что уже не сможет больше подняться. Пока меняли лошадей, Павел вышел на улицу, чтобы размять затекшие ноги. Приблизившись к нему, Ростопчин ожидал увидеть в его глазах слезы. Он даже, взяв за руку великого князя, пробормотал ему с участием слова соболезнования: «Государь, какая минута для Вас!» Но в ответ Павел, вдруг выпрямившись, твердо и просто произнес: «Подождите, дорогой, подождите! Мне сорок два года. Бог мне поспешествовал. Быть может, даст мне сил и ума, чтобы смог я выдержать сан, мне Им уготованный. Будем надеяться на милость Его!»
Но настанет ли его час, когда он единолично возьмет бразды правления государством и станет императором России? Павел пока не был еще до конца в этом уверен, возможно, ему предстоит в дальнейшем остаться только лишь первым князем империи под управлением своего сына. Экипаж выехал, когда во дворе уже смеркалось, а мысли великого князя все мрачнели, становясь похожими на темное непроглядное небо. Одна за другой по эстафете сменялись перекладные станции, и повсюду им сообщали последние новости о состоянии здоровья Ее Величества. Павел и его жена все время были в курсе происходящего. Еще до приезда им успели передать, что императрица никого не желала видеть, кроме своих внуков Александра и Константина, которых поначалу не было в столице, но сейчас они уже вернулись и находятся подле своей бабушки. Сообщили также, что приглашены все лекари, которые, демонстрируя ей полное спокойствие, сменяют друг друга и проводят необходимые консультации, и что во всех церквях служились молебны о выздоровлении «матушки Екатерины». Раздираемая противоречивыми чувствами страха, набожности и надежды, Мария Федоровна подбадривала своего мужа, так чтобы никто не мог услышать ее и использовать ее слова для противостояния отца и сына до тех пор, пока еще Павел лелеял надежду на свою счастливую звезду.
В половине девятого вечера карета великого князя остановилась перед фасадом Зимнего дворца. Величественное здание в этот момент походило на улей. Многочисленные придворные и знатные особы столпились в зале, стояли на лестнице, чутко прислушиваясь к тому, что происходит за дверьми, и сбегались по первой же тревоге, дабы не пропустить исторический момент. Вели они себя при кончине императрицы, которая продолжительное время царствовала на троне, достаточно нетерпеливо. Всем им хотелось поскорей узнать имя наследника, иначе говоря, их всех интересовал вопрос, кому придется впредь поклоняться, и всем им не терпелось побыстрей угодить преемнику, чтобы продолжать разматывать свой клубок жизни под сводами этого величественного дворца. Кто будет наследником, следующим царем России: Павел или Александр? Между ними вовсю заключались пари. Павел, вступив в гущу этой жалкой раболепной толпы, на какой-то момент замедлил свой шаг и чуть было не попятился назад. В этот миг он заметил среди присутствующих последнего фаворита своей матери Платона Зубова. Но, взяв себя в руки, Павел продолжил свое движение, отметив при этом, что этот человек, которого он и раньше принимал за полное ничтожество, выглядит в эту минуту совершенно убитым горем, а его лицо напоминает вид изможденного попрошайки. Платона Зубова сопровождал вице-канцлер Безбородко, также обязанный Екатерине своей карьерой. Оба они трусливо опустились перед Павлом на колени, опасаясь попасть под опалу наследника трона и утратить свои привилегии. Павел повел себя в высшей степени милосердно: он поднял и любезно обнял их, затем учтиво поприветствовал знатных особ, присутствующих в зале, которые тут же низко склонились, прогнувшись по пояс, и бормотали слова соболезнования во время его прохождения мимо них. Сатисфакция от проявления официозного уважения не стоила ничего по сравнению с тем сильным чувством удовлетворения, которое он испытал, увидев двух своих сыновей, Александра и Константина, переодевшихся для встречи с ним во дворце в прусские мундиры, инициатором введения которых в России был Павел. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что Александр и в дальнейшем будет относиться к нему с сыновьим почтением и не станет настаивать на своих правах на престолонаследие. Тем не менее Павел не дает себе расслабиться и все еще держится настороже до тех пор, пока он сам не обнаружит этот злосчастный манифест, тайно хранимый в недрах бумаг императрицы и угрожающий взорваться в самый неподходящий момент, подобно адской бомбе. В такой стране, как Россия, где традиции и суеверия соблюдаются достаточно строго, предсмертная воля монарха, одной ногой стоящего на краю могилы, могла склонить чашу весов в любую сторону и была способна намного сильнее повлиять на народ, чем кто бы то ни был.
Ночь стала бессонной, никто из окружения Павла даже не прилег. Зимний дворец был похож на большой лагерь, во всех закоулках которого кишела жизнь людей, встревоженно реагировавших на малейший шум, на любой скрип открывающейся двери. На рассвете 6 ноября императрица была еще жива. Павел решился войти в комнату, в которой она находилась, окруженная врачами, слугами и священниками. Лицо Екатерины было мертвенно-бледным, местами на нем вырисовывались фиолетовые пятна. Из уголков ее губ просачивалась розоватая пена. Казалась, что она находится в бессознательном состоянии, а ее дыхание напоминало страдальческие всхлипы. Вняв совету доктора, Павел вызвал митрополита Гавриила и попросил его соборовать Ее Величество. Платон Зубов рыдал, закрыв лицо руками. Но о чем он мог горевать в этот момент? О потере своей старой любовницы или о привилегиях, которые она ему некогда пообещала? Бесчувственно отнесясь к горьким причитаниям этой марионетки, Павел приказал подать завтрак в соседнюю комнату, дверь которой выходила в спальню, где находилась умирающая Екатерина. И поскольку агония умирающей императрицы затягивалась, он вместе со своей супругой спокойно расположился там позавтракать. После завтрака он вызвал к себе Безбородко, генерального прокурора Самойлова и вместе с ними вошел в рабочий кабинет императрицы. Первый раз очутившись в этом месте, он перерыл все ящики письменного стола, разобрал письма, просмотрел рапорта и наконец наткнулся на закрытый пакет, перевязанный черной лентой и с сопроводительной надписью: «Открыть после моей смерти на Совете». Стоя в нерешительности, Павел берет запечатанный конверт, но не осмеливается его вскрыть, но затем, увидев, что Безбородко, находившийся рядом, указывает ему взглядом на камин, он, не раздумывая, бросает документы в пламя горевших в нем дров. И хотя императрица была еще жива, свидетельства ее последней воли более уже не существовало. Склонившись над кучей пепла, Павел облегченно вздохнул наконец, окончательно уверовав, что на этот раз у него более нет оснований опасаться за последствия престолонаследственного процесса. В данный момент для полного успокоения ему недоставало присутствия и поддержки лишь одного своего доверенного человека – верного, незаменимого и жестокого полковника Аракчеева. Павел тотчас же приказал отправить за ним специального курьера. «Капрал Гатчины» прискакал немедля, во весь опор, в помятой одежде, с забрызганным грязью лицом, с горящими от восхищения и неожиданной фортуны своего хозяина глазами. Павел, радушно встретив его, тут же объявил о присвоении ему генеральского чина, назначив его командующим армейскими частями Санкт-Петербурга. Затем, взяв руку Александра и передав ее Аракчееву, произнес пророчески-назидательным тоном: «Будьте всегда друзьями и помогайте мне!» Казалось, что все идет как нельзя удачно для него, но оставалась единственная помеха, которая все еще беспокоила его, – это то, что императрица до сих пор оставалась жива. Об этом стали даже поговаривать как о непристойном фарсе со стороны Ее Величества. До чего же долго растянула она свою кончину! Наконец в девять часов вечера доктор Роджерсон объявил Их Высочествам, что последний момент приближается. Павел вошел первым. Его жена, великие князья Александр и Константин, великие княгини Александра и Елена, сопровождаемые Платоном Зубовым, Безбородко, Самойловым, несколько высших сановников и придворных дам подходят к изголовью умирающей императрицы. «До конца дней моих буду хранить в памяти эту минуту, – писал Ростопчин. – Справа – великий князь, наследник престола, великая княгиня и их дети, в изголовье мы с Плещеевым; слева – врач и люди, обслуживавшие императрицу в ее личной жизни… Тишина и молчание присутствующих, взоры устремлены в одну точку, полутьма, царящая в спальне, все внушает страх и предвещает приход смерти. Часы бьют четверть десятого. Вдруг дыхание императрицы стало прерывистым; кровь прильнула к голове, исказив черты лица, затем отхлынула обратно. Екатерина Великая испускает последний вздох и, подобно всем смертным, предстает перед Божьим судом». Теперь лицо ее выражало величественный покой, и Павел, в подражании присутствующим, опустился на колени. После нескольких мгновений молчаливого сосредоточения он поднялся и вышел в соседнюю комнату, в которой в томительном ожидании находился весь аристократический свет Санкт-Петербурга. При виде этого общества и от безутешных всхлипываний дам у него перехватило дыхание. В тот же момент на пороге появился граф Самойлов. С застывшим от важности лицом он зычным голосом произнес: «Милостивые государи, императрица Екатерина скончалась, и на престол взошел сын ее, император Павел».
Услышав эту фразу, которая в один момент оборвала все надежды недоброжелателей, Павел почувствовал опьяняющее головокружение, но не знал, как поступить: то ли дать волю радости, то ли, понурившись, продолжать оставаться в траурной грусти. Церемониймейстер Валуев тут же доложил, что в часовне Зимнего дворца все организовано для проведения присяги. Наэлектризованная от долгого ожидания толпа людей шумно выражала свои эмоции, обнимаясь, плача от горя, счастья или и от того, и от другого. Главный герой был взволнован. Народ толпился вокруг цесаревича, становившегося в этот момент царем. Каждый хотел до него дотронуться и поцеловать руку. Большинство из них, спешивших выразить ему заверения в своей преданности, наверняка были теми, кто больше всего прислуживал покойной. Придворные спешно перенесли трон в часовню. Все еще не пришедший в себя от неожиданной удачи, которой он так долго и безнадежно дожидался, Павел грузно взгромоздился на трон – на место, оставленное Екатериной Великой вакантным. Сейчас в этом властном кресле сидел человек с надменно вскинутой головой, с простодушным, обезьяноподобным лицом, выпученными глазами и надменно сжатыми губами. После сорока двух лет страданий под деспотичным правлением своей матери он наконец-то скинул этот груз. И чтобы окончательно удостовериться в своей победе, ему было достаточно теперь только окинуть взором покорную вереницу придворных, приближавшихся к нему благоговейно, словно к иконе. Рядом во главе торжественного кортежа находилась и его жена, в один момент ставшая императрицей. Поцеловав крест и Евангелие, ей вдруг захотелось, согласно обычаю, поцеловать руку своего супруга и преклонить перед ним колени, но в последний момент она воздержалась от этого проявления чувств. Подобную церемонию проявления верноподданнических чувств обязан был пройти каждый из его детей, каждый сановник и каждый придворный. Митрополит Гавриил и все священники в свою очередь склонили головы перед новым повелителем империи. Это нескончаемое и скучное выражение клятвенных обещаний верности вовсе не утомляло Павла, он не переставал упиваться этим действом, как благородным вином, дегустируя его маленькими глотками.
Сразу же после торжества религиозного священнодействия он испытывает настоятельную тягу принять участие в другой, более приятной для него церемонии – смотре военного парада гвардейского полка. Во время тренировочной отработки прохождения гвардейцев он, недовольный выправкой солдат, ворчал, топал ногами, грозился наказаниями. Наступило время, рассуждал он, навести порядок в этом кавардаке. Сегодня его амбиции еще больше, чем вчера, были направлены на превращение России в громадную Гатчину, он стремился поскорей стереть память о ненавистном правлении своей матери и реанимировать вероломно преданные забвению политические идеи своего отца. Не обвиняя никого, он в то же время рассматривал себя не преемником Екатерины II, а мстителем за Петра III.
На следующий день после своего восхождения на трон Павел I ознакомился с положением дел в России, ставшей для него теперь собственным домом. Он начал с того, что сослал в свои имения двух пособников убийства своего отца: князя Барятинского и генерала Пассека. Княгиня Дашкова, которая содействовала Екатерине в захвате власти, также была сослана в свое имение, чтобы там на досуге поразмышлять о своей роли в преступлении, совершенном в 1762 году. К другому участнику этого заговора, Алексею Орлову (брату одного из первых любовников Екатерины Григория) Павел послал Ростопчина с предписанием доставить его в часовню, где проводилась церемония приведения к присяге, с тем чтобы и он присягнул на верность новому царю. Эмиссар императора нашел старого и больного человека в постели, грубо разбудил его и заставил подписать акт покаяния и изъявления покорности. К Платону Зубову, которого Павел ненавидел при жизни Екатерины, царь отнесся, напротив, со всей благожелательностью. И поскольку после смерти своей императорской любовницы Зубов сник и, трепеща от страха, хотел было возвратить Павлу свой жезл флигель-адъютанта и отказаться от звания генерал-майора, император решил приободрить его тем, что попросил продолжить свою службу, более того, он подарил ему роскошно меблированный особняк на набережной Невы, переселив из апартаментов, которые тот занимал в Зимнем дворце. Павел даже оказал ему высочайшую почесть, посетив его новое жилище вместе с Марией Федоровной и обменявшись с ним словами любезности. Обольщенный подобной предупредительностью, Платон Зубов недоуменно спрашивал себя: за что же на него свалилась подобная благодать от этого святого в мундире? Однако его счастье оказалось скоротечным. Несколько дней спустя все вернулось на круги своя: Зубов был уведомлен, что приказом Его Величества он освобождается от всех занимаемых должностей, лишается всех своих привилегий, что все его имущество описывается и подпадает под секвестр, а сам он немедленно должен покинуть Россию. Эта резкая перемена в отношениях, которая добивает жертву, развлекала Павла, как насмешка, способная досадить матери.
Всегда озабоченный тем, как противоречить ей, даже находящейся в последнем прибежище, поскольку не мог этого делать при ее жизни, Павел приказал освободить из Шлиссельбургской крепости философа и франкмасонского издателя Новикова, которого она туда засадила, и вызвать из ссылки писателя Радищева, приговоренного ею к этой мере наказания за публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву», выпустить на волю всех поляков, взятых в плен в ходе последнего вооруженного восстания, в том числе и их предводителя Тадеуша Костюшко, которому предложил содействие, для того чтобы уехать в Америку. Во время визита к этому мятежному патриоту он говорит ему в присутствии великого князя Александра: «Я знаю, что вы много выстрадали, что вас долго оскорбляли, но при прежнем правлении все честные люди преследовались, и я в первую очередь». Был освобожден также и Станислав Понятовский, бывший любовник Екатерины и экс-правитель Польши, которого по его приказу выпустили из заключения в Гродно и со всеми почестями доставили в Санкт-Петербург. Что касается своих друзей по черным годам, то Павел предпринимает все, чтобы доказать им, что он вовсе не неблагодарный человек. Поскольку его «платоническая любовница» Екатерина Нелидова упорно продолжает скрываться за стенами Смольного монастыря, то в ее отсутствие он осыпает благодеяниями ее младшего брата, который молниеносно становится сначала капитаном, потом полковником, а затем и адъютантом Его Величества. Правая рука Павла брадобрей Кутайсов получил в подарок особняк с видом на Неву и должность императорского камердинера. Ростопчин, так же как Плещеев, Репнин и некоторые другие его гатчинские приближенные, произведен в генералы. Александр Куракин, с которым Екатерина II сурово обошлась по причине его дружбы с капитаном Бибиковым, автором дерзкого компрометирующего письма, был назначен вице-канцлером, а его брат Алексей – генеральным прокурором.
Двойственная позиция Павла после его прихода к власти проявлялась одновременно в виде выражения чистосердечной признательности своим компаньонам по опале и в виде жестокого преследования всех остальных. Для демонстрации всей России своего могущества он, несмотря на отказ матери придать больший воинский статус его резервным полкам в Гатчине, решил своей властью даровать им статус императорской гвардии. Изо дня в день столица наводнялась армией прусаков – это были переодетые русские солдаты. Зимний дворец, который еще совсем недавно принимал важных персон и в котором еще недавно велись великосветские рафинированные беседы, внезапно, в одно мгновение трансформировался в гвардейский корпус, где правили германские традиции. «Слышны лишь топот ботфортов, звяканье шпор да сухой стук огнива, и, как в городе, захваченном полчищами вояк, оглушительный крик стоял во всех помещениях», – писал поэт Гаврила Державин, свидетель этой метаморфозы. Другой современник, Александр Шишков, уточнял: «Людишки, вчера еще никому не ведомые, расталкивали всех, суетились и отдавали приказания повелительным тоном». А князь Голицын добавляет: «Дворец превращен в караульное помещение […]. С первых же шагов видно, что император чрезмерно увлечен военным делом, особенно в том, что касается четкости движений, доведенной до автоматизма, как это было при Фридрихе, короле прусском, который для нашего императора – образец для подражания»[23].
По приказу царя все, кто носил широкие галстуки, свободные прически, имел легкомысленный и смешной вид, изгонялись из дворца. На территории дворца введена мода лишь на чопорные лица и сдержанные жесты. Гетры, перчатки, напудренные парики, трости на прусский манер стали теперь непременным атрибутом мужского туалета. Чтобы добиться расположения простого люда, Павел взял себе за правило появляться на улицах на белом коне Помпоне. Приняв величественный вид, внушающий страх, он из-под своих напудренных локонов в упор разглядывал оцепеневших в почтении прохожих. В действительности же в каждом человеке он видел лишь потенциального солдата. Его мечтой было переодеть всех в униформу и разместить в казармах. Но по тысяче отдельных признаков он все же догадывался, что люди еще не готовы слиться в единую массу, в которую он желал бы их слить. Растерянность простого народа достигла предела, когда Его Величество вызвал на парад знаменитый гвардейский Измайловский полк. Военные этой части носили еще старую русскую униформу и гордились ею. Но Павел не скрывал своей досады по поводу этого упорства. Подпевалы, которые роем толпились вокруг него, всячески подыгрывали его самолюбию. Новый генерал-майор Аракчеев во всеуслышание критиковал офицеров этого полка. Как только они появились под штандартами своего элитного полка, он, не сдержавшись, воскликнул: «Вот они, старые юбки Екатерины!» Павел не шелохнулся, но про себя, без сомнения, усмехнулся в ответ на эту колкую насмешку. Все, что наносило оскорбление памяти его матери, не могло не радовать его. И неважно, что в этом случае оскорблялась не столько память Екатерины Великой, сколько честь самой России. Реплики Аракчеева, безусловно, были услышаны и подхвачены другими подпевалами, умеющими держать нос по ветру. И они, конечно, передавались остальным. Но если Павел сразу после окончания парада забыл об этом ничтожном инциденте, то народ не мог в одночасье предать забвению свои традиции, и ностальгия по былой русской славе в нем оставалась по-прежнему живой!
VII. Царь, который пугался собственной тени
Поскольку Павел был вынужден некоторое время дожидаться утверждения в своих легитимных правах на трон России, он решил выместить на матери всю злобу, накопившуюся у него за все годы. С этой целью он приказал отсрочить, на сколько это было возможно, дату ее похорон. И только через месяц после того, как гроб с ее телом был выставлен для проведения прощальной церемонии, он дозволил предать ее прах земле. Но прежде всего он считал своим долгом восстановить справедливость и отдать последнюю дань уважения одновременно и почившей недавно императрице Екатерине II, и скончавшемуся тридцать четыре года назад Петру III, так и не успевшему поцарствовать. В свое время Екатерина под предлогом «незаконности» не разрешила похоронить останки своего мужа в традиционной усыпальнице русских царей, в соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Петра III тихо захоронили в Александро-Невской лавре, и его могила с тех пор оставалась там в забвении. Став императором, Павел не мог допустить этого унижения и потребовал, чтобы гроб с останками его отца был изъят и доставлен в Зимний дворец. При вскрытии уже достаточно истлевшего гроба монарха там обнаружили лишь некоторые фрагменты скелета, шляпы, перчаток и сапог покойного. Эти реликвии были тут же сложены и закрыты в новом гробу, затем с большой помпой доставлены в Зимний, где гроб Петра III был установлен в колонном зале рядом с гробом своей преступной супруги Екатерины. Таким образом, покойная старая женщина, управление которой в течение не одного десятка лет принесло России всемирную славу, лежала теперь совсем рядом с останками своего молодого мужа, жертвы заговора, который она же и организовала. Великий устроитель спектаклей, их сын разыграл на этой трагедии фарс супружеского примирения. Действуя по своей инициативе и проявляя нежную заботу о почившей чете, он выставил у их подножия табличку с надписью: «Разделенные при жизни, соединившиеся после смерти». Весь Санкт-Петербург прошел перед сдвоенным катафалком под пристальным взглядом Его Величества, явной амбицией которого было стремление откорректировать Историю. Знатные сановники, придворные, дипломаты медленно один за другим молча отдавали дань почтения усопшим, участвуя в траурной мизансцене, поставленной самим императором. Описывая это представление, шведский министр барон Стедингк писал своему правительству: «Что можно сказать об этой горделивой женщине, диктовавшей свою волю монархам, а теперь выставленной на обозрение и суд толпы, рядом с мужем, убитым по ее воле? Какой ужасный урок дает провидение всем людям с дурными наклонностями!»
После церемонии публичного прощания тела усопших были перенесены в собор Петропавловской крепости. Двадцативосьмиградусный мороз парализовал город. Колокола звонили отходную над траурным шествием людей, трясущихся от холода. Но его медленным прохождением по заснеженным улицам Санкт-Петербурга Павел еще раз хотел подчеркнуть искупительный характер этой процессии. По его приказанию оставшиеся в живых участники заговора 1762 года шли во главе процессии в парадных костюмах. Главный виновник – цареубийца Алексей Орлов-«меченый»[24] – очень постарел. Его мундир, который он вытащил из гардероба по этому случаю, стал ему совсем узок. Ноги едва держали его. Он передвигался, неся на подушечке, вышитой золотом, корону своей жертвы. Его сообщники Барятинский и Пассек поддерживали тесьму траурного балдахина. Принудив их воздать почести, Павел хотел тем самым заставить их отречься от прошлого и приговорить их к осуждению толпы. Но кто теперь в народе мог вспомнить Петра III, этого виртуального монарха, которого без всякой огласки вторично хоронят на другом месте? На пути следования траурного шествия народ оплакивал не его, а «бедную матушку Екатерину», которая правила долгое время. Все раскланивались перед Павлом I, ставшим теперь ее наследником, в надежде, что он, возможно, как и она, проявит себя еще с лучшей стороны. Однако никто уже не полагался на ушедшее прошлое, не задаваясь вопросом, было ли оно вообще.
Внутренняя часть огромного собора была битком забита людьми. Священники в черных ризах, вышитых серебром, совершали обряд отпевания сразу двух усопших – отца и матери вновь испеченного монарха. Все это выглядело, как загробное венчание двух призраков. Ненавидели ли они друг друга, несмотря на разложение своих тел? Где могли они помириться, чтобы наконец освободить своего сына от терзавших его мучений? Оба германских кровей – один из Киля, другая из Цербста – они желали управлять страной, язык которой поначалу не знали и веру которой не исповедовали. Но если Петр, преждевременно убиенный, так и не сумел воспользоваться своей возможностью, то Екатерина была несправедливо взята под покровительство судьбы. Ее долгое царствование, которым восхищалось столько людей, имело в глазах Павла дьявольский характер. Даже если она и была благословлена церковью в тот великий день, он не мог простить ей ее преступления. Сарабанда ее любовников плясала в ее голове и вредила ей. И являлось ли такой уж сплетней то, что она, следуя нелепому порыву, втайне ото всех намеревалась выйти замуж за Потемкина? Стоя перед гробом своей матери, Павел отказывался воспринимать эту низость. Недостойные поступки покойной не должны, как надеялся он, безнаказанно уйти вместе с ней. После грандиозных похорон расчеты за грехи были продолжены. Испытывая желание устроить показательное наказание для обожающего роскошь «князя Таврического», который сыграл значительную роль в возвышении легенды Екатерины Великой, Павел приказал вскрыть мавзолей Светлейшего князя Потемкина в Херсоне и развеять по ветру его проклятые кости. Он своими руками готов был осквернить могилы всех тех, кого Екатерина любила при жизни.
Спустя какое-то время, когда гнев его поостынет, он утратит интерес к своим личным делам и примется за дела страны. На самом же деле он никогда не отделял одно от другого. Он одинаково проявлял запальчивость и когда дело касалось семейного конфликта, и когда решал политические проблемы. Таким образом, он и в том, и в другом случаях позволял себе руководствоваться эмоциями, пренебрегая любой стратегией ведения мировой политики. Кроме того, являясь также горячим последователем своего отца, а через него и сторонником короля Пруссии, он предпочитал иногда приносить в жертву интересы своей родины предпочтениям своего сердца. Его главная ошибка в усвоении урока власти происходила от неспособности отказаться от своего преклонения и дружбы, на которую его настраивали некоторые недруги России. Он был слишком человечным, слишком спонтанным, слишком импульсивным в своих ангажементах, чтобы взвешенно управлять судьбами империи. Большую часть времени перед тем, как принять решение, он проводил в размышлениях о том, как бы на его месте поступила его мать, затем, машинально, склонялся к противоположному решению. Это нежелание следовать идеям Екатерины подсказывало ему порой и благоразумные решения. Например, придя к власти, он, для того чтобы расстроить замыслы покойной императрицы и клана Зубовых, приказал немедленно остановить губительную военную кампанию против Персии и возвратить все полки в Россию. В других случаях его систематическое желание противоречить, увы, вредило ему в его отношениях с подданными. Одержимый идеей повысить мораль русской армии путем переобмундирования ее в прусскую униформу, он оставался глух к протестам, пока еще робким, проявляемым со всех сторон противниками его планов. В соответствии с его неоднократными предписаниями уставная униформа была скроена из дешевой ткани бутылочного цвета, все военные облачились в огромные анахроничные треуголки, солдатам делали прически с локонами и смазанными и напудренными косичками. Они постоянно выражали недовольство тем, что, когда находятся в карауле, их обязывают вставать в полночь и помогать друг другу приводить в порядок форму и прическу. Офицеры, которые не могли добиться от своих подчиненных безукоризненного вида, подвергались со стороны своих начальников взысканию и даже обидному оскорблению перед строем. А частенько и сам император собственной персоной выносил наказание. Князю Репнину, который решился посоветовать ему быть немного снисходительней, он спесиво ответил, что его власть, будучи по существу безграничной, не может допустить, чтобы кто-нибудь сделал ему замечание: «Господин фельдмаршал, видите эту кордегардию? Здесь четыреста человек. Одно мое слово, и все они станут маршалами». Другому придворному он заявляет следующее: «Дворянин в России лишь тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю!» Единственный из военачальников, осмелившийся выступить против безрассудного авторитаризма Его Величества, был старый Суворов, герой войны против турок и усмирения поляков. Раздраженный германофилией Павла I, он писал: «Русские всегда били прусаков, так почему же мы им должны подражать?» И добавляет: «Нет никого более нищих, чем прусаки! Быть по соседству с их кварталами – это находиться рядом с настоящей заразой! Их прически своим зловонием могут довести вас до бессознательного состояния. Их гетры причиняют боль икрам ног. Мы были избавлены от всего этого дурного. Теперь они стали первой солдатской бедой. Допустимо ли это, чтобы с защитниками Государства так дурно обращались?» Считаясь со славой Суворова, Павел только пожал плечами. Зато он был рад тому, что его дорогой Аракчеев, мастер по дисциплинарному наказанию, дал свое согласие на проведение военных парадов по всем установленным Павлом правилам. Если хотя бы один солдат собьется с шага во время смотра, несговорчивый «капрал Гатчины» выводил его из строя и писал на спине мелом количество ударов палкой, которым он будет подвергнут в наказание за свою ошибку. Избиение палками, отправка в карцер или в удаленные гарнизоны были самыми распространенными дисциплинарными наказаниями. Офицеры и сами, зная, что в любой момент могут подвергнуться наказанию в пылу императорского гнева или ярости его помощников, имели привычку перед парадами брать с собой некоторую сумму денег в ассигнациях на случай неожиданной ссылки.
Озабоченный распространением на все «гражданское» общество России западной моды, которой оно отдавало свое предпочтение, Павел издает ряд указов, предписывающих ношение париков, причесок с напудренным хвостиком, треуголок, обуви с пряжками, а запрещались сапоги с отворотами, длинные панталоны, туфли и чулки, украшенные бантиками, орденские ленты и даже круглый головной убор. По его наущению жандармы задерживали нарушителей прямо на улице и тут же снимали с них запрещенные одеяния. Эти первые меры показались недостаточными для выполнения императорского указа, и префект полиции генерал-губернатор Санкт-Петербурга Архаров приказал направить на улицы города двести драгунов, чтобы отлавливать непокорных. Озверев от проявленного усердия, эти новоявленные контролеры моды срывали с непокорных запрещенные для ношения головные уборы, отрезали «неуставные» воротники, кромсали пагубные жилетки. В результате введения в норму военной дисциплины возмущенным людям приходилось возвращаться домой в одежде, разрезанной на лоскуты. Но урок был усвоен. Разочаровавшись, они вынуждены будут снова начать привыкать к треуголкам, напудренным волосам, к стоячим воротникам, к обуви с пряжками, а тем, кто являлся служащим, – к мундирам, соответствующим их статусу. К тому же регламентация одежды сопровождалась строгими правилами проявления почтения к Их Величествам и Их Высочествам. Всякий раз прохожий, проходя на улице мимо того места, где сталкивался с членом императорской семьи, должен был остановиться и, застыв в почтении, подождать, пока эта особа не пройдет, а если он находился в этот момент в коляске, – немедленно сойти с нее на землю. В случае, когда горожанин вольно или по невнимательности нарушит это правило учтивости, то его повозка будет конфисковываться, а он сам рискует быть отправленным служить в армию. Ни дождь, ни снег не освобождали подданных Павла I от ситуаций, в которых не учитывались социальное различие и положение. Впрочем, если император был требователен к своим подчиненным, то он так же относился и к себе. Его рабочий день – бурная активность человека, выполняющего сдельную работу, кропотливого, пунктуального и неутомимого. С пяти часов утра во всех комнатах по его приказанию зажигались все свечи и лампы. Его утренний туалет и легкий завтрак совершались на скорую руку. Затем он сразу же приступал к работе. В восемь часов он выезжал в город проверять казармы, носился по различным администрациям, затем возвращался во дворец, собирал своих министров, выслушивал их рапорты и советы. Оставив их к полудню, он каждый день и в любую погоду направлялся на вахт-парад гвардейцев. Это было для него вознаграждение за другие, менее приятные обязанности императорской должности. Обутый в высокие сапоги, одетый в простой темно-зеленый мундир и в велюровую далматику гранатового цвета, накинутую на плечи, он высматривал просчеты своих солдат с увлеченностью энтомолога. В своем желании добиться совершенства он настолько концентрировал внимание на мелких деталях, что упускал из виду главное. Но никто вокруг него не осмеливался сказать, что нет необходимости омрачаться из-за пуговиц на гетрах или из-за длины шага марширующих, для того чтобы судить о величии и благоденствии нации. Окруженный своими адъютантами, которые, не проронив ни слова, стояли рядом, он притопывал ногами, чтобы разогреться, категорически отказываясь накинуть на себя шубу, и размахивал своей тростью, обозначая такт марша, а в момент окончания прохождения с маниакальным удовольствием раздавал наказания или поощрения, какие только ему могли заблагорассудиться. Коченея от холода и сморкаясь, офицеры его свиты с нетерпением ожидали момента возвращения к себе, чтобы обогреться. И чем невзрачней становился их вид, тем больше невыносимых мук им приходилось испытывать. Свидетель этих ежедневных представлений мемуарист Массон писал: «Несмотря на то что старые генералы мучились от кашля, насморка и ревматизма, они не осмеливались публично показывать виду и считали себя обязанными стоять вокруг своего государя, одетые, как и он».
К полудню император возвращался во дворец и обедал в кругу своей семьи. Быстро откушав, он отпускал всех и предавался полуденному отдыху. В три часа он отправлялся с новой инспекцией в город. Это было время для проведения критической разборки расслабленной деятельности некоторых чиновников или плохого состояния набережных Невы, а в пять часов он вновь в сопровождении своих ближайших советников возвращался во дворец, чтобы обсудить с ними текущие дела. После легкого полдника, если в программе дня не было назначено приема, царь ложился отдохнуть и спал до восьми часов. Все окружение следовало его примеру. «Тут же, – отмечал лейтенант в отставке Андрей Болотов, – во всем городе не оставалось ни одной свечи, которая не была бы загашена».
Свою пунктуально расписанную активность Павел чередовал по своему усмотрению с выработкой спасительных реформ и мер, мелочность которых не переставала удивлять. Моментами на него находил порыв милосердия, он вспоминал некогда изучавшиеся им уроки энциклопедистов, размышлял о простом народе, надеялся, что наиболее заинтересованная аристократия начнет содействовать реализации благополучия крепостных без изменения сверху донизу их статуса. Но возникали новые проекты, которые тут же вытесняли из его головы то, что задумывалось ранее. Иногда Павел неожиданно предпринимал нападки на Сенат, критикуя его деятельность, казавшуюся императору роковой, и тогда он начинал устраивать проверку на моральное соответствие своих сенаторов. Барон Эйкинг, приглашенный им на заседание высшей палаты, отмечал после визита во дворец, что Павел I, производя фантастическое впечатление, имел врожденные чувства «справедливости и гуманизма». «Сенат, – писал тот же мемуарист, – не имел ничего общего с храмом Фемиды: он был больше похож на вертеп крючкотворцев, зал заседаний имел отвратительный вид; кресло председателя было изъедено молью; вице-председатель Акимов был семидесятилетним полупарализованным стариком, совершенно не владеющим основами права. Две тысячи дел ожидали своего рассмотрения, правовой кодекс пылился где-то в шкафу невостребованным, в секретариате процветало кумовство. Новые сенаторы вынуждены были прилагать огромные усилия для того, чтобы навести порядок в ходе рассмотрения дел, но это уже ничего не могло кардинально поменять». Раздосадованный медлительностью Сената, Павел решил сам расследовать дела, которые затягивались, и он выносил по ним свое решение без чьей-либо консультации. Несмотря на то что он не обладал никакими юридическими, административными или финансовыми знаниями, он считал себя способным выносить решения по любым вопросам. Его невежество заменяло ему компетенцию. Во всяком случае, оно позволяло ему разрешать наиболее трудные проблемы, опираясь единственно на свою интуицию. В своем активном администрировании он множил указы, изобилие и разнообразие которых приводили в уныние чиновников, ответственных за их выполнение. Внося путаницу, он отменял некоторые правила, устанавливая другие, реорганизовывал продажу зерна, ввел повышение таможенных тарифов, расширил свод случаев применения телесных наказаний, ввел в оборот среди благородного сословия ассигнации разного достоинства, установил, что крепостные должны быть «прикреплены к земле», прежде чем стать собственностью своего хозяина, и что их нельзя продавать отдельно от земли, запретил проникновение в Россию иностранной литературы, ввел цензуру как на светские, так и на религиозные книги на русском языке, закрыл свободное книгопечатание для того, чтобы не позволять существовать никаким, кроме как подконтрольным государству, издателям… Законы сменяли друг друга очень быстро и касались всех – и дворянства, и чиновников, и помещиков, и крестьян: никто теперь уже не знал, с какой ноги ему дозволено вставать. Но больше, чем мужчины, от авторитарных прихотей монарха страдали женщины. Они сожалели, что пристрастие императора к мундиру и командованию приведет к тому, что военный образ жизни будет превалировать над гражданским и, вторгаясь в повседневность, не пощадит ни моду, ни развлечения, ни светские привычки, ни их досуг. С этим царем, который хотел за всем надзирать, всем распоряжаться, они больше не ощущали себя «как дома», как в своей семье.
Те, кто был приближен к «коронованному монстру», знали, однако, что хотя он и ужасен в своем гневе, но умеет быть обворожительным, когда забывает, что имеет право распоряжаться жизнью и смертью своих подданных. «Император был небольшого роста, – писала придворная дама Дарья Ливен. – Черты его лица были уродливы, за исключением глаз, которые были очень красивы, экспрессия которых, когда он не был во гневе, обладала привлекательностью и бесконечной мягкостью. [Его характер] составлял странное сочетание инстинктивного благородства и отвратительных склонностей».
Другая придворная дама, Варвара Головина, утверждала, что Павел имел моментами «грандиозные и рыцарские намерения», но буквально тут же «его скверный характер одерживал верх». Все, стремясь его лучше познать, обнаруживали порой за гримасничающим лицом сорокалетнего мужчины, передергивающимся от тика, беззаботного парня с расстроенной головой, который в одиночестве развлекался в своей комнате игрой в деревянные солдатики. Повзрослев, он совсем не изменился. Став императором, он обходился с человеческими существами так же грубо, как он это делал с раскрашенными фигурками. Он управлял обитателями своей страны в соответствии со своим сиюминутным настроением – перемещал их, оскорблял, наказывал, калечил, складывал в сундучок для игрушек, потому что еще с юных лет они без своего ведома уже составляли для него частицу армии в миниатюре. Это своеобразное простодушие и жестокость сочетались в нем с безмерной надменностью, со способностью на хорошее и плохое; он жил в тотальной ирреальности, но в этой беспрерывной непоследовательности воспринимал себя реалистом, претендуя воплощать порядок, справедливость и милосердие.
Самый наглядный пример этого детского отклонения он проявил, когда решил неожиданно создать подобие почтового ящика, в который каждый его подданный, недовольный своей судьбой, мог вложить прошение, адресованное императору. В этих целях на одной из стен дворца был проделан широкий проем. Письма, которые туда опускались, попадали прямо в комнату, расположенную ниже, ключ от нее находился только у царя. Ранним утром, перед тем как собрать министров на совещание, Павел заглядывал в свою тайную комнату, собирал корреспонденцию, полученную накануне, прочитывал письма с таким прилежанием, словно бы речь шла о дипломатических документах, хотя большая часть из них была откровенной галиматьей. Жалобы, всегда анонимные, касались то судебного процесса, который никогда не кончался, то незаслуженного наказания кнутом, то нарушения административного права, то кражи скота, то ссоры между соседями. На все эти плачевные ходатайства Павел отвечал коротким извещением, составленным собственноручно. Текст его ответов публиковался в виде официальных сообщений в газетах, которые все это перепечатывали и доводили до сведения заинтересованных лиц. Однако вскоре некоторые извращенные умы воспользовались императорской инициативой для того, чтобы подкладывать в «почтовый ящик» памфлеты, оскорбительные советы, карикатуры, все без подписи и указания на их происхождение. Эта дерзость народа, привыкшего абсолютно все сносить безропотно, побудила Павла задаться вопросом: не встал ли он на ложный путь, разрешив простому люду доверять ему свои заботы «как отцу семейства»? Дозволив черни выражать свои мысли, размышлял он, вдруг обнаружилось, что она настроена на действия, подобные взятию Бастилии и отсечению голов. Убедившись, что он зашел слишком далеко и что его эксперимент окончательно провалился, он приказал закрыть почтовый ящик, который был преобразован в мусоропровод. Ему теперь казалось, что его лучшие намерения обернулись против него же самого, что русские недостойны улучшений, которые он хотел привнести в их судьбу, и что если бы он правил прусаками, то был бы непременно ими понят.
Рассматривая быстрое падение престижа Павла I в обществе, прусский посланник граф Брюль напишет в своем отчете: «Император, пытаясь исправить ошибки прежних правителей, хотел ввести новый режим, который, тем не менее, не был воспринят народом, потому что совсем не был продуман, и в результате потерпел полный крах; осуществление реформ было настолько поспешным, что никто не понял их назначения, Павел совсем не предполагал, что никто их не поддержит; при таком отношении к ним императору ничего не оставалось, как заняться незначительными церемониальными и представительскими мелочами; в то же время он всегда выглядел человеком, озабоченным грандиозными задачами, и не выслушивал ничьих советов […]. Недовольство войск росло изо дня в день. Немыслимым образом изнуряли солдат, которые, пресыщенные всеми издевательствами, желали одного – найти возможность для дезертирства. Младшие офицеры были доведены до абсолютно нищенского состояния. Дворянство возмущалось всем, о чем можно было говорить. Неудовольствие увеличивается со дня на день. Беспрестанные нововведения, неуверенность в том, что можно сохранить занимаемое место на завтрашний день, доводят всех до отчаяния […]. И один только Бог знает, к чему все это приведет».
Лорд Чарльз Уитворд, посланник короля Англии, подтверждал в депеше этот пессимистический диагноз: «Необходимо признать, что изменения, вводимые [в России], не поддаются никакому исчислению, что беспокоит лучшие умы столицы». Даже мудрый и гибкий великий князь Александр, который был вынужден занимать выжидательную позицию в течение прихода к власти своего отца, начинал находить, что, давая волю своим самым странным порывам, император ведет страну к краху. «Мой отец по вступлении на престол захотел преобразовать все решительно, – писал он на французском своему бывшему гувернеру Лагарпу. – Его первые шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном, и потому беспорядок, господствовавший в делах и без того в слишком сильной степени, лишь увеличился еще более. Военные почти все свое время тратят исключительно на парадах. Во всем прочем решительно нет никакого строго определенного плана. Сегодня приказывают то, что через месяц будет уже отменено. Доводов никаких не допускается, разве уж тогда, когда все зло совершилось. Наконец, чтоб сказать одним словом – благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами: существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот. Невозможно перечислить все те безрассудства, которые совершались здесь… Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать мое сердце. Я сам, обязанный подчиняться всем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составляющим мое любимое времяпрепровождение: я сделался теперь самым несчастным человеком».
Если Александр после периода сыновней покорности восстал против потрясений, вызванных особенностями характера Его Величества, то Мария Федоровна старалась, со своей стороны, проповедовать толерантность, терпение и милосердие своему мужу, любившему только бурю. Но с годами и она немного утратила то влияние, которое имела на него в начале их женитьбы. К счастью, Екатерина Нелидова, появившаяся после долгого пребывания в Смольном монастыре, высказала готовность из чистой привязанности к императорской семье возобновить свои обязанности фрейлины и доверенного лица. Павел высказал удовлетворение возвращением во дворец неподкупной и незаменимой свидетельницы его интимной жизни. На самом же деле, присоединившись к группе друзей семейной четы, бывшая затворница объединила свои усилия с царицей, чтобы помешать Павлу решиться на то, о чем он мог пожалеть на следующий день. Она давала ему конфиденциальные советы относительно выбора своих приближенных лиц и обращалась к нему с тем, чтобы защитить жертвы его же чуть ли не ежедневной горячности. «Будьте добры, оставайтесь самим собой, – писала она ему, – поскольку вашим предрасположением является доброта […]. Ради Бога, Государь, используйте снисхождение. Сохраняйте вокруг себя тех, кто имеет разумные головы». Но если в целом влияние на Павла со стороны Екатерины Нелидовой и императрицы было положительным, то в политике они обе были незрелыми советчицами. Ни одна ни другая не обладали достаточной компетенцией и властью, чтобы противодействовать влиянию Безбородко, Аракчеева, Куракина или даже Кутайсова. Они своей слабостью женщин и чувственными сердцами существовали ради Его Величества и были для него не больше не меньше, чем няни, которые занимались модой, воспитанием детей, чтением французских романов и о которых говорили в салонах, когда не о чем было уже говорить. Однако Павел считал присутствие своей «платонической любовницы» до такой степени необходимым для своего физического и морального равновесия, что начиная с января 1797 года выделил ей покои в Зимнем дворце.
Следующим шагом Павла, который он предпринял для укрепления незыблемости своего права на власть, являлось совершение обряда коронации в Москве. Его отец пренебрег именно этой исконной традицией и был убит как царь, непризнанный церковью. Павел не хотел повторять ту же ошибку. Считалось, что будущему монарху необходимо провести несколько дней в древней столице с тем, чтобы благоговейно приготовиться к торжествам, которые ему предстояло пройти.
Дата, выбранная для коронации, выпала на 5 апреля 1799 года; императорская семья начиная уже с 15 марта находилась в предместье Москвы. Безбородко приготовил там для знатных визитеров свое просторное поместье. Три недели спустя император совершил триумфальный въезд в древний город, разукрашенный флагами. Он возглавлял кортеж, восседая на своем верном Понпоне, подарке принца Конде. Позади от него растянулась когорта экипажей великих князей, высокопоставленных сановников, придворных, некоторые из которых, по причине своего преклонного возраста, с большим трудом могли держаться в седле. Царица и великие княжны следовали в каретах со сверкающими гербами, в которые были впряжены кони, украшенные султанами. На всем пути следования этой торжественной процессии толпа, надлежащим образом проинструктированная, издавала возгласы радости и приветствия. Павел казался столь простодушно удовлетворенным этой наигранной популярностью, что это дало церемониймейстеру Федору Головкину повод написать в своих воспоминаниях об этом празднике: «Император вел себя, как зачарованный от заготовленного для его удовольствия ребенок». Слово «ребенок» появляется из-под пера мемуаристов той эпохи всегда, когда речь заходит о Павле I. Однако этот «ребенок» обладал в стране большей властью, чем любой другой зрелый мужчина. Если некоторые дети радовались, ломая свои игрушки по оплошности или из-за своего каприза, то он достиг положения, когда мог ломать человеческие жизни так же не задумываясь, без всякого угрызения совести.
5 апреля в Кафедральном соборе Московского Кремля со всем великолепием и помпезностью, которые соответствовали обстоятельствам, состоялась церемония коронования. Возвышающийся трон был установлен в центре собора напротив алтаря. Во время коронации Павел держался с величественной уверенностью, затем была коронована его супруга. Облаченный в императорскую порфиру, он держал в одной руке скипетр, в другой – державу, но даже под балдахином ступал военным шагом. После причастия, коронации и традиционного «Te Deum laudamus»[25] император повелел зачитать вслух составленный им Семейный акт, который регламентировал династический порядок передачи власти. Решив вновь утереть нос своей матери, он зафиксировал в этом документе положение о том, что женщины отныне исключаются из права престолонаследия. В заключение прочтения этого документа глашатай от имени Его Величества произнес: «Мы определяем в качестве наследника, после нашей смерти, нашего старшего сына Александра, а после него – его потомков по мужской линии». Яснее сказано не могло и быть.
По завершении процесса коронации император и императрица восседали на двух одинаковых тронах в одном из залов Грановитой палаты Московского Кремля, принимая клятву верности от своих подданных. Однако они посчитали, что публика, присутствующая на церемонии, слишком малочисленна и недостаточно празднично настроена, чем была на подобной процессии при короновании Екатерины II. Церемониймейстер Валуев, обеспокоенный этим фактом и желая предупредить недовольство Их Величеств, потребовал от некоторых приглашенных повторить выражение своего почтения в несколько заходов, чтобы «создать иллюзию большого количества». Среди роя красивых женщин, которые дефилировали перед Павлом, он приметил одну очень симпатичную девушку, Анну Лопухину, свежесть которой бросилась ему в глаза и очаровала. Шелковистые темные волосы, маленький вздернутый носик, перламутровые зубы, небольшой рост и взгляд ангела, который содержал в себе какой-то невысказанный упрек. У Павла возникло желание сделать ей что-нибудь приятное, и он улыбнулся этой незнакомке. Она склонилась в реверансе, поцеловала руку, которую он ей машинально протянул, и исчезла, словно подхваченная весенним бризом. А Павел уже думал о другом. Однако фрейлина Варвара Головина, наблюдавшая за этой сценой, отметила в своих «Мемуарах»: «Она имела красивые глаза и черные ресницы».
После краткого пребывания в Москве Павел захотел совершить путешествие по России – чтобы с ним могли познакомиться в отдаленных российских провинциях, о которых он сам имел лишь поверхностное представление, и воздать ему там соответствующие почести. Однако он не мог до конца преодолеть разрушительной двойственности своего характера: с одной стороны, он стремился к популярности, но с другой – только и делал, что этому противодействовал. Критикуя все существующие порядки, он желал все обновить, все реорганизовать, но в то же время угрожал смертной карой всем тем, кто пытался, как ему казалось, зайти слишком далеко. Так, в ходе своей выездной инспекции он наказал главу местной администрации за то, что тот помимо основных работ по восстановлению дороги осмелился отремонтировать дополнительный участок, облегчавший проезд императорского кортежа от близлежащей деревни к Смоленску. Император впал в гнев и решил устроить показательное наказание этого чиновника за излишнее рвение. Он даже предполагал расстрелять его на месте в назидание всем остальным. И только благодаря заступничеству Безбородко и великого князя Александра удалось снять напряжение, добиться помилования и избежать неприятности. Однако вскоре эта ознакомительная и ревизорская поездка утомила Павла. Он проехал ряд городов и населенных пунктов, встретился со многими губернаторами и командующими гарнизонов, поговорил с большим количеством высокопоставленных чиновников и уже вскоре уверовал, что более в России для него нет ничего, что бы могло быть интересным. И он поспешил возвратиться в Павловск, где его ожидали жена и Екатерина Нелидова. Императрица, впрочем, была вновь беременна. Становилось привычным явлением видеть ее в этом состоянии! И отношение Павла к ней сменялось с восхищения на раздражение. Однажды вечером, возвращаясь с семейной прогулки по парку, они услышали сигнал тревоги, передаваемый звуками трубы и барабана. Император вздрогнул, тотчас же покинул жену и сопровождавших его лиц и поспешил во дворец. Его болезненная подозрительность уже строила невероятные предположения, словно бы речь шла о безопасности государства. Увидев, что одна из ведущих ко дворцу дорог занята солдатами, а остальные поспешно бежали со всех сторон, он вообразил, что заговорщики подняли мятеж среди полков его гвардии. Даже императрица, от которой он внезапно отошел, чтобы скрыться в убежище, была убеждена, что ему угрожает опасность, и крикнула камергерам, которые пытались ее успокоить: «Бегите, господа, спасайте вашего государя!»
Когда двери апартаментов за императором закрылись, он удивился наступившему затишью, которое внезапно последовало после суматохи в парке. Он приказал провести дознание о случившемся среди солдат. После многочисленных допросов выяснилось, что причиной тревоги был трубач, который упражнялся в игре на инструменте в казармах конной гвардии. Этот звуковой сигнал был передан в казармы соседних полков, где его посчитали за сигнал пожарной тревоги или же за сигнал к сбору для обычной отработки оперативности военных подразделений. Так постепенно весь гарнизон был охвачен паникой. Сбежавшееся на шум из-за этой абсурдной суеты местное население потом еще долго посмеивалось над военными. Немного успокоившись, Павел наобум нараздавал наказания и издал указ, предписывающий жителям Павловска, «чтобы во время высочайшего присутствия в городе не было там ни от кого произносимо свистов, криков и не дельных разговоров». Затем он резко отчитал своих офицеров, которые не сумели предотвратить инцидент, и также упрекал их за то, что они все еще не избавились от своих порочных недостатков, заведенных еще при Потемкине. Со сверкающими глазами и скривившимся ртом он угрожающе прокричал: «Я заставлю вас забыть потемкинский дух, я вас отправлю гнить в дьявольскую преисподнюю!»[26]
Санкции следовали одна за другой. В течение двух месяцев сто семнадцать офицеров были отчислены из армии под разными предлогами и заменены неопытными рекрутами. Балы, спектакли и концерты, которые в Гатчине чередовались с парадами, не могли рассеять чувства беспокойства, которое тяготило офицеров и придворных, страдающих от извечных капризов своего хозяина. День ото дня Павел чувствовал, как вокруг него сгущалась атмосфера ненависти и страха. Однако он ничего не предпринимал, чтобы ее разрядить, так же как если бы речь шла о запахе, присущем его телу с рождения, но который он не ощущал и потому на него не реагировал. Его, стоявшего на краю пропасти, охватило головокружение, сравнимое, пожалуй, лишь с неудержимым влечением злого рока. И что бы он ни говорил, что бы он ни делал, он исподволь понимал, что работает на свою погибель. И вместо того чтобы найти способ обезоружить свою ненависть, он даже с патологическим удовольствием ее провоцировал. Обделенный любовью своей матери, он вопрошал себя: неужели он нелюбим и Россией? А может быть, все это запоздалая месть Екатерины? Что дальше: будет еще беспокойней? И лишь одно обстоятельство хоть как-то тешило его униженную гордость: в первый раз эта ненавистная бабушка, захватчица детей, будет лишена удовольствия забрать себе новорожденного, появившегося на свет у ее невестки и сына в начале 1798 года.
К несчастью, Мария Федоровна выходила эту позднюю беременность не так хорошо, как предыдущие. Для большей уверенности на роды вызвали акушера из Берлина. С первых схваток роженицы он выказывал обеспокоенность течением родов. После появления на свет 28 января 1798 года четвертого сына, Михаила, она еще некоторое время испытывала весьма мучительные боли. Послеродовые осложнения вызывали опасения. Собравшиеся на консилиум придворные лекари пришли к единодушному мнению, что Мария Федоровна рисковала своей жизнью во время последних родов, что впредь ей противопоказано зачатие и что в целях ее безопасности императрице рекомендуется воздержаться от выполнения своих супружеских обязанностей. Павел был весьма разочарован таким вердиктом, а царица, несмотря на свое целомудренное воспитание, восприняла это решение как Божье наказание. Единственный человек, который, заверяя императрицу в своей великой дружбе, скрыто радовался этому обстоятельству, была Екатерина Нелидова: ее соперница выходила из борьбы. Однако ловкий фактотум Кутайсов нашел им обеим замену. У него имелся на этот случай целый список. И во главе его стояла юная Анна Лопухина.
VIII. Подозрительность, непоследовательность и деспотизм
Главе государства необходимо, чтобы в своем авторитаризме он проявлял последовательность и твердость, что не давало бы советчикам возможности вмешиваться по всякому поводу во все его дела. Однако вспышки гнева и резкая перемена взглядов у Павла проявлялись так часто и так неоправданно, что это вынуждало его близких все более и более обсуждать его решения. Нередко в ходе рассмотрения общественных дел императрица и ее конфидентка Екатерина Нелидова, естественно, вызывались выступать в роли вдохновительниц государя. Обе они имели твердые монархические убеждения. Адом для обеих представлялась Республика, Франция ассоциировалась с полыхающим костром, а всемогущество королей или наследных императоров, как, например, в России, казалось раем. Это упрощенное видение отражало прежде всего то представление о монархической власти, которое царь воплощал в себе на протяжении последнего ряда лет. Конечно, недавние победы Бонапарта, как казалось Павлу, заслуживали того, чтобы проявить к ним пристальное внимание. И Павел, по существу, был не против пересмотреть свои суждения о нем. И то обоснованное и необоснованное преувеличение, которое допускали две близкие ему женщины в своей критике Парижа, начинало его немного раздражать. Силясь хулить Францию, они в то же время неизменно завершали свою критику тем, что воздавали ей свое восхищение. Во всяком случае, для того чтобы окончательно разобраться в своих мыслях, Павел предпочитал выслушать своего дорогого Кутайсова. Несмотря на не совсем ясное прошлое его слуги и брадобрея, этот человек казался ему обладающим здравым представлением как о политической жизни, так и о семейной жизни. Во время их многочисленных бесед за закрытыми дверями Кутайсов не упускал случая, чтобы ненароком не задеть этих двух советчиц, которым пока царь поверял свое сердце. Павел позволял ему высказывания, касающиеся личной жизни, в частности о том, что царю в его возрасте и положении позволительно претендовать на более привлекательное общество, чем супруга, ставшая полубольной в результате многочисленных (в общей сложности десяти) беременностей, или же «нудная» Екатерина Нелидова, которой место в монастыре, а не во дворце. Время от времени он разжигал иллюзии царя и в отношении Анны Лопухиной. Это, конечно, еще ребенок, но уже в том возрасте, когда может сделать человека счастливым, если он этим воспользуется. Соблазненный этой возможностью, Павел, правда, не отвечал ни да ни нет, но в своих мыслях все чаще возвращался к воспоминаниям об этой молодой девушке.
В июне 1798 года Его Величество в сопровождении великого князя Александра, великого князя Константина и своей свиты приехал в Москву с новым официальным визитом. Отличным поводом для поездки стал довод о необходимости повысить свой престиж в глазах подданных, который так тешил его самолюбие, а также желание встретиться с молодой девушкой, достигнувшей расцвета своей юности, достоинства которой ему так старался превознести Кутайсов. На этот раз приветственные возгласы при въезде царя в город звучали так громко, что удовлетворенный Павел тем же вечером, прохаживаясь по своему рабочему кабинету, сказал Кутайсову:
«– Как было отрадно моему сердцу! Московский народ любит меня гораздо более, чем петербургский; мне кажется, что там теперь гораздо более боятся, чем меня любят.
– Это нисколько не удивляет меня, Ваше Величество! – поддакивал лукавый фактотум.
– Почему же?
– Не смею объяснить.
– Тогда приказываю тебе это.
– Обещайте мне, государь, никому не передавать этого.
– Обещаю.
– Государь, дело в том, что здесь вас видят таким, какой вы есть действительно, – благим, великодушным, чувствительным; между тем как в Петербурге, если вы оказываете какую-либо милость, то говорят, что это или государыня, или госпожа Нелидова, или Куракины выпросили ее у вас, так что когда вы делаете добро, то это – они, ежели же когда покарают, то это вы покараете!»
Павел нахмурился, поразмышлял и пробормотал:
«– Значит, говорят, что […] я даю управлять собою?
– Так точно, государь, – не колеблясь, отвечал Кутайсов.
– Ну, хорошо же, я покажу, как мною управляют!»[27] – воскликнул император и направился в свой кабинет, чтобы составить несколько карающих указов. Но Кутайсов отговорил его от этого, умоляя не вскрывать нарыв до того, как он созреет.
На следующий день во время торжественного бала, на котором присутствовало высшее московское общество, царь увидел юную Анну Лопухину, образ которой не переставал будоражить его воображение. Младшая дочь княгини Лопухиной на самом деле не была такой уж красавицей, но ее свежий вид и невинность подливали масла в огонь. Очарованная Павлом, она всегда находилась там, где пролегал его путь, когда он проходил из одного зала в другой. Один из членов императорской свиты, заметив уловки молодой девушки, прошептал императору: «Она, Ваше Величество, из-за вас голову потеряла!» Павел расправил грудь, однако уклончиво заметил: «Это же еще совсем дитя!» – «Но, Государь, ей уже скоро шестнадцатый год!» – заметил многозначительным тоном его собеседник. Согласившись с этим аргументом, Павел бросился вперед, навстречу к девушке, сказал ей несколько комплементов и разглядел ее поближе. Она была смущена и малоразговорчива, но ее наивность, застенчивость, ее скромность, смущенное моргание век произвели неизгладимое впечатление на императора, и он в тот же вечер, призвав в союзники Кутайсова, предоставил ему карт-бланш, чтобы «уладить дело» с родителями интересующей его особы. Взволнованная вниманием Его Величества, семья Лопухиных согласилась на секретную сделку, согласно которой ей предстояло в ближайшее время обосноваться в Санкт-Петербурге и получить при этом все причитающиеся ей привилегии и почести.
По завершении этой приятной интермедии в Москве Павел продолжил свое путешествие, направившись с визитом в Казань, чтобы поприсутствовать на нескольких военных парадах в провинции, и затем в конце июня возвратился в столицу. Как он себе представлял, никто, кроме Кутайсова, не был в курсе дел о его совсем недавно возникшей склонности к Анне Лопухиной, однако каждый его жест был замечен и обсуждаем за его спиной, и, конечно, все становилось известно его жене и Екатерине Нелидовой, и, таким образом, он очутился в самом эпицентре любовного противостояния. Кутайсов и Безбородко, с одной стороны, подстрекали его на непристойное воодушевление, царица и Екатерина Нелидова – с другой – предостерегали от этого своими обычными наставлениями, а великие князья также, со своей стороны, опасались за репутацию отца. Осознавая значимость опасности, императрица несколько раз попыталась воздействовать на своего мужа, уверяя его, что после нескольких месяцев отдыха она стала вполне способной принимать его в постели и что, согласно мнению медиков, она даже не утратила возможности рожать ему детей. Уяснив все прелести этой перспективы, Павел возразил, что другие врачи, с которыми он консультировался, сказали обратное и что в этих условиях он вынужден окончательно отказать ей в ее желаниях. Догадываясь, что ее супруг, пользуясь этим предлогом, просто-напросто не желает признаться ей в том, что больше не любит свою жену, императрица в начале июля 1798 года написала С.И. Плещееву, с тем чтобы он помог ей разазобраться в странных недомолвках Павла. В своем письме она утверждала, что царь сказал ей, «что вообще он уже не тот, что прежде, что не чувствует в этом никакой потребности, что физически он уже ни на что не пригоден и что в конце концов он полагает, что в этом отношении он просто парализован». Испытывая некоторую неловкость за человека, раскрывающего свои недостатки перед супругой, которой он некогда обладал, она в то же время воспринимает его саморазоблачения как оскорбление своей женственности. Наконец, для того чтобы пресечь замыслы семьи Лопухиных, императрица, обезумев от досады, пишет угрожающее письмо молодой девушке. Но ее письмо отслеживается и попадает на стол императора. Гнев Павла выразился в том, что 22 июля во время бала, устроенного по случаю юбилея царицы, он не произнес ей ни слова поздравления, а в сторону Екатерины Нелидовой бросал недобрые взгляды. «Бал этот скорее был похож на похороны, и все предсказывали скорую грозу», – писал сенатор Гейкинг в своих «Дневниках».
Эта гроза, которой все наблюдатели опасались, разразилась 25 июля в десять часов вечера. Вызвав своего старшего сына Александра, Павел приказал ему немедленно направиться к матери и объявить ей приказ Его Величества: он запрещает ей отныне в той степени, насколько это возможно, вмешиваться как в личные, так и в политические дела своего супруга. Приученный подчиняться воле отца, Александр на этот раз заупрямился и отказался выполнять это поручение, которое, по его представлению, окончательно подрывает его уважение к отцу. Упорство, с которым он стал защищать благожелательные намерения своей матери, вывело Павла из себя. «Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына!» – пробурчал он. Александр напрасно спорил, кричал, протестовал: императора охватила безумная злоба, вне себя от ярости он направился в апартаменты царицы, обошелся с ней грубо и запер на ключ в ее комнате. Это унижение было настолько сильным, что Мария Федоровна не имела больше никакого желания продолжать борьбу против подобного произвола. Находясь в заточении, она подумала про себя, что была совершенно права, родив для России детей, что ее муж вызывает у нее только презрение и отвращение, что она еще будет счастлива, и неважно, что здесь, во дворце, все ее ненавидят. Таким образом, она, в течение долгих трех часов оставаясь в одиночестве, считала, что все уже от нее отвернулись, но в это время по другую сторону запертой двери вдруг стали раздаваться робкие возмущения. Когда царица наконец была освобождена, она увидела свою добрую Екатерину Нелидову, которая, протестуя подобным обращением царя со своей супругой, встала на ее защиту, чтобы противостоять несправедливости императора и устыдить его за проявленную грубость. Нелидова была убеждена, что Мария Федоровна является образцом спокойствия и добродетели, а поскольку Его Величество обошелся с нею столь недостойно, то она на глазах у всей семьи и окружающих направилась в его кабинет и стала осыпать его упреками. Возмущенный подобной наглостью, Павел гневно воскликнул: «Я знаю, что я создаю одних только неблагодарных, но я вооружусь полезным скрепером, и вы первая будете им поражены, уходите вон!»[28] Едва Екатерина Нелидова переступила порог кабинета Его Величества, как тут же эта «платоническая экс-любовница» получила приказ покинуть Санкт-Петербург и не появляться там более никогда. Оставив дворец, она направилась сначала в Эстонию, где пробыла некоторое время у своих друзей в замке Лоде, а затем вернулась навсегда в Смольный монастырь[29].
После отъезда Екатерины Нелидовой при Российском дворе наступила другая эра. 9 сентября 1798 года семья Лопухиных в полном составе прибыла в столицу. Анна Лопухина нанесла свой первый визит в Зимний дворец, приглашенная на обед чиновничьего аппарата. Свидетели этой ее интронизации отметили, что в действительности она не была красавицей, однако живость ее черных глаз, матовая кожа лица, простая грация манер с избытком оправдывали императорский выбор. Оценивая важность своего будущего, родственники по линии Его Величества, клан императрицы, великие князья и великие княгини теперь поглядывали на нее с большим вниманием. В ее распоряжение был выделен загородный дом. Павел всегда находил момент, чтобы навестить ее в течение дня. Зная, что во время балов, на которые она была теперь всегда приглашена, она отдавала предпочтение вальсу, император оставлял за собой исключительное право на этот танец, который еще совсем недавно сам осуждал за чрезмерное сладострастие, для того чтобы быть исполняемым на публике. С другой стороны, по просьбе молодой девушки, которая любила народную одежду, он отменил запрет на ношение «русских платьев» при дворе, так же как некогда предписал «следовать французской моде». Скорее бы уже семья красавицы освоилась с великосветской жизнью на набережной Невы! Теперь уже Павел обладал правом на внимание со стороны той, которая пока даже не являлась его любовницей. Вместе с тем деспот и сам открыл для себя удовольствие время от времени совершать благодеяния, вульгарно называя себя при этом «папашей-пироженым».
Само собой разумеется, знаки внимания, расточаемые Его Величеством этому восхитительному ребенку, который без подстрекания к искушению грехом осветил его жизнь, ранили и Марию Федоровну, и многих других оскорбленных его поведением людей. Ее жизнь при дворе стала не чем иным, как чередой обид: одних преднамеренных, других непроизвольных. Весь этот вертеп вокруг нее возник из-за этой маленькой простушки. Будучи конфиденциальным, водворение «новой фаворитки» тем не менее вызвало соответственно жесткую реорганизацию в вершине государственного айсберга. Один за другим люди, пользующиеся покровительством императрицы, вплоть до ее подруги, очень преданной и очень словоохотливой, впали в немилость и были заменены родственниками Анны Лопухиной. Это было не столько перераспределение административных задач, сколько урегулирование полномочий между соперничающими группами. Князь Петр Лопухин, отец молодой девушки, заменил князя Алексея Куракина на должности генерального прокурора; его брат, верный наперсник Екатерины Нелидовой, был лишен поста вице-канцлера; полковник Нелидов, брат Нелидовой, был разжалован; петербургский генерал-губернатор Буксгевден, муж одной из близких подруг Нелидовой, вынужден был уступить свое место графу Петру Палену, подобострастное отношение которого к Его Величеству доходило до анекдота; генерал-лейтенант Аракчеев и генерал-лейтенант Ростопчин, однажды удаленные от дел, были вновь призваны на службу, тогда как генерал-лейтенант Барятинский, племянник Нелидовой, был отправлен в отставку, а безвестный Виктор Кочубей, племянник Безбородко, заменил Куракина на посту главы Управления иностранными делами. Наконец, 6 сентября Анна Лопухина стала фрейлиной, а ее мать Екатерина Лопухина – придворной дамой.
Эта чехарда на Олимпе империи вызвала лихорадку во всех структурах и произвела перетасовку многих судеб. В дальнейшем эти новые люди, в большинстве своем некомпетентные, участвовали в принятии Павлом его решений, хотя прежде он никогда не нуждался в советчиках и сам решал с холодной головой, как сохранить лицо перед воинственными устремлениями Франции, которые представляли проблему для западных государств. После месячной стагнации армии Французской республики одержали впечатляющие успехи на итальянском полуострове. Короли сардинский и неаполитанский трусливо пасовали перед вторжением полков Бонапарта на их территорию. Но вскоре этот авантюрный генерал покинул континент и вздумал завоевать Египет, а по пути он еще прихватил без боя Мальту. Добившись ее капитуляции, Наполеон прогнал с острова великого магистра Омпеша. Подобное присвоение Мальты было воспринято Павлом как публичное оскорбление. Захвата острова, считал он, можно было бы не допустить, если бы не было предательства. Когда в предшествующий год делегация Мальты посетила Санкт-Петербург, она, взывая к хорошо известной открытости духа императора по отношению к религиозным различиям, предложила ему стать покровителем этой территории и ее ордена мальтийских рыцарей. На этот раз интерес, который Павел всегда демонстрировал по отношению к мистическим организациям, побудил его принять почести, которые ему были предложены. И вот он сдержал свое слово. Как только Бонапарт высадился на остров, а Великий магистр Омпеш сбежал в Санкт-Петербург, Павел принял его не как изгнанника, а как изменника. Этот человек, рассуждал он, должен был оборонять Мальту до последней капли крови, вместо того чтобы капитулировать! Его следовало бы осудить чрезвычайным трибуналом и после разжалования объявить, что вместо него правом на этот высший пост наделен он – Павел I.
Православная церковь России была возмущена тем, что глава Российского государства, который отрицал покровительство Папы Римского, вдруг стал предводителем ордена, признававшего Папу как абсолютного главу. Однако Павел проигнорировал это недовольство. По его мнению, несмотря на то что святой Папа и император России принадлежали к разным церквям, они сообща несли на себе заботы по обеспечению мира и правосудия, а этого должно было бы быть достаточно, чтобы поддерживать между ними равенство и даже расположение. Впрочем, Павел даже высказывал готовность направить свою армию против Бонапарта, если последний вторгнется в Ватикан. Побуждаемый этой высоконравственной мыслью, он принялся за создание антифранцузской коалиции, которая складывалась в необычном составе: Австрия, Англия, Неаполитанское королевство и Турция. С одной стороны, русско-турецкая эскадра под командованием адмирала Ушакова, а с другой – английские корабли, возглавляемые адмиралом Нельсоном, контролировали Средиземное море. Русско-австрийский корпус также готовился выступить в Италию и Швейцарию. Для того чтобы осуществлять руководство этими масштабными наземными наступательными действиями, Павел призвал старого маршала Суворова. Несмотря на свои шестьдесят девять лет и накопившуюся усталость, Суворов согласился выйти из отставки и в январе 1799 года прибыл в Санкт-Петербург. Принимая его во дворце, Павел сказал ему просто: «Я возлагаю на тебя все свои надежды. Ступай спасать королей».
Военный гений Суворова остался неподвластным времени. Ничуть не впечатлившись успехами молодых французских генералов, он с наскока берет крепость Брешиа, разбивает противника на Адде между Миланом и Турином. Его амбиции простираются и на Францию с тем, чтобы проучить «безбожника». Павел его в этом поддерживает издалека и пишет фельдмаршалу: «Во Франции имеется множество здравомыслящих индивидуумов, которые ожидают благоприятного момента, чтобы вооружиться и сбросить невыносимое иго, под которым страдает народ». Но, как всегда, победы вскружили ему голову, и он, забывая о реальности, упивается славными прожектами. А ведь эта реальность является такой явной, такой безотлагательной, что следует по воле или поневоле ей подчиняться. Какой бы ни была храбрость русской армии, но и она не могла обойтись без тылового обеспечения, без благожелательности австрийцев, которым было поручено снабжать ее продовольствием, необходимым снаряжением, а также обеспечить поставку мулов для перемещения военных подразделений. Австрийцы внимательно наблюдали за ходом событий, чтобы выполнять свои обещания. Союзники потребовали, чтобы русские направились прежде всего в Швейцарию. И хотя эта рискованная операция предполагала прохождение через Альпы по Сен-Готардскому перевалу, Суворов с честью выдержал это испытание. Но едва он преодолел естественные препоны, как столкнулся со свежими войсками Массена. Взятый в ловушку, он сумел успешно отбиться от противника и ушел от преследования через горы, уже покрытые снегом. Исчерпав все силы, его полки в конце октября остановились на зимних квартирах в Баварии.
В то время как Суворов еще не отказался от своей идеи готовиться к ведению «освободительной» кампании во Франции, Павел из Санкт-Петербурга приказал возвратить казаков. Его переговоры с союзниками, завидовавшими ему и расходившимися с ним во мнениях, показали, что он напрасно рассчитывал на выполнение обещаний каждого из них. Другие главы государств только и помышляли о том, чтобы захватить как можно больше чужих территорий и укрепить там свое господство. По его утверждению, он был единственным, кто пекся о благе человечества и дополнительно о благе России. Славянский Дон Кихот, он ощущал себя призванным на роль мецената и миротворца. Даже Суворов стал ему теперь казаться слишком увлекшимся военными победами и недостаточно пекшимся о благополучии трудового люда.
К этому неудовольствию морального порядка присовокупились и другие противоречия. Согласно последней информации, которую Павел получал из-за границы, фельдмаршал нарушал его предписания, позволив солдатам, изможденным после продолжительных марш-бросков, ослабить дисциплину, нарушать форму одежды, разрешив им не носить гетры и парики, а также другие вольности, в частности использовать ухоженные кустарниковые насаждения для разведения огня на походных стоянках. Подобные нарушения дисциплины и инструкций Его Величества не могли просто сойти с рук кого бы то ни было. Несмотря на высшее служебное положение старого военачальника, его опала была неминуемой. Сознавая, что воевал напрасно, Суворов с горечью подбивает баланс своих действий по ту сторону границ: «Французы остались хозяевами в Швейцарии. Я вижу себя всеми оставленным […]. Позиция при Цюрихе, кою должны защищать 60 000 австрийцев, оставлена на 20 000 русских, коих не обеспечили продовольствием, вынудив меня возвратиться в Грисон […]. Что мне обещали, ничего не исполнили […]. Я бил французов, но не добил. Париж – мой пункт. Беда Европе»[30].
Как только дело коснулось выполнения принятых договоров, союзники стали требовать вывода русской армии из Италии, а русского флота – из Средиземного моря. Эти дергания совпали с неожиданным решением Бонапарта, который, оставив свою победоносную армию в Египте, с небольшим отрядом вернулся во Францию, взял в свои руки командование Парижским гарнизоном, скинул хрупкую команду Директории и принял титул Первого консула Республики. Поскольку Суворов был обеспокоен этими событиями во Франции, которые могли привести к непредсказуемым последствиям, Павел написал ему: «Во Франции перемена, которой оборота, терпеливо и не изнуряя себя, ожидать должно». Некоторое время спустя Бонапарт через дипломатические каналы дал понять Павлу, что он не намерен окончательно оставлять Мальту англичанам. Внезапно Павел, увлечения которого были также достаточно скоропалительны, как и гнев, задался вопросом: а не окажется ли Первый консул в будущем предсказуемым союзником для России? Преданный всей Европой, царь обвинял других в просчетах, которые он сам же порождал своей непредсказуемостью. В который уж раз он пытался убедить себя в том, что в больших международных торгах, как и при урегулировании мелких внутренних проблем, необходимо полагаться не на подсказки политических специалистов, а только на порыв своего сердца.
Кроме того, что победы российской армии не имели перспектив завтрашнего дня за границей, оставляя императору впечатление неразберихи, появилось и другое неожиданное для него разочарование, омрачившее его настроение. Вот уже на протяжении нескольких месяцев со дня переезда Анны Лопухиной в роскошный особняк в Павловске он ежедневно навещал ее, весело проводя с ней время за разговорами, забавляясь ее веселостью и простодушием. По примеру опыта отношений, которые Павел в недавнем прошлом имел с Екатериной Нелидовой, он не требовал от нее ничего другого, кроме наслаждения общением с ней, ему вполне хватало слышать ее щебетание и видеть ее улыбку. Без сомнения, он надеялся, что правильно воспринимаемое целомудрие доставляет более тонкие и более сильные удовольствия, чем физическая близость. Но однажды вечером, растроганная этим галантным обращением, которое она расценивала как «рыцарское», Анна Лопухина, краснея, призналась ему, что влюбилась в молодого двадцатидвухлетнего князя, полковника суворовской армии, и о том, что этот статный офицер также воздыхает подле нее, вынашивая серьезные намерения. Выслушав эти простодушные откровения, Павел сначала был раздосадован, но в то же время он оценил доверие, проявленное к нему его безгрешной фавориткой, открывшей ему свое сердце. Поскольку это дитя воззвало к его великодушию, он не захотел ее разочаровывать. Великодушно и по-отечески одновременно он пообещал ей устроить ее замужество с князем Гагариным и назначить его адъютантом. Он, конечно, сдержит свое обещание, однако не удержится от того, чтобы не сквитаться с неблагодарной семьей, и в этой связи сместит ее отца, Петра Лопухина, с должности генерального прокурора, на которую он его сам же назначил в начале своего увлечения этой молодой девушкой.
Одобрив планы Анны Лопухиной на супружество и лишив высокого поста ее отца, Павел тем не менее продолжил посещать дом своей фаворитки, ставшей княгиней Гагариной. Он все так же не домогался ее, не требовал проявления к себе особого внимания, и даже поговаривали, что он не изменил манеру своего ухаживания. Некоторые сомневались в этом и утверждали, что в этом странном клубке отношений супруг вежливо закрывал на все глаза. Отведенная ему роль ширмы стоила ему всевозможных преимуществ, принимая которые, он будет неуместно улыбаться. Князь Гагарин и сам не преминул прибегнуть к Павлу, прося у него защиты от прежнего генерального прокурора, преследующего его по доносу некоторых клеветников. Эту черту снисходительности Его Величества отмечает вице-адмирал Шишков, который пишет в своих «Воспоминаниях»: «Мы не могли сказать, что он (император) был человеком глупым или злым по натуре. Причиной опасений была его неожиданная вспыльчивость, которая всегда и затмевала его рассудок, и крылась в его недоверчивости, которая побуждала его прислушиваться ко всякого рода изобличениям […]. Везде казались ему измены, непослушания, неуважения к царскому сану и тому подобные мечты, предававшие его в руки тех, которые были для него опаснее, но хитрее других». Не один ли из этих злонамеренных информаторов сообщил царю, патологическая восприимчивость которого с каждым днем принимала все более остро выраженный характер, о проявлениях со стороны Суворова непослушаний к дисциплинарным уставам и ношению предписанной высокими инстанциями униформы? Во всяком случае, Павел, отреагировав на это, внезапно пригласил старого воина к себе в Санкт-Петербург. Когда последний прибыл в столицу, никто даже не удосужился поехать навстречу и оказать ему почести, которые он несомненно заслужил. 20 марта 1800 года Павел опубликовал рескрипт, согласно которому он лишил генералиссимуса Суворова привилегий «национального героя», которых тот был удостоен в предыдущем году. Эта санкция грянула как гром среди ясного неба. Однако Суворов остался невозмутим. Его снедала другая причина. Его уже более страшила не опала, которой он был подвергнут, а сама смерть, стоявшая у порога. По мнению врачей, его жизнь висела на волоске. Несколько месяцев спустя, 6 мая 1800 года он скончался от болезни, которой заболел во время своей последней кампании. Его Величество не счел необходимым присутствовать на похоронах. Членам императорской семьи оставалось только теряться в догадках относительно мотивов его поведения. Руководствовался ли он доводами, известными только ему одному, или же ему нравилось поражать Россию, не заботясь о губительных последствиях своих экстравагантных поступков? Многие из его подчиненных не простят ему никогда его неблагодарности по отношению к этому выдающемуся слуге своей Отчизны.
Именно в этот период за спиной императора разворачивалась жесткая борьба за влияние на него между различными противостоящими группировками. Друзей царицы, а к ним в том числе относилась и непостоянная Анна Лопухина, потерявшая всякий кредит доверия в глазах Павла, он призвал 25 сентября 1799 года возглавить Коллегию иностранных дел. Это были два человека, каждый из которых жаждал дорваться до власти, а их ежедневное соперничество между собой еще больше подстегивало их на изобличения и стремление подставить друг другу подножку. Первым из упомянутых людей был тридцатисемилетний граф Федор Ростопчин, назначенный придворным и членом Императорского совета; вторым – Никита Петрович Панин, молодой человек, племянник покойного учителя Его Величества. Они оба побуждали императора к продолжению изничтожения «французских цареубийц», тех, кто прежде был якобинцами, раскаявшимися шуанами или свежеиспеченными бонапартистами. Однако после фиаско новой англо-русской коалиции против Франции и капитуляции принца Йоркского перед силами генерала Брюна в голландском Бергене Павел пересмотрел свое суждение. В то время как английские войска были истреблены, австрийцы – вдребезги разбиты, а прусаки были вынуждены занимать выжидательную позицию, он надеялся, что, возможно, у него появится интерес сближения с этой вездесущей и всепобеждающей Францией. Весной 1800 года жест со стороны Бонапарта завершил процесс выяснения недоразумений между двумя странами. В знак доказательства доброй воли Франции Первый консул освободил всех русских военнопленных, захваченных во время последней кампании. Обнадеженный этой инициативой, Павел решил ответить на это, публично разорвав отношения с Бурбонами, право которых он отстаивал до недавних пор. В своей поспешности покончить с интригами эмиграции он дал понять графу Провансу, будущему королю Людовику XVIII, что он правильно поступит, покинув Митаву, где Россия предоставила ему приют, и направясь для воссоединения со своей супругой в Киев. Затем, чтобы подчеркнуть значение этого требования, Павел аннулирует пансион в сумме двухсот тысяч рублей, который был ранее назначен несчастному претенденту на французский трон.
Это внезапное изгнание наследника французского трона возмутило французов, нашедших свое убежище в России. Они совершенно отказывались понимать, как один из Романовых, являвшийся активным поборником законности в Европе, мог так обойтись с главой французской монархии – словно бы со слугой, который провинился, допустив оплошность при обслуживании хозяина. «Должно ли отступаться от всякого понятия чести, когда речь идет о политике?» – с горечью спрашивали себя те, кто заплатил ссылкой за свою привязанность к королю. Русские сами негласно осудили своего царя за это оппортунистическое предательство. Еще вчера они были горды, что являются русскими. Сегодня они испытывали от этого только чувство стыда.
А в это время эмиссары Первого консула вовсю плели в Санкт-Петербурге свою тонкую паутину. Не являлись ли дискуссии иезуита отца Грюбера, рекомендованного императору рыцарями Мальтийского ордена, или завлекающие маневры красивой французской актрисы, мадам Шевалье, любовницы Кутайсова, тем, что побудило Его Величество сделать первый шаг навстречу? В начале сентября 1800 года он пригласил к себе господина де Розенкранца, посла Дании, и внезапно сделал ему ошеломляюще дерзкое заявление. «Российская политика вот уже три года, – сказал ему Павел, – остается неизменной и связана со справедливостью там, где Его Величество полагает ее найти. Долгое время я был того мнения, что справедливость находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем державам. Теперь же в этой стране в скором времени водворится король [Бонапарт], если не по имени, то, по крайней мере, по существу, что изменяет положение дела. Я бросил сторонников этой партии, которая и есть австрийская, когда обнаружилось, что справедливость не на ее стороне. То же самое было испытано относительно англичан. И тогда я склонился единственно в сторону справедливости, а не к тому или иному правительству, к той или иной нации, а те, которые иначе судят о моей политике, положительно ошибаются».
Эти быстро усвоенные слова были переданы от одного канцлера другому. Вся Европа была уведомлена о новых предрасположенностях царя. Павлу в это время исполнилось сорок шесть лет. Торжества по случаю чествования его очередной годовщины вызывали у него горькое чувство. Он признавался одному из своих близких: «Каждый вечер я от всего моего сердца благодарю Господа за то, что он еще на день оградил меня от катастроф»[31]. Но если во внешней политике Павел демонстрировал все большее примирение с французскими республиканцами, то в своей империи он еще более ужесточился по отношению к русским. Во вторник 25 сентября, когда в Гатчине проходило театральное представление, он разгневался до покраснения от того, что зрители осмелились аплодировать актерам прежде, чем им был подан дозволяющий знак. В своем детстве он уже испытывал подобное чувство. Но сегодня, когда он предержал всю высшую власть государства, его детский спесивый каприз рисковал перерасти в опасные репрессии. Раздраженный от гнева, он по возвращении во дворец предпринял меры по недопущению в будущем присутствия в театре Гатчины всех лиц, кто не будет наделен специальными приглашениями. А те немногие избранные должны были, согласно принятым указаниям, «во время представлений театральных воздержаться от всяких неблагопристойностей, как то: стучать тростями, топать ногами, шикать, аплодировать одному, когда публика не аплодирует, также аплодировать во всем пении или действии и тем отнимать удовольствие у публики безвременным шумом». И в заключение: «…если и за сим кто-либо осмелится вопреки вышеписанному учинить, тот предан будет, яко ослушник, суду»[32].
На самом деле эти задержанные внутренней полицией нарушители были для Павла только закуской. Являясь Великим Магистром Мальтийского ордена, император вместе с Ростопчиным не мог пережить тяжкое оскорбление, нанесенное ему англичанами, которые декретом от 23 октября 1800 года присвоили себе Мальту, захватив этот остров при помощи британского флота, став там на якорь в портах, принадлежавших России. Их гарнизоны будут захвачены, их капитаны и матросы будут арестованы. Во всяком случае, в России информаторам предписывалось проследить за каждым домом, принадлежавшим англичанам, и как можно более естественным образом прервать оплату долгов выходцам из этой недружественной страны, а также предусматривалось отозвать посла Воронцова, приказав ему покинуть Лондон, и потребовать выдворения из России посла Англии Уитворда.
После изучения плана Ростопчина, который предусматривал ускоренное примирение с Францией с целью объединенной борьбы против английской гегемонии, Павел отмечает на полях документа: «Опробуя план Ваш, желаю, чтобы Вы приступили к исполнению оного. Дай Бог, чтобы по сему было!» Однако, формулируя это благое пожелание, представлял ли он на самом деле, кем был Бог, на которого он так надеялся и просил для себя благословения: православным, католиком, протестантом, франкмасоном или мальтийцем? Эта неопределенность конкретного происхождения веры монарха болезненно воспринималась русских народом, крепко привязанным к православной вере. Павлу же было недосуг обращать внимание на эти пустые церковные сетования. Его отношения с Богом не касались никого, кроме его самого. Он охотно выставлял себя сторонником объединения всех церквей и даже объявил, что в случае нашествия на Ватикан он предоставит прибежище папе Пию VII в одном из католических регионов своей империи. Это заявление неожиданно произвело эффект булыжника, брошенного в лужу. Всплеск негодования придворных, духовенства, дипломатов, крестьян, староверов и даже адептов разных мистических сект дошел до предела. Во всех концах страны ужаснулись и приглушенно вопрошали: неужели царь хочет впустить католического дьявола в святую Русь! Единственная надежда, которая еще теплилась у подданных Павла I, это то, что Его Величество, который так часто менял мнения, пересмотрит, пока еще не совсем поздно, свое намерение.
IX. Одиночество его величества
Подлинное неудовольствие, которое Павел испытывал внутри себя по отношению к своей семье, вызывалось тем, что она своими мыслями, вкусами и предпочтениями была более близка к покойной императрице Екатерине II, чем к нему самому. Он во всем уже обходился без жены, на которую он не мог и не хотел больше полагаться, однако и сыновья также были неспособны его понять. И шла ли речь о непостоянном и загадочном Александре или же о неотесанном и грубом Константине – оба они были в меньшей степени детьми ныне правящего монарха, чем внуками покойной царицы. Павел чувствовал постоянно исходящую от них враждебность ко всему, что бы он ни предпринимал. Они оба грезили своей бабушкой. Неужели же, чтобы добиться их признания, ему самому необходимо исчезнуть из жизни? Пытаясь для себя понять, в чем именно попрекают его хулители, он видел лишь одно: эти ничтожные обвинения сводятся к тому, что он – приверженец прусской модели и склонен к многочисленным наказаниям, которые практиковал опять-таки из-за своей склонности к дисциплине. В России всегда, еще с незапамятных времен, считающийся непогрешимым хозяин мог применить ставшие обычными меры наказания – палки, разжалование или ссылку. Так вот для того чтобы эти наказания были восприняты народом как должное, необходимо было, чтобы они были сообразованы с национальными традициями, тогда как его указы для простого люда имели германский «душок». И Павел был убежден, что все неприятия его действий связаны только с этим. Он искренно полагал, что когда его подданные поймут, что его гнев вовсе не прусский, а что ни на есть русский, то тогда они смиренно склонят свои спины и в конце концов полюбят его. Это убеждение заставляло его продолжать упорствовать, вопреки намекам его окружения. Жена императора с годами совсем утратила право подвергать его малейшей критике, сыновья стали отчужденными, поэтому он мог разговаривать только с молодой Анной. Однако, выйдя недавно замуж, она не держала в голове ничего, кроме женских капризов, и в разговоре часто отвечала ему или советовала как придется, невпопад. В действительности эта кокетка была, в сущности, обыкновенной пустышкой, хотя как женщина все еще оставалась в глазах Его Величества наиболее привлекательной. Услужливость ее мужа также побуждала Павла перейти к более откровенным действиям в своих отношениях с ней. Каждый из участников в этом трио извлекал свою выгоду из толерантности. Исчезая, когда было необходимо, на несколько часов, чтобы оставить свою супругу и императора наедине, князь Гагарин поступал как верноподданный придворный. В необходимый момент ему давали знать об этой прихоти императора. Но если сам муж не имел ничего против этого любовного дележа, то его тесть, князь Лопухин, и вовсе не смущался этим обстоятельством. В порыве гордости он поведал своим близким: «Я должен был уберегать свою дочь тогда, когда она не была замужем; а сейчас, когда она имеет того, кто обязан ее оберегать, это уже их дело, и оно меня не касается». Правда, он так и не уточнил, кого же он все-таки имел в виду, говоря о «защитнике» дочери: своего зятя Гагарина или же своего монарха Павла I.
К тому же царь стал замечать легкомысленность своей возлюбленной, желания, плутни, капризы и благодарности которой были характерны разве что для неразвитой девчонки. Рядом с ней он был и сам склонен совершать необдуманные поступки, как в период своей далекой юности. В первый период своего супружества он думал, что если своим поведением и преступит меру дозволенного, то все равно хотя бы тремя словами оправдается перед той, с кем он связан невидимыми узами в соответствии с церковным таинством; сегодня же влюбленный в любезную особу, которая задевала его чувства, он более не считался ни с кем. Все предохранительные барьеры были устранены, и он мог зайти как угодно далеко, куда только его душа пожелает его занести. Эта свобода выражалась во всевозрастающем безумии при вынесении санкций и повышении в чинах. Любой чиновник, какого бы ранга он ни был, не был уверен, что назавтра останется на своем месте. Каждый день в газетах публиковались листы со списками разжалованных и вновь назначенных лиц. Но торжество счастливчика, получившего кресло, омрачалось тем, что он сразу же должен был позаботиться о своем будущем, на случай если фортуна вдруг отвернется от него. Считая, что он укрепляет положение своих подданных, постоянно реорганизовывая структуру власти империи, Павел, напротив, отягощал тем самым чувство неуверенности в душе каждого из них. На Руси не осталось ничего необратимого, все находилось в переходном состоянии. Так как невозможно было предвидеть нормального хода развития карьеры, каждый спешил, пока он обладал еще императорской индульгенцией, набить свои карманы, запастись провизией на черный день, поиметь свое масло на хлеб и обзавестись полезными связями, не занимаясь ничем остальным.
Самым ловким из тех, кто пользовался милостями Его Величества, был личный брадобрей и сводник Кутайсов. Достигнув вершины своей славы, этот зловещий фигаро, не останавливавшийся ни перед чем, ничтоже сумняшеся, просил у отца фаворитки царя руки его младшей дочери, сестры Анны, для своего родного сына. Из почтения к завидному положению Кутайсова при дворе князь Лопухин не осмелился ответить ему отказом, из-за которого он и сам мог бы попасть под подозрение императора. Он предоставил одну из своих дочерей в качестве любовницы царю и теперь вынужден был отдать другую в качестве супруги сыну человека, который, справедливо или нет, пользовался доверием Его Величества. Что касается возлюбленной Кутайсова мадам Шевалье, то она вовсю щеголяла в своих туалетах и украшениях на всех приемах столицы. Ее особняк был расположен всего в двух шагах от дома Анны Гагариной. Навещая своих любовниц, царь и его экс-лакей приезжали в одном экипаже, запряженном парой лошадей. Никто не осмеливался беспокоить их в течение приятного времяпрепровождения. Создавалось такое впечатление, что любое несчастье обходит стороной лукавого Кутайсова, и даже случись ударить молнии, то и она пощадила бы его. Менее везучий, чем бывший брадобрей, барон Гейкинг подозревался в недобрых намерениях по отношению к Его Величеству, он был исключен им из членов Сената и отправлен в свое имение, графы Румянцев и Вьельгорский, камергер Федор Ростопчин были также отлучены от двора без всяких объяснений. Описывая последние два месяца, проведенные во дворце в атмосфере непоследовательности и доносов, Ростопчин пишет: «Император никому не рассказывает о своих делах; он не страдает, когда ему об этом говорят. Он приказывал и наказывал без всяких комментариев. Необходимо было иметь величайшую осторожность, подходящий момент и благоприятную расположенность с его стороны для того, чтобы поменять его мнение».
Хотя Павел и варьировал в выборе своих жертв, и невозмутимо разрешал применение санкции на предоставление помилования, но все же его идефикс оставалось устранение «якобинского духа». Полностью признав то, что Бонапарт спас Францию от хаоса, подчинив себе сторонников революции, он остался убежденным, что яд анархизма, выделяемый санкюлотами, заразил соседствующие с Францией народы и, возможно, даже Россию. Озабоченный предохранением своей страны от этой проказы, он усиливает запреты на ввоз через границу французской литературы, включая «всякого рода книги» и музыкальные сочинения. Все эти правила в одинаковой степени касались и русской молодежи, обучавшейся за границей, поскольку их неопытные мозги могли быть захламлены опасной агитацией профессионалов подрывной деятельности. В пылу борьбы против международного якобизма царь принимает постановление, запрещающее торговлю трехцветными знаменами, ношение длинных волос и ярких жилеток, которые, по его утверждению, являлись символом объединения всех противников правопорядка.
Вместо того чтобы содействовать обузданию мании монарха своими взвешенными и объективными докладами, префекты полиции, шла ли речь о Архарове или о его преемниках, напротив, постоянно нагнетали в императоре его нервозное состояние, вызывая у него чувство недовольства и тревоги. Послушать их, так недисциплинированность все больше и больше охватывала все слои российского общества, противников монархии было неисчислимое множество, и достаточно будет одной искры, чтобы огонь воспламенил порох. Для того чтобы предохранить себя от подобной вероятности, предлагалось: увеличить количество осведомителей на улицах, проверять корреспонденцию, разместить агентов полиции в салонах, когда там проходят приемы, а также в театрах во время спектаклей. Обязать представителей власти проверять подозрительных лиц, выявляя их повсюду. Страх распространился из дворца в дома горожан, из кабинетов администрации в усадьбы помещиков. Быть русским значило уже быть виноватым. В своих «Воспоминаниях» церемониймейстер граф Федор Головкин писал: «Наша прекрасная столица, по которой мы расхаживали так свободно, как циркулирует по ней воздух, не имевшая ни ворот, ни часовых, ни таможенной стражи, превратилась в огромную тюрьму, куда можно проникнуть только через калитки; во дворце поселился страх, и даже в отсутствие монарха нельзя было пройти мимо, не обнажив голову; красивые и широкие улицы опустели, старые сановники допускаются во дворец для несения службы не иначе, как предъявив в семи местах полицейские пропуска»[33]. Дипломаты, озабоченные, главным образом, тем, чтобы не потерять благосклонности царя, не осмеливались высказывать ему сожаление по поводу некого рода излишних предосторожностей, которые сковали страну, однако в своих отчетах, направляемых в адрес их правительств, они давали понять, что неуравновешенность поведения Его Величества серьезно компрометирует его. Так, Розенкранц, министр Дании, пишет: «Слепой азарт, каприз монарха становится непредсказуемым, и мы подвергаемся самым неприятным вещам». Когда посол Англии в Петербурге вынужден был покинуть Россию, он выразил свое мнение о Павле I совсем недвусмысленно: «Действия императора совершенно не укладываются в установленные правила или принципы; все зависит от его капризов и беспорядочной фантазии, в его сознании не просматривается никакой стабильности»[34]. За несколько лет до этого Крувель, направленный из Франции в Копенгаген, выразился более резко: «Встречаешь здесь черты царя, который выживает из ума».
Между тем, согласно впечатлению княгини Ливен, император, несмотря на его внешнюю грубость, был человеком добрым, простосердечным, веселым; она утверждала, что иногда он снисходительно относился к пристрастию других к развлечениям, а иногда и сам был не прочь присоединиться к группе играющих в жмурки или прятки. В этот момент он становился ребенком, который за игрой забывает все на свете. Он забывал, что в его руках находятся судьбы миллионов людей, и старался на время не вспоминать ни о своем высоком положении, ни о своей величайшей ответственности. Присущая Павлу бессознательность поступков приводила к тому, что он не отличал игру от реальности: отправить неизвестного ему человека в глухую Сибирь воспринималось им так же просто, как оторвать крылья мухе. Эволюционируя от одной возрастной стадии к другой, он, несмотря на прибавление годов, не поменял свою натуру.
В кругах, приближенных к трону, все настойчивее поговаривали о новых религиозных устремлениях Его Величества, который взял курс на сближение с католической церковью, как будто бы лавины ошибочных решений, обескураживающих народ, для императора было недостаточно.
Наблюдатели все чаще и чаще видели во дворце отца Грюбера, прозелитизм которого был хорошо известен. Павел рассчитывал на этого красноречивого и пронырливого иезуита, чтобы побудить нового папу Пия VII вновь подтвердить за Российским императором звание Великого Магистра Мальтийского ордена крестоносцев. По свидетельству некоторых приближенных к царю лиц, он был готов даже поменять веру – лишь бы добиться своей цели. Не прислушался ли царь к мнению посла Королевства обеих Сицилий, принца Серра Каприола, с которым несколько месяцев ранее поддерживал тесные отношения? В ходе этих «задушевных» переговоров он именовал Папу Римского «первым епископом христианства». Однако, когда дипломат удалился из дворца, Павел неожиданно осознал, что отречение от традиционной веры спровоцирует в русском народе хаос, по сравнению с которым Французская революция покажется пустяшной забавой. При чтении документа, который его посетитель просил его подписать, им овладел глубокий страх: «Его Императорское Величество со всей полнотой своих чувств расположено к принятию догм и учений Святой апостольской римско-католической церкви, признанию в качестве истинного главы Церкви папу Пия VII и его преемников и координированной деятельности с Его Святейшеством во благо объединения двух церквей». Каждое слово этой декларации пронизало его так, как если бы она дублировалась сентенцией отлучения, произнесенной против него. Ему казалось, что все колокола России сорвались одновременно на его голову. Ужаснувшись от мысли быть обличенным в конфессиональной измене православию, которому принадлежал, он написал: «Вы хотите сделать из меня отступника!» И для того чтобы закрыть эти мучительные дебаты, он отвечает Серра Каприола, что, как ему представляется, будет лучше создать альянс из двух великих западных Церквей в плане почитания их взаимных традиций, а признание его в качестве Великого Магистра Мальтийского ордена произвести «самым простым политическим образом, с кое-каким, однако, добавлением». Не получив, таким образом, никакого твердого обещания, Серра Каприола уезжает с пустыми руками и считает, что имел дело со свихнувшимся человеком, настроение и воля которого все время противоречат друг другу. Всякий раз в доказательство своей доброй воли в этих сделках Павел писал лично королю обеих Сицилий Фердинанду о том, чтобы тот передал святейшему папе подтверждение его неизменно уважительного предложения принять его у себя с оказанием всех соответствующих его рангу почестей, в случае, если со стороны Франции Риму или Ватикану будет исходить угроза.
Разумеется, содержание этого письма не разглашалось, поскольку у всех во дворце были невоздержанные языки. Утверждали даже, что папа Пий VII, тронутый почтительной покорностью царя, предполагал направиться в Россию для того, чтобы обсудить с ним непосредственно вероятное слияние двух христианских Церквей. Папа в Санкт-Петербурге! А почему же не в Москве, в Третьем Риме, древней колыбели православия! В светских и религиозных кругах кипело негодование, оскорбленная вера готовилась к битве с антихристом. Затем, после того как робкие экуменические попытки Павла не привели к какому-либо результату, вся эта религиозная лихорадка сошла на нет.
Тем не менее экстравагантные поступки Павла I не давали России ни дня покоя. Едва у его подданных появлялась надежда на будущее, как он находил новый предлог, чтобы их растревожить. Так, к концу 1800 года стали поговаривать о неизбежной войне с Англией. Для обеспечения перспективы этого чрезвычайного противостояния царь собирался подписать договор о взаимной помощи с Пруссией, Швецией, Данией. Однако это были договоренности, составленные на достаточно расплывчатых условиях, для того чтобы быть обязательными, и поэтому существовали опасения, что эти документы в случае возникновения конфликта будут недействительны. Поговаривали также, что царь получил одобрение этого рискованного плана у Первого консула, который намеревался высадиться десантом на английские берега. И хотя союзники России находились еще на стадии рассмотрения своих стратегических замыслов, лично сам Павел уже горел желанием перейти к активным действиям. Чтобы побудить Францию совершить задуманное, он направляет к Первому консулу генерала Спренгпортена, доверив ему сверхсекретное предписание. После переговоров с русским эмиссаром Бонапарт написал царю 9 (20) декабря 1800 года (или 30 фримера – третьего месяца республиканского календаря IX года): «Я желаю быстро и бесповоротно увидеть объединение двух наиболее могущественных народов в мире (Россию и Францию). Я в течение года понапрасну пытался предоставить отдых и спокойствие Европе, я не смог в этом преуспеть, там все еще ведутся сражения и, как представляется, без какой-либо логики, по подстрекательству английской политики […]. Когда Англия, Немецкая империя и все остальные силы убедятся, что добрая воля, как руки наших двух великих наций, устремятся к одной цели, их армии потерпят поражение, и нынешнее поколение благословит Ваше Императорское Величество за избавление от ужасов войны и страдания от групп заговорщиков. Если эти чувства разделяются Вашим Императорским Величеством, а лояльность и величие Его характера позволяют мне надеяться на это, то я полагаю, что будет подходящим и достойным, чтобы границы различных государств были урегулированы, что Европа в тот же день знала, что между Францией и Россией подписан мир и взаимные обязательства, которыми они договорились примирить все государства». На это предложение по примирению и сотрудничеству Павел ответил 18 (30) декабря: «Долг тех, кому Господь поручил власть для управления народами, – мыслить и заботиться об их благополучии. Я вам предлагаю с этой целью условиться между нами о средствах избавления и принуждения к тому, что покончит со злом, которое в течение одиннадцати лет порочит всю Европу. Я не говорю и не собираюсь обсуждать ни права, ни разные способы правительствования, кои существуют в наших странах. Попробуем вернуть миру покой и тишину, столь необходимые и так очевидно соответствующие непременным законам Провидения. Я готов вас выслушать и пообщаться с вами […]. Я приглашаю вас восстановить со мной всеобщий мир, который, если мы этого хотим, сможет облегчить нам быть в восторге […]. Да хранит вас Господь». Поручив полномочному представителю России Количеву направиться в Париж и подготовить переговоры с представителями Первого консула, он призвал себя к спокойствию. Но чем дольше переговоры с французами затягивались, тем больше воображение императора распалялось. Вместе или без соглашения с Бонапартом он все-таки намеревался напасть на Англию. Его нетерпение отразилось и на пока еще довольно предварительно выработанном наступательном плане. Он не мог спокойно ни спать, ни есть до тех пор, пока не поставит англичан на колени. В некоторые моменты эйфории он уже представлял себя триумфатором победы России в новом дворце, который только что закончили строить по его приказу и согласно одобренным им проектам в центре Санкт-Петербурга. Это здание было предназначено как для проживания, так и для того, чтобы служить убежищем для императорской семьи на тот случай, если ей будет угрожать опасность нападения со стороны какого-либо государства. С тем, чтобы придать себе большую уверенность в собственной безопасности, император повелел назвать будущую резиденцию именем архангела Михаила, предводителя сил небесных в борьбе с силами зла.
В данный момент олицетворением темных сил, которые угрожали России и ее монарху, был, на взгляд Павла, прежде всего Туманный Альбион. В то время как он испускал вербальные и письменные проклятия в адрес этой сатанинской нации, ответственной за все прегрешения в мире, здравые головы с беспокойством взирали на проявления его фанфаронства. Они почтительно замечали ему, что британский флот в десять раз мощнее русского, что Россия зависит от Англии в связи с поставками большинства импортных товаров и что российское сельское хозяйство, также имеющее широкий экспорт своих товаров, понесет убытки, если английские рынки будут закрыты для нее введенной блокадой. В то время как все духовные надежды императора склонялись к сближению с Римом, все его практические интересы сводились к идее развязать конфликт с Лондоном. Но дело тормозилось в основном из-за финансовых проблем. Напуганные возможностью экономической катастрофы, которая могла обрушиться на помещиков и благоденствующую аристократию из-за внезапного развязывания военных действий, правящие классы стали роптать о том, что царь осудил их на верную погибель.
В горячке своего всемогущества Павел ощущал ненависть тех, кто находился вокруг него. Но вместо того чтобы попытаться избавиться от вызывающих ее причин, он решил, что народ, который без раздумья подчинялся его самым нелепым указам, способен и еще претерпеть лишения ради самой великой славы Отечества и своего монарха. Он просто искусно закамуфлировал свои милитаристские намерения. Не известив гласно о своем плане сокрушить Англию, он выбирает тактику «внезапных» нападений и с этой целью отдает приказ генералу Орлову, атаману казачьего Войска Донского, направиться в Индию, чтобы там неожиданно нанести удар по английским войскам, дислоцированным в самых чувствительных пунктах их системы обороны. «Вам необходимо, – писал он Орлову, – в месячный срок добраться до Оренбурга, а оттуда за три месяца до Индии, и на все отводится четыре месяца. В Индию следуйте прямо, через Бухару и Хиву в места расположения англичан, находящиеся на берегу реки. Войсковые подразделения этих стран слабее ваших, поскольку вы имеете больше артиллерии, которой они не обладают, инициатива также на вашей стороне».
На бумаге завоевание Индии представлялось детской забавой, однако в реальности все осложнилось серьезными проблемами. Снабжение провизией и необходимыми материалами сформированных для похода частей было нерегулярным, санитарные повозки запаздывали к местам дислокации, карты и маршруты дорог были малодостоверными, усталость и лихорадка подтачивали сопротивляемость людей к болезням, азиатские ханы из лимитрофных регионов не видели никакого смысла пускаться в авантюру, которая не сулила им ничего, кроме фиаско. Плохо обеспеченные питанием, плохо экипированные, плохо информированные, изнуренные долгими переходами через степи, полки остановились на берегу Волги, где несколько солдат погибло, утонув в реке, все остальные находились на грани физического истощения задолго до того, как встретиться с неприятелем. В то время как дезорганизованные и деморализованные русские войска разбили привал на подступах к Иргизу для того, чтобы перевести дух, британская эскадра под командованием Паркера и Нельсона взяла курс к побережью России и Дании. Ее задачей было взять Копенгаген в ловушку с моря, а также уничтожить русский флот в Балтийском море, далее захватить Ревель и, возможно, даже Санкт-Петербург.
Несмотря на неотвратимость опасности, которая угрожала падением столицы, императора в этот момент больше всего беспокоили заговоры, которые, как он полагал, замышлялись против его личной персоны. Он больше не чувствовал себя в безопасности под сводами Зимнего дворца и проявлял нетерпение, поскольку работы по строительству нового дворца, который он сооружал в Санкт-Петербурге на берегу Фонтанки, продвигались крайне медленно. Четыре года назад одному из караульных, стоявших на часах перед старым Летним дворцом, заброшенным уже долгое время, в какой-то момент несения караульной службы в сиянии ослепительного света привиделся святой архангел Михаил. Суеверный по своей натуре царь, которому доложили об этом мистическом явлении, тут же приказал снести старое строение, а на этом месте построить новый дворец, посвященный архангелу Михаилу. Павел сам следил за ходом работ, и не проходило и недели, чтобы он не посещал строительную площадку и не отчитывал рабочих, подрядчиков и архитекторов. В январе 1801 года это здание наконец-то возвели. Оно выглядело массивным с величественным порталом из красного мрамора, анфиладой дорических колонн, стенами из темного гранита, заостренной башней с позолоченной крышей, двумя обелисками из мрамора, несколькими достаточно банальными статуями, возвышающимися на верху строения для того, чтобы скрасить фасад. Стиль этого ансамбля являл собой нечто среднее между итальянским барокко и германской тяжеловесной готикой. Подступы ко дворцу были защищены рвом, заполненным водой. Подъезд ко входу осуществлялся через пять подвесных мостов. Интерьеры парадных залов были с избытком украшены позолотой. Картины баталий чередовались со скульптурами, зеркалами и высококачественным гобеленом. Роскошь просматривалась во всем, а вкуса – абсолютно никакого. Это великолепие, поспешно собранное монархом, подчеркивало впечатление холодной торжественности и искусственного величия. Павел и сам не очень-то был очарован своим произведением. Но он торопился переехать в этот новый дворец, даже не дожидаясь, пока там обсохнет штукатурка стен. Влажность на стенах проступала повсюду сквозь негашеную известь, покраску и политуру. Кроме того, камины и печки, отделанные фаянсом, плохо вытягивали дым, ветер задувал сквозь щели окон и в недостаточно плотно прилегающие рамы. Несмотря на предостережения своих близких и врачей, уже 1 февраля 1801 года царь обустроился в своем детище, которое называл «моим убежищем», и на следующий день пригласил туда на бал-маскарад три тысячи гостей, представлявших элиту петербургского общества. Торжества, увы, были также устроены преждевременно. Никто не мог предвидеть того, что в недавно оборудованных помещениях, где стены еще до конца не просохли, под влиянием влажности и тепла, исходящего от толпы, подогретой возлияниями и танцами, свет люстр и канделябров внезапно погаснет. Танцующие пары продолжали кружиться во влажном тумане под звуки ирреальной музыки. По свидетельству очевидцев, этот вечер кошмаров все присутствующие сочли дурным предзнаменованием. Возникло желание поскорей бежать из новой резиденции царя. Некоторые из приглашенных даже высказывали опасения по поводу нездоровых условий Михайловского дворца, которые могли пагубно сказаться на здоровье, и советовали Его Величеству повременить с окончательным переселением. Из всех участников торжества один лишь Павел выказывал свое восхищение. Когда приглашенные оставили его, он с удовлетворением отметил про себя, что еще никогда не чувствовал себя более защищенным, чем за стенами и рвами этой неприступной крепости. Все это он устроил здесь для благополучия себя и своих близких. Просторные апартаменты были отведены и для княгини Анны Гагариной (бывшей Лопухиной), муж которой деликатно согласился, чтобы она отныне жила у своего коронованного любовника. Комната молодой женщины соединялась с рабочим кабинетом Его Величества специальным проходом. Теперь спальня Анны Гагариной находилась над спальней Павла. И стоило ему только захотеть, как он тут же мог овладеть ею, а она, подобно маленькому домашнему животному, хорошо знала привычки своего хозяина. И вот уже на внутренней лестнице слышались ее легкие шаги. Само собой разумеется, и законная супруга не была забыта при распределении помещений. Пусть она и была оставленной мужем, презренной окружением, но все же официально она не была лишена своих привилегий. У нее тоже имелось право на комнату, смежную с комнатой мужа. Важно только, чтобы она без приглашения никогда не переступала порог личных покоев императора. Павел выделил «рабочие апартаменты» Кутайсову, становившемуся по мере продвижения в должности все более активным и влиятельным, чем прежде. Кроме того, Павел, для того чтобы прослыть добрым и благодетелем, вновь призвал на службу графа Аракчеева, всегда относившегося к нему с фанатичной преданностью, но с которым он имел слабость расстаться некоторое время назад из-за допущенных упущений по службе. Аракчеев представлялся Павлу «сторожевым псом», прямым, недалеким, грубым и преданным. Единственно, чего он хотел от императора, так это получить в свое командование полк. В начале своего правления Павел, чтобы выразить ему свое доверие, назначил его комендантом Санкт-Петербурга. Тогда, определяя его на это место, император по секрету разъяснил Аракчееву, что его истинная роль заключается в том, чтобы выявлять конспиративные заговоры против царя. Аракчеев склонил голову в знак согласия. Он уже и так долгое время негласно занимался этим за спиной монарха. Когда они оценивали людей из своего окружения, то выносили лишь одно заключение – опасный или подстрекающий: в России, считали они, невозможно полагаться ни на что и ни на кого.
X. Дорога к пропасти
В течение нескольких месяцев сыновнее почтение и интересы государства вступили в голове Александра в междоусобный конфликт. Ему бы и хотелось всегда одобрять своего отца и каждое его новое решение, но вместе с тем он переживал за Россию и за себя самого. Порой ему казалось, что он повязан по рукам и ногам и предан демону, а то вдруг – что он превышает свои права по престолонаследию, критикуя своего родителя. Хотя великому князю исполнилось двадцать три года, он был уже женат и являлся отцом семейства (в браке с Елизаветой у него родилась дочь Мария, которой на то время было восемнадцать месяцев), Павел не воспринимал его как взрослого человека, а мнение сына не представляло для него никакой ценности. Невзирая на высокое положение Александра, Павел поручал ему второстепенные дела, сделав из него переписчика ненужных документов и порученца по мелким делам, и при этом выговаривал ему за любые мелкие проступки. Находясь в рассерженном состоянии, Павел, не колеблясь и невзирая на присутствие жены Александра, оскорблял его, называя ни к чему не способным и кретином. Павел так же недолюбливал и Елизавету, подозревая, что она обманывает своего простодушного мужа, изменяя ему с польским красавцем Адамом Чарторыйским, который проявлял к ней знаки внимания. У него не вызывало никаких сомнений то, что малышка Мария была плодом любовной связи великой княгини со своим кавалером. Когда крестили ребенка, царь спросил княгиню Ливен, бросив иронический взгляд на своего сына, у которого были голубые глаза и почти золотистые светло-шатеновые волосы: «Сударыня, считаете ли вы, что у блондина мужа и блондинки жены может родиться брюнет ребенок?» Благоразумная княгиня Ливен не растерялась и пролепетала: «Государь, Бог всемогущ!» Но, начиная с этого дня, страх и озлобление по отношению к своему свекру у Елизаветы удвоились. Поведение Павла по отношению к своей жене, а также рождение дочери способствовали более тесному сближению Елизаветы с Александром, которому она жаловалась в связи со своей ситуацией при дворе, представлявшейся ей одновременно и исключительной, и унизительной. Хуля и унижая Александра, император, как она это ощущала, рикошетом задевал и ее женское достоинство. Выведенная из терпения грубостями Павла, она пишет своей матери на французском языке: «День проходит удачно, если имеешь честь не видеть императора. Признаюсь, мама, этот человек мне widerwartig. Мне неприятен даже самый звук его голоса и еще неприятнее его присутствие в обществе, когда любой, кто бы он ни был и что бы он ни сказал, может не угодить Его Величеству и нарваться на грубый окрик. Уверяю вас, все, за исключением нескольких его сторонников, ненавидят его и говорят, что крестьяне начинают роптать. Что уж это за злоупотребления, о которых я вам рассказывала год назад? Сейчас их стало в два раза больше, жестокие расправы совершаются прямо на глазах у императора. Представьте, мама, однажды он приказал избить офицера, ведающего императорской кухней, только за то, что ему не понравилось поданное к обеду мясо; он приказал выбрать самую крепкую кость и тут же при нем избить его. Он посадил под арест невинного человека, а когда мой муж сказал, что виновен другой, ответил: „Не имеет значения – они все заодно“. О, мама, как тяжело смотреть на творящиеся вокруг несправедливости и насилия, видеть стольких несчастных (сколько их уже на его совести?) и притворяться, что уважаешь и почитаешь подобного человека […]. Если я и держусь как самая почтительная невестка, то в душе таю иные чувства. Впрочем, ему безразлично, любят ли его, лишь бы боялись, он сам так и сказал. И эта его воля полностью исполнена: его боятся и ненавидят». Зачастую в голову молодой женщины приходила крамольная мысль подговорить своего мужа, чтобы он восстал против этого тирана, который терроризировал и свой народ, и свою семью. Но в то же время она страшилась репрессий, которые могли бы обрушиться на Александра, если бы он осмелился противостоять отцу. И поэтому, думала она, было бы желательней, чтобы это был какой-нибудь ниспосланный Богом человек, который мог бы собрать и повести за собой массы недовольных. «Никогда еще не представлялось более подходящего случая, – пишет она, – но здесь слишком привыкли к ярму и не попытаются сбросить его. При первом же твердо отданном приказе они делаются тише воды, ниже травы. О, если бы нашелся кто-нибудь, кто бы встал во главе их!»
Эта надежда, смешанная с опасением, негодованием и бессилием, разделялась и группой аристократов, представлявших лучшую часть интеллектуальной России. Если у крестьян, привыкших к дубине, были еще свежи воспоминания о кровавых репрессиях при подавлении пугачевского восстания, учиненных Екатериной II, и поэтому они предпочитали молча страдать и дожидаться лучших дней, то дворянство, офицеры, помещики и высокопоставленные сановники – все они в своих письмах осмеливались осуждать пагубный курс, которым их ведет полусумасшедший царь. «Атмосферу страха, в которой мы живем здесь в Санкт-Петербурге, невозможно описать, – писал Виктор Кочубей своему другу Воронцову. – Все боятся. Правда или нет, но говорят, что все доносы выслушиваются. Крепости переполнены жертвами. Черная тоска овладела всеми». Воронцов в свою очередь пишет молодому Новосильцеву: «Все это так же, как если бы мы – вы и я – были на корабле, капитан которого принадлежал к народу, язык которого мы не понимаем». А мемуарист Вигель отмечал в своих дневниках: «Вдруг мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкой, одетым, однако же, в мундир прусского покроя, с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков»[35].
Как обычно, в раболепии своего окружения Павел усматривал антипатию, которая побуждала его еще более настаивать на принятии наиболее спорных его намерений. Чем больше его хотели сделать уступчивым по какому-либо вопросу, тем больше он проявлял по нему свою упертость. Когда же ход событий, как выяснялось, подтверждал его неправоту, то его первая реакция состояла не в том, чтобы откорректировать свою политику, а в том, чтобы разогнать сообщников, которые его в это втянули. Он был убежден, что если в России что-то и должно измениться, то только не он, поскольку он уже и есть то непогрешимое совершенство, которое не ошибается, а вот его советники всегда виновны в том, что его мысли неправильно ими интерпретируются. В начале 1801 года он надеялся, что, проведя реорганизацию, наконец-то будет иметь законно установленную, идеальную команду, собранную вокруг своего трона. Наряду с молодым Никитой Паниным, вице-канцлером, блестящим вельможей, к этой группе относился и милейший Федор Ростопчин, первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел, который курировал деятельность вице-канцлера и отдавал ему предпочтение в выполнении дипломатических поручений. В нее входили также адмирал Рибас, неаполитанец по происхождению, ставший высокопоставленным русским чиновником, и, конечно же, барон Петр фон дер Пален, родом из Курляндии. Последний сделал свою карьеру, несмотря на опалу, после которой был реабилитирован, повышен в должности и даже сумел добиться симпатии не только Кутайсова, но и самого совершенства и цельности – Его Императорского Величества. Этот энергичный и расчетливый человек, которому был пожалован титул графа и который был награжден орденами Святого Андрея Первозванного и Святого Иоанна Иерусалимского[36], казался знавшим выходы из самых безвыходных ситуаций.
В то время как царь только еще задумал подобрать для своей личной канцелярии доверенное лицо, Пален тут же подсуетился и после тайных переговоров с Никитой Паниным и адмиралом Рибасом нашел в великосветских салонах подходящую кандидатуру на это место – красавицу Ольгу Жеребцову, сестру Платона Зубова, бывшего фаворита Екатерины II. После смерти от тяжелой болезни адмирала Иосифа Рибаса связи Палена, Панина и Зубовых продолжали тайно поддерживаться при встречах с глазу на глаз. Пален советовал Зубову все больше и больше появляться в обществе, поскольку, по его выражению, ветер повернулся и методы политической чистки начинают продумываться. И действительно, какое-то время спустя Никита Панин вынужден был оставить свой пост вице-канцлера, он был отстранен от выполнения поручений Коллегии иностранных дел, а затем без объяснений был отправлен в свое имение.
Оставшись один, без всякой поддержки, Пален понимал, что завтра, возможно, настанет и его очередь освободить место. Тогда-то он и решается организовать заговор, который предусматривал без кровопролития устранить Павла I от власти, в то же время элементарнейшее чувство самосохранения подсказывало ему, что следует отказаться от этого плана. Однако он не был бы самим собой, если бы не хватался за кусок, даже не имея зубов. Пока другие члены заговорщической группы взяли паузу для раздумий или же находились в отдаленном уединении, он должен был, не полагаясь ни на кого, сам, один, собрать их вокруг себя и приложить все старания, чтобы наиболее хитрым способом одурачить Его Величество. Каждый раз, когда ему представлялся благоприятный случай, он, не мешкая, использовал его, чтобы утвердиться в своем решении. Когда его сын, служивший в армии, был арестован за безобидный проступок, то Пален не кинулся сразу же ходатайствовать о его пощаде, а весьма осторожно заявил императору: «Государь, выше справедливое решение пойдет на пользу молодому человеку!» Но это был именно тот тип ответа, который Павел желал бы слышать со стороны всех русских, которых он карал «во их же благо». И Павел, оценивший такое поведение Палена, неожиданно отбросил какие-либо подозрения в отношении лиц, которых он к себе приблизил, несмотря на то что среди них были и те, кто выражал недовольство притеснением прав и самим главным исполнителем монархического абсолютизма. Чтобы вознаградить Палена, он поручил ему управление почтами, Коллегией иностранных дел и возвел в чин генерал-губернатора Санкт-Петербурга. Отныне Пален держал в своих руках бразды правления главными инструментами имперской политики. Используя свои многочисленные привилегии, Пален склоняет Павла продемонстрировать широту его императорского великодушия, пожаловав амнистию всем офицерам, уволенным или сосланным чиновникам за последние четыре года. По его словам, указ подобного характера символизировал бы примирение «православного царя» со своими подданными, каковыми бы ни были их прошлые проступки. Это будет воспринято толпой как эхо благодеяния Христа по отношению к раскаявшимся грешникам. Обольщенный этой мистическо-политической перспективой, Павел тут же издал Указ, предписывающий возвращение на свои места всех, провинившихся за нерадивую службу. Уже на следующий день вереницы «возвращенцев» со всех сторон страны потянулись в столицу. В составе этой необычной миграции имелись представители всяких сословий: роскошные аристократы, восседавшие в каретах, скромные офицеры, ехавшие в простых дорожных колясках, разоренные утратой своих рабочих мест люди, тащившиеся пешком с котомкой на плечах. Видя их, проходивших по городам и селениям, простой народ приходил в изумление от благоразумия императора, который, после того как проявил свою строгость самодержца, продемонстрировал им свою христианскую снисходительность.
Павел дал указания, чтобы большинство из этих пострадавших людей были восстановлены на своих прежних местах в полках и администрациях. Всегда озабоченный тем, чтобы удивить народ своими выдумками, он не учел, что этот способ морального очищения был подсказан ему именно Паленом, который проявил себя умелым подстрекателем. Павел согласился с его предложением потому, что всегда испытывал влечение к абсурдным поступкам, устраивая сюрпризы, иной раз и бессмысленные. В этот момент он радовался, выслушивая доклады Палена, согласно которым вся Россия, взволнованная великодушной милостью, в унисон возносит хвалу своему царю.
В реальности же все обстояло по-другому, и Пален об этом, как и всякий другой, был прекрасно осведомлен. Получив императорское прощение, большинство «возвращенцев» не могли ни приступить к своей прежней деятельности, ни вернуть полностью свою собственность. Тех, кого Павел помиловал, обладали только теоретическими возможностями. Они были реабилитированы, но не обустроены. Далекие от признательности за запоздалое спасение, они добрались до Санкт-Петербурга, проклиная того, кто так жестоко с ними обошелся. Озлобленные годами лишений, они думали только о мщении тому, кто их несправедливо покарал. Первой заботой Палена в этих условиях было установление контакта с наиболее решительно настроенными «возвращенцами», выдвигающими свои требования. Опрашивая их, он убеждался, что был прав, рассчитывая на их поддержку в осуществлении своей акции. Как он это и предвидел, ему удалось сблизиться с теми, кто прошел наказание за свои ошибки. Павел своей амнистией лишь увеличил количество своих недоброжелателей. Терпеливо и коварно Пален готовился использовать их скрытое недовольство. Не раскрывая перед ними всех карт, он только раззадоривал их, напоминая обо всех их обманутых надеждах, разбитых карьерах, и в то же время намекал на возможность осуществления переворота во дворце с тем, чтобы сместить Павла и возвести на трон Александра. В ближайшие себе сообщники в этом деле оздоровления общества он выбрал своего старого товарища, немца по происхождению, Беннигсена. Одна из жертв императорского деспотизма, этот могучий великан с мраморным лицом пользовался репутацией смелого, хладнокровного и тактически ловкого человека. Пален сошелся также с тремя братьями Зубовыми, которые познали свой звездный час еще при правлении Екатерины II и сполна поплатились за постоянное осуждение правящего монарха. Для того чтобы как можно больше усугубить ситуацию вокруг царя, Пален, посоветовавшись с Платоном Зубовым, любовником покойной императрицы, решил просить у Кутайсова руки его дочери. Обольщенный в своем тщеславии выскочка, бывший брадобрей Его Величества уже видел себя соединенным родственными узами, благодаря замужеству своей дочери, с очень знатной семьей последнего фаворита царицы. Чтобы облегчить заключение брачного договора, он заручился одобрением Павла и упросил Его Величество благосклоннее отнестись к роду Зубовых, как только они возвратятся в столицу. По наущению Кутайсова князь Платон Зубов и граф Валерьян Зубов были назначены почетными начальниками двух кадетских корпусов; граф Николай Зубов получил должность обер-шталмейстера и двадцать других льгот.
Занятые возвращением к власти заговорщики, подгоняемые неутомимым Паленом, набирают среди офицеров гвардии всех тех, кто, так или иначе, выражал недовольство императором. В большинстве своем этих заговорщиков не столько беспокоила политика, сколько раздражала прусская дисциплина, которая вменялась им для безоговорочного выполнения. За редким исключением они роптали против самого монарха, да и то на манер крикливых школьников, которые хотели бы поменять своего учителя за то, что он их держит в ежовых рукавицах. Некоторые из них, конечно, имели более конкретные претензии к императору, поскольку были им наказаны физически с применением палок, которыми их били, пропуская сквозь строй солдат. Одними из таковых были грузинский князь Яшвил и кавалергард Бороздин, которые были наказаны и заключены в крепость за то, что слишком часто приглашали на танец госпожу Гагарину, фаворитку императора. В то время как Зубов занимался сбором подобных злопамятных военных, Пален прицеливался еще дальше и подыскивал симпатизирующих заговорщикам среди генералов, служивших в столице. Постепенно он сблизился с командующим Преображенским батальоном генералом Талызиным, с некоторыми офицерами Семеновского полка, с командующим кавалергардом генерал-адъютантом Уваровым и в особенности с двумя братьями Аргамаковыми, младший из которых командовал Преображенским батальоном, а старший выполнял обязанности полкового адъютанта императора и коменданта Михайловского дворца. Остальные офицеры также не преминули сразу же примкнуть к ядру «ожесточенных». Скоро тех, кто составлял тайное объединение, было около пятидесяти человек. В табачном дыму и под звон бокалов с пуншем расточались упреки в адрес недалекого и неблагодарного монарха. Теперь один лишь вопрос стоял на повестке дня: как с ним можно побыстрее покончить?
Для того чтобы убедиться в успехе своего предприятия, Пален считал необходимым получить негласное одобрение наследника. В предшествующий год Никита Панин уже сделал попытку провести с ним предварительный разговор. Чтобы убедить Александра, он успокоил его, заверив, что у его сообщников нет никаких криминальных намерений. Дворцовый бунт, намеченный ими, должен был ограничиться тем, чтобы убедить Павла отказаться от престола в пользу своего старшего сына. В манифесте отречения император должен был объяснить свое решение потребностью в отдыхе из-за скопившейся за долгое время усталости. Однако с первых намеков своего визитера Александр замкнулся в себе, отнесся к высказанному предложению недоверчиво и, сославшись на сыновнюю любовь, отказался от своего участия. Но было ли это его последним словом?
В отсутствие Никиты Панина, еще не возвратившегося из своей ссылки, Пален решил, что когда тот приедет, то должен будет найти способ переломить упрямство великого князя. Его приверженность делу монархии обязывала Панина открыть глаза Александру на ответственность, которую он берет на себя, позволяя отцу продолжать самоубийственную для России политику. К тому же, когда вся царственная семья рискует погибнуть из-за ошибки отца, утратившего здравомыслие, долг старшего сына – воспрепятствовать всеми имеющимися средствами нанесению вреда обществу. От законного наследника больше ничего не требовалось. Пусть он только позволит совершить черную работу верным ему людям. Все пройдет без насилия. В то время как Пален подбирал для разговора с Александром убеждающие аргументы, последовало неожиданное событие, которое во многом облегчило ему его задачу.
Принц Евгений де Вютерберг, племянник императрицы Марии Федоровны, прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом. Ему было всего тринадцать лет, однако его уверенность и грация произвели благоприятное впечатление на всех придворных. Царю тоже приглянулся этот молодой человек, и он во всеуслышание заявил: «Знаете, а этот мальчишка покорил меня!» Россказни росли снежным комом, во дворе перешептывались о том, что император так поражен своим очаровательным немецким племянником, что даже замыслил отдать за него замуж свою дочь Екатерину и, более того, решил назначить его своим наследником вместо Александра. Павел, чтобы подавить всякое сопротивление, грозился пойти на все, вплоть до заточения тех членов своей семьи, кто осмелится перечить его воле. То, что представлялось бы невероятным ожидать со стороны других монархов, со стороны этого коронованного сумасброда, управлявшего Россией, не удивляло никого. Даже не удосужившись убедиться в обоснованности этой молвы, Пален спешит передать ее содержание Александру. Это разоблачение возымело настолько действенный эффект, что покорность великого князя отцовской воле была подорвана. Чтобы ускорить его согласие, Пален привел ему пример наследного принца Дании, регент которого после смещения его отца Христиана VII в 1744 году провозгласил его сумасшедшим. Во всяком случае, настаивал Пален, в настоящее время вопрос о посягательстве на жизнь или даже на достоинство Павла I вовсе не ставится. Речь идет только о том, как убедить императора отречься от престола согласно установленным правилам, и об удалении его за пределы столицы в какой-либо из дворцов по его выбору со своей супругой Марией Федоровной, или же с любовницей Анной Гагариной, или с ними обеими. Избавленный от исполняемых им обязанностей монарха, слишком непосильных для его плеч, в своей новой резиденции и прусской атмосфере любимой Гатчины он смог бы восстановиться. В общем, Пален просил у Александра ни во что не вмешиваться и только развязать ему руки. И что бы ни случилось, сын не будет замешан в заговоре против отца. Впервые вопрос был согласован: и один, и другой почувствовали некоторое успокоение совести.
Поскольку Александр пока уходил от прямого ответа, вездесущий и настойчивый Пален запугивал его угрозой внезапного гнева царя, который мог обрушиться не только на самого наследного великого князя, но и на всю семью. Пален утверждал, что из надежных источников знает о том, что Его Величество подписал недавно указ, предписывающий арестовать всех своих близких, если кто-нибудь будет признан виновным в провокационной деятельности. Зайдя дальше, он передал ему слухи о том, что в порыве раздражения против своего окружения император воскликнул: «Еще немного – и я велю снести головы, которые мне являлись дорогими!» Чего же большего нужно было наследному великому князю для того, чтобы решиться закрыть глаза на то, что готовилось совершиться во имя блага России, как это советовали ему истинные друзья? Разве хирург, оперирующий больного со злокачественной опухолью, является преступником? И напротив, не должно ли его подбодрить, чтобы не дрогнула рука, держащая скальпель?
Наполовину убежденный, Александр все еще не говорил ни да ни нет, и Пален не знал более, чем его еще можно убедить, чтобы преодолеть это гибкое сопротивление. Однако несколько дней спустя после с большой помпой проведенного торжественного открытия Михайловского дворца Пален был вызван императором в семь часов утра. Его Величество принял его в своем рабочем кабинете, лицо его со следами оспы выражало гневное настроение. Заперев дверь на ключ, он смерил своего посетителя испытующим взглядом и приглушенно спросил:
«– Г. фон Пален! Вы были здесь в 1762 году?
– Да, Ваше Величество.
– Были вы здесь?
– Да, Ваше Величество, но что вам угодно этим сказать?
– Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?
Пален, не выдавая себя, ответил:
– Ваше Величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом, я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит, но почему, Ваше Величество, задаете вы мне подобный вопрос?
В глазах царя, как проблеск черных дней, вдруг проскочили злобные искорки.
– Почему? – вскипел он. – Вот почему: потому что хотят повторить 1762 год.
При этих словах Пален затрепетал, вдруг почувствовал себя смущенным и разоблаченным. В голове уже вертелись мысли: кто же мог на него донести и находятся ли его сообщники в тюрьме? Почти в паническом состоянии он пересилил себя, оправился и – была не была – спокойно ответил:
– Да, Ваше Величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре.
– Как вы, это зная, участвуете в заговоре? Что это вы мне такое говорите?
Лицо царя перекосилось от гнева.
– Сущую правду, Ваше Величество, – ответил невозмутимый Пален. – Я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую, ввиду моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь – вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно»[37].
И Пален сопроводил свое обещание смешком, выражавшим искреннюю доверительность соучастника, чем окончательно успокоил своего собеседника. Царь пребывал теперь в уверенности, что с этим молодцом, а также с Аракчеевым, находящимся в настоящее время за городом, но по первому же зову готовым прийти на помощь, он не рискует ничем. Но, тем не менее, он приказал удвоить охрану вокруг замка, а офицеров отозвать из отпусков.
Впрочем, никто в Санкт-Петербурге не спешил участвовать в празднестве, организуемом в зловещей императорской резиденции. Несмотря на производимое благоустройство, помещения все еще оставались едва обитаемы. А поскольку сырость все еще продолжала оставаться в огромных и холодных залах, стены были обшиты деревянными щитами, а домочадцы постоянно поддерживали в печках огонь. Условно приговоренные и заточенные в эту роскошную и негостеприимную тюрьму, близкие императора ожидали последних решений своего хозяина. Они и сами не знали, чего им ожидать в дальнейшем: то ли им следует чего-либо опасаться, то ли они могут уже вздохнуть спокойно. В этой удушливой атмосфере царица Мария Федоровна тщетно пыталась отстоять хоть минимум своего достоинства. Она не была уже ни супругой, ни императрицей, ни даже матерью. Ее жизнь ограничивалась страданиями в тени своего мужа, который не хотел знаться не только с ней, но, по правде говоря, и вовсе ни с кем. С тяжелым сердцем она пишет своей конфидентке: «Наше существование безрадостно, потому что не радостен наш дорогой повелитель. Душа его страдает, и это подтачивает его силы; у него пропал аппетит, и улыбка редко появляется на его лице»[38]. Весь Петербург точно оцепенел в зыбком ожидании, непрерывно моросящий дождь наполняет сердца унынием. «…И погода какая-то темная, нудная, – пишет в частном письме современник. – По неделям солнца не видно; не хочется выходить из дому, да и небезопасно… Кажется, и Бог от нас отступился».
В то время как Пален раздумывает над оптимальной датой осуществления задуманного заговора, становится известно, что мощная британская эскадра под командованием Паркера и Нельсона обстреляла Копенгаген и готовится к осуществлению контроля над всей Балтикой. Перед лицом вероятной крупномасштабной акции против Санкт-Петербурга заговорщики отбросили все колебания. Александр и сам стал подумывать о том, что было бы лучше, если бы его отец отрекся от престола до того, как английский флот будет напрямую угрожать столице. Согласившись с ним, Пален выбирает ночь с 9 на 10 марта 1801 года для того, чтобы проникнуть во дворец и убедить царя сойти со сцены. Эта дата представляется ему наиболее подходящей, поскольку в эту ночь сменялся караул в Михайловском замке императора – на охрану заступал Семеновский полк, над которым шефствовал сам Александр. Конечно, великий князь не отдаст никакого прямого приказа этим людям и не окажется в решающий момент в эпицентре события, однако он заручился словом генерал-губернатора графа фон дер Палена, что все пройдет подобающим образом, а этого было вполне достаточно. На данной подготовительной стадии единственно, чего не хватало Палену, это поставить одну черную точку – воспрепятствовать возвращению Аракчеева, которого Павел вновь призвал к себе после его высылки из столицы. Этот коварный и жестокий человек был способен поставить под угрозу любое предприятие своим чрезмерным усердием или тупостью. Чтобы упредить эту опасность, Пален приказал чинить всяческие барьеры для проникновения в город после захода солнца любого человека, какое бы предписание он ни имел на руках. И еще он приказал наводнить улицы города переодетыми полицейскими и задерживать всех подозрительных лиц. Но и Павел, целиком доверившись самопожертвованию Палена, все же оставался настороже. Изощренная игра между теми, кто ставил ловушку, и царственной дичью началась. Заговорщиками были продуманы все меры предосторожности и ответные ухищрения, которые мог бы предпринять царь с тем, чтобы сорвать план этого заговора. Несколько раз на дню Павел ходил проверять то, как караул несет постовую службу и охраняет все входы в Михайловский замок. Офицеры, в которых он еще вчера был уверен, сегодня казались ему недостаточно лояльными. Усматривая повсюду одних изменников, он, однако же, не сомневался, что наихудшим врагом себе является он сам.
XI. Мартовские иды
В воскресенье 10 марта 1801 года царь, пребывая в меланхолическом расположении духа, решил отделаться от своего плохого настроения, предложив своей семье и некоторым близким лицам из своего окружения насладиться концертом, устроенным в замке. Исполнительницу, которая бы всех устраивала, не надо было долго искать, ею была любовница Кутайсова, симпатичная французская певица мадам Шевалье. Она обладала приятной внешностью, кокетливыми манерами и кристально чистым голосом. Но, несмотря на ее вокальные данные и страстные взгляды, Павел пребывал в рассеянности, словно бы отсутствуя в течение всего музыкального представления. Покидая концертный зал и направляясь со своей компанией в столовую, он остановился перед своей супругой, скрестил руки на груди, напустив на себя обычное выражение неудовольствия, и, ухмыляясь, уставился на нее в упор, раздувая ноздри, сузив зрачки и поджав губы, как случалось с ним в минуты гнева. Сжавшись от страха, Мария Федоровна молча ожидала упреков, придирок и оскорблений, но он с той же угрожающей миной обернулся к Александру и Константину и просверлил их своим недобрым взглядом. Во время всего ужина он сохранял это выражение лица и, не проронив ни слова, открывал рот лишь для того, чтобы заглотнуть вино и пищу.
После трапезы, как это обычно принято в России, гости благодарят своего хозяина за оказанную честь быть приглашенными. Когда члены императорской семьи подошли к царю, чтобы соблюсти эту традицию вежливости, он резким жестом отстранился от них, метнув в их сторону гневный взгляд, поднялся со стула и размашистым шагом удалился из зала, не произнеся ни слова прощания с присутствующими. Императрица залилась слезами. Ее сыновья принялись утешать мать. Целуя ей руки, Александр подумал про себя, что она в своем молчаливом унижении все же должна понять его и оправдать, каким бы ни оказался исход заговора, предпринятый его сторонниками.
На следующий день, 11 марта желчный характер Павла проявился еще с утра, во время развода караула. Недовольный внешней выправкой солдат и утратой офицерского достоинства, он угрожает сослать всех в самые отдаленные места, «куда ворон костей не заносил!» Все ожидали, что и остаток дня будет не чем иным, как последовательностью придирок и санкций, но неожиданно в голове Павла наступило просветление. Позабыв о своих гневных угрозах, он вдруг проявляет необычайную любезность по отношению к своему окружению и во время ужина, на котором присутствуют девятнадцать персон, не считая великого князя, великой княгини, императрицы и его самого. Он восторгается новым столовым сервизом, на тарелках которого изображены разные виды Михайловского замка, и, загоревшись детской радостью, восклицает: «Это самый прекрасный день в моей жизни!» Затем Павел, удивленный необычной апатией Александра, который сидел, погруженный в свои мысли, переживая за исход предстоящего этой ночью государственного переворота, через весь стол спросил его по-французски: «Что с вами, сударь?» Опасаясь быть разоблаченным, Александр едва слышно произнес: «Мой Государь, я не совсем хорошо себя чувствую». – «Ну хорошо, надо подлечиться, – проворчал царь, – проконсультируйтесь с врачом, недомогание необходимо всегда останавливать вовремя, пока оно не переросло в серьезную болезнь, нельзя запускать болезнь!» Устремив свой взгляд в глаза сыну, он поднял свой бокал и бодро добавил: «За исполнение всех ваших желаний!»
В половине десятого вечера, как только десерт был съеден, выражение лица Павла вновь поменялось, он первым поднялся из-за стола и, внезапно помрачнев, стремительно вышел из столовой, оставив собравшихся в недоумении и в обеспокоенной позе. Быстрым шагом он прошел мимо стоящих на часах гвардейцев, замерших, точно статуи, у его личных покоев, и, столкнувшись с полковником Саблуковым, командиром эскадрона, несшего караул, бросил ему в упор по-французски: «Вы все якобинцы!» Ничего не поняв, кроме того, что в словах императора определение «якобинец» равнозначно обвинению в пособничестве революции, отождествляющейся с гильотиной, Саблуков от подобного вопроса потерял голову и пробормотал: «Да, Ваше Величество!» Раздраженный Павел уточнил свой вопрос: «Не вы, а ваш полк!» Оправившись от неожиданности, Саблуков ответил: «Я – может быть, но полк – нет!» Ему потребовалось немалое мужество, чтобы честно ответить Его Величеству. Невысокого роста император, облаченный в зеленый с красными отворотами мундир, застыл перед ним, выпятив грудь. Его волосы напудрены и сплетены в косу, как и у его солдат. Он – один из них. Он – пруссак. Он – тень великого Фридриха. Его тип лица, приплюснутый нос, обезьянья нижняя губа не были характерны ни для какой страны. С презрительной ухмылкой он воскликнул на этот раз по-русски: «Я лучше знаю. Сводить караул!» Приказ Его Величества не обсуждается. Повинуясь ему, Саблуков командует: «Направо, кругом, марш!» Когда солдаты караульного подразделения удалились, Павел смягчается и, перейдя с французского на русский, объявляет изумленному офицеру, что он решил переформировать полк в конный для службы в загородных гарнизонах, поскольку считает его непригодным для службы в столице. В то же время он пообещал в виде особой милости сделать для эскадрона Саблукова исключение и разрешить расквартироваться в Царском Селе. Поскольку выполнения приказаний Его Величества не подлежали никакому промедлению, он потребовал, чтобы все части, к которым это имело отношение, были готовы отправиться в дорогу в четыре часа утра и разместиться во временно отведенных им казармах. Мгновенно соображая, как поступить и должен ли он беспрекословно подчиниться этим необычным указаниям, Саблуков щелкнул каблуками и удалился. После того как офицер скрылся из глаз, Павел, увидев двух лакеев дворца, одетых в гусарскую форму, приказывает им стать на часах перед входом в его апартаменты на место караульных, которых он только что отослал. «Вы останетесь здесь на всю ночь!» – повелевает он им. Затем вошел в свою спальню, сопровождаемый маленькой собачонкой Спицей, которая, виляя хвостом и тявкая на каблуки сапог, действовала на него успокаивающим образом.
Однако вечер еще продолжался, и, несмотря на поздний час, он поднимается по лестнице, ведущей к его любовнице Анне Гагариной. Поговорив с ней несколько минут, он тут же на ходу принялся за составление приказа, предписывающего проведение инспекции среди воспитанников кадетского корпуса, а также приказа о необходимости активизации посреднической деятельности своего посла в Берлине барона Крюденера с тем, чтобы Пруссия немедленно объявила войну в Ганновере, провинции, которую Англия чуть было не присвоила с помощью закулисных дипломатических маневров. Впустую потратив свои усилия, он пытался повысить свою значимость или хотя бы напомнить о своем существовании. Разбрасываясь во все стороны одновременно, беспокоя всех, кого только было возможно, он полагал, что тем самым придает лучшее оправдание своему существованию на земле. Факт того, что он проставил в тот вечер свою подпись на большинстве официальных документов, говорит о том, что он и впрямь не хотел терять времени. Удовлетворенный проделанным, он простился с любовницей, не слишком докучавшей ему, спустился в свою комнату, запер дверь на ключ, разделся и лег спать.
Вытянувшись на кровати под покрывалами, он постепенно забывался во сне. Среди его первых видений ему приснился кошмар. Он видел себя запахнутым в узкое пальто, которое стесняло его дыхание. Открыв глаза, он немного успокоился. В комнате, уставленной дорогой мебелью, все было тихо, на стене висели картины в тяжелых позолоченных рамках, красивый ковер из гобелена, подаренный некогда Людовиком XVI, монархом, который оказался менее везучим, чем он сам! Павел ретроспективно выражал ему свое сочувствие. Однако, по его мнению, король Франции был слаб и наивен. И он заслужил своей участи, поскольку не сумел постоять за себя в ответ на требования негодяев. Немного спустя после этих непродолжительных размышлений император вновь погрузился в сон в своей походной жесткой и прямой солдатской кровати. Его Величество всегда предпочитал для себя только эту кровать. Близилась полночь.
В час ночи, невзирая на ненастную погоду, главные участники заговора, разбившись на небольшие группы, собрались у командующего Преображенским полком генерала Талызина. Он занимал роскошные апартаменты в казармах, смежных с Зимним дворцом. В передней лакеи забирают у вновь прибывших сообщников их плащи и треуголки, растирают им руки, закостеневшие от холода. Затем приглашают подняться по парадной лестнице наверх и пройти в салон, ярко освещенный блестящими люстрами, но окна которого были на всякий случай плотно зашторены портьерами. Блеск и золото эполетов, аксельбантов, орденских знаков, галунов – присутствующие во всем своем великолепии представляли различные рода войск императорской армии. Конногвардейцы, гренадеры, артиллеристы, представители всех полков Санкт-Петербургского гарнизона были делегированы лучшими офицерами для участия в этом заговоре. Шампанское щедрой рекой разливается по бокалам. Легкое опьянение подрумянило лица и оживило голоса. Уже в сотый раз был провозглашен тост за будущего монарха, которого пока еще никто не осмеливается назвать по имени, однако каждый из них понимал, о ком идет речь. Братья Зубовы тщательно отслеживают последние новости. Согласно этой информации, Аракчеев, которого Павел срочно вызвал из своего заточения, задержан по приказу Палена на подступах к городу. И теперь он не в силах сорвать намеченную операцию. Настал момент сделать последнее усилие. Что же еще их ожидает впереди?
Неожиданно двустворчатая дверь распахнулась, и в ней появился Пален в сопровождении генерала Беннигсена. Их почтительно окружают. Пален сразу же объявляет: «Мы здесь среди своих, господа, мы понимаем друг друга. Готовы ли вы? Мы выпьем сейчас за здоровье нового государя. Царствование Павла I завершилось! Нас ведет не дух мщения, нет! Мы хотим покончить с неслыханными унижениями и позором нашего Отечества. Мы – древние римляне. Нам известен смысл мартовских ид… Все предосторожности приняты. Нас поддерживают два гвардейских полка и полк великого князя Александра». В паузе между двумя этими фразами один из присутствующих подвыпившим голосом задал вопрос, который вертелся на устах у всех: «А что, если тиран окажет сопротивление?» Ничуть не растерявшись, Пален отвечает: «Вы все знаете, господа: не разбив яиц, омлет не приготовить». Поскольку никто из присутствующих не возражал против подобного замечания, Пален приступил к практическому инструктажу действий. Присутствующие офицеры были разбиты на две группы: одну из них возглавил сам Пален, другую – Платон Зубов и Беннигсен. Передовые отряды Семеновского и Преображенского полков, выдержав паузу, покинули свои казармы и направились к Михайловскому замку, будучи уверены, что идут его охранять. Никто им не объяснял до соответствующего момента, что именно им необходимо будет делать.
Стояла промозглая ночь, сырость, к которой примешивались порывы снега и дождя. Ритмичный шаг солдат глухо отдавался на улицах города, между домов, во всех окнах, в которых уже не было света. Не ожидая потрясений, которые им были уготованы, все добропорядочные люди Санкт-Петербурга, как и во всей империи Павла I, уже спали. Доносившийся со стороны Марсова поля шум марширующих сапог растревожил стаю ворон, которая с криком слетела с насиженных на крестах мест. Ропот поднялся и среди гренадеров. Возможно, сказалось их суеверие? Полковник, который вел этих солдат, прикрикнул: «Что ж это вы, соколы, перед французами не дрогнули, а каких-то ворон испугались?» И, тем не менее, ему показалось, что беспокойство людей не исчезло. Причиной тому были, конечно, не вороны, которые, всполошась, нагнали на них страху, а загадочное состояние их командиров. Вне сомнения, что кто-то из них догадывался о затевавшемся темном деле. Прибыв к ограде Михайловского замка, Платон Зубов и Беннигсен обнаружили, что Пален и его солдаты еще не подошли на место встречи. Не могли ли их перехватить и обезоружить по дороге? Надежда на успех повисла на волоске. Каждая потерянная минута была на пользу противнику. По приказанию своего командира гренадеры Семеновского полка взяли в кольцо огромное здание, которое всей своей массивностью возвышалось во мраке ночи. Братья Зубовы и Беннигсен в сопровождении нескольких офицеров направились к боковому подъемному мосту и назвали пароль часовому, пособничество которого было ими заранее куплено. Тут же подъемный мост бесшумно опустился, позволив заговорщикам проникнуть за ограду. Затем, крадучись, они добираются до места, согласно изученному заранее маршруту, поднимаются через черный ход по узкой винтовой лестнице на второй этаж, проходят к библиотеке, служившей прихожей к апартаментам императора. Вместо караула конногвардейцев, которых Павел умудрился отослать, там находились только два сонных лакея, одетых в форму гусаров. При появлении неожиданных визитеров один из них поднимает крик, но тут же, сраженный ударом сабли, падает ниц. Другой же, легко раненный, перепугавшись, спасается бегством.
Эта потасовка за перегородкой разбудила Павла. Очнувшись ото сна, он лихорадочно думает о спасении от опасности, которая ему угрожает. Но куда податься? Спрятаться! Но как? Ему приходит мысль укрыться у своей жены. К несчастью, она имела привычку забаррикадироваться в своей комнате с тех пор, как они окончательно прекратили свои сексуальные отношения. Ну а если он сам и закрыл на ключ другую дверь, которая выходила в прихожую, то, как он прекрасно понимал, ее можно было выбить одним ударом плеча. Охваченный паникой, он бросается под кровать, проскальзывает за ширму с испанскими миниатюрами, установленную перед камином, прячется за этим тонким экраном, втягивает голову в плечи и просит Бога не забыть о нем. Биение его сердца создает шум, который сотрясает весь дом. Без сомнения, в этот миг в его уме возникло видение Великого Петра, которое явилось ему некогда на Сенатской площади. Он вспомнил пророческие слова этого образа: «Бедный Павел! Я хочу, чтобы ты не был так привязан к этому миру, потому что ты не будешь там долго находиться». И то, что особо повергло его в отчаяние, – это мысль о том, что он не заслуживает такого жалкого конца. Может, все-таки не все еще потеряно? Возможно, если он все-таки появится перед своими судьями и если объяснит глупость их поступка, если повинится перед ними, то он сумеет их уговорить? Нет, они не будут его слушать, как прежде он сам не слушал своих жертв, когда они пытались ему доказать свою преданность. Сидя за ширмой, он уже не мог совладать со своими нервами и здраво мыслить. Эти шельмецы в галунах, неистовствуя и крича, используют любую возможность для того, чтобы его разыскать, где бы он ни был.
И вот дверь уже поддалась натиску и затрещала. Торопливые шаги раздавались здесь и там вокруг Павла. Он перестал контролировать себя. Нет никого, кто бы мог его защитить. Полуживой от страха, он прислушивался к голосам людей, которые обыскивали всю комнату, переворачивая все вверх дном, переставляя мебель. Некоторые голоса ему были определенно знакомы. Одним из них был голос Палена. Вероломный генерал, самоотверженность которого ему казалась еще недавно безукоризненной, воскликнул с досадой: «Птичка упорхнула!» Но Беннигсен, подойдя к пустой походной кровати, ощупывает простыни и невозмутимо заключает: «Гнездо еще теплое, птичка должна быть недалеко!» И он направляется к ширме. Прежде чем Павел успевает произнести слово, едва уловимым жестом Беннигсен отталкивает легкий гобеленовый экран. Царь предстал съежившимся, мертвенно-бледным, в спальном белье, босоногий и с ночным колпаком на голове. С вытаращенными от ужаса глазами он увидел перед собой группу пьяных офицеров с лицами преступников. С большинством из них он встречался на парадах и в салонах. Все они были тогда плоскими, как клопы. Ничтожества! А теперь еще осмеливаются накинуться на императора и самодержца Всероссийского? Негодуя от подобной наглости, Павел не имел уже сил, чтобы призвать на помощь. Мысленно он хотел бы воззвать о помощи ко всем монархам, ставшим жертвами народной толпы или дворцовых заговоров. От Петра III до Людовика XVI, от Якова III из Шотландии до Генриха IV из Франции, от Юлия Цезаря до Густава III из Швеции – они составляли бы целый легион. Но, увы! Сегодня, как и вчера, они совершенно беспомощны. Подобно злоумышленнику, пойманному с поличным, царь, запинаясь от страха, спрашивает: «Что вам надо? Что вы здесь делаете?» – «Государь, вы арестованы», – отвечает спокойно Беннигсен. Готовый разрыдаться, Павел все еще пытается смутить эту банду заговорщиков с черными душами в груди, увешанных наградами. «Арестован? Что значит – арестован?» – вопит он. В какой-то момент, казалось, замешавшись, офицеры вдруг окончательно осознали всю чудовищность поступка по оскорблению Величества, в который они были втянуты. Они молча в нерешительности переглянулись между собой. Почувствовав их колебание, Пален вмешивается и занудным тоном, как будто бы произносит заученный урок, объявляет: «Мы пришли от имени Отечества просить Ваше Величество отречься. Безопасность Вашей особы и соответствующее вам содержание гарантируются вашим сыном и государством». В свою очередь Беннигсен добавил: «Ваше Величество не может и далее управлять миллионами подданных. Вы делаете их несчастными. Вы должны отречься. Никто не осмелится посягнуть на вашу жизнь: я буду охранять Ваше Величество. Подпишите немедленно акт отречения». Императора, словно лунатика, подталкивают к столу, кто-то из офицеров разворачивает перед ним документ о преждевременном отречении, другой протягивает перо. Но внезапно, в припадке прародительской надменности, Павел начинает артачиться. Ведь не по его прихоти определялось наследование трона России, а с давних пор всеми другими царями со времен Михаила Федоровича до Петра III, покорившегося воле Петра Великого. Может ли он не считаться с волей, выраженной всем народом? Нет, он не подпишет. И голосом раненого зверя он вопит: «Нет, нет, не подпишу!»
В тот самый момент за стенами разгорается какая-то суматоха. Это другие повстанцы, стоявшие в отдалении, стали проявлять нетерпение. Они посчитали, что разговоры слишком затянулись. За дверьми стали раздаваться возгласы мстителей. «Уже четыре года назад необходимо было покончить с ним, – орали они. – Царь обошелся со мной, как тиран, и он должен умереть!» Платон Зубов и Беннигсен выходят из спальни, чтобы попытаться успокоить буянов. Офицеры, оставшиеся на месте, торопят Павла, пока не поздно, поскорее решиться. Комнату освещает только небольшой ночник. В его свете тени присутствующих угрожающе жестикулируют на потолке спальни. Один из заговорщиков невзначай опрокидывает горевшую свечу, которая тут же потухла. Небольшой отблеск огня теплится еще на огарке свечи, установленной перед иконой. Его слабое тусклое свечение еще больше усиливает ирреальность всего происходящего. Желая принудить Павла взять перо в руку, один из офицеров подтолкнул его, другой, как свидетельствовали позже участники, это был громила Николай Зубов, схватил тяжелую золотую табакерку и в пылу буйного раздражения запустил ею в монарха.
Пораженный в висок, Павел покачнулся и рухнул на пол. И в этот момент он уже был уподоблен дичи. Охваченные убийственным безумием, все набрасываются на него, избивая и выкрикивая ругательства. Лежа на полу, Павел отбивается, стонет, плачет, умоляет о пощаде. Кто-то из офицеров схватил шарф и набросил его на царя, обхватывает его за шею и душит. В полуудушенном состоянии Павел замечает среди своих палачей, обрушивших на него шквал ударов, молодого крепко сложенного юношу в красном мундире конногвардейца. Приняв его за своего сына Константина, он умоляет его в предсмертном хрипе: «Помилуйте, Ваше Высочество, помилуйте! Воздуху, воздуху!» Затем голос его перешел в сплошное бульканье, глаза выкатились, а конечности передернулись в судорогах.
Как будто отрезвев от конца этой неравной схватки, офицеры обступили молчаливым кругом лежащий на полу труп. Царь лежал перед ними с распухшим лицом, окровавленный, в ночной белой рубашке с задранными полами, хлопчатобумажный колпак свисал на его уши. Обезвреженный, он неожиданно показался им еще более страшным, еще более ненавистным, чем был при жизни. Когда Пален вернулся в комнату, он с удовлетворением отметил, что грязное дело сделано в его отсутствие. В этот момент, словно эхо, послышалось, как внутренняя охрана дворца передает друг другу возгласы: «Убили императора!» Некоторые до конца преданные Павлу офицеры порывались подняться наверх и арестовать цареубийц. Они считали, что тем самым выполнят свой долг, но на верхней площадке лестницы путь им решительно преградил Пален, облаченный в парадный мундир и со шпагой в руке. Охладив их пыл приказом: «Караул, стоять!», он со всей степенностью произнес: «Император умер! Его хватил апоплексический удар. Теперь у нас новый монарх – император Александр!» Головы возбужденных людей поникли, и никто больше не стал выражать своего протеста.
После того как тело бездыханного императора положили на кровать, привели в порядок его одежду и внешний вид, Пален направился в спальню княгини Ливен, главной гувернантки семьи, попросил прислугу разбудить ее и сообщить Ее Величеству «ужасную новость». Мадам Ливен поспешила к императрице, которая еще спала, и передала ей в точности, как и было рекомендовано: «император стал жертвой апоплексического удара», «его состояние очень серьезно». От этих слов Мария Федоровна пришла в ужас и закричала: «Нет, нет, он мертв, его убили!» Насильственная кончина человека, который был только номинально ее мужем, но с которым у нее было связано столько воспоминаний, внезапно лишает ее всякого желания жить без него. В припадке отчаяния она рвет на себе волосы и причитает: «Паульхен, Паульхен!» Этим уменьшительно-ласковым обращением она называла Павла в минуты их былой близости. Несмотря на то что все прожитые вместе с ним двадцать пять лет представляли для нее и любовь, и рабство, она все равно хотела видеть его – в каком бы состоянии он ни находился. Живой или мертвый, он принадлежал только ей! Но когда она приблизилась к двери апартаментов покойного императора, стража не позволила ей туда войти. Повинуясь приказанию Беннигсена, они преградили ей путь, скрестив перед ней штыки. Их лица беспристрастно, словно роботы, взирали на происходящее. Не именно такими ли и хотел их видеть император Павел на протяжении всего своего правления? Она, умоляя, падает на колени перед офицером, который командует ими. «Если вы не позволите пройти к нему, тогда пусть они убьют меня тоже!» – взывала она к нему. Но офицер был непреклонен. Вход в спальню императора был строго запрещен; там торопливо приводили в порядок труп убиенного. Следы насильственного убийства еще не были как следует сокрыты, и виновные прилагали все усилия для того, чтобы привести в порядок покойника.
Тем временем Александр, укрывшись в своих апартаментах на первом этаже, провел бессонную ночь, прислушиваясь к любому необычному шуму, раздающемуся над его головой. Неожиданная тишина, которая вдруг последовала за скоротечной суматохой, заледенила его кровь. Он не осмеливался пойти и узнать новости и томился в тревожном ожидании. Жена находилась рядом с ним. Так, прижавшись друг к другу, объятые страхом, они просидели всю ночь, не произнеся ни одного лишнего слова. Что происходит там, наверху? Подписал ли Павел акт отречения? Добились ли Зубов и Беннигсен мирной отставки, как того обещали они при подготовке к этой акции. Или же?.. Щека к щеке, рука в руке великий князь и Елизавета не допускали и мысли о самом страшном. Александр был одет в парадный мундир, однако слезы непроизвольно скатывались из его глаз. Безусловно, время от времени он робко поглядывал на икону, чтобы ниспросить у нее прощения за то, что происходит без его участия, но с его молчаливого согласия.
Наконец дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Пален. С виноватыми лицами с ним вошли и несколько офицеров, обступивших Александра. Пален заговорил, и с первых же его слов Александр зашелся в рыданиях. Он без слов понял о трагическом финале жизни своего отца и прекрасно осознавал, что даже если он и не отдавал приказа на подобный исход, то все равно он и не мог ему ничем воспрепятствовать. И какая уж теперь разница, как он будет выглядеть: более виновным, менее виновным или истинно виновным? Гуманные законы имеют все основания для его оправдания, поскольку основываются на том, чем руководствовалось его сознание. Его руки были чисты, но его душа была запятнана навеки. Поскольку он все еще продолжал рыдать, уткнувшись в грудь своей жены, Пален, приблизившись к нему на два шага, со смешанным выражением твердости и сострадания произнес по-французски: «Перестаньте ребячиться. Ступайте царствовать. Пойдите покажитесь гвардии!» Елизавета, которая первая справилась со своими нервами, подбадривает Александра, уговаривая его, несмотря на печаль, взять себя в руки и проявить дань уважения столице, которая сделала свой выбор.
Неимоверным усилием воли Александр поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты. Пален сопроводил его, пройдя во внутренний двор Михайловского замка, где были выстроены подразделения, которые обеспечивали охрану императорской резиденции этой ночью. При виде солдат, которые выкрикивали приветствия, Александр подтянулся и воспрянул духом. Пален, Беннигсен, братья Зубовы тоже находились там, внимательно вглядываясь в его лицо. Уяснил ли он свой урок? Будет ли он достаточно почтителен к тем, кто сделал все, чтобы возвести его на трон? Наконец голосом, дрожащим от волнения, Александр произносит воззвание, слова которого были заранее составлены ему Паленом: «Мой батюшка скоропостижно скончался от апоплексического удара. Все при мне будет, как при любимой бабушке, императрице Екатерине». В ответ на его речь раздается продолжительное «Ура!». Спектакль был разыгран. Занавес можно было опускать. Все вернулись к привычным обязанностям, чтобы совсем успокоить общественность. Пален и его пособники имели вид триумфаторов. Все они старались держаться близ Александра. Убийцы поздравляли сына своей жертвы. А он еще и должен был благодарить их за содеянное ими преступление. Константин, несмотря на трагические обстоятельства, также поздравил своего брата с восшествием на престол. Поочередно сенаторы, высокопоставленные чины, придворные, всевозможные вельможи, военачальники, члены императорской фамилии приносят присягу верности новому монарху. Он не верил никому из тех, кто выражал ему сейчас свою преданность, но, со своей стороны, не подавал никому ни малейшего намека на укор. Даже его мать, императрица Мария Федоровна, склонилась перед ним – она, согласно традиции, не могла это проигнорировать, – тем, кто был косвенно причастен к смерти ее супруга. Время от времени она навещала комнату, где находился покойный царь. Павел был уже уложен в гроб. Несмотря на румяна, темно-синие пятна – следы удушья на шее и лице – проступали наружу, свидетельствуя о произведенном насилии. Его треуголка была плотно надвинута на голову, чтобы скрыть следы ранения на левом глазу и виске. Внешне все было спокойно и чинно, как и в обычные дни. Небо, вчера еще серое и мутное, стало проясняться. Весеннее солнце пробилось сквозь туман над городом, который радостно реагировал на потепление. Не являлось ли это признаками наступления оттепели?
12 апреля в десять часов утра полки были собраны на привычный вахт-парад, учрежденный еще при жизни Павла I. На этот раз его принимал новый император Александр I. Он был в сопровождении Палена, Беннигсена, братьев Зубовых. Но если участники триумфа нового императора афишировали свою надменность победителей, то Его Величество, как замечалось в обществе, проявлял больше свою скрытость и озабоченность. В действительности угрызение совести, которое мучило Александра, было для него уже неизлечимо. Только время могло приглушить эту боль. И еще! Проблемы отцеубийства и цареубийства так и не найдут в его душе ответа на вопрос: является ли любовь к России выше сыновней любви. И тем не менее внезапность события не помешала ему спешно уделить внимание внешней политике. Даже занимаясь хлопотами, связанными с траурной панихидой своего отца, прах которого был выставлен в гробу, он ни на минуту не должен был забывать о предотвращении британской угрозы. О дне премьеры Александра на вахт-параде полковник Саблуков, офицер кавалергарда, который принимал участие в традиционном параде, писал в своих «Воспоминаниях»: «Смотр проходил рутинно. Под конец вахт-парада мы узнали, что только что был подписан мир с Англией и что курьер отбыл в Лондон с договором».
Вывешенные на улицах объявления извещали жителей Санкт-Петербурга о кончине императора Павла I «в результате апоплексического удара» и восшествии на престол императора Александра I. Это сообщение вызвало во всей стране выражение святотатственного ликования. На выходе из церквей незнакомые люди обнимались друг с другом, благословляли имя «того, кто вернет Россию русским». «Согласно новости, которая распространяется по столице, – пишет тот же Саблуков, – в жизни появляются прически а-ля Титус и исчезают хвосты [волос], отрезают завитки, укорачивают панталоны, улицы заполняются людьми, которые носят головные уборы круглой формы, сапоги с отворотами […]. Кучера носятся с привычным им аллюром и криком, как в былые времена». Другой его современник, немецкий писатель Август фон Коцебу[39], который только что приехал в Санкт-Петербург, так описал в своих «Воспоминаниях» лучащуюся атмосферу города накануне убийства Павла: «Не были более обязаны снимать шляпу перед Зимним дворцом […]. Не обязаны были выходить из экипажей при встрече с императором […]. Александр ежедневно гулял пешком по набережной в сопровождении одного только лакея […]. Провоз книг был дозволен […]. Через заставы можно было выезжать без билета от плац-майора […]. Ненавистная Тайная экспедиция была уничтожена». Связанная обязательствами национального траура, Елизавета, тем не менее, доверительно признается своей матери спустя три дня после убийства царя: «Как бы ни больно мне думать о горестных обстоятельствах смерти императора, признаюсь, я дышу свободно вместе со всей Россией […]». Наконец, в письме матери она трогательно обратит ее внимание на происшедшую драму: «Его ранимая душа растерзана… Только мысль, что он может быть полезен своей стране, поддерживает его, только такая цель придает ему твердость. А ему необходима твердость, ибо, Боже праведный, в каком состоянии досталась ему эта империя… Все тихо и спокойно, если бы не безумная радость, которой охвачены все от последнего мужика до самых высокопоставленных особ»[40].
В то время как с одного конца империи до другого никто не хотел опровергать официальную версию кончины Павла от апоплексического удара, во всем мире притворно делали вид, что верят этой фабуле и невиновности Александра[41]. Конечно, некоторые изощренные умы осторожно намекали, что убийство Павла I было подготовлено Лондоном и финансировалось английским золотом. Однако никакого реального доказательства подобной версии не приводилось, и она не получила своего подтверждения. Одно из свидетельств, заслуживающих доверия, полковник Саблуков, который упоминает в своих «Воспоминаниях» эту версию, и то только для того, чтобы сразу же ее опровергнуть. «Руководители заговора, – писал он, – действовали не ради корысти, а из патриотических чувств, некоторые из них искренно считали, что они только ограничатся угрозой императору, что они принудят его отказаться от власти».
Однако, несмотря на выражения симпатии, которые проявлялись по отношению к нему лично, Александр должен был овладеть собой, чтобы думать о государственных делах, вместо того чтобы замыкаться на личных проблемах. Его первой заботой являлось освобождение арестованных в ночь убийства, а также незаметное отдаление от себя тех привилегированных особ, которые мало почитались нынешним правлением. Кутайсов, который не без основания опасался судебных санкций против себя и совершенно не беспокоился за свою французскую любовницу мадам Шевалье, получил вместе с комплиментами монарха заграничный паспорт, Анна Гагарина, фаворитка покойного царя, также покинула Россию, сопровождая своего мужа, который по милости Александра был назначен послом при дворе короля Сардинии. Императрица Мария Федоровна, которая считала Палена основным организатором заговора, принудила его вернуться в свои владения в Курляндии. Во всяком случае, она вместо мужа обрела своего сына. Она не успокоилась также, пока он не расстался с Платоном Зубовым и генералом Беннигсеном, немедленно отправленными подальше от глаз в провинцию[42]. В свою очередь был смещен и генерал Талызин, от услуг которого также отказались и которого также отстранили от власти. С улыбкой на устах, избавившись от всех стесняющих его сообщников, которых Александр не мог ни вознаградить, ни осудить, он готовился царствовать согласно рекомендациям своего бывшего учителя Лагарпа и своей бабушки Екатерины II. Преданность, разумность, справедливость, уважение традиций будут, как полагал он, основами его политики.
Последнее испытание, которое пришлось ему вынести в 1801 году, – это состоявшиеся 23 марта похороны отца в Кафедральном соборе в Петропавловской крепости, в усыпальнице, где с незапамятных времен покоятся останки русских монархов. Как и во время всех других официальных похорон, длинный кортеж сопровождает гроб с телом покойного к последнему его пристанищу. Александр идет за гробом. За ним топчется молчаливая когорта лжедрузей и истинных недругов почившего царя. Их лица изображают печаль, тогда как сердца злорадствуют. Александр Чичков, писатель, адмирал и член Министерской коллегии по морским делам, в своих «Мемуарах» сравнивает эти похороны, на которых каждый был запятнан лицемерием, с похоронами маршала Суворова, которые захлестывали искренними эмоциями. «Похороны императора совсем не напоминали похороны Суворова, – писал он. – В этот раз, сопровождая гроб из Михайловского замка в Петропавловскую крепость, пройдя Тучков мост, я не видел среди наблюдавшей за процессией толпы, чтобы хоть кто-нибудь из них плакал». Безусловно, в этот день он не имел возможности приблизиться к единственному существу, траур для которого был чистосердечным: вдова Павла I, мать императрица Мария Федоровна. Она чувствовала себя всеми преданной, поруганной своим супругом, имевшим изменчивое настроение, непоследовательность которого вынудила всю Россию погрязнуть в хаосе, однако единственная, кто оставалась искренно безутешной в утрате этого тирана. Всякий раз, когда в своих «Мемуарах» она перечисляет свои неудовольствия, которые она скопила против мужа в течение проведенных с ним вместе лет, ей приходилось свидетельствовать о своей очевидной беззащитности перед ним. Если же начинала отвечать ему тем же, то, как простой смертный, он никогда с этим не мог согласиться. Монарх от рождения, возвышенный в своем сознании высоким происхождением, он искренне верил, что Бог назначил его управлять Россией и что он должен преодолевать по своему усмотрению любые жизненные обстоятельства без того, чтобы советоваться об этом с кем бы то ни было. Те, кто вздумал укорять его в жестокости, несправедливости, забывают, что Петр Великий, гений которого все так охотно превозносят, сделал себя властелином, власть которого также немного кружила ему голову. В своих размышлениях Мария Федоровна думала про себя, что если бы Павел жил подольше, то он бы доказал миру, что его мимолетные намерения были всегда инспирированы порывами его сердца, но никогда не холодным политическим расчетом и что он, хотя и не имел внешность, схожую с Петром Великим, был, несмотря на это, вторым Петром, а его обвиняют в том, что он был всего лишь карикатурой.
Долгое богослужение, пышное и торжественное, которое проходило в Кафедральном соборе, не изменило ее в мысли о том, что ее муж явился жертвой людского недопонимания. Она хотела бы таким образом спасти императора Павла I от абсурдной дискредитации, которая его подстерегала! Но ее пламенная молитва, как ей показалось, не была услышана Богом в общем хоре песнопений и мерцании свечей. Воистину, это был русский Бог. А она, несмотря на то что некогда приняла православие, осталась по своему существу немкой. Не в этом ли заключался основной мотив ужасной двусмысленности, которая тяготила почти пятилетнее правление непонятого и невозлюбленного царя, задавалась она вопросом?
Примечания
1
Екатерина II. «Воспоминания».
(обратно)2
Константин Грюнвальд. «Убийство Павла I».
(обратно)3
Константин Грюнвальд. «Убийство Павла I».
(обратно)4
Там же.
(обратно)5
Константин Грюнвальд. «Убийство Павла I».
(обратно)6
Письмо от 21 декабря 1774 года.
(обратно)7
Анри Труайя. «Екатерина Великая».
(обратно)8
Письмо Екатерины II барону Гримму от 29 июля 1776 г.
(обратно)9
Дж. Кастер. «Жизнь Екатерины».
(обратно)10
Цитата из письма Павла – Екатерине из Берлина, 11 июля 1776 г. Алексей Песков. «Павел I». Стр. 278.
(обратно)11
Алексей Песков. «Павел I».
(обратно)12
Алексей Песков. «Павел I».
(обратно)13
Константин Грюнвальдский. «Убийство Павла I».
(обратно)14
Поль Муруси. «Царь Павел I».
(обратно)15
18 мая 1782 г. согласно григорианскому календарю, используемому во Франции.
(обратно)16
Анри Труайя. «Екатерина Великая».
(обратно)17
Из письма Марии-Антуанетты – Иосифу II от 16 (5) июня 1782 г.
(обратно)18
Воспоминания баронессы Оберкирх.
(обратно)19
Письмо от 12 мая 1783 г.
(обратно)20
Алексей Песков. «Павел I».
(обратно)21
Н.К. Шильдер. «Император Павел Первый: Историко-биографический очерк».
(обратно)22
Письмо от 25 октября 1796 года.
(обратно)23
Анри Труая. «Екатерина Великая».
(обратно)24
Balafre (франц.) – «меченый», человек со шрамом. (Прим. пер.)
(обратно)25
«Тебе, Бога, хвалим» – церковный гимн на благодарственных молебствиях. (Прим. пер.)
(обратно)26
«Воспоминания гвардейского офицера Александра Тургенева» в пересказе Алексея Пескова.
(обратно)27
Диалог, изложенный в «Дневниках» Шарля-Генриха Ёкинга, процитированный Е.С. Шумигорским в «Екатерине Нелидовой» и пересказанный Алексеем Песковым в «Павле I».
(обратно)28
Граф Федор Головкин. «Двор и царствование Павла I».
(обратно)29
Екатерина Нелидова пребывала в Смольном монастыре вплоть до своей смерти в 1839 году в возрасте 82 лет.
(обратно)30
Суворов. Письма. Алексей Песков. «Павел I».
(обратно)31
Эйдельман Н.Я. «Грань веков: Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия».
(обратно)32
Алексей Песков. «Павел I».
(обратно)33
Константин де Грюнвальд. «Убийство Павла I».
(обратно)34
Константин де Грюнвальд. «Убийство Павла I».
(обратно)35
Константин де Грюнвальд. «Убийство Павла I».
(обратно)36
Мальтийского ордена. (Прим. ред.)
(обратно)37
Рассказ П.А. Палена, приведенный в «Мемуарах» графа Александра Ланжерона.
(обратно)38
А. Труайя. «Александр I».
(обратно)39
Он будет убит в 1819 году студентом Сандом, проповедовавшим экстремистские убеждения.
(обратно)40
Письмо императрицы Елизаветы – матери, на французском языке. От 13–14 марта 1801 года.
(обратно)41
Детали и цитаты, касающиеся убийства Павла I, заимствованы большей частью из признаний Палена и Беннигсена, а также многочисленных свидетельств очевидцев.
(обратно)42
Генерал Беннигсен получит помилование и через несколько лет станет губернатором Литвы, в 1807 году он будет сражаться против наполеоновской армии.
(обратно)


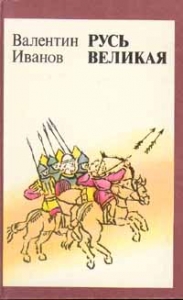



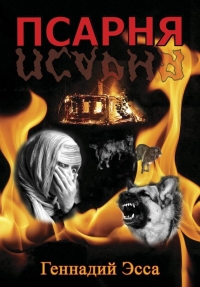
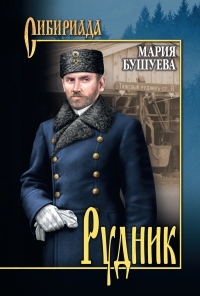
Комментарии к книге «Павел Первый», Анри Труайя
Всего 0 комментариев