Анри Труайя Федор Достоевский
Часть I
Глава I Семья
Мария приказала истопить баню и послала мужа, Станислава Карлóвича, париться. Он послушался, не подозревая, что забота о чистоте станет для него роковой. Когда он, вымывшись, вышел из избы, служившей господской баней, на него напал Ян Тура, наемник Марии, и ранил его выстрелом из ружья. Станислав Карлóвич бросился бежать к дому, но, по приказу Марии, ворота заперли изнутри. Несчастный стал изо всех сил колотить кулаком по створкам, и тут убийца настиг его и зарубил саблей. Тем, кто внес труп во двор, вдова велела: «Несите его, до дьявола, до избы».
Мертвого положили на доску и свалили на землю возле амбара. «Около ворот была лужа крови, которую лизали собаки»[1].
Кристоф Карлóвич, пасынок Марии, спасаясь от угроз этой мегеры, бежал и укрылся у соседнего помещика. Мария без промедления изготовила подложное завещание, чтобы завладеть имуществом покойного. Кристоф Карлóвич возбудил следствие об убийстве отца. Суд признал преступление доказанным и приговорил виновную к смерти, но отложил исполнение приговора. Тем временем Мария снова вышла замуж.
Эта история, которая могла бы стать центральным эпизодом какого-нибудь романа Достоевского, – подлинное приключение из жизни Марии Стефановны Достоевской, предка писателя, случившееся в 1606 году. Но фамилия Достоевских впервые появилась в литовских хрониках столетием раньше.
6 октября 1506 года князь Пинский жалует боярину Даниле Ивановичу Иртищевичу несколько деревень, в том числе село Достоево. Потомки боярина Иртищевича, владетели Достоева, стали именоваться Достоевскими. Один из них, Федор Достоевский, был близок к знаменитому князю Андрею Курбскому[2], воспетому в русской поэзии. Спасаясь от гнева царя Ивана Грозного, Курбский бежал в Литву и оттуда слал царю великолепные послания, вдохновленные ненавистью и чувством собственного достоинства. Примерно в это же время Рафал Иванович Достоевский был уличен в мошенничестве и растрате казенных денег. Другие Достоевские станут судейскими, священниками, воинами. Так, Акиндий Достоевский, иеромонах, жил в Киево-Печерской лавре в ореоле святости. Стефан Достоевский, спасшийся в 1624 году из турецкого плена, пожертвовал в честь избавления серебряные цепи перед чудотворным образом Богоматери во Львове. Щастный Достоевский и его сын в 1634 году участвовали в убийстве войскового подстаросты. Филипп Достоевский в 1649 году обвинен в кровавых набегах на земли соседей и разграблении их имущества. Воры, убийцы, служилые люди, провидцы, судейские крючки… Эти-то предки, в каждом поколении которых зло переплетается с добром, словно бы предвосхитили все творчество Достоевского.
В середине XVII века одна из ветвей фамилии Достоевских переселилась на Украину. Достоевские ожесточенно сопротивлялись влиянию польского католицизма и, в большинстве своем не приняв его, влились в ряды православного духовенства. Были ли они белыми священниками или стали монахами, нам неизвестно. Утратив былое богатство и влияние, потеряв земли, посвятив себя служению Богу, Достоевские, казалось, обрекли себя на скромное, но честное житие, а свое имя на полное забвение. Что и подтверждает истину: не добродетель движет Историей.
Отец Михаила Андреевича Достоевского, священник, как и его предки, не мог и вообразить, что его сын нарушит семейную традицию: его воображение пленило иное призвание. Молодой человек пятнадцати лет от роду[3] объявил, что хочет стать врачом. Разразился огромный скандал. Тайком от отца, но с благословения матери, он навсегда покинул отчий дом и отправился в Москву изучать медицину.
В Москве он никого не знает. У него совсем мало денег и еще меньше жизненного опыта. Тем не менее он много и упорно занимается, поступает в Медико-хирургическую академию, во время войны 1812 года лечит раненых и больных в разных госпиталях и выходит в отставку в чине штаб-лекаря.
24 марта 1821 года Михаил Андреевич, переходивший из полка в полк, из гарнизона в гарнизон, от звания к званию, был определен «на вакансию лекаря» в московскую Мариинскую больницу для бедных. Его жизнь, начавшаяся с бунта, продолжалась без взлетов в угрюмом исполнении служебного долга. Крест Святого Владимира четвертой степени, крест Святой Анны третьей, а потом второй степени, скромный чин коллежского асессора по выходе в отставку – таковы скупые награды за усердную службу.
В соответствии с чином штаб-лекарь был внесен в родословную книгу московского потомственного дворянства.
В 1819 году Михаил Андреевич женился на Марии Федоровне Нечаевой, дочери московского купца. Она принесла ему приличное приданое, беззаветную любовь и житейский здравый смысл, помогавший ей противостоять любому жизненному испытанию и умело вести хозяйство.
Она была чувствительна, кротка, скромна, с прекрасным, чуть утомленным лицом. Пастель, выполненная художником Поповым, изображает ее одетой и причесанной по моде 1820-х годов: бандо шелковистых волос обрамляют по-девичьи округлое лицо с большими мечтательными глазами и тонкими неулыбчивыми губами. Тот же художник написал портрет Михаила Андреевича Достоевского. У него грубоватое крестьянское лицо с крупными, резко очерченными чертами, брови вразлет, твердая линия рта и маленький подбородок. Тщательно подстриженные бакенбарды доходят до середины щек. Шею сдавливает негнущийся, шитый золотом воротник парадного мундира. Взгляд его глаз холоден и неподвижен, как это бывает у птиц.
Трудное начало, тяжелая жизненная школа, посредственные достижения ожесточили характер Михаила Андреевича. К окружающим, как и к самому себе, он относился с непримиримой требовательностью. Но и в самой его суровости не было величия, во всем он был мелок. Озлобленный, подозрительный, мелочно придирчивый, он исполнял роль домашнего деспота. Завел в доме строгий распорядок дня, который неукоснительно соблюдался всей семьей и поддерживался жесткой домашней дисциплиной и ханжескими нравоучениями. Этакий наместник Бога на земле! Вдобавок этот мелкий тиран был наделен чрезмерной чувствительностью. По временам на него нападали приступы жестокой хандры, и он признавался жене:
«…сижу подгорюнившись да тоскую, и головы негде преклонить, не говорю уже горе разделить; все чужие и все равнодушно смотрят на меня».
Его подавленность пугала ее, а он наслаждался, как гурман, искренним беспокойством этого простодушного существа.
«…невыносимо горько видеть тебя, – отвечает она, – в сей лютой и несправедливой горести, кольми же паче теперь, в разлуке, представлять тебя в своем воображении грустным, расстроенным даже до отчаяния… не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей… люблю, боготворю тебя и делю с тобой, другом моим единственным, все, что имею на сердце».
Так эта бедняжка старалась утешить своего любимого, возвратить этому самодуру его несносную заносчивость. И он, расслабленный, разжалобленный, не переставая ворчать, позволял ей умиротворять себя. Кризис проходил, и он снова вскарабкивался на свой смехотворный пьедестал.
Он не был злым по натуре, в сущности, он вообще не был злым. Он любил жену за то обожание, которым она его окружала. Он не подвергал детей телесным наказаниям, хотя они предпочли бы наказание лишь бы избежать внезапных приступов дикого гнева, которым он был подвержен. Он мужественно удерживался от пьянства, пока была жива Мария Федоровна, и, когда окончательно предался этой пагубной страсти, то, по крайней мере, имел для этого уважительную причину: топить в вине отчаяние и горе вдовца. Что же до его вошедшей в поговорку скаредности, то некоторые биографы пытаются оправдать ее недостатком средств и медленным продвижением по службе. Конечно, его жалованье в 100 рублей ассигнациями было скромным, но приданое жены, доходы от частной практики, помощь, которую ему наверняка оказывала богатая родня, например чета Куманиных, позволяли ему без труда сводить концы с концами. Нам кажется преувеличением считать Михаила Андреевича столь уж бедным: ведь он жил на казенной квартире при больнице, в его распоряжении было семь человек состоявшей при больнице прислуги, а для выездов – экипаж четверкой.
В 1831 году он смог купить поместье в 150 верстах от Москвы в Тульской губернии. Оно состояло из 500 десятин земли и деревень Даровое и Чермошня, в которых насчитывалось до ста душ мужского пола.
Однако новоиспеченный помещик не переставая брюзжит в письмах к жене, проводившей с детьми лето в деревне:
«… я… все получил сполна, выключая двух бутылочек наливки, которые, по словам Григория, разбились… я, друг мой, сомневаюсь, сами ли они разбились или же их сперва опорожнили, а потом разбили».
И еще:
«…у нас в доме все покуда спокойно, хотя Василиса в некоторых случаях оказалась подозрительною, но я смотрю за нею в оба глаза… Напиши, дружочек, сколько у тебя в чулане полштофов и бутылок с наливкою».
В других письмах он требует от жены подробного отчета о серебре, не опуская непарную посуду:
«…ты пишешь, что у меня в расходе ложек столовых 6, а у меня налицо только 5. Пишешь еще, что в шифоньерке осталась сломанная ложка, а я ее не отыскал, но прошу тебя подумай хорошо не ошиблась ли ты».
Он требует от нее срочно прислать точный список ее платьев и чепчиков. Так что в переписке супругов мелочные уточнения ростовщика чередуются с сентиментальными излияниями супружеской страсти.
В Москве Достоевские жили во флигеле при Мариинской больнице. Фасад главного корпуса, украшенный величественным портиком с дорической колоннадой, отгороженный от улицы решеткой с пилястрами, увенчанными фигурами львов, выходил на Божедомку, «улицу домов Божьих». Действительно, вблизи Божедомки располагались благотворительные учреждения: сиротские приюты, дома призрения, Александровский и Екатерининский институты для благородных девиц. Округа, отданная скупыми властями безобразию и убожеству, территория, отведенная нищете и скорби.
Дом Достоевских – маленькое одноэтажное здание, построенное в стиле ложного ампира и окруженное садом. За решеткой сада начинался внутренний парк Мариинской больницы с его липовыми аллеями, домашней церковью и корпусами больничных палат, – загадочный и скорбный мир, вход в который был запрещен детям.
Жилище Достоевских состояло из двух комнат и передней. Дощатая перегородка, не доходившая до потолка, отделяла от передней небольшое помещение, служившее детской старшим мальчикам. В этом закутке не было окон, а стены выкрашены темно-перловой клеевой краской. За передней следовал зал, где стены были желто-канареечного цвета, и гостиная – темно-кобальтового цвета. Позже к квартире пристроили еще одну комнату. Обстановка была простая и удобная. В зале стояли два ломберных стола, обеденный стол и дюжина стульев с мягкими подушками из зеленого сафьяна. В спальне размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука, доверху набитых разной одеждой.
Потолки были высокие, мебель внушительных размеров, а сиденья стульев, набитые конским волосом, – мягкие, как воск, и продавленные от долгого употребления.
В этом доме провел свое детство второй сын штаб-лекаря, родившийся 30 октября 1821 года. 4 ноября новорожденный был крещен в церкви апостолов Петра и Павла при Мариинской больнице для бедных. Ему дали имя Федор в честь деда по матери.
Дни проходили за днями в атмосфере ничем не нарушаемого однообразия, похожие один на другой. Раз навсегда установленный распорядок и почти полное отсутствие развлечений убивали всякое представление о времени у этого семейства, в общем считавшегося счастливым.
Вставали в шесть часов утра. В восемь часов отец выходил из дому и совершал обход больничных палат. В его отсутствие прислуга убирала комнаты и топила печи. Он возвращался в девять часов и вновь уходил – навещал своих пациентов в городе. Обедали в полдень. После обеда доктор запирался в гостиной и спал полтора или два часа на старом кожаном диване. В летние дни кто-нибудь из детей должен был сидеть возле Михаила Андреевича и веткой липы отгонять мух от его лица. Если же какое-нибудь хитроумное насекомое обманывало бдительность часового и будило спящего, укусив его за нос, начинались крики и выговоры, отравлявшие весь остаток дня. «Боже сохрани, ежели, бывало, прозеваешь муху!» – напишет Андрей Достоевский в своих воспоминаниях. Впрочем, все семейство старалось оберегать отцовскую сиесту. Все члены семьи, собравшись в зале вокруг стола, говорили шепотом, сдерживали смех, вздрагивая от малейшего бормотания своего спящего владыки.
Сдавленный шепот этих семейных собраний баюкал детство Достоевского. Мария Федоровна любила рассказывать удивительные истории о своих родителях. Ее отец выбрался из Москвы за несколько дней до вступления в город французов. При переезде вброд через реку карета опрокинулась и затонула. Спрятанные в багаже ассигнации, долго пролежавшие в воде, слиплись, их не удалось отделить друг от друга, и весь наличный капитал погиб.
Голос Марии Федоровны мягко звучал, нежные глаза загадочно поблескивали… Жизнь была сносна и приятна, когда штаб-лекарь спал.
Но больше семейных историй увлекали детей волшебные сказки, которые рассказывала им няня Алена Фроловна.
Алена Фроловна занимала в доме видное положение. Она была высокого роста и так тучна, что ее живот, по словам Андрея Достоевского, свисал до колен. Одевалась она всегда очень опрятно и всегда носила белый кисейный чепчик. Ела она страшно много. И притом эта слоноподобная громадина жаловалась на слабость, что весьма забавляло доктора.
«Пишешь ты, что сорокапятипудовая раскапустилась и что много трудов стояло выгружать и опять нагружать брычку, то я полагаю, что нет зла без добра, ибо думаю, что в ней весу убыло по крайней мере 20-ть пудов, следовательно, вычесть подобный вес для лошадей и для брычки не маловажный выйдет выигрыш».
Михаил Андреевич любил подшутить над причудами бедной женщины, а у Алены Фроловны было их немало, и весьма любопытных. Так, например, она утверждала, что Боженька требует от всякого христианина все есть с хлебом – и мясо, и рыбу, и овощи. Только гречневую кашу можно есть без хлеба. «Ты, батюшка, откуси сперва хлебца, а потом возьми в рот кушанье… Так Бог велел!»
Единственной ее слабостью было нюхать табак. Каждую неделю в назначенный день к ней приходил табачник, невзрачный и неопрятный старикашка, которого штаб-лекарь в шутку называл ее женихом. «Тьфу, господи прости! – возмущалась бедняжка, – мой жених – Христос, царь небесный, а не какой-нибудь табачник!»
По ночам она иногда кричала во сне, – это был не крик, а какой-то неистовый вой. Дети в страхе просыпались. Штаб-лекарь вскакивал с кровати и начинал трясти ее, приводя в чувство. «…предупреждаю тебя, – повторял он, – ежели опять ты завоешь, я велю выпустить из тебя фунта три крови!»
Ей и впрямь часто пускали кровь, но безрезультатно.
Доктор советовал ей поменьше есть, особенно на ночь, но она уверяла, что если ложится спать на пустой желудок, то ей или вообще не спится, или всю ночь снятся цыгане. И Михаил Андреевич, которому надоела эта война, сдавался. Вообще Алена Фроловна единственная из всей прислуги осмеливалась возражать этому домашнему цезарю. Не раз она спасала детей от отцовского гнева. Она не была крепостной, а была «московской мещанкой» и очень этим гордилась. Детям она говорила «ты». Разговаривая с хозяином, называла его не «барин», а обращалась к нему по имени и отчеству «Михаил Андреевич», точно она не жила у него в прислугах. Наконец, она заведовала кладовой и погребом, то есть занимала особое положение среди слуг.
Семья Достоевских пила чай в четыре часа, а вечера проводила, собравшись в гостиной за круглым столом при свете двух сальных свечей – восковые свечи берегли для семейных торжеств и праздников. Эти семейные собрания сопровождались чтением вслух. Отец, мать, а позже старшие дети читали поочередно «Историю государства Российского» Карамзина, оды Державина, поэмы Жуковского, роман «Бедная Лиза» Карамзина или стихотворения Пушкина. Михаил Андреевич был хорошо образован для человека его положения. И он требовал, нужно отдать ему должное, чтобы его сыновья были воспитаны в уважении к литературе и искусству.
Ужинали в девять часов. Выйдя из-за стола, дети вставали на колени перед иконами, читали вечерние молитвы, потом прощались с родителями и уходили к себе. Там, в тишине комнаты, темной и мрачной, точно пещера, силуэты громоздкой мебели казались зловещими, таящими неясную угрозу, подлокотники кресел как бы заманивали в опасную ловушку, а их словно бы ожившие сиденья превращались в магические коврики… Федор боялся темноты, да и старший брат Михаил был не храбрее его. Скоро они засыпали, устремив взгляд на икону и следя за колеблющимся пламенем лампады, тени от которого трепетали на стене, подобно крыльям подбитой птицы.
Развлечения у Достоевских были редкими. Два раза в год бывшие кормилицы детей (Мария Федоровна сама кормила только Михаила) приезжали из своих деревень навестить своих питомцев. «Кормилица Лукерья пришла», – докладывала Алена Фроловна барыне. И в гостиную входила Лукерья, волосы ее убраны лентами, на ногах лапти. С порога она крестилась на иконы, кланялась, а потом раздавала детям гостинцы, – лепешки, которые она принесла из деревни завязанными в пестрый платок, а потом уходила на кухню.
Когда спускались сумерки, она проскальзывала в неосвещенную залу, где ее уже ждали дети. Все рассаживались в темноте на стульях, и в полумраке, благоприятствующем совершению чудес, она, понизив голос, начинала рассказывать сказки об Иване-царевиче, о Синей Бороде, о Жар-птице или Алеше Поповиче. Она говорила на старом крестьянском языке, сочном, неторопливом, с ударением на «о». Детвора зачарованно слушала ее, затаив дыхание, замерев от страха: «остановился богатырь на перепутье»… Не раз дети горячо спорили о том, кто из кормилиц, Варенькина или Федина, знает самые интересные истории?
Родители Федора Михайловича у себя почти никого не принимали. Штаб-лекарь, нелюдимый по натуре, к тому же не любил поздно ложиться. По его воле семья жила в замкнутом, изолированном от внешних влияний мире. Театр? В виде исключения он пару раз водил туда детей. После представления пьесы «Жако, или Бразильская обезьяна»[4] Федор в течение многих недель старался подражать актеру, игравшему обезьяну. А после «Разбойников» Шиллера с участием Мочалова он «потерял сон». Семейные прогулки? Они были чинными и скучными, какими и положено быть семейным прогулкам. В летние дни в определенный час шли гулять в Марьину Рощу, находившуюся недалеко от больницы. Проходя мимо часового, стоявшего у ворот Александровского института, бросали ему под ноги мелкую монету, которую часовой незаметно подбирал. Во время прогулки отец вел со своим потомством поучительные беседы, столь же возвышенные, сколь и полезные: о правилах арифметики, о законах геометрии… Бегать по траве не дозволялось, потому что благовоспитанным мальчикам, по словам Михаила Андреевича, неприлично носиться сломя голову в общественном месте. Не разрешалось знакомиться с «чужими детьми». Запрещались даже такие невинные забавы, как игра в лошадки, в мяч и лапту, потому что подобные игры пристали лишь бедным простолюдинам.
В воскресные и праздничные дни ходили в церковь к обедне. В праздничные вечера играли всей семьей в карты – в короли. В дни именин отца детвора преподносила имениннику приветствия, сочиненные по-французски, переписанные на хорошей бумаге, свернутые в трубочку и перевязанные ленточкой. Став старше, дети в дни именин читали выученные по этому случаю наизусть стихотворения Пушкина, Жуковского и – непостижимо! – отрывки из «Генриады»[5].
В окружении этого маленького семейного клана Федор Михайлович рос в опасной изолированности, отгороженный от всяких контактов с внешним миром, отрезанный от сверстников, не имея друзей, не получая впечатлений, лишенный свободы. Эта юность, проведенная точно в закупоренном сосуде, это искусственное развитие чувствительности должны были отразиться на всем его существовании. «Мы все отвыкли от жизни», – говорит один из его героев. Сам-то Достоевский так никогда и не смог привыкнуть.
Не следует, однако, заключать, что Федор Михайлович был угрюмым и тихим ребенком. Его ранимость, его впечатлительность не мешали ему быть непоседой, порывистым, озорным, а иногда и резким ребенком. Играя в карты с родителями, он умудрялся плутовать, к великому смущению штаб-лекаря. Прогулки в экипаже приводили его в состояние лихорадочного возбуждения. Малейшее развлечение до крайности будоражило его. Однажды, увидев на ярмарочном гулянье в балагане бегуна, он до изнеможения носился по саду, как бегун, зажав в зубах платок, прижав локти к бокам. «Не удивляюсь, друг мой, федькиным проказам, ибо от него всегда должно ожидать подобных», – пишет Мария Федоровна мужу. И штаб-лекарь, браня сына, произносит поистине пророческие слова: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе… быть тебе под красной шапкой!» И, действительно, Федор Михайлович будет носить эту красную шапку – солдатскую фуражку с красным околышем, когда вернется с каторги.
Решетка отделяла садик Достоевских от обширного больничного парка. Несмотря на строгий запрет доктора, Федор любил заводить знакомство с больными, выходившими подышать воздухом и одетыми в суконные бежевые халаты и белые колпаки. Эти хворые, хилые люди не отталкивали его, напротив, трогали, даже притягивали. Да, этого маленького одинокого горожанина влекло общество людей надломленных, робких, отверженных, выброшенных из мира – того мира, о котором он ничего не знал. Какие жизненные невзгоды, какие неудачи превратили их в такие жалкие человеческие обломки? И почему, несмотря на различия в возрасте и социальном положении, они не чужды ему? Когда штаб-лекарь застал Федора разговаривающим с одним из пациентов больницы, он выбранил его с необычной резкостью. Старший из сыновей, Михаил, был мальчик спокойный, не в меру мечтательный, но послушный; самый младший, Андрей, не доставлял отцу беспокойства. Но Федор! «Настоящий огонь», – говорили о нем родители. И чтобы утихомирить болезненно непоседливого проказника, доктор втолковывал ему, что они бедны, что с трудом «добились положения», что нужно приучаться обуздывать свои желания. Столь мрачная картина будущего пугала детей. Без сомнения, от этих нудных наставлений, навязчиво повторяемых Михаилом Андреевичем, у его сына развились боязнь общества, чрезмерная обидчивость, жгучие сомнения, от которых он страдал до самой смерти. «Берите пример с меня», – твердил отец. Знал бы он, до какой степени его сын боялся походить на него! И разве мотовство сына не реакция на скаредность отца, а снисходительность к людям, которую он не раз проявлял, не реакция на отцовскую строгость? Он убеждал самого себя, что не имеет с отцом ничего общего. Отец… чувства к нему были смутными, противоречивыми: он боялся его, моментами ненавидел, иногда даже испытывал к нему своего рода физическое отвращение. «Кто не желает смерти отца?» – вопрошает Иван Карамазов. Случалось, на него накатывали приливы жалости. Он корил себя за то, что так далек от него. «Мне жаль бедного отца. Странный характер!» – напишет он позже брату Михаилу. И смерть доктора тем сильнее поразит его, чем меньше он уверен, что любил его.
Глава II Даровое
Покупка в 1831 году имения Даровое нарушила тусклое существование семьи. В первые же весенние дни Мария Федоровна отправлялась с детьми в деревню. Штаб-лекаря удерживали в городе его обязанности, и он присоединялся к ним в июле да и оставался всего на пару дней. Да, это были настоящие каникулы!
Путешествие, продолжавшееся два-три дня, было упоительным. Крестьянин Семен Широкий приезжал из деревни в кибитке, запряженной тройкой лошадей. В кибитку складывали чемоданы, свертки, разную поклажу. Федя садился на облучок, рядом с кучером, кибитка трогалась и неторопливо, мелкой рысью ехала через город и выезжала на проселочную дорогу, изрытую колеями и засохшими рытвинами.
Перед глазами мелькают засеянные рожью поля, молодая березка с дрожащими на ветру серебристыми листочками, крытая соломой и украшенная деревянным крыльцом изба, фигурка мальчонки в одной рубашке с голыми коленками, махавшего рукой и что-то кричавшего. Межевые столбы окаймляют дорогу. Доносится запах дорожной пыли, лошадиного навоза, изъеденного молью сукна. Копыта лошадей цокают по твердой земле. Колеса скрипят, бубенчики позвякивают. Федя просит у Семена позволения править лошадьми и то и дело спрашивает, правильно ли держит поводья.
На каждой остановке он спрыгивает с козел, бежит обследовать окрестности, зарываясь башмаками в сырую траву, и снова залезает в коляску, опьянев от свежего воздуха, разгоряченный, восхищенный. Щелкает кнут, и экипаж продолжает путь.
Усадебный дом в Даровом представлял собой одноэтажный трехкомнатный флигелек с обмазанными глиной стенами и соломенной крышей. Дом стоял на луговине в тени вековых лип. Лужайка тянулась до небольшого березового лесочка, вокруг которого вся земля была изрыта оврагами. С наступлением ночи лесная чаща внушала жуть. Ходили слухи, что в оврагах водятся змеи, а в лес забегают волки. Федора особенно манило это место, он любил там бродить тайком, и лесок стали называть «Фединой рощей».
В усадьбе был также огород, а позже родители Достоевского распорядились вырыть пруд, куда пустили живых карасей, присланных из Москвы в бочонке Михаилом Андреевичем. Потом священник отслужил молебен и обошел пруд с иконами, крестами и хоругвями.
В настоящее время лес срубили, пруд осушили и засадили капустой, флигель, где жили Достоевские, снесли, а на его месте построили безликий жилой дом. Но деревни Даровое и Чермошня сохранили свой вековой облик: десятка два изб, крытых соломой, осенью мокрых от дождя, летом высушенных солнцем. Все те же мужики, невежественные, ленивые, нищие, но зато славящиеся ловкостью в краже лошадей. Примитивное существование. Застывшая в толще времени жизнь.
Мария Федоровна проводила в Даровом каждое лето. В ее ведении были птичий двор, огород, посевы пшеницы, овса, льна, картофеля.
«…крестьяне все живы и здоровы, – сообщала она мужу, – выключая Федорова семейства которые были при смерти, но теперь слава Богу и им стало легче, только трое из них еще не пашут; скот слава Богу здоров».
И еще:
«мне Бог дал крестьянина и крестьянку у Никиты родился сын Егор, а у Федота дочь Лукерья. Свинушка опоросила к твоему приезду пятерых поросяточек; утки выводятся понемножку, а… беспрестанно гусенят убывает так жаль что мочи нет».
Пока мать занималась домашним хозяйством и следила с равной озабоченностью за здоровьем как крестьян, так и животных, изголодавшиеся по свободе дети наслаждались деревенской жизнью. Какие игры они придумывали! Маленькое бедное имение представлялось им страной волшебных сказок и чудес. Самой любимой была «игра в диких», придуманная Федей. Мальчики строят под липами шалаш, раздеваются донага, разрисовывают тело красками на манер татуировки, на голову надевают убор из листьев и выкрашенных гусиных перьев. Потом, вооружившись самодельными луками и стрелами, совершают набеги в березовый лесок, где заранее прятались деревенские мальчики и девочки. Их брали в плен, отводили в шалаш и держали заложниками, пока не получали приличный выкуп. Другой, тоже придуманной Федей, была игра в Робинзона. Потом дети воображали себя потерпевшими кораблекрушение и «тонули» в пруду.
Крестьяне любили этих юных горожан. Особенно Федора, целые дни проводившего в полях, наблюдавшего за работой бородатых грязных мужиков с тяжелыми мозолистыми руками и чистыми по-детски глазами. Он донимал их вопросами. Ему хотелось знать и как управлять лошадью, впряженной в борону или в плуг, и как правильно держать косу. Однажды в разгар жатвы, заметив, что одна крестьянка уронила кувшин с водой и плакала, потому что нечем было напоить ребенка и он мог получить солнечный удар, Федор пробежал почти две версты и принес ей полный кувшин воды.
Эти покорные крестьяне, эти отупевшие от работы труженики возбуждали его любопытство, как и больные Мариинской больницы. Его скованность, его болезненная застенчивость пропадали – с ними он чувствовал себя на равных. С восхищением он открывал для себя русский народ – простой, неотесанный, неисчислимый, который всю свою жизнь он будет страстно любить. К нему обращался он, когда хотел укрепить свою веру в святое предназначение России. Не к титулованным чиновникам в галунах и нашивках, не к рафинированным аристократам, а к мужикам, к их грязным лицам, согбенным спинам, к их ласковым глазам, в которых, казалось, таился невысказанный вопрос.
Даже на каторге, одинокий, отчаявшийся, в воспоминаниях о них он обретет свое первое утешение, моральную поддержку.
«Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню».
Он углубляется в лесную чащу. То справа, то слева он срезает ветви орешника для хлыстика, чтобы стегать им лягушек. В лесу стоит глубокая тишина. Желто-зеленые с черными пятнышками ящерицы юркают в щелях между камнями, разбросанными по краям тропинки. Майские жуки висят, прилепившись к листьям. Воздух напоен ароматом грибов, сочащейся из стволов смолой, перегнивших листьев и травы. И вдруг раздается страшный крик: «Волк!»
Ребенок пускается бежать со всех ног. Крича в голос, он пробегает через лес, выбегает на поляну прямо на пашущего мужика.
«Это был наш мужик Марей… мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильной проседью в темнорусой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и, когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.
– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь.
Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив.
– Где волк?
– Закричал… Кто-то закричал сейчас: „Волк бежит“… – пролепетал я.
– Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть? – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен.
– Ишь ведь испужался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, рóдный. Ишь, малец, ай!
Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.
– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. – Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.
…и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такой ясностью, до самой последней черты… припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачивания головой: „Ишь ведь, испужался, малец!“ И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим.
И вот когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем».
При каждом новом испытании, при каждом новом приступе религиозных сомнений он будет мысленно вызывать в памяти его образ, будет призывать его, взывать к его спокойной силе, и тот ответит ему: «Что ты, что ты, какой волк… Ну, полно же, ну, Христос с тобой!»
Крестьянин Марей действительно жил в Даровом. Этот мужик был большим знатоком лошадей, и Мария Федоровна так его ценила, что даже прощала ему крепкие словечки. Кроме того, в деревне Даровое Достоевский познакомился с девушкой, ставшей прообразом Лизаветы Смердящей из «Братьев Карамазовых». Ее звали Аграфена Тимофеевна, она слыла за юродивую, круглый год ходила в одной рубашке, босая и спала на кладбище. В том же романе появится и деревня Чермошня. Что же до Алены Фроловны, то Достоевский обессмертит ее в романе «Бесы».
Славная Алена Фроловна! Заслужила она эту награду. Однажды в Москве – Достоевскому тогда было девять лет – дверь гостиной распахнулась, и на пороге появился приказчик Григорий. Он пришел прямо из деревни пешком, «в старом зипунишке и лаптях».
– Что это? – крикнул отец в испуге.
– Вотчина сгорела-с, – пробасил он.
Пожар все уничтожил: дотла сгорели изба, амбар, скотный двор и даже яровые семена, сгорела часть скота и один мужик по имени Архип. В первый момент от страха вообразили, что полностью разорены. Пали на колени перед образами, стали молиться. Мария Федоровна плакала. И вот вдруг подошла к ней няня Алена Фроловна, коснулась ее плеча и зашептала: «Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо». Она скопила пятьсот рублей. Ущерб, нанесенный пожаром, был ликвидирован без денег, предложенных служанкой. Но воспоминание о ней, как и воспоминание о мужике Марее, согревало Федора Михайловича до конца жизни.
«Повторяю, – пишет Достоевский, – судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе – мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают!»
Глава III Первые уроки, первые утраты
Достоевские рано начали учить детей грамоте. Мария Федоровна сама учила Федора азбуке, учила по-старинному, называя буквы по-славянски: «Аз, Буки, Веди»… У четырехлетнего Федора голова шла кругом от этих загадочных, словно бы постукивающих, звуков.
Первой книгой для чтения стали «Сто четыре истории Ветхого и Нового Завета». Книга была украшена довольно плохими литографиями, изображавшими Сотворение мира, Пребывание Адама и Евы в раю, Потоп и другие события Священной истории.
В 1870 году Достоевский, ему тогда было сорок девять лет, разыскал том, по которому учился читать в детстве, и берег его как святыню.
Когда дети выучились читать по рассказам из «Старого» и «Нового Завета», Михаил Андреевич пригласил для преподавания Закона Божьего дьякона из Екатерининского института, известного своей эрудицией. Этот дьякон обладал замечательным даром слова и покорил всю семью. Нередко Мария Федоровна откладывала работу и, затаив дыхание, вместе с детьми, сидевшими с горящими глазами вокруг ломберного стола, подперев кулачками щеки, слушала рассказы о Рождестве Христовом, о Голгофе, о распятии Христа.
Вскоре для обучения юных Достоевских французскому языку пригласили еще одного учителя – француза по имени Сушар. Он обратился к императору с прошением милостиво разрешить ему читать свою фамилию наоборот и русифицировать ее, – и стал зваться Драшусов. Позже старших мальчиков отдали на полупансион к тому же Драшусову (он же Сушар).
Драшусов, низенький, толстенький невежественный человечек, грассируя, обучал французскому языку, два его сына преподавали математику и словесность, а всему прочему учила… его жена.
В этом скромном пансионе не у кого было учиться латыни, и отец Достоевских взялся сам обучать сыновей латинскому языку. Каждый вечер штаб-лекарь созывал свое потомство и приступал к изощренной пытке.
Михаил Андреевич был жестоким учителем. Ученики были в его полной власти, и он давал волю своим инстинктам тюремного надзирателя. Во время урока, продолжавшегося больше часа, не только не разрешалось сидеть, но даже и облокотиться на стол или опереться на стул. Тотчас же раздавался грозный окрик. Так они и стояли, замерев в неподвижности, оцепенев от страха, отупев от усталости, по очереди склоняя mensa, mensae[6] или спрягая amo, amas, amat[7].
При малейшей ошибке отец срывался на крик, стучал по столу кулаком, отбрасывал латинскую грамматику Бантышева, сметал со стола бумаги и уходил, хлопнув дверью, за которой слышались его тяжелые удаляющиеся шаги. Следует признать, что Михаил Андреевич в наказание никогда не ставил детей на колени или в угол.
Родители Достоевского не соглашались отдать детей в гимназию, где телесные наказания были правилом. По этой же причине многие семьи предпочитали помещать детей в частные пансионы. Так и братья, Михаил и Федор Достоевские, в 1834 году поступили в дорогой, но имевший высокую репутацию частный пансион Л. И. Чермака.
Чермак был хороший педагог, педантичный, честный, не слишком образованный, но сумевший подобрать штат превосходных преподавателей. Атмосфера в школе была патриархальная и добродушная. Интерны обедали за одним столом с семьей Чермака. Мадам Чермак лечила легкие раны учеников. Когда кто-нибудь из учеников заслуживал поощрения, Чермак приглашал его в свой кабинет и с важным видом вручал ему конфетку. И ученики старших классов принимали эту награду с таким же удовольствием, как и малыши из приготовительных.
По субботам Михаил и Федор приезжали домой. Их ждал праздничный обед, к которому добавлялись их любимые блюда. Прежде чем приступить к еде, они взахлеб со всеми подробностями рассказывали о своей новой жизни: о полученных оценках, о заданных уроках, о шалостях товарищей. Штаб-лекарь, никогда не допускавший непочтительного отношения к себе, одобрительно выслушивал рассказы о школьных проказах. Злорадствовал ли он при мысли, что взял реванш? Обливал ли мысленно презрением ученых мужей, слишком слабых, не умевших внушить к себе уважение даже такой мелюзге?
«Ишь ты, шалун, ишь разбойник, ишь негодяй!» – приговаривал он с самодовольным видом.
После обеда дети усаживались за чтение. Они жадно прочитывали все, что попадало им в руки. Сначала их умственная пища состояла из ежемесячных выпусков «Библиотеки для чтения», тоненьких книжечек в разноцветных обложках. Но Федор зачитывался «Ваверлеем» и «Квентином Дорвардом»[8], а также рассказами о путешествиях. Он мечтал побывать в Венеции, Константинополе, мечтал о восточной неге, о геройских подвигах, о преданности и благородстве. Вальтер Скотт, Диккенс, Жорж Санд, Гюго проглатывались вперемешку и кое-как переваривались между уроками арифметики и грамматики.
Михаил же до того испортился, что стал тайком сочинять стихи. Оба они выучили наизусть поэмы Пушкина и Жуковского и читали их матери, – подтачиваемая туберкулезом, исхудавшая, она лежала на диване, прислушивалась к спорам и с улыбкой мирила спорщиков.
Пушкин был тогда их молодым современником, и его авторитетность как поэта уступала Жуковскому. Поэтому Мария Федоровна предпочитала Жуковского. А Федор кипел от негодования при одной мысли, что сравнивают «Графа Габсбургского» с великолепной и жестокой «Песнью о вещем Олеге»[9].
Однажды Ваня Умнов, сын одной из немногочисленных знакомых семьи Достоевских, продекламировал Федору сатиру Воейкова «Дом сумасшедших». Федор прочел отрывок из стихотворения отцу, и тот счел, «что оно неприлично, потому что в нем помещены дерзкие выражения про высокопоставленных лиц и известных литераторов, а в особенности против Жуковского».
Этот Ваня Умнов – единственный мальчик их возраста, с которым Федору и Михаилу позволено дружить. Впрочем, не один штаб-лекарь виноват в той изолированности, в какой росли его дети. Среди учеников Чермака Федор мог бы выбрать себе товарищей. Но его чрезмерное самолюбие, обидчивость, мнительность, его болезненная застенчивость отталкивали однокашников. Он сгорал от желания пожертвовать собой, готов был открыть душу первому встречному, но заранее замыкался в себе, сосредоточиваясь на своем внутреннем мире. Он боялся жизни. Что общего между этими жизнерадостными и примитивными сорванцами и им, Федором Достоевским, с его заботливо взлелеянной, хоть и омрачавшей его существование, меланхолией? Что общего между его романтическими порывами, смутным желанием славы, его увлечением литературой и грубоватыми забавами его товарищей, чьи вульгарные шуточки коробили его? Может быть, знакомство с какой-нибудь молодой девушкой излечило бы его от болезненной застенчивости и раздражительности. Но доктор бдительно следил за поведением своих сыновей. До шестнадцати лет они не получали денег на карманные расходы. Более того, из пансиона Чермака домой их привозили в карете, присланной из больницы, дабы у юнцов не возникло искушения побродить по городу. А выходные и праздничные дни, решил Михаил Андреевич, Федор и Михаил будут проводить, обучая младших братьев, Андрея и Николая, и маленьких сестер.
Тем временем болезнь Марии Федоровны развивалась. С зимы 1836 года бедняжка не вставала с постели. Однако в мае того же года ее муж, охваченный нелепой ревностью, обвинил ее в том, что она изменяет ему.
«Друг мой, – пишет она ему, – не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, Самим Богом, небом и землею… что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу моему милому, единственному моему пред Святым алтарем в день нашего венчания!»
Только полное истощение бедной женщины успокоило ревность ее супруга.
Мария Федоровна так ослабела, что не могла уже сама причесываться. И так как она считала «неприличным» отдать свою голову в чужие руки, то решила остричь свои густые и длинные волосы под гребенку. Флигель Мариинской больницы наполнился народом: один за другим следовали визиты родственников и знакомых. Многие врачи поспешили прийти на помощь своему собрату. Но болезнь была неизлечима. Мать Достоевского умерла 27 февраля 1837 года, благословив детей, мужа и отдав последние распоряжения прислуге. Ей было тридцать семь лет.
Смерть матери переломила жизнь семьи. Федор и Михаил потрясены. Штаб-лекарь, обезумев от горя, бился головой о стену. Он воздвиг на могиле жены мраморную стелу и велел выгравировать на ней фразу из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра».
Месяцем раньше поэт Пушкин был убит на дуэли бароном Дантесом. Весть о гибели Пушкина дошла до молодых Достоевских через месяц после похорон матери. Оба они чуть с ума не сошли, Федор заявил, что носил бы траур по поэту, если бы уже не был в трауре по матери. Такие чувства вовсе не были чрезмерными, если помнить, в какое изумление и горе повергла всю Россию весть об этой катастрофе. Образованная публика смутно ощущала, что гибель Пушкина предвещает наступление нового – страшного времени. Гениальный человек погиб в расцвете сил, и вместе с ним гибла идея, гибло все существующее положение дел.
«Боже! Как странно. Россия без Пушкина… Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним… Пушкина нет», – писал Гоголь.
Лермонтов, корнет лейб-гвардии гусарского полка, сочинил стихотворение «На смерть поэта» и за него был сослан на Кавказ.
Каждый подписался бы под четверостишием:
Нет поэта, рок свершился, Опустел родной Парнас! Пушкин умер![10]Эти скверные стихи неизвестного поэта усугубляли отчаяние Федора и Михаила Достоевских.
Между тем жизнь в семье стала невыносимой. Вдовец с отвращением выполнял свои повседневные обязанности, мечтая поскорее переселиться в Даровое. Он решает послать старших сыновей в Петербург в Училище гражданских инженеров. Он находит этот проект превосходным, поскольку после окончания курса дипломированные выпускники могли, по своему выбору, поступить офицерами в полк императорской гвардии или стать инженерами. Отъезд в столицу отложен из-за внезапной болезни Федора: он потерял голос. Испытанные средства не помогали. Кто-то из специалистов посоветовал путешествие в теплое время года. Опыт полностью удался, но тембр голоса Достоевского изменился и на всю жизнь остался глухим, хриплым, как бы «надтреснутым», что нередко смущало его собеседников.
Расставание было торжественным. Отец Иоанн Баршев, священник Мариинской больницы, отслужил напутственный молебен. Осиротевшая семья, по обычаю, перед отъездом села вокруг стола, потом все поднялись, перекрестились; отец и двое сыновей сели в ждавшую их кибитку и двинулись в путь.
Путешествие продолжалось около недели. Ехали почти шагом и стояли на станциях часа по три. Ели в деревенских трактирах. Заходили в конюшни и наблюдали, как конюхи перепрягают лошадей. Двигались дальше, плелись как черепахи по гладкой дороге, вившейся между ровных полей, однообразие которых нарушалось то чернеющими вдали лесами, то бледными пятнами болот.
Монотонность пейзажа утомляла глаз. Штаб-лекарь угрюмо молчал. Дети были охвачены смутными надеждами. Для них начиналась новая жизнь, и они витали в мечтах обо всем «прекрасном и высоком», – это было их любимое словечко. Раз нужно, они будут учить математику, но втайне будут грезить о поэзии и поэтах.
Михаил пишет стихи, каждый день по три стихотворения. Федор с усердием алхимика сочиняет роман плаща и шпаги – его действие происходит во дворце в Венеции. Они взволнованно читают наизусть последние стихотворения Пушкина и договариваются, приехав в Петербург, тотчас отправиться на место дуэли, а потом пробраться в квартиру Пушкина и своими глазами увидеть комнату, где скончался поэт. Потом…
Отвратительный инцидент прерывает поток их мечтаний. Ожидая смены лошадей на постоялом дворе в Тверской губернии, Достоевские вдруг увидели, как подлетела курьерская тройка и остановилась перед ними, дрожа и задыхаясь. Выскочил фельдъегерь в мундире с узкими фалдочками, в треуголке с разноцветными перьями, с багровым, как у мясника, лицом. Ожидая, пока приведут новую тройку, он вбежал в трактир и опрокинул стакан водки. Когда тройка подкатила, он вскочил в коляску. Ямщик не успел тронуть, как фельдъегерь приподнялся и со всей силой ударил ямщика огромным кулаком по затылку. Тот дернулся вперед, поднял кнут и изо всех сил хлестнул лошадей… «Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь», – замечает Достоевский в «Дневнике писателя». Он увидел в этой сцене с фельдъегерем объяснение того животного падения, в котором некоторые упрекают русского мужика. Пусть прекратят им командовать, кричать на него, бить его, и он расправит спину и станет человеком кротким и мыслящим, каким никогда и не переставал быть.
В «Преступлении и наказании» Раскольников видит во сне клячу, которая падает под ударами озверевшего Миколки: «…кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом».
В «Дневнике писателя» Достоевский вспоминает о поэме Некрасова «Кроткие глаза»: мужик хлещет кнутом лошадь по «кротким глазам»: «Хоть ты и не в силах, а вези, умри, да вези!»
Достоевский был одержим идеей страдания. Любое преступление объяснимо, искуплено, оправдано страданием. Страдание – главное оправдание нашего пребывания на земле. Его отец, сидевший рядом с ним, перенес жестокий удар судьбы, и это несчастье оправдывает строгость, с которой он относится к собственным детям. Каждый перекладывает свое бремя – отчаяние, ненависть, страх – на соседа. Ничто с нас не начинается. Ничто с нами не кончается. Мы все опутаны чувствительной сетью, и достаточно одному из нас сделать малейшее движение, чтобы наши близкие ощутили, как корчится переполненная горем душа.
«Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве», – утверждает Анна Григорьевна Достоевская. Ей возражает доктор Яновский, друг Достоевского:
«Федора Михайловича именно в детстве постигло то мрачное и тяжелое, что никогда не проходит безнаказанно и в летах зрелого возраста и что кладет в человеке складку того характера, которая ведет к нервным болезням, а следовательно, и к падучей, и к той угрюмости, скрытности и подозрительности».
Наступает вечер. Штаб-лекарь зевает. Все чаще по обеим сторонам дороги попадаются болота – приближается Петербург.
Глава IV Инженерный замок
Благоговейное посещение дома Пушкина, предвкушение прогулок по набережным Невы, приобщение к «высокому и прекрасному» – все пришлось отложить по воле практичного штаб-лекаря.
По прибытии в Петербург он поместил Федора и Михаила в пансион Коронада Филипповича Костомарова.
Офицер, носивший столь громоподобное имя, должен был подготовить юношей к вступительному экзамену в Инженерное училище. Его внушительная фигура, лихо торчащие черные усы и холодный взгляд наводили ужас на новеньких. Но стоило ему произнести первое слово, как они догадались: под обликом солдафона скрывается мягкая и чувствительная, как у женщины, душа.
Доктор, совершенно успокоившись за судьбу сыновей, отбыл в Москву.
Братья, которых пугало одиночество среди незнакомых людей на новом месте, налегли на занятия.
«Дела у нас идут своим порядком хорошо, – пишут братья отцу. – То занимаемся геометрией и алгеброй, чертим планы полевых укреплений: редутов, бастионов и т. д., то рисуем пером горы. Коронад Филиппович нами очень доволен и к нам особенно ласков. Он купил нам отличные инструменты за 30 рублей монетою, и еще краски за 12 рублей».
А также:
«Коронад Филиппович на нас надеется, более нежели на всех 8-рых, которые у него приготовляются».
Наступает день вступительного экзамена, Федор принят, а Михаилу отказано по причине слабого здоровья. Дирекция Училища направила его учиться в Ревель, где у Инженерного училища был филиал.
Предстоящая разлука с братом приводила Федора в отчаяние, и его не смягчали ни новый форменный мундир, ни звание «кондуктора». Братьев связывала горячая крепкая дружба. Кто заменит Федору единственного поверенного его тайн, любящего товарища, восторженного поэта, понимавшего его с полуслова, самые сокровенные мысли которого он сам всегда угадывал?
Перед отцом он притворяется полным энтузиазма:
«Наконец-то я поступил в Г<лавное> и<нженерное> училище, наконец-то я надел мундир и вступил совершенно на службу царскую».
А впоследствии признается:
«…меня с братом Мишей свезли в Петербург, в Инженерное училище 16-ти лет и испортили нашу будущность. По-моему это была ошибка».
Таковы были его истинные чувства.
Инженерный замок, как иногда называли Инженерное училище, был построен императором Павлом I лично для себя. Замок расположен в самой красивой части города, на слиянии рек Мойки и Фонтанки, и отделяется от Летнего сада подъемным мостом, подводившим к массивной башне. Здесь 11 марта 1801 года в полночь монарх был убит по приказу своего доверенного лица графа Палена, военного губернатора Петербурга, при молчаливом попустительстве сына Александра.
Манифест Александра, после отцеубийства вступившего на трон, гласил:
«Судьбам Всевышнего угодно было прекратить жизнь любезного Родителя НАШЕГО, Государя Императора ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом».
В 1819 году пустовавший замок, из которого вывезли всю обстановку, отремонтировали и передали Главному Инженерному училищу. Залы его просторны, потолки высокие, стены выбелены известью.
В бывших императорских покоях располагались дортуар, столовая и классы для 126 воспитанников в возрасте от четырнадцати до девятнадцати лет. Они составляли особую корпорацию, где поддерживались освященные временем традиции, предания, обычаи: культ чести, повиновение старшим, «ветеранам», покровительство слабым, презрение к опасности, а также пристрастие к танцам.
Принесение присяги на верность при вступлении в Училище должно было внушить «кондукторам» чувство ответственности.
Программа занятий строго продумана: алгебра, геометрия, баллистика, физика, архитектура, фортификация, топография, география; разумеется, российская словесность и история и, конечно, строевая и фрунтовая служба. Учились безукоризненно вычерчивать планы укреплений, редутов, бастионов, раскрашивая рисунок акварелью. Строили планы о будущем, мечтали о блестящих связях, об экипажах, придворных балах, военных парадах. Схватывались врукопашную с притеснявшими младших «ветеранами». Потом по приказу «командира роты» враги из двух разных классов обнимались и клялись быть верными мужской дружбе и прощать обиды.
Дисциплина была по-военному суровой: ее целью было «укротить» юнцов и закалить их для военной службы. Для этого все средства хороши, а самое лучшее – розги.
Случалось, в Училище мостов и дорог, рассказывает современник, за малейшую ошибку в упражнениях учеников секли до полусмерти и на простынях уносили из манежа.
В этот-то мирок, примитивный, грубый, бурлящий, попадает Достоевский, вырванный из затворнического существования в кругу семьи.
В эти годы Федор Михайлович – коренастый подросток с вздернутым носом, круглым болезненно бледным веснушчатым лицом. Светлые волосы коротко подстрижены. Высокий выпуклый лоб нависал над серыми глубоко посаженными глазами, их взгляд был пристальным, пронизывающим, смущающим. Брови редкие, губы тонкие, выражение лица грустное, сосредоточенное, беспокойное. Мундир плохо сидел на нем. Его прозвали монахом Фотием в память о фанатике архимандрите Фотии, монахе и аскете, отстаивавшем истинное православие.
Первые контакты Достоевского с товарищами были трудными, даже мучительными.
«…какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров…они… уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках… Развратны они были до уродливости».
Он ненавидит этих молодых зверят за то, что они так здоровы, так примитивны, так мало страдают и легко радуются всякой малости. Еще больше, чем в пансионе Чермака, он черпает горькое наслаждение в своем одиночестве.
И пишет брату Михаилу, что жизнь гадка, а счастье не в материальном и не в земных радостях.
Ибо о «материальном», о «земном счастье» только и говорят его соклассники: преуспеть, получить повышение, сделать карьеру…
А он сам, задумывается ли он о своем будущем?
«Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира… ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!»..
Подобно Гамлету, мрачный, отчаявшийся, одинокий, он бродит по коридорам Училища, зажав в руке книгу, избегает встречаться с преподавателями, пресекает попытки товарищей заговорить с ним. Между тем он вовсе не пренебрегает занятиями. Совсем наоборот: добросовестно выполняет все задания. Не протестует, когда преподаватель русской словесности Плаксин втолковывает им, что Гоголь – бесталанный автор, находящий удовольствие в цинизме и описании всяких мерзостей. Он на все соглашается, всему подчиняется, – он несет свой «крест».
«Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение», – напишет он в «Записках из Мертвого дома». И в самом деле, постепенно он привыкает к новому образу жизни. И оберегает свое одиночество. «Он предпочитал, – вспоминает его товарищ по училищу, – держаться особняком. Ему никогда не нравились упражнения с ружьями, общие строевые занятия, грубоватые, но простые солдатские обычаи. Его болезненная гордость, его душевная уязвимость и физическая слабость заставляли его замыкаться в себе».
Во время коротких и шумных рекреаций он уединяется в амбразуре окна, выходящего на Фонтанку. Открывает книжку. И отрешается от этого мира с его мелкой суетой, от омерзительных школьных интересов. Ученики возвращались со двора, строились в ряды, проходили мимо него, направляясь в столовую, возвращались, громко болтая и смеясь. Федор Михайлович ничего не видел, ничего не слышал. Лишь при звуках барабанной дроби, возвещавшей конец перемены, он складывал книги и тетради. Бывало, вспоминает дежурный воспитатель Савельев, посреди ночи можно было видеть Достоевского за столиком у окна, углубившегося в работу. Он сидел босой, завернувшись в одеяло, и писал при свете сальной свечи, вставленной в железный шандал.
Дирекция училища давала Достоевскому такие оценки.
«Усерден ли по службе? Весьма усерден.
Каковы способности ума? Хороших».
И – все. Почему бы не предположить, что в эти годы он готовил свой первый роман «Бедные люди»?
Странная личность этого «кондуктора», не стремившегося научиться обращению с оружием, не принимавшего участия в играх, не ходившего в танцкласс и даже пропускавшего священные часы посещения столовой, интриговала его товарищей. Несколько воспитанников сближаются с ним и тотчас же заражаются его поэтическим жаром. Вокруг него образуется – неслыханное событие в училище! – кружок из четырех-пяти молодых людей, приобщавшихся к поэзии и даже рассуждавших об идеалах.
Федор главенствует над своими соучениками и руководит их чтением. Некоторые разделяют его восторги «Шинелью» Гоголя, романами Диккенса, произведениями Вальтера Скотта.
Под предлогом какого-нибудь недомогания эти конспираторы собирались в дортуаре, дабы потолковать о «прекрасном и высоком», и Достоевский декламировал стихи или читал наизусть прозу своим глуховатым срывающимся голосом. Затем прерывал чтение и объяснял прочитанный отрывок. При малейшем возражении голос его повышался, аргументы сыпались, как удары дубинкой. Нередко мальчики, находившиеся в соседней зале, видели, как его противник в споре удирает со всех ног, а Достоевский преследует его с книгой в руке, продолжая что-то выкрикивать.
Когда занятия заканчивались и ученики просто болтали между собой, вдруг входил Достоевский и сразу же завладевал общим вниманием.
«Уже далеко за полночь, – вспоминает Григорович, – все мы сильно уставшие, а Достоевский стоит, схватившись за половинку двери, и говорит с каким-то особенно нервным одушевлением; глухой, совершенно грудной звук его голоса наэлектризован, и мы прикованы к рассказчику».
Чрезмерное пристрастие к литературе мешает Достоевскому тщательно исполнять свои военные обязанности. Однажды, представляясь в качестве ординарца великому князю Михаилу Павловичу, Достоевский в замешательстве не обратился к нему как положено «Ваше Императорское Высочество». Великий князь заметил: «Посылают же таких дураков».
Самое тяжелое для Достоевского время в году – период маневров и смотров в Красном селе или Петергофе. И эти дни тем более для него мучительны, что он постоянно терпит нужду. Когда стоит изнурительный зной, у него нет денег, чтобы утолить жажду. Когда идет дождь, у него нет денег на чашку горячего чая и нет одежды на смену. Отец Достоевского, переселившийся в деревню, предается пьянству и унынию.
Он никого не хочет видеть, ни о чем не хочет думать.
«Пришлите мне что-нибудь не медля, – просит его Федор. – Вы меня извлечете из ада. О ужасно быть в крайности!».
И еще:
«Милый, добрый родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего… У меня есть голова, есть руки. Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от Вас копейки; я обжился бы с железною нуждою… Теперь же, любезный папенька, вспомните, что я служу в полном смысле слова. Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества… Теперь: лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег. (Я Вам пишу все это потому, что я говорю с отцом моим.) В эту сумму я не включаю таких потребностей, как например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мною случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на 2 пары простых сапогов».
Отец Достоевского владеет землей, у него есть стабильный доход, есть добрый пакет ассигнаций, отложенный на приданое дочерям. Он почти ничего не тратит на жизнь в своем деревенском захолустье. Он верит в обоснованность просьб сына. Между тем ответы старого скряги – шедевры мелких хитростей, наигранного возмущения, притворной доброты:
«Друг мой, роптать на отца за то, что он тебе прислал сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно. Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось… После этого станешь ли роптать на отца за то, что тебе посылает мало. Я терплю ужаснейшую нужду в платье, ибо уже 4 года я себе решительно не сделал ни одного, старое же пришло в ветхость, не имею никогда собственно для себя ни одной копейки, но я подожду. Теперь посылаю тебе тридцать пять рублей ассигнациями, что по московскому курсу составляет 43 р. 75 к., расходуй их расчетливо, ибо повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать».
Федор в отчаянии.
«Ну брат! ты жалуешься на свою бедность, – пишет он Михаилу 9 августа 1838 года. – Нечего сказать, и я не богат. Веришь ли, что я во время выступленья из лагерей не имел ни копейки денег; заболел дорогою от простуды (дождь лил целый день, а мы были открыты) и от голода и не имел ни гроша, чтоб смочить горло глотком чаю… Не знаю, стихнут ли когда мои грустные идеи?»
А в приписке добавляет:
«У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим».
31 октября того же года он пишет:
«Брат, грустно жить без надежды… Смотрю вперед, и будущее меня ужасает… Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный… Я давно не испытывал взрывов вдохновенья… зато часто бываю и в таком состоянье, как, помнишь, Шильонский узник[11] после смерти братьев в темнице».
Эти риторические стенания перемежаются намеками на то, что он недавно прочел:
«Ну ты хвалишься, что перечитал много… но прошу не воображать, что я тебе завидую. Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего».
И, действительно, он прочел всего Гофмана и по-русски и по-немецки, почти всего Бальзака («Бальзак велик»!). Прочел «Фауста» и мелкие стихотворения Гёте, а также Гюго, кроме «Эрнани» и «Кромвеля». Виктор Гюго – «лирик чисто с ангельским характером», но низко стоит во мнении французов. И замечает о Низаре[12], осмелившемся критиковать автора «Од и баллад»: «Низар (хоть и умный человек), а врет».
Но самое глубокое впечатление на Достоевского произвел Шиллер. «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им».
А также и Расин!
«У Расина нет поэзии?.. Читал ли ты „Iphigénie“[13]; неужели ты скажешь, что это не прелестно… А „Phedre“[14]? Брат! Ты Бог знает что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая природа и поэзия… Теперь о Корнеле. Читал ли ты „Le Cide“[15]. Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах пред Корнелем. Ты оскорбил его!»
Адресат этих писем также бредит поэзией, как и их отправитель. Михаил не только увлекается поэзией, но и сам сочиняет стихи «до умопомрачения». И пишет отцу: «Ну! папенька! Порадуйтесь вместе со мной! Мне кажется, что я не без поэтического дарования! Написал я уж много мелких стихотворений… Теперь я начал писать драму».
Письмо начинается заявлением, прочитав которое штаб-лекарь, должно быть, едва не задохнулся от возмущения:
«Пусть у меня возьмут все, оставят нагим меня, но дадут мне Шиллера, и я позабуду весь мир!»
Зато брат в восторге от его стихотворений:
«Брат, я прочел твое стихотворенье… Оно выжало несколько слез из души моей и убаюкало на время душу»…
И в подтверждение своего впечатления цитирует слова их юного друга Шидловского.
Странный юноша, этот Шидловский.
«Взглянуть на него: это мученик! – пишет Федор. – Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны».
Достоевские встретились с ним в гостинице, где остановились по приезде в Петербург, и, узнав, что молодой человек, ожидающий должности в Министерстве финансов, настоящий поэт и собирается публиковать свои стихи, поспешили познакомиться с ним. Восторгу Федора и Михаила нет границ. Даже штаб-лекарь поддался обаянию этого юноши, красноречивого, широко образованного и по-байроновски мрачного, как того требовала мода. Шидловский знакомил своих юных друзей с достопримечательностями столицы, и они вместе совершили паломничество в Казанский собор. Позже, разъезжая между Петербургом и Ревелем, он служил братьям курьером.
«Знакомство с Шидловским, – утверждает Достоевский, – подарило меня столькими часами лучшей жизни… О какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее!»
Действительно, Федор и Михаил покорены, увлечены этим поэтом-чиновником, который пишет:
«Ведь я волкан! Огонь – моя стихия!» – и верит в это.
Шидловский влюблен в некую Марию, но она выходит замуж за другого. «Без этой любви, – замечает Достоевский, – он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии».
Но это не все. Поэта мучат религиозные сомнения. Шидловский чувствует себя и призванным, и прóклятым одновременно. Он разрывается между богохульством и истинной верой. По ночам он работает – пишет Историю русской церкви. Однако климат Петербурга ему вреден, он уезжает к матери и поселяется в деревне. В этом сельском уединении его охватывает религиозный экстаз, и он ищет спасения от душевного разлада в строгом образе жизни, поступив послушником в монастырь с суровым уставом. Напрасно. Вскоре, отчаявшись обрести душевный покой, он предпринимает паломничество в Киево-Печерскую лавру. Некий старец, прозорливец, советует ему, как позже посоветует Зосима Алеше Карамазову, «жить в миру». Шидловский возвращается в свое имение, где живет до самой смерти, не снимая облачения инока-послушника. По временам он уходит из дому, бродит по дорогам, останавливается в каком-нибудь трактире и проповедует Евангелие крестьянам, которые, обнажив головы, благоговейно внимают ему. Он умирает в 1872 году.
Не подлежит сомнению, что впечатление от двойственного характера Шидловского, разрывавшегося между христианским смирением Алеши и сатанинским отрицанием Ивана Карамазова, преследовало Федора Михайловича на протяжении всего его творчества. Существо из «льда и пламени». Как большинство его героев. Как он сам.
Федор не выдержал экзамена по алгебре и оставлен на второй год в классе. «Я не переведен! – пишет он брату. – О ужас! еще год, целый год лишний!»
В своем провале он винит преподавателя алгебры, который несправедливо провалил его. Этот преподаватель ему мстит, ненавидит его. Все его ненавидят. «Хотелось бы раздавить весь мир».
А отцу посылает подробный список своих баллов, из коего следует, что причина провала – злое недоброжелательство.
«Боже мой! Чем я прогневал Тебя? Отчего не посылаешь Ты мне благодати своей, которою мог бы я обрадовать нежнейшего из родителей? О скольких слез мне это стоило… В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (по протекции)».
Он до того огорчается, что заболевает и несколько дней проводит в лазарете. Утешение он находит в книгах и письмах брата. Он ждет их, эти письма, с нетерпением влюбленного, но не торопится их вскрывать, любуется запечатанным конвертом, то прячет, то снова достает, по нескольку часов носит в кармане непрочитанными, растягивая предстоящее удовольствие.
Но, бывает, вскрыв конверт, он испытывает разочарование. Михаил изменился. Он интересуется модным платьем, спрашивает Федора, есть ли у него усы, намекает на некую юную особу, которая вовсе не бесплотное создание его поэтического гения, а реальная девушка: ее зовут Эмилия фон Дитмер, она живет в Ревеле. Михаил мечтает жениться на ней. Разумеется, женитьба не помешает ему писать! Он буквально утопает в лирических излияниях. Уже за первым завтраком он настроен возвышенно. В глазах Федора нет оправдания поэту, влюбленному в особу из плоти и крови: он не страдает от несчастной любви, подобно Шидловскому, и это – совершенно непростительно!
Чувства самого Федора заговорят с опозданием. И каким жалким образом!.. Пока что он пытается понять чувства других и здраво о них судить. Как он потерян! Как несчастен!
«Я-то один, а они-то все!» – заметит он в «Записках из подполья».
Тем временем приближается ужасное событие, и оно доведет до предела душевное смятение Федора.
Глава V Смерть отца
Отправив Михаила и Федора в Петербург, старик Достоевский поместил обоих младших сыновей в пансион Чермака и окончательно перебрался в Даровое, чтобы заняться ведением хозяйства. С собой он забрал двух младших дочерей, Веру и Александру.
Одиночество в Даровом усугубило мрачное состояние духа штаб-лекаря. Он предался пьянству и допивался до головокружений и галлюцинаций. Няня Алена Фроловна рассказывает, что он, случалось, вслух громко разговаривал с призраком покойной жены. Он обращался к ней с вопросами и сам же на них отвечал, меняя интонации, употребляя любимые выражения покойной. По вечерам он врывался в спальни дочерей, Веры и Александры, и заглядывал под кровати, проверяя, не прячут ли они там любовников. Потом уходил и бесцельно бродил по комнатам, жалуясь на свою разбитую жизнь, на несправедливость постигшей его утраты, на непереносимую скуку жить. Надеясь заглушить тоску, он взял в наложницы бывшую в семье в услужении горничную Катерину. Он даже подумывал жениться на соседке – богатой помещице Александре Лагвеновой, но так и не решился попросить ее руки.
Урожаи были скудными. Неумелое хозяйствование штаб-лекаря ускорило разорение имения. Как только требовалось вложить деньги в какое-нибудь улучшение, повышавшее доходность поместья, Михаил Андреевич пугался, колебался и в конце концов отказывался пойти на расходы. Он превратился в чудовищного скрягу. Этот порок унаследовала его старшая дочь Варвара. После смерти мужа ей досталось значительное состояние, но, страдая болезненной скаредностью, она рассчитала прислугу, не отапливала квартиру, питалась молоком и хлебом. Узнав о смерти отца, она сказала: «Собаке собачья смерть».
В 1893 году в ее дом залезли грабители, они задушили хозяйку, а труп сожгли в камине.
Михаил Андреевич и раньше был мелочным и жестоким. Живя в Даровом в праздности, он всецело погрузился в свое горе и дал волю своим порокам.
Горе и неудачи он вымещал на крепостных.
Однажды мужик Федот, не заметив приближения барина, не успел ему поклониться. «Пойдешь на конюшню, там тебя выпорют – будешь замечать!» – приказал штаб-лекарь.
И приказ тут же был приведен в исполнение.
Зимой мужики не знали, как поступать. «Кланяешься – барин кричит – нарочно такие-сякие шапку на вольном воздухе снимаете, хотите простудиться, не работать. Не кланяешься – опять обида». Так и так, розог было не избежать.
В 1839 году крестьяне сговорились порешить «злого барина».
В одно июньское утро штаб-лекарь созывает мужиков и приказывает возить навоз. Трое, живших в Чермошне, не являются на барский зов.
– Почему? – спрашивает Михаил Андреевич.
– Больными сказались, – отвечает староста.
Штаб-лекарь разъяряется, размахивает своей окованной железом дубинкой, кричит:
– Вот я их вылечу!
Кучер тоже вовлечен в дело, но, перепугавшись, чуть было всех не выдал. Он предупреждает барина: «Не езжайте, барин, может, с вами там что приключится».
Старик Достоевский затопал ногами: «Ты хочешь, чтоб я их не лечил? Закладывай живей!»
Кучер рукой махнул и пошел запрягать.
Приехали в Чермошню. На улице доктор заметил трех «больных», слонявшихся без дела.
– Почему на работу не вышли?
– Мочи, – говорят, – нет.
Штаб-лекарь бьет их палкой один раз, другой. Они бегут от него в пустой двор. Он за ними. Когда хозяин вбегает во двор, один из мужиков, Василий Никитин, здоровенный детина со зверской рожей, хватает его сзади за руки. Остальные не двигаются, оцепенев от страха.
– Что же стоите? Зачем сговаривались? – крикнул им Василий. Тут мужики набросились на несчастного, связали его и свалили на землю.
Бить не стали, чтобы на теле не осталось следов. Разжали ему зубы ножом и влили спирт в горло судорожно дергающейся и хрипящей жертвы. А потом в рот забили тряпку, отчего он и задохнулся. Но штаб-лекарь еще дышал. Тогда один из убийц хватает его за гениталии и сдавливает их. Тело пытаемого выгибается, напрягается и обмякает: «Он получил сполна».
Тело барина бросают в телегу. Кучер, помертвев от страха, хлещет лошадей, и телега сломя голову мчится мимо мирных полей.
Тем временем убийц начинает мучить мысль о православном долге перед умирающим. Не должно христианину, каким бы он ни был злодеем, умереть без исповеди и отпущения грехов. Как же быть?
Трое сообщников пристраивают труп штаб-лекаря у подножия дуба и бегут в соседнюю деревню за священником.
Когда священник приходит, Михаил Андреевич еще дышит, но говорить не может. Священник принимает глухую исповедь и последний вздох старика Достоевского. «Что ты с барином сделал?» – спрашивает он у кучера, и тот отвечает: «С ним удар и боле ничего».
Судебное следствие ничего подозрительного не обнаруживает. И родственники спешат замять дело: если бы судьи признали, что совершено убийство, то всех мужиков Чермошни осудили бы и сослали в Сибирь. Убийц бы настигло возмездие, но семья была бы полностью разорена.
О смерти отца Федор Михайлович узнал, когда был на занятиях в Инженерном училище. Месяцем раньше он отослал отцу раздраженное письмо, в котором требовал денег. Накануне еще он, быть может, проклинал скупость и душевную глухоту штаб-лекаря. В те самые мгновения, когда старик Достоевский, изувеченный, с вылезшими из орбит глазами, испускал последний вздох, его сын взбунтовался против него и осыпал упреками в старческом эгоизме. Тень от преступления мужиков пала на Федора Михайловича. Федор Михайлович принял на себя ответственность за убийство, которого не совершал. Как будто это чувство вины, причины которого понятны ему одному, вобрало в себя вину настоящих убийц. Он не виновен по земным законам, он виновен по высшим законам.
Открывшаяся ему жестокая правда ослепила его. Страшный толчок сотряс его, скрутил, бросил на землю. Дикие вопли вырвались из хрипящего, брызжущего слюной рта… Был ли это первый припадок эпилепсии? Может быть. Как бы то ни было, он никогда ни единым словом не обмолвился об этом приступе ни в одном из своих писем.
Но потрясение было слишком велико и не могло пройти бесследно. Следы этого душевного потрясения нужно искать в его книгах. И прежде всего в «Братьях Карамазовых». Смердяков убил старика Карамазова. Но он менее виновен в этом преступлении, чем другой сын – Иван Карамазов, который желал смерти отца, хоть и не убил его своими руками.
«Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был», – говорит Смердяков.
«Хотел ли я убийства, хотел ли?» – допрашивает сам себя Иван Карамазов.
И в «Бесах» Петр Степанович поручил зарезать жену Ставрогина. И Ставрогин берет на себя ответственность за этот акт, которого он втайне желал:
«Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц».
Достаточно молчаливого, самого неощутимого отступления от любви, – и вот мы уже стали сообщниками. Непостижимость власти помысла над действием, конечное торжество материи над мыслью навязчиво преследует Достоевского всю его дальнейшую жизнь.
Законы, диктуемые людям природой, хитроумные выводы естественных наук, отвлеченные схемы математических расчетов нагромождаются друг на друга и из них возводится «каменная стена».
«Разумеется, я не пробью такой стены лбом… но я и не примирюсь с ней потому только, что это каменная стена».
Он не спасует, он пойдет вперед, что бы ни ждало его в будущем. И, преодолев эту стену, попадет в область ирреального, которая и станет подлинной родиной его героев.
Следуя за изуродованным трупом Михаила Андреевича, он вступит в ту странную область, которая уже не является реальностью и которая не есть небытие, где невиновные по земным законам виновны по законам, которых не сформулировать в словах, где поступки не зависят от тех, кто их совершает, где чувства заменяют доказательства, где самые устойчивые убеждения рассеиваются как дым, где ничто не прочно, ничто не закреплено и ничто не может быть судимо заранее. И при каждом новом ударе судьбы он будет все больше удаляться от самоочевидного и все больше приближаться к познанию последней и великой тайны мироздания.
Глава VI Призвание
Достоевский, сдав все экзамены, выпущен из Инженерного училища в чине полевого инженер-поручика, что дает ему право жить на частной квартире.
Сначала он снял небольшую квартиру вместе с товарищем по Училищу А. И. Тотлебеном, а затем огромную квартиру, стоившую 1200 рублей ассигнациями, хотя в ней меблирована всего одна комната, зато лицо хозяина понравилось Федору Михайловичу, – это и решило дело. К тому же его денщик такой славный парень, что жаль распекать его. «Пусть себе ворует, – говорил он, – не разорюсь я от этого».
На деле же он вечно нуждается в деньгах, при том, что жалованье и сумма, которую присылает опекун семьи, муж его тетки, составляют 5000 рублей в год.
В эти годы он ведет беспорядочное, беспокойное существование. Каждое утро он отправляется на занятия в верхний класс Офицерской школы. По вечерам выходит. Он страстно увлекается оперными спектаклями Александрийского театра, особенно восхищается балетом, не пропускает и концерты виртуоза Листа. А после обеда, затворившись в кабинете и выкуривая трубку за трубкой, работает, окутавшись клубами голубоватого дыма. У него землистый цвет лица. Его мучает сухой кашель. На шее вскочили нарывы. Он говорит с трудом, скрипучим голосом. Доктор Ризенкампф, друг обоих братьев, изредка навещает его и приносит лекарства, но Достоевский их не принимает.
В 1840 году в Петербург приезжает Михаил держать экзамен на чин прапорщика полевых инженеров и остается до февраля 1841 года. Перед отъездом в Ревель он устраивает прощальный ужин друзьям, на котором Федор Михайлович читает отрывки из своих драматических опытов «Мария Стюарт» и «Борис Годунов».
Рукописи не сохранились; по словам слушателей, автор сильно подражал Шиллеру и Пушкину.
Михаил возвращается в Ревель и против воли опекуна женится на молодой Эмилии фон Дитмер, рассказами о которой были полны его письма к брату.
Через несколько месяцев у Достоевского поселяется младший брат Андрей, приехавший в Петербург продолжать образование. Федор Михайлович не любит этого бесхарактерного и педантичного юнца. «…у него такой странный и пустой характер, что это отвлечет от него всякого», – пишет он Михаилу.
К счастью, в декабре 1842 года Андрей поступает в Строительное училище, и Федор Михайлович вновь остается в столь дорогом для него одиночестве.
Деньги тают. Достоевский проигрывает крупные суммы на бильярде, к тому же слуги нещадно обкрадывают его. Он едет в Ревель крестить первенца Михаила. Михаил и его жена обеспокоены его болезненным видом и обносившимся платьем. Они снабжают его бельем и одеждой. Просят доктора Ризенкампфа поселиться вместе с Достоевским и приучить его к бережливости и немецкой аккуратности. Ризенкампф соглашается.
Но и совместное проживание не помогает укрепить бюджет Федора Михайловича. Как только появляется пациент нищенского вида, Федор Михайлович отводит его в сторонку, подробно расспрашивает и, благодарность за откровенность, дает ему денег. «Федор Михайлович принадлежит к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые постоянно нуждаются, – пишет Ризенкампф Михаилу. – Его обкрадывали немилосердно».
В один прекрасный день Федор Михайлович входит к доктору с самоуверенным, чуть ли не с гордым видом. Он выглядит счастливым и довольным: он получил из Москвы тысячу рублей.
На следующий день он переступает порог, по своему обыкновению, робко, повесив голову, и просит взаймы пять рублей: большую часть денег он проиграл на бильярде, а остальные украл портной, – он привел его к себе и оставил одного, не заперев ящик, где лежали деньги.
Через некоторое время он, нисколько не наученный горьким опытам, познакомился с неким неудачником без определенных занятий, по происхождению немцем. Он приглашает его к чаю, обеду к ужину, выслушивает его рассказы и записывает кое-что из услышанного, – разумеется, платя за это деньги. Благоразумный Ризенкампф в отчаянии. Но тут из Москвы прислали тысячу рублей, и денежные затруднения Федора Михайловича должны бы кончиться. Увы! На радостях Достоевский отправился в ресторан «У Доменика» и заказал роскошный ужин. После ужина ему захотелось сыграть партию в домино с каким-то подозрительным типом. Сыграв двадцать пять партий, он проигрывает все, до последней копейки. Совершив подобное безрассудство, он занимает деньги у ростовщика под огромные проценты, урезывает рацион до хлеба и молока и героически отказывается от посещения театров.
Тем временем Федор Михайлович сдал выпускные экзамены, закончив полный курс наук в Офицерской школе, и в чине подпоручика зачислен на службу в Петербургскую инженерную команду «с употреблением при чертежной Инженерного департамента».
Идет август 1843 года. Месяцем раньше, 17 июля 1843 года, в Петербург приехал Бальзак для встречи с мадам Ганской – они не виделись семь лет.
Присутствие в столице писателя, которого он давно уже считал своим учителем, до того разжигает восхищение Достоевского автором «Человеческой комедии», что он без промедления берется за перевод на русский язык романа Бальзака «Евгения Гранде».
«Я перевел „Евгению Grandet“[16] Бальзака (чудо! чудо!), – сообщает он брату. – Перевод бесподобный. – Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ассиг<нациями>… Ради ангелов небесных, пришли 35 руб. ассиг<нациями> (цена переписки). Клянусь Олимпом и моим „Жидом Янкелом“ (оконченной драмой) и чем еще? разве усами, кои, надеюсь, когда-нибудь вырастут, что половина того, что возьму за „Евгению“ будет твоя, – Dixi»[17].
Тем временем доктор Ризенкампф уезжает из Петербурга, так и не приучив Достоевского «к немецкой аккуратности и практичности». Что за важность! После отъезда доктора огромная новость утешает Достоевского: «Евгения Гранде» будет опубликована в журнале «Репертуар и Пантеон». Но издатель сократил рукопись на треть. «Предательство!» – возмущается Достоевский.
На самом деле это он предал Бальзака своим переводом. Со страстной отвагой он набросился на текст «Евгении Гранде» – и не смог ограничиться точной передачей оригинала. Его зажигали чувства, выраженные в этом произведении, накаляли эпитеты, возбуждала экстравагантная атмосфера, в которой развертывалась простая история провинциальной барышни. «Страдания» Евгении под его пером превращались в «глубокое и жестокое мученичество». Ее лицо, по словам Бальзака, «озаренное солнцем, точно только что распустившийся цветок», у Достоевского было «облито райским светом». Ведь так куда выразительнее, не правда ли? Он доволен своей работой и советует брату перевести с немецкого «Дон Карлоса» Шиллера. Михаил переводит.
«Я получил „Дон Карлоса“, – пишет ему Федор, – и спешу отвечать как можно скорее (времени нет). Перевод весьма хорош, местами удивительно хорош, строчками плох; но это оттого, что ты переводил наскоро. Но, может быть, всего-то пять, шесть строчек дурных. Я взял смелость кое-что поправить, также кой-где сделать стих позвучнее… Я отнесу его этим дуракам в „Репертуар“. Пусть рты разинут… За мелочь не продам, будь покоен».
Он загорается новым проектом: издать полное собрание сочинений Шиллера тремя выпусками: «Насчет издателей посмотрим. Но штука в том, что гораздо лучше самим».
На листочке бумаги он торопливо прикидывает расходы: столько-то на бумагу, столько-то на обложку, на печатание, на брошюрование… Как будто все учтено. И тем не менее затея проваливается. В чем причина? Да в его службе чиновника, черт возьми!
30 сентября 1844 года он пишет брату Михаилу:
«Ну, брат… я в адских обстоятельствах; вот я тебе объясню: Подал я в отставку, оттого что подал, то есть, клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром… А наконец, главное: меня хотели командировать – ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга».
Однако он по уши в долгах и понятия не имеет о том, как заработать на жизнь.
«…(я написал домой, что долгов у меня 1500 руб., зная их привычку присылать 1/3 чего просишь). Если свиньи-москвичи промедлят, я пропал».
Он не ошибся. Через пару месяцев он напишет: «Я получил от москвичей 500 руб. сереб<ром>». Этих денег не хватило на уплату долгов и на расходы. Он на мели. Он мечется, хватается то за одно, то за другое, путается в сумбурных проектах переводов, переделок.
«Писать драмы – ну, брат. На это нужны годы трудов и спокойствия, по крайней мере для меня».
Он согласился отказаться от своей доли наследства за немедленную выплату 500 руб. серебром. Он согласился бы за несколько грошей продать душу дьяволу. Снова он переходит на хлеб, молоко, чай, переселяется в неотапливаемую комнату, живет один.
Однажды он случайно встречает на улице бывшего товарища по Училищу Григоровича. Друзья радостно обнимаются. Достоевский рассказывает, что вышел в отставку, что его планы неопределенны, а надежды смутны. Зато Григорович хвастается своими успехами: он пишет, печатается, получает гонорары. Этот красивый, элегантный молодой человек с изящными манерами и легко льющейся речью ослепляет Достоевского. А Григорович покорен одержимостью своего товарища. Один остроумен, легкомыслен, говорлив. Другой молчалив, беспокоен, страстен. При этом они понимают друг друга с полуслова и прекрасно ладят. Григорович зазывает Достоевского к себе и читает ему рукопись очерка «Петербургские шарманщики», который он только что закончил. Восторги. Поздравления. Клятвы. Проекты. Отныне друзья неразлучны, снимают квартиру и поселяются вместе. Денег хватает только на первую половину месяца.
Достоевский дни и ночи просиживает за письменным столом, но ни слова не говорит о том, что пишет. Григорович наблюдает, как растет на столе кипа листов бумаги, исписанных мелкими, бисерными, точно нарисованными, буквами. Впоследствии он найдет сходство между почерком Достоевского и почерком Александра Дюма.
Время от времени Достоевский, устав писать, откладывает перо, пьет чай и берется за книгу: какой-нибудь роман Жорж Санд или «Записки Демона» Фредерика Сулье… Иногда Григоровичу удается уговорить его прогуляться. Он соглашается. Но свежий воздух, свет и шум улиц кажутся ему непереносимыми. У него кружится голова, он бледнеет, опирается на руку друга, и тот в фиакре отвозит его домой.
Как-то утром, выйдя на прогулку, они встречают похоронную процессию. Священники несут кресты и хоругви. За ними идут певчие. Дальше медленно двигаются запряженные лошадьми похоронные дроги. Гроб открыт, и видно серое, точно резиновое, лицо покойного. Погребальный бумажный венчик со словами молитвы закрывает лоб. В застывших руках он держит маленькую иконку. Достоевского охватывает дрожь, он резко отворачивается, хочет повернуть назад, но через несколько шагов с ним делается сильнейший припадок, и он падает, потеряв сознание. Сбегаются прохожие. С их помощью Григорович переносит больного в ближайшую лавку. С трудом удается привести его в чувство.
В дни, последовавшие за припадком, Достоевский мрачен, угнетен. Он с трудом говорит, ничего не ест, не прикасается к перу.
Наконец он снова берется за рукопись. Над чем он работает? Один только брат Михаил посвящен в тайну. Федор Михайлович пишет в Ревель: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме „Eugénie Grandet“[18]. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю».
24 марта 1845 года он пишет: «Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки».
Он не торопится публиковать роман, тщательно его отделывая.
«…в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен… я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить, крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит все. Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов».
И упрекает брата, не одобрявшего его исступленную страсть к поправкам: «Участь первых произведений всегда такова, их переправляешь до бесконечности… Пушкин делал такие переправки даже с мелкими стихотворениями. Гоголь лощит свои чудные создания по два года».
Закончив книгу, он хлопочет о ее публикации. Но: «Отдавать вещь в журнал значит идти под ярем… Диктаторов не один: их штук двадцать. Напечатать самому значит пробиться вперед грудью».
Он прислушивается к мнению нескольких сведущих друзей, отсоветовавших ему издавать книгу самому: «Как вы будете публиковать о нем?.. книгопродавец… не станет себя компрометировать объявлениями о неизвестном писателе».
Достоевский смиряется и готов предложить свое детище «Отечественным запискам». И заранее настраивается на неудачу: рукопись отвергнут, критики обругают, его не поймут. Как смогут его понять, если он не уверен, что сам себя понимает.
«А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уж думал обо всем. Я не переживу смерти моей idée fixe»[19].
Эта «навязчивая идея», о которой он ни разу не упомянул в своих письмах и которая называется «Бедные люди», и станет его первым романом.
Как согласовать литературные пристрастия Достоевского, его доходившую до одержимости любовь к лиризму, его восторги перед «прекрасным и высоким», перед звучным и патетическим с простотою истории, рассказанной в «Бедных людях»?
С одной стороны, Шиллер («мне больно, когда услышу хоть имя Шиллера»), Виктор Гюго («никто не сравнится с ним»), Корнель («так только говорят оскорбленные ангелы»), Расин («Расин и обокрал Гомера, но как обокрал!»), Жорж Санд («когда я прочел в первый раз ее… Я помню был потом в лихорадке всю ночь»), Вальтер Скотт («каким образом… мог в несколько недель писать такие, вполне оконченные создания, как „Маннеринг“»), Шекспир, Пушкин, Ламартин, Байрон с целым набором благородных любовей, грандиозных преступлений, элегических стенаний, с другой – нищий переписчик Девушкин, одетый в потертый мундир, ютящийся в убогой каморке, чье существование согревает только нежная привязанность к девушке, живущей в одном с ним доме.
С одной стороны, гром оркестра, передающего бурю страстей, с другой – одинокая мелодия флейты, негромко поющей о единственной привязанности.
Какие тайны алхимии переплавили романтические и классические «накопления» в однотонную и нежную ткань «Бедных людей»? Какая чудодействейная операция «сократила» благородных разбойников и луноликих принцесс до крохотных размеров безвестной горожанки? Какая волшебная машинерия превратила театральное великолепие венецианских дворцов в угрюмые петербургские трущобы с их грязными чердаками и мрачными притонами?
Конечно, Достоевский восхищался Бальзаком и Гоголем – создателями новой реалистической литературы. Но включал ли он их персонажи в состав армии «возвышенных героев»? По-видимому, нет. Разве не испытывал он потребности возвеличить любовь Евгении Гранде, когда взялся переводить ее историю? Разве не завершил он свою адаптацию Бальзака торжественным гимном в честь дочери города Сомюра, уподобив ее божественной статуе, вышедшей из рук «вдохновенного художника Древней Греции»? Характеры, выведенные Бальзаком, он, со своей художественной точки зрения, находил тусклыми. И сам создал характеры еще более тусклые! Изменилась ли за несколько месяцев художественная концепция Достоевского? Или же совершился переворот как в его литературном творчестве, так и в его чувствах?
Представим себе подростка, воспитанного в Инженерном замке. Он упивается поэзией и романами: он воображает себя «то Периклом, то Марием, то христианином времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа „Монастырь“ Вальтера Скотта. Он объявляет себя другом поэта Шидловского („Ведь я волкан! Огонь – моя стихия!“)».
Он проливает слезы над элегиями брата. Он неискушен в жизни. За стенами Училища, как раньше за стенами Мариинской больницы, он живет в мире очаровательных и светлых грез, не подозревая, что когда-нибудь очнется от них. И вот двери распахиваются.
Перед ним Петербург – его шумные улицы, новые дворцы, административные здания, набитые писцами, а по соседству с элегантными кварталами – дома-казармы, где ютятся отверженные: мелкие чиновники, процентщики, мастеровые, проститутки и студенты. Грязные кабаки, где стоит смрад от табака, горелых тряпок, помоев. Тупики, освещенные единственным фонарем, криво торчащем на столбе. Редкие лавки, куда горластые мегеры, стоя на пороге и держа в руках стакан чая, зазывают клиентов.
Стены этого построенного на болоте города сочатся липкой влагой. Молочно-белый туман придавливает крыши. Рыхлый снег скрипит и скользит под ногами. Прохожие торопятся. Они хмуры, обременены заботами. Их мысли вертятся вокруг контор, продвижения по службе, обогащения. Достоевский бродит среди них подобно сомнамбуле, погруженный в романтические мечтания. Но мало-помалу он освобождается от них. Глаза его раскрываются. В «Петербургских сновидениях» он рассказывает, как на берегу Невы на него сошло озарение, – он прозрел.
Стоял двадцатиградусный мороз. На город спустилась ночь. Из ноздрей лошадей, запряженных в фиакры, валил пар. Реку сковал толстый слой льда, сверкавшего на солнце, точно сахар. Направо здание Адмиралтейства, его игла вознеслась в холодное, окрасившееся в бледно-розовые и желтоватые тона небо. С колонн зданий Сената и Синода свисали сосульки.
«Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне… Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование».
Кого же увидел он в мире, в котором оказался, пробудившись от своих сновидений?
«Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы[20], а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники».
Да, все эти чиновники, уткнувшие замерзшие носы в воротники, эти девушки, прячущие руки в потертых муфтах, быть может, испытывали чувства ни в чем не уступающие чувствам благородных рыцарей и прекрасных принцев. Канцелярские крысы, больные девчонки, старики-маньяки, запойные пьяницы – все они хранили в душе свои тайны: свою страсть, свою преданность и, быть может, свое преступление.
«Честь и слава молодому поэту, Муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: „Ведь это тоже люди, ваши братья!“» – напишет критик Белинский.
«Все люди – братья!» – вдруг осеняет Достоевского в приливе блаженного восторга. Рушатся декорации роскошного Востока, проваливаются в люки герои мировой истории. Вместо них приближаются к нему, толпятся вокруг него, обступают его со всех сторон совсем иные существа, существа униженные, оскорбленные, обездоленные – бедные люди.
«И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с тем какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».
Достоевский нашел свой собственный путь.
Глава VII «Бедные люди»
«Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе».
Достоевский сидит на диване, перед ним на небольшом письменном столе лежит объемистая мелко исписанная тетрадь – рукопись «Бедных людей».
Григорович снедаем любопытством. Он всегда восхищался Достоевским и всегда огорчался, что его товарищ – знаток литературы, умный, чувствительный – до сих пор не написал ничего, кроме нескольких драматических опытов, не имеющих будущего. «…мне часто приходило в голову, – вспоминает Григорович, – как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части».
И далее Григорович рассказывает, чем стало для него чтение Достоевским «Бедных людей». Он, несомненно, ждал, что и новое произведение будет подражанием вроде «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова», но с первых же прочитанных Достоевским фраз понял, что заблуждается.
«…вдруг такие будни, – напишет Достоевский в „Униженных и оскорбленных“, – и все такое известное – вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского[21]; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались».
Роман написан в форме писем.
В нем два персонажа: Девушкин, безвестный пожилой чиновник, малообразованный, бедный и очень добрый, добрый до самоотречения, до полного забвения себя.
Напротив его комнаты через двор живет его дальняя родственница Варенька. Из страха перед сплетнями она не приглашает его к себе и сама не приходит к нему.
И они переписываются.
Она несчастна. И он несчастен. Он окружает ее отеческой любовью, застенчивой, нежной – очаровательной. Она старается развивать ум своего старшего друга, ибо она образованна. Она читала. Она размышляла. Она описывает пережитые невзгоды умно и без жалоб. Она рассказывает о своей жизни: о своей детской безропотности, о внезапно вспыхнувшей любви к умиравшему от чахотки студенту, о его смерти, о своем страхе, о беззащитности перед жизнью.
Девушкин наслаждается перепиской. Теперь он не одинок. Ему есть для кого жить. Есть для кого трудиться, ради кого жертвовать собой. Трепеща от радости, он продает свое последнее платье, берет на дом переписку, влезает в долги, лишь бы послать лакомства и цветы своей молодой подруге. Но нищета подкарауливает его. Его мундир в заплатах, сапоги прохудились. А Варенька заболевает. И соседи подозревают их в двусмысленных отношениях. «…черт с младенцем связались», – говорит хозяйка. Сочинитель, живущий в том же доме, прозвал Девушкина Ловеласом[22]. А сторож в канцелярии, где служит Девушкин, не уважает его.
«Ведь меня что, Варенька, убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские, все эти шепоты, улыбочки, шуточки».
Да и как будут они уважать его, если сапоги его стоптаны, а мундир протерся на локтях?
«…а ну как из начальства-то кто-нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варенька, беда, просто беда!»
И точно: «Его Превосходительство» вызывает Девушкина из-за ошибки в переписанной бумаге. Когда Девушкин ни жив ни мертв предстает перед ним, неожиданно от его мундира отрывается пуговица и катится к ногам генерала. Вся репутация погибла, доброе имя опорочено! Сейчас его отчитают, выгонят! Но «Его Превосходительство», растроганный жалким видом своего переписчика, расспрашивает его, пожимает ему руку и дарит сторублевую.
«…клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что Его Превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили!»
Ибо, заглушая свое отчаяние, он стал пить. Теперь он богат. Он может воспрянуть духом.
Недолго он радовался. Некий господин, достаточно богатый, хоть и сомнительного поведения, хочет жениться на Вареньке. Она, измученная болезнью, устав бороться с бедностью и лишениями, соглашается. И тогда-то и начинается для Девушкина настоящее мученичество.
Варенька, такая степенная, такая серьезная, приходит в восторг от мысли обо всех покупках, которые предстоит сделать, чтобы приготовить приданое. Суетность, неестественная беспечность наполняют ее последние письма. Будущий супруг дает ей денег на туалеты, на украшения, и Варенька с простодушной жестокостью поручает Девушкину делать покупки.
«Скажите мадам Шифон… буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром!.. Передайте ей, ради бога, чтоб листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой».
Девушкин, вне себя от горя, теряется в дебрях шифонов, пуговиц и тесемок. Однако по доброй воле, хоть и в слезах, бегает по поручениям то к модисткам, то к ювелирам, то к меховщикам.
«Да еще, вы там фальбалу написали, так она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила».
И вот Варенька обвенчана. И в прощальном письме Девушкин, до сих пор не проронивший ни слова жалобы, дает волю своему отчаянию. Он захлебывается словами. Торопится, спешит излить свое сердце, открыть, как любил своего ангельчика Вареньку и какую ужасающую пустоту оставит ее отъезд в его жизни. Книга заканчивается воплем:
«…а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно последнее! Да нет же, я буду писать, да и вы-то пишите… А то у меня и слог теперь формируется… Ах, родная моя, что слог! Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не знаю, и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вам написать побольше… Голубчик мой, родная моя, маточка моя!»
Конечно, «Бедные люди» вдохновлены «Шинелью» Гоголя. Этот заурядный титулярный советник, приученный почитать начальство и быть прилежным в «переписывании», этот обезличенный житель Петербурга, над которым издеваются сослуживцы, задавленный бедностью, робкий, безропотный, с евангелической кротостью покорившийся своей судьбе, – младший брат несчастного Акакия Акакиевича, которого обессмертил Гоголь. Но герой Гоголя только убог и смешон. Он и интересен именно своей полной ничтожностью. Макар Девушкин Достоевского в своем роде замечателен. Его великодушие, преданность, скромность, достоинство, которое он проявляет в несчастье, возносят его на редкую нравственную высоту. Смешное не убивает его, наоборот, – высвечивает его достоинства. Его незначительность кончается там, где начинается область сердца. Он страдает, и это страдание спасает его образ от карикатурности.
Его окружают влачащие жалкое существование второстепенные персонажи, среди них выделяется отец чахоточного студента Покровского. Этот старик-пьяница, врун, подлец, питает к сыну беспредельную нежность, преклоняется перед его ученостью и стремлением к независимости. Отцовская любовь и покорность судьбе после постигшей его утраты искупают его дурные наклонности.
«С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно… Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну».
Другой пример из «Бедных людей» – жилец Горшков. Он втянут в тяжбу, от исхода которой зависят его честь, состояние, вся его будущность. Приговор вынесен – он оправдан. Выиграв процесс, он не может найти себе места. Он пристает к людям, бормоча странные слова: «Честь, моя честь, доброе имя, дети мои».
И не вынеся своего торжества, умирает той же ночью.
Таким образом, в первом же романе Достоевского затронуты все второстепенные темы, выведены все второстепенные персонажи его будущих произведений. Труппа статистов полностью укомплектована. Опустившегося отца семейства, к которому дети относятся с жалостью, смешанной с презрением, мы узнаем в Мармеладове из «Преступления и наказания», в старике Карамазове из «Братьев Карамазовых», в генерале Иволгине, «отставном и несчастном», из «Идиота». Из романа в роман переходят эти бравые пьяницы – не зря же сначала Достоевский хотел дать название «Пьяненькие» роману «Преступление и наказание». Старика, повесившегося после завершения судебного процесса, преисполнившегося гордости после самого глубокого унижения, мы встретим в образе Ихменева из «Униженных и оскорбленных». Порочные богачи, лорнирующие «оскорбленных жизнью» девушек, – это Лужин, это Свидригайлов из «Преступления и наказания».
Все или почти все присутствуют в этом первом призыве. Пусть характеры едва намечены, пусть силуэты бегло обрисованы, – автор пока примеривается к ним. На листах бумаги он пробует перо, экспериментирует, подыскивая слова, оттачивая фразы, подобно тому, как акварелист подбирает краски, пробуя их на краю палитры.
Позже он поверит в свою силу. Будет крупнее видеть. Свободнее наносить краски. Из тщательно подготовленной в «Бедных людях» живописной манеры он извлечет мощь грандиозных полотен, написанных в эпоху «великих романов». Из первых неуверенных аккордов, взятых еще не окрепшей рукой, возникнет чудодейственная симфония «Братьев Карамазовых».
Придет время, вызреют основные темы творчества Достоевского, и он создаст свои великие произведения. Ибо Девушкин и Варенька еще замкнуты на самих себе. У них нет неба над головой, они не отбрасывают тени. Они страдают, но их мучения моральны, социальны, материальны – это земные мучения. Им незнакомы метафизические сомнения. Они живут в мире, где «дважды два равняется четырем». Роли распределены, но среди действующих лиц отсутствует один персонаж – Бог. Достоевский пройдет через испытания эшафотом и Сибирью, и тогда в его мире появится глубинный план.
Как бы там ни было, «Бедные люди» потрясли Григоровича. Достоевский читает, а Григорович прерывает чтение восторженными восклицаниями и несколько раз порывается кинуться ему на шею. Когда отзвучала последняя фраза, Григорович бросается в объятия автора и умоляет его доверить ему рукопись. Он отнесет ее поэту Некрасову, который собирается издавать журнал. Он горячо ее поддержит. Он уверен в успехе.
Странный малый, этот Некрасов! Его отец, отставной армейский офицер, предназначал сына для военной службы. Некрасов ссорится с ним и определяется вольнослушателем в университет. Семья лишает его всякой материальной поддержки. Юноша ведет в Петербурге полуголодное существование. Ворует хлеб в трактирах. Ночует в ночлежках. Его честолюбие безгранично. С похвальным упорством он за гроши пишет для захудалых журналов заметки, сказки, стихи.
Его стихотворение «В дороге» восхищает Белинского. Знаменитый критик ободряет начинающего поэта, дает ему советы, вводит в среду литераторов. Возвышение Некрасова стремительно. Этот «печальник народного горя» обладает замечательным практическим умом.
Некрасов, скажет о нем Белинский, «никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер… он… человек, у которого будет капитал, который будет богат».
И в самом деле, тот самый Некрасов, который пишет:
Я призван был воспеть твои страданья, Терпеньем изумляющий народ! И бросить хоть единый луч сознанья На путь, которым Бог тебя ведет,тот самый Некрасов, сравнивающий свою Музу с иссеченной в кровь кнутом крестьянской девушкой, сострадающий бурлакам, горько оплакивающий мужика, отморозившего себе нос, обличающий малые и великие беды Руси, – тот самый Некрасов не очень-то красиво пробивает себе дорогу в общество. Посещает салоны, заводит дружбу с писателем Панаевым, поселяется у него в доме, отбирает у него жену, с которой проживет пятнадцать лет, да еще добивается у обманутого мужа финансирования журнала, содиректорами которого они оба становятся. Лирическое чувство пролетария и деловая хватка дельца не уничтожают в нем друг друга, а мирно уживаются. «Игрок», – говорили враги. «Неведающий, что творит», – отвечали друзья.
Когда Григорович приносит ему «Бедных людей», Некрасов настроен скептически. Он озабочен, рассеян. Но снисходит до согласия выслушать десяток страниц: «С десяти страниц видно будет».
Григорович начинает читать.
Десять страниц, двадцать, тридцать… Некрасов его не прерывает. А в сцене похорон умершего от чахотки студента он от восторга разражается бранью. Когда доходят до прощального письма, Григорович начинает всхлипывать, украдкой бросает взгляд на Некрасова, – по лицу поэта текут слезы. Ибо этот бессовестный карьерист молод сердцем и еще способен легко растрогаться и проливать слезы умиления.
Григорович горячо убеждает его тотчас же отправиться к Достоевскому и сообщить ему об успехе.
«– Но ведь ночь на дворе. Он, наверное, спит.
– Что же такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна».
Достоевский не спал.
Он провел всю ночь у товарища, и они в сотый раз читали «Мертвые души» и в сотый раз говорили о них. Он вернулся домой в четыре часа утра в белую, светлую весеннюю петербургскую ночь.
Войдя в свою квартиру, он не лег спать, а отворил окно и сел у окна, устремив взгляд на небо, чистое, гладкое, бескрайнее, излучавшее мягкий золотистый свет.
Дома, окутанные предрассветной мглой, погружены в сон. Прохожие редки. Федор Михайлович не вполне уверен, что пребывает в реальном мире. Он ощущает, что находится на переломе жизни. И ждет, когда взойдет солнце.
Звонок в дверь. Он вздрагивает. Встает, открывает. На пороге Григорович и незнакомый мужчина. Достоевский бледнеет, смущается, а посетители бросаются обнимать его, что-то выкрикивают, жмут его руки. Они прочли его книгу, они в восторге от нее: «Это гениально! Гениально!»
Достоевский, ошеломленный, сияющий от радости, долго не может вымолвить ни слова.
Они остаются полчаса, говорят о поэзии, о правде, о политике, о театре, то и дело цитируют Гоголя, ссылаются на авторитет Белинского.
«Я ему сегодня же снесу вашу повесть, – восклицает Некрасов, – и вы увидите – да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!.. Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!»
Они уходят. Достоевский и не думает о сне. «Точно я мог заснуть после них! – замечает он в „Дневнике писателя“. – Какой восторг, какой успех, а главное – чувство было дорого, помню ясно: „У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна… Ах, хорошо!“»
До самого утра Григорович, ворочаясь без сна на диване, слышит, как нервно ходит взад и вперед по комнате взволнованный Достоевский.
На следующий день Некрасов, выполняя свое обещание, относит рукопись Белинскому и с порога кричит: «Новый Гоголь явился!» «У вас Гоголи-то как грибы растут», – строго замечает Белинский, но соглашается просмотреть рукопись. А это уже немалый успех, потому что в ту эпоху Белинский – властитель дум, великий критик, его приговора страшатся, его суждения непогрешимы.
Этот хилый немощный человек, живущий в скромной квартире, кашляет, харкает кровью и знает, что дни его сочтены. Его сжигает внутренний огонь, а приступы гнева, которым он подвержен, сотрясают общественное мнение. Он то возносит, то ниспровергает в зависимости от внезапных поворотов в своих убеждениях. По выражению Достоевского, «это был самый торопившийся человек в целой России».
Да, человек самый торопливый, самый пламенный – «неистовый Виссарион». Он в спешке завершает свое образование, безудержно увлекается разного рода теориями и, ни одну не усвоив, отрекается от них, вновь к ним возвращается и беспрерывно терзается сомнениями. В ранней юности он бросается очертя голову в идеализм. Признает теорию искусства для искусства, уход в мир внутренней жизни, безучастность высшего существа к страданиям мира. Но мало-помалу эта разреженная атмосфера начинает его тяготить. Он не может более довольствоваться литературой. Он не может более довольствоваться самим собой.
«…искусство задушило было меня, – пишет он другу, – но при этом направлении я мог жить в себе и думал, что для человека только и возможна, что жизнь в себе, а вышед из себя (где было тесненько, но зато и тепло), я вышел только в новый мир страданий».
Он поворачивается лицом к действительности, к народу. Всецело отдается социальным проблемам. Нестерпима, несправедлива судьба русского народа, и долг писателя обличать нищету крестьянина. Любая книга ценна, если посвящена гуманности. Талант ценен, если он полезен.
Вокруг него образуется партия «западников», противостоявшая партии «славянофилов».
Отныне он клянется только французскими социалистами и призывает только к прогрессу науки. Пушкин, которым он когда-то безгранично восхищался, представляется ему салонным версификатором, ведь написал же он:
Ночной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь!Тургенев вспоминает:
«И конечно, – твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол, – конечно дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю, – и прежде чем любоваться красотой истукана… – мое право, моя обязанность накормить своих – и себя, назло всяким негодующим баричам и виршеплетам!»
Одна его любовь к Гоголю оставалась как будто бы незыблемой. Увы! Когда Гоголь опубликует «Выбранные места из переписки с друзьями», Белинский задохнется от негодования.
В этом авторе, которого он «обожал» потому, что его книги обличали пороки современного общества, он вдруг разглядел отсталого мистика, закоренелого славянофила, варвара. Критик пишет писателю пространное, брызжущее ненавистью послание, – и это послание, по неисповедимому сплетению судеб, сыграет роковую роль в жизни Достоевского.
«Да, я любил вас со всею страстью, – пишет Белинский Гоголю, – с какой человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса… Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах… Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди… а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре… Взгляните себе под ноги, – ведь вы стоите над бездною».
Тогда, в 1845 году, Гоголь еще не опубликовал «Переписку», и Белинский ревниво, с материнской нежностью оберегал его имя.
«Новый Гоголь явился!» Да они смеются над ним!
На следующий день хроникер Анненков приходит к Белинскому с визитом и, проходя по двору, видит Белинского, стоящего у окна с большой тетрадью в руках. Заметив его, Белинский кричит: «Идите скорее, сообщу новость» и продолжает: «Вот от этой самой рукописи… не могу оторваться второй день. Это – роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли – еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит».
И Белинский принимается возбужденно читать особенно поразившие его места.
Вечером Некрасов заходит узнать новости. Белинский встречает его словами: «Приведите, приведите его скорее!»
Так, спустя всего три дня после чтения рукописи Григоровичу, Достоевский представлен самому пламенному обозревателю русской литературы.
Тургенев оставил портрет критика:
«Я увидел человека небольшого роста, сутулового, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлял в одно и то же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диване, бегая глазами по полу и перебирая табакерку в маленьких и красивых ручках».
Таким, без сомнения, увидел его и угрюмый, застенчивый, серьезный Достоевский. Белинский быстро его расшевелил.
Позже Достоевский так расскажет о встрече с Белинским:
«Да вы понимаете ль сами-то, – повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, – что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник – ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать… Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!»
Достоевский ошеломлен, упоен. Голова его идет кругом. Чувства переполняют его: хочется кого-нибудь обнять, кого-то благодарить, кому-нибудь поклясться в вечной дружбе. Он выходит на улицу, но не в силах сделать ни шагу. Он останавливается на углу, смотря «на небо, на светлый день, на проходивших людей». У него нет с ними больше ничего общего. Один поворот судьбы, и он перенесен в иной мир и оттуда с высоты смотрит на них, точно на муравьев.
«И неужели вправду я так велик», – стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда – разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди… Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду „верен“!.. мы победим; к ним, с ними!»
Но недолго он оставался «на их стороне».
Конечно, Белинский восторгался «Бедными людьми», но он толковал книгу на свой манер. Он видел в ней всего лишь прекрасную иллюстрацию к своим социальным идеям. «Дело тут простое, – объясняет он Анненкову, – нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, – а какая драма, какие типы!»
Он не заметил положительные черты персонажей. Его не тронули их безропотность, их молчаливая покорность, их деятельная доброта. Он не угадал, что Макар Девушкин нечто большее, чем просто жертва, ибо добровольно, сам выбрал для себя этот удел. Он увидел в «Бедных людях» повод для пробуждения чувства гражданственности, но не увидел призыва любить человека. Он возмущался палачами – и забыл восхититься мучениками.
Неважно. В тот момент и критик, и автор были без ума друг от друга. Белинский всем, кто был готов слушать, расхваливает недавно открытого писателя. У него это становится навязчивой идеей.
«…нашли новую звезду, какого-то Достоевского, которого ставят чуть ли не выше Гоголя», – иронически замечает Аксаков.
Глава VIII Салоны
«Бедные люди» еще не опубликованы, а молодого автора, стараниями Белинского, с симпатией и любопытством встречают в литературных кругах. Устраивают чтения его романа. Приглашают в светские гостиные. Достоевский совершенно теряет голову: заказывает у Циммермана цилиндр – модный головной убор, покупает тонкое белье, новое платье – воображает себя новым Растиньяком[23] и всех вокруг находит очаровательными:
«Нужно тебе знать, – пишет он брату, – что Белинский недели две тому назад прочел мне полное наставление, каким образом можно ужиться в нашем литературном мире… Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих… а о „Бедных людях“ говорит уже пол-Петербурга. Один Григорович чего стоит! Он сам мне говорит: „Je suis votre claquer-chauffeur“».[24]
Это письмо датировано 8 октября 1845 года.
16 ноября 1845 года «Бедные люди» еще не вышли из печати, но упоение Достоевского разрастается до помутнения рассудка.
«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского? Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что „Достоевский не захочет сделать Вам чести осчастливить Вас своим посещением“. Оно и действительно так: аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать… Ну, брат, если бы я стал исчислять тебе все успехи мои, то бумаги не нашлось бы столько».
Наконец Достоевский сообщает брату великую новость: он познакомился с Тургеневым:
«Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, – я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе… У меня бездна идей; и нельзя мне рассказать что-нибудь из них хоть Тургеневу, н<а>п<ример>, чтобы назавтра почти во всех углах Петербурга не знали, что Достоев<ский> пишет то-то и то-то».
Он опьянен собой – молодым модным автором – и вертится перед зеркалом, точно впервые вырядившийся юнец. Он переполнен счастьем, наивным и невыносимо самодовольным. И это вполне естественно. Стоит только вспомнить об его одиночестве, о терзавших его сомнениях. Недавно еще он был никому не известен, писал, будто брел в тумане, не веря, что кто-нибудь оценит его творение. И вот день за днем незнакомые люди читают его, понимают его, восхищаются им, ищут знакомства с ним. Поистине худший из фатов тот, кто долгое время был лишен права им быть.
Впрочем, эта бравада чисто эпистолярная. Как только он остается наедине с рукописью, к нему возвращается его врожденная неуверенность. Он боится оказаться недостойным той роли, которую ему приходится играть. Он догадывается, что плутует неумело, и все замечают его неуклюжие маневры и смеются над ним.
Граф Соллогуб, прочитав «Бедные люди», поехал к Достоевскому. Он вспоминает:
«Я…нашел в маленькой квартире… молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивительное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое старомодное кресло… Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать. Достоевский просто испугался… и только месяца два спустя решился однажды появиться в моем зверинце».
Испуган – вот точное слово: Достоевский самоупоен и одновременно испуган. Слишком уж прекрасно все происходящее, слишком внезапно и легко все произошло. Он в самообольщении, в ослеплении. Готов обниматься с врагами. Открыт всему миру и не понимает, как можно не любить его, если он сам любит всех, любит весь мир.
«Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного».
А между тем на музыкальном вечере у графа Вильегорского, куда привел его Белинский, он ясно осознает, что «выставлен на всеобщее обозрение». Когда на том же вечере Белинский нечаянно разбивает стакан, Федор Михайлович слышит, как графиня Соллогуб вполголоса произносит: «Они не только неловки и дики, но и неумны».
В довершение всего он узнает, что кое-кто из его собратьев по перу обвиняет его в том, что он будто бы потребовал текст «Бедных людей» в сборнике обвести особым типографским знаком – каймой.
Несколькими годами позже Тургенев предостережет Леонтьева от чрезмерного самолюбия, которым страдают некоторые молодые писатели.
«Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: „Знаете, – мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!“»
Эта история до сих пор остается неясной. В 1880 году незадолго до смерти Достоевский все еще вынужден с негодованием публично опровергать эту легендарную сплетню.
Однако Анненков настаивает на том, что видел корректуру первых оттисков книги с рамками, что «Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе»[25], и даже сам Григорович не решался возражать против этого утверждения. Однако вышедшая из печати книга вообще не имела никаких орнаментальных украшений.
Все же возможно, что Достоевский, избалованный неумеренными похвалами, в самом деле пожелал, чтобы его произведение представили в особой – новой типографской форме. Никакое бахвальство с его стороны не должно удивлять в ту эпоху. Нервы его были напряжены до предела. Он плохо понимал, что делает, сам не знал, чего хочет. Он был как в чаду.
«Одного, произведенного таким образом в кумиры, курением и поклонением перед ним мы чуть было даже не свели с ума, – пишет Панаев. – С этой минуты кумирчик наш стал совсем заговари<ва>ться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт. Бедный! мы погубили его, мы сделали его смешным».
На одном из светских приемов Достоевского представляют молодой великосветской красавице мадам Сенявиной. Он стоит перед хорошенькой девушкой с по-детски пухлыми губками, с пушистыми локонами светлых волос, со спокойным взглядом холодных глаз. Она готовится сказать ему обычные комплименты о его романе, но он вдруг бледнеет, шатается и падает без чувств. Его переносят в соседнюю комнату, обрызгивают одеколоном.
Некоторое время спустя Тургенев («Тургенев влюбился в меня») и Некрасов («поэт униженных») сочиняют пасквиль в стихах, отнюдь не упустив этот эпизод.
Витязь горестной фигуры, Достоевский, милый пыщ, На носу литературы Рдеешь ты, как новый прыщ. За тобой султан турецкий Скоро вышлет визирей. Но когда на раут светский, Перед сонмище князей, Ставши мифом и вопросом, Пал чухонскою звездой И моргнул курносым носом Перед русой красотой, Как трагически недвижно Ты смотрел на сей предмет И чуть-чуть скоропостижно Не погиб во цвете лет.Эти «братишки по перу» при поддержке Анненкова распространяют позорящие Достоевского анекдоты.
Знает ли он об этом или притворяется, что не знает? Во всяком случае, он продолжает их посещать.
Его приглашают к Панаевым. Он готовится, наряжается, душится, как если бы летел на свидание. Входит в большую гостиную, залитую яркими огнями люстры, отраженными поверхностью зеркал. Мадам Панаева с первого взгляда вынесла о нем суждение: «С первого взгляда на Достоевского, – пишет она в „Воспоминаниях“, – видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно подергивались».
Слава Богу, все присутствующие ему немного знакомы. Но о чем они будут с ним говорить? О чем ему с ними говорить? Сумеет ли он отличить скрытую издевку от искренней похвалы?
От смущения он напускает на себя важность, держится заносчиво, а сам только и мечтает побыстрее сбежать отсюда, вернуться в свою полутемную, пропахшую табаком, заваленную книгами и рукописями комнату. Быть одному, одному!.. И однако он снова и снова возвращается к Панаевым.
«С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам, – продолжает мадам Панаева. – Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно из одного упрямства противоречил другим».
Реакция, типичная для застенчивого человека. Он атакует первым из страха, что на него нападут. Он задается от страха быть униженным. Он воображает, что блистателен, а на самом деле несносен. Воображает, что остроумен, а на самом деле глуп и зол. Воображает, что держится с непринужденностью и грацией аристократа, а всем слышен топот его тяжелых мужицких сапог.
Его «братишки по перу», как стая слепней, набрасываются на столь легкую добычу. Они отчитывают его как мальчишку, перемывают ему косточки, ранят его самолюбие булавочными уколами.
«Особенно на это был мастер Тургенев – он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения», – вспоминает мадам Панаева.
Бедняга раздражался, выходил из себя, азартно защищал свои нелепые взгляды, а присутствующие подхватывали их, доводили до абсурда и откровенно потешались над ним. Тогда среди литераторов были в моде злоязычие, зубоскальство, злословие, и Достоевский задыхался в этой спертой атмосфере, когда передается «кто что о ком сказал»:
«Не повторяйте, но знаете, что о вас сказал такой-то? Кстати, не доверяйте такой-то».
А все очень просто: все ему завидуют! Даже Белинский его разлюбил, раз он играет в преферанс вместо того, чтобы говорить с ним о «Бедных людях». И Федор Михайлович восклицает:
«Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким идиотским занятием, как карты… Право, ничем не отличишь общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение времени!»
А Белинский наблюдает за ним украдкой и тихо говорит Некрасову, игравшему с ним в карты: «Что это с Достоевским! говорит какую-то бессмыслицу, да еще с таким азартом».
«Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, – рассказывает мадам Панаева, – то он пожимал плечами и с грустью говорил: „Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того чтобы разработать его, вообразил уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов“».
«Раз Тургенев, – продолжает мадам Панаева, – при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского?»
Достоевский бросается вон из ярко освещенных гостиных, мчится по спящим улицам. Вбегает к себе, бросается на диван, в одиночестве перебирает накопившиеся в душе обиды и дает выход своей ярости.
Быть осмеянным публично этим салонным сбродом, этими подонками кипящего литературного котла! Какой позор! Пусть с ним сражаются, но пусть избавят от унизительных щипков.
Ну и смешон же он был сегодняшним вечером! Мадам Панаева смеялась над ним. Кровь бросается ему в голову. Он воскрешает в памяти ее прекрасное матовое лицо, огромные черные глаза, ее насмешливую улыбку. В нем вспыхивает омерзение при мысли, что такая замечательная женщина – жена Панаева. Она достойна лучшего. Чего она достойна? Кого она достойна? Уж не его ли? Из зеркала на него смотрит маленький человечек с землистым лицом, с тусклыми волосами. Как он безобразен! И как он несчастен!
И с изощренностью знатока он растравляет свое отчаяние. Он с мрачным наслаждением предается этой игре. Для полноты несчастий ему недоставало лишь неразделенной любви. Так она у него будет! Она уже у него есть! Вот теперь он испил до дна горькую чашу человеческих страданий.
И пишет брату: «Я был влюблен не на шутку в Панаеву».
В этой женщине все прекрасно: ее лицо, ее душа, вся ее жизнь. Дочь актера Брянского, она сама воспитала себя. В восемнадцать лет она влюбилась в Панаева, и он тайком женился на ней. Мать Панаева была против этого брака, но позже изменила свое решение.
«И Панаева мать, – рассказывает Белинский, – грозилась умереть, однако ж живет и верно переживет и сына и невестку».
Юная Авдотья Панаева прелестно владеет пером. Умеет изящно пошутить. Она наделена и умом и грацией – тем, чего нет у Достоевского. А если бы он объяснился с ней? Или посвятил ей стихи, как сделал один из ее вздыхателей, Сушков? Нет, никогда он не осмелится.
Испытывая отвращение к самому себе, как и к другим, он собирается найти забвение в разгуле. Для начала он уведомляет об этом Белинского, который разбранил его в прах «за беспорядочную жизнь». Достоевский в глубине души польщен заботой своего друга. И, точно отправляется в опасную экспедицию, смело выступает на встречу с миром плоти.
«Минушки, Карлушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег».
Он входит в роль профессионального соблазнителя, альковного пирата, но, без сомнения, оставшись наедине с самим собой, пугается содеянного и полоскает рот, дабы изгнать тошнотворный запах.
«…во все время моего знакомства с Федором Михайловичем (с 1846 по 1849 гг. – А.Т.) и во всех моих беседах с ним, – пишет доктор Яновский, – я никогда не слыхал от него, чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил бы какую-нибудь женщину страстно».
Он не говорит о той, которую любит, – он слишком ею восхищается. И не говорит о других – он слишком их презирает. Каждую пятницу он отправляется к Панаевым. Там он снова встречает ужасного Анненкова, неизменно придерживающегося мнений своего собеседника, импозантного графа Соллогуба, зажимающего в глазу монокль, ненавистного Тургенева, изображающего из себя джентльмена, – всю клику своих соперников, весь круг «Отечественных записок» – всех «наших».
И снова он страдает, снова негодует и снова «изрекает глупости», которые облетают все гостиные.
Однажды мадам Панаева видит, что Достоевский выбежал из кабинета Некрасова, он «был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукава пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии.
– Достоевский просто сошел с ума, – сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. – И кто это ему наврал, будто бы я повсюду читаю сочиненный на него пасквиль в стихах!»
Увы, вовсе это не было враньем.
Павловский, в свою очередь, сообщает, что как-то вечером Огарев, Белинский и Герцен собрались у Тургенева играть в карты. Кто-то из партнеров отпускает удачное словцо, вся компания разражается хохотом. И как раз в этот момент дверь отворяется, и на пороге появляется Достоевский. Он оглядывает гостей, смертельно бледнеет и, не проронив ни слова, тут же уходит.
Через час Тургенев выходит из дому и видит его во дворе: Достоевский, мертвенно бледный, расстроенный, ходит взад и вперед по двору с непокрытой головой, несмотря на холодный ветер.
«– Что с вами, Достоевский?
– Боже мой, это невозможно! Куда я не приду, везде надо мной смеются. К несчастью, я видел с порога, как вы засмеялись, увидевши меня».
Он стал общим посмешищем и не понимает, чтó возбуждает их смех. Разве недостаточно таланта, чтобы внушить к себе уважение? Ах, скорее бы вышли из печати «Бедные люди»: похвалы газет заткнут рот этому зловредному птичьему выводку. Но издание романа задерживается: цензура не дала еще разрешения его печатать.
«Но вот что скверно, – пишет Достоевский брату. – Что еще ровнешенько ничего не слыхать из цензуры насчет „Бедных людей“. Такой невинный роман таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат».
Глава IX От «Двойника» до «Хозяйки»
15 января 1846 года вышел из печати альманах Некрасова «Петербургский сборник», где были опубликованы «Бедные люди». Белинский сразу же помещает в «Отечественных записках» хвалебный разбор романа: «Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы, – какое уменье, какой талант!»
Но его собратья по перу, сотрудничавшие в крупных журналах, не разделяют его восторга.
«„Бедные люди“ вышли еще 15-го, – пишет Достоевский Михаилу. – Ну, брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде? В „Иллюстрации“ я читал не критику, а ругательство. В „Северной пчеле“ было черт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина. Даже публика в остервенении: ругают 3/4 читателей, но 1/4 (да и то нет) хвалит отчаянно. Debats[26] пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают… Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся – мне славу дурачье строят… Зато какие похвалы слышу я, брат? Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя… Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я…»
Как просто! Достоевский снова воодушевлен. Его ругают, его хвалят, – им занимаются. Его книга определит, кто его истинный друг, а кто враг. Два лагеря. С обеих сторон – преданные войска. Вместо перепалок – большая война!
Не дожидаясь публикации «Бедных людей», Достоевский принялся за новый роман «Двойник». Письма к брату полны намеков на этот новый замысел – рождается еще один «шедевр»!
«Яков Петрович Голядкин (герой „Двойника“. – А.Т.) – выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов… Раньше половины ноября никак не соглашается окончить карьеру» (8 октября 1845).
«Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef-d’oeuvre»[27] (16 ноября 1845).
«Голядкин в 10 раз выше „Бедных людей“. Наши говорят, что после „Мертвых душ“ на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они?» (1 февраля 1845).
Действительно, первые главы «Двойника», прочитанные Достоевским друзьям, произвели на них чрезвычайно сильное впечатление.
«Белинский, – рассказывает Григорович, – сидел против автора, жадно ловил каждое его слово и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей».
В 1877 году Достоевский, признавая недостатки повести, напишет: «Идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил».
Вот эта история.
Чиновник Голядкин, несносный из-за сковывающей его застенчивости, робкий, неприметный, бедный, в один прекрасный день встречает своего двойника.
«Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, – сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, – одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях».
Этот двойник настолько же циничен, искателен, льстив, бессовестен, нагл и ехиден, насколько подлинный Голядкин скромен, недалек и честен. Этот олицетворяющий зло персонаж быстро уподобляется Голядкину и, наветами очернив его в глазах начальства, сталкивает его со служебной лестницы – захватывает его место в жизни, превратив его в жалкую тень. Два Голядкина не могут существовать одновременно: сильный уничтожает слабого, злой побеждает доброго. И повсюду вновь водворяется прежний порядок.
Это пространное повествование Достоевский назвал «поэмой». Позже он назовет его «исповедью». «Двойник» и был исповедью, но современники не распознали ее, введенные в заблуждение его формой – анекдотом в духе Гофмана.
Голядкин – вечный чужак, везде и всюду посторонний. «Я-то один, а они-то все».
Несчастный Голядкин, входящий в гостиную Андрея Филипповича, где все ему враждебны, где со всех сторон на него устремлены насмешливые взгляды, силится объясниться, заставить уважать себя, но теряется, конфузится, хочет уйти и не решается покинуть гостиную, – разве этот несчастный не сам автор, оказавшийся в кругу литераторов?
И когда Голядкин, униженный, опозоренный, стремглав бежит из этого сияющего огнями дома и мчится без оглядки вдоль набережной, «спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных», – не самого ли Достоевского мы видим? И не о нем ли мы вспоминаем в подобную ночь: «Ночь была ужасная, ноябрьская, – мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов, – одним словом, всеми дарами петербургского ноября?» Да, Голядкин, возвратившийся к себе совершенно уничтоженным, – это сам Достоевский. Голядкин с облегчением укрывающийся в своей полутемной комнате, кажущейся еще более мрачной после сияющей огнями бальной залы, – тоже он. Голядкин, стоявший, замирая от страха, перед юной красавицей Кларой Олсуфьевной, – тоже Достоевский, застывший в остолбенении перед мадам Сенявиной или мадам Панаевой.
«Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался».
А что же другой, ложный Голядкин, «узурпатор», как называет его Достоевский?
Так вот! Это снова Достоевский, но Достоевский удачливый, Достоевский светский, осыпанный комплиментами, повсюду завязывающий знакомства, поборов свою подлинную натуру. Его личность раздваивается. С одной стороны, настоящий Федор Михайлович – скромный, печальный, вспыльчивый, ожесточившийся; с другой – Федор Михайлович, избалованный успехами, который петушится, рисуется и необдуманными выпадами раздражает окружающих. Настоящий Федор Михайлович презирает своего мерзкого двойника. Он чувствует, что этот двойник грозит подавить его подлинную натуру. Боится поддаться соблазнам легкой славы. Боится подпасть под влияние этих людей, не прощающих ему того, что он таков, каков есть. Боится утратить свое «я». Когда настоящий Голядкин спасся бегством, то «пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатились ему вслед в виде напутствия». Поле битвы остается за двойником.
Действительно, идея двойничества всю жизнь неотступно преследовала Достоевского. Наказание преступника начинается с того, что его личность раскалывается на две части. Материализуется дубликат, и этот дубликат, эта копия – одновременно и он сам, и не он.
Двойник – ужасная карикатура на него, кривое зеркало, отражающее человеческое лицо, на котором проступает тайная прóклятая внутренняя жизнь: лицо вздувается, покрывается гнойниками, обрастает струпьями и наконец разрушается.
Раскольников в «Преступлении и наказании» узнает себя в гнусном Свидригайлове: «Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?»
В «Подростке» Версилов раздваивается так же, как и Голядкин: «Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь… Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь».
Ставрогин в «Бесах» обнаруживает своего двойника в Петре Степановиче, революционном агитаторе: «Я на обезьяну мою смеюсь», – поясняет он ему. А тот ему ответит: «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом!»
Ставрогин, говоря о бесе, который ему мерещится, выражается определенно: «О нет, я в него не верю… Пока не верю. Я знаю, что это я сам в разных видах, двоюсь и говорю сам с собой».
Иван Карамазов в бреду видит черта. И этот черт – он сам, это тень, которую он отбрасывает: «Браня тебя, себя браню! – опять засмеялся Иван, – ты я, сам я, только с другою рожей… Только все скверные мысли мои берешь, а главное – глупые».
И еще: «…все, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного, как падаль, – ты мне же подносишь как какую-то новость!.. Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?»
Лакей Смердяков также пародия на молодого Ивана Карамазова: «…и в душе его сидел лакей Смердяков».
«В любом человеке в любую минуту, – скажет Бодлер, – уживаются два одновременных порыва – один к Богу, другой к Сатане»[28].
Тему двойничества, которую Достоевский с такой полнотой развил в своих зрелых произведениях, он испортил в «Двойнике». А испортил потому, что не сумел преодолеть влияние Гоголя.
«Двойник» не просто вдохновлен «Носом» Гоголя – это подражание Гоголю, своего рода ученическое упражнение, в тексте которого то и дело натыкаешься на целые фразы и выражения Гоголя.
Новелла Гоголя – история чиновника, нос которого отделился от него и начал жить совершенно самостоятельной жизнью.
Роман Достоевского – история чиновника, душа которого делится надвое, и каждая из половин начинает жить самостоятельной жизнью.
Вторая глава «Носа» начинается фразами:
«Коллежский ассесор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: „брр“… Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу».
А «Двойник» начинается так:
«Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои… Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде… „Вот бы штука была, – сказал господин Голядкин вполголоса, – …если б…прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний“».
И подобные параллели можно провести через весь текст книги. Более того, текст Достоевского пестрит выражениями вроде: «сбежался прямо нос с носом», «подставил ухо свое прямо к носу», «высунул маленький-маленький кончик носу», «словно кто ему булавкой нос уколол».
Перерабатывая повесть для ее новой публикации, Достоевский пытался замести следы Гоголя, для чего ему пришлось вычеркивать из текста множество «носов» – совершить поистине массовую резню!
Но и она не спасла «Двойник». Эта повесть так и осталась «пародией» на гениальное произведение.
На всем протяжении этой истории наталкиваешься на персонажей Гоголя, обнаруживаешь приемы Гоголя, отмечаешь шутки Гоголя. Достоевский и сам признавал промахи «Голядкина» с самого его появления:
«Но вот что гадко и мучительно, – пишет он Михаилу 1 апреля 1846 года, – свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе – критика. Именно: все, все с общего говору, то есть наши и вся публика, нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности… Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении… Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя».
Да, критика была сурова.
«Мы даже просто не понимаем, – пишет Константин Аксаков, – как могла явиться эта повесть. Вся Россия знает Гоголя, знает его чуть не наизусть; – и тут, перед лицом всех, г. Достоевский переиначивает и целиком повторяет фразы Гоголя… Г. Достоевский из лоскутков блестящей одежды художника сшил себе платье и явился храбро перед публикой».
И даже Белинский умеряет свои похвалы, колеблется, уклоняется: «Очевидно, что автор „Двойника“ еще не приобрел себе такта меры и гармонии, и оттого не совсем безосновательно многие упрекают в растянутости даже и „Бедных людей“, хотя этот упрек и идет к ним меньше, нежели к „Двойнику“».
Достоевский чувствует, что утрачивает симпатии читающей публики. И жаждет как можно скорее вернуть признание читателей. А для этого надо писать и писать быстрее, быстрее! Но – что?
В повести «Господин Прохарчин» он набрасывает образ экзальтированного и гнусного скряги. После смерти старика в тюфяке находят свертки золотых монет. Следует жуткая сцена: люди кидаются на деньги, а труп «…вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева».
Этот невинный и безобидный рассказ жестоко вымарала цензура. «Прохарчин страшно обезображен в известном месте, – пишет Федор Михайлович брату. – Эти господа известного места запретили мне даже слово чиновник и бог знает из-за чего… Все живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе».
Белинский плохо принимает новое произведение своего протеже. «В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю… не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде…как бы это сказать? – не то умничанья, не то претензии».
«Роман в девяти письмах», написанный Достоевским в одну ночь для «Современника», – своего рода эпистолярная дуэль двух шулеров, – также не встретила у критиков благосклонного приема.
«Достоевского переписка шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась – насилу дочел, – пишет Белинский Тургеневу. – Это общее впечатление».
Достоевский выбит из колеи этими последовательными неудачами. Он ищет себя, пробуя силы в разных жанрах. Берется за работу над случайными статьями. Соглашается сотрудничать в юмористическом альманахе «Зубоскал» и анонимно составляет объявление об его издании. «Объявление наделало шуму, – сообщает он брату. – Мне это напомнило 1-й фельетон Lucien de Rubempré»[29].
Издатель Краевский выдает ему аванс и торопит с окончанием обещанного сочинения.
«Я плачу все долги мои, посредством Краевского. Вся задача моя заработать ему все в зиму и быть ни копейки не должным на лето», – пишет он брату.
Он впрягается в работу над двумя повестями «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях».
«…обе с потрясающим трагическим интересом и – уже отвечаю – сжатые донельзя», – пишет он брату 1 апреля 1846 года.
А в октябре 1846 года признается ему, что ни одну из этих повестей публиковать не будет: «Я все бросил: ибо все это есть не что иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу… Я пишу другую повесть, и работа идет… свежо, легко и успешно».
И в письме, датированном 1847 годом, уведомляет его: «Но скоро ты прочтешь „Неточку Незванову“. Это будет исповедь, как Голядкин, хотя в другом тоне и роде… Я пишу мою „Хозяйку“. Уже выходит лучше „Бедных людей“. Это в том же роде. Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души».
«Неточка Незванова» появится в 1849 году.
Героиня – девочка, она растет с больной матерью и пьяницей отчимом, воображающим себя гениальным музыкантом, «в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серою краскою».
Неточка, пишет Достоевский, в том возрасте, когда ребенок подвержен воздействию внешнего мира и сосредоточивает в своей душе «одни внешние впечатления». В ее воображении эти впечатления преображаются в особый мир и, очутившись «в тумане дезорганизованной жизни», она чувствует себя потерянной. Она обожает отчима потому, что он талантлив, и потому, что он «достоин жалости».
«Я нуль! – кричит музыкант сегодня, а завтра провозглашает: „Я гений!“ На деле же в нем причудливо смешиваются заносчивость и самоуничижение. „…есть такие характеры, – объясняет автор, – которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными“».
Неточка ненавидит мать, потому что воображает, будто эта несчастная женщина мешает артисту, что она погубила его талант.
Эту смесь чувств – ненависть с примесью жалости, любовь с примесью презрения – Достоевский сам испытывал в детстве к своему отцу. При всяком удобном случае он освобождался от этих чувств, передавая их своим героям, исповедуясь их устами.
Мать Неточки умирает при трагических обстоятельствах, отчим сходит с ума. Девочку берет к себе князь, меломан, портрет которого Достоевский списал с графа Вильегорского.
У князя есть дочь Катя, маленькая княжна, властная, капризная, упрямая, которую «все баловали и лелеяли в доме, как сокровище». Поначалу Катя выказывает чужачке полное пренебрежение, изводит ее напоминаниями о ее сиротстве и о «дурном платье», а потом влюбляется в Неточку.
Между девочками возникает страстная привязанность, не лишенная эротики, с болтовней в постели, щипками, поцелуями, клятвами, ссорами:
«А потом я и увидела, что ты без меня жить не можешь, и думаю: вот уж замучу я ее».
И еще:
«…думаю, зацелую я ее когда-нибудь или исщиплю всю до смерти».
Этот пылкий, сотканный из противоречий, страстный женский характер Достоевский вывел также в повести «Хозяйка», опубликованной раньше «Неточки Незвановой».
Молодой ученый Ордынов, нелюдимый, отгородившийся от мира, погружен в религиозные размышления. Он снимает комнату у старика с бородой пророка и горящими, как раскаленные уголья, глазами колдуна. Со стариком живет юная «чудно прекрасная женщина», в которую Ордынов безумно влюбляется.
Ордынов – натура восторженная и чрезмерно впечатлительная, и ему представляется, что страсть к таинственной Катерине привиделась ему в каком-то зыбком сновидении. В забытье ему чудится, что он погружен в нескончаемый сон, а пробудившись попадает во враждебный ему мир. Но, быть может, он бодрствует, когда ему кажется, что он спит, и он спит, когда ему кажется, что он бодрствует? И читатель вместе с ним мечется между миром призрачным и миром реальным.
Ордынову слышится, будто кто-то негромко рассказывает ему бесконечную волшебную сказку, а потом голос падает до шепота и замолкает… «Но все ему казалось, что где-то продолжается его дивная сказка».
Вдруг дверь отворяется, и горячие губы прижимаются к губам Ордынова. Через мгновение Катерина падает ниц перед иконой и признается в убийстве. С любовью этой помешанной к Ордынову борется колдун Мурин.
Где здесь действительность? Где иллюзия? Где явь? Где сон?
Повесть заканчивается бегством старика и молодой женщины.
Этот рассказ вдохновлен «Страшной местью» Гоголя, где колдун, охваченный тайной любовью к дочери Катерине, пускает в ход весь свой арсенал – привидения, снадобья, заклятия лишь бы разлучить ее с мужем.
В «Хозяйке» есть все, вплоть до бури: буря на Днепре, описанная Гоголем, у Достоевского превращается в бурю на Волге, – о ней рассказывает Ордынову Катерина.
И, однако, на этот раз речь не идет о простом подражании.
Ордынов – мечтатель, мыслитель, ставший в своем уединении «младенцем для внешней жизни», который «от товарищей за свой странный, нелюдимый характер терпел бесчеловечность и грубость», – это сам Достоевский. Страсть молодого героя к Катерине – это страсть Федора Михайловича к мадам Панаевой, от которой его отделял барьер условностей.
«Вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал… Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь», – напишет Достоевский в повести «Белые ночи».
Это визионерское искусство могло лишь сбить с толку критиков, провозглашавших принципы реализма и предъявлявших к литературе социальные требования.
Белинский – вне себя и пишет Анненкову:
«Не знаю, писал ли я Вам, что Достоевский написал повесть „Хозяйка“ – ерунда страшная!…каждое его новое произведение – новое падение… Надулись же мы, друг мой, с Достоевским – гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате… Из Руссо я только читал его „Исповедь“ и, судя по ней, да и по причине религиозного обожания ослов, возымел сильное омерзение к этому господину. Он так похож на Дост<оевского>, который убежден глубоко, что все человечество завидует ему и преследует его».
Разбор книги Белинским в «Современнике» – хлесткая анафема: «Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво».
Этот исключительный разнос должен был глубоко ранить Достоевского.
«Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду, – пишет он Михаилу. – Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа, – кабы покой!»
Глава X Крах
По правде говоря, в эти годы, когда из-под пера Достоевского выходила скороспелая и посредственная продукция, его существование отравляли мелочные заботы, мелкие предательства, а то и явные подлости. Он познает униженность жильца убогой меблированной комнаты. Его мучат долги, сроки сдачи рукописей, деньги за которые забраны вперед, распадающиеся дружбы, – вся эта Голгофа маленького человека.
Исключительный характер несчастий утешает тех, на кого они обрушиваются. Но будничные заботы подтачивают, разрушают личность страдальца, а он не может облегчить свою боль, выплеснув ее в криках и стенаниях. Достоевского более, чем кого-либо другого, нельзя мерить общей человеческой меркой.
Он теряет одно за другим свои литературные знакомства.
Белинский не прощает ему разочарования, которое из-за него испытал.
Причины разрыва выходят далеко за рамки искусства. «Неистовый Виссарион» ненавидит не писателя, а человека, и с болезненным ожесточением нападает на него. Две разные морали противостоят друг другу – скоро они станут непримиримыми. В последние годы жизни Белинского в его умственных исканиях на первый план выступают наука, социальный прогресс, и теперь он «отдыхает душой», наблюдая за строительством железной дороги.
«…в первые дни знакомства, – пишет Достоевский в „Дневнике писателя“ в 1873 году, – привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру… Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма… Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать… но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан».
В 1871 году Достоевский все еще негодует. Он пишет Страхову:
«Этот человек ругал мне Христа по-матерному… Ругая Христа, он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо него, неужели себя, когда мы так гадки. Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость».
И продолжает:
«Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет… Он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь обличил. Здесь, в эти 4 года, я перечитал его критики: он обругал Пушкина, когда тот бросил свою фальшивую ноту и явился с „Повестями Белкина“ и с „Арапом“… Он отрекся от окончания „Евгения Онегина“. Он первый выпустил мысль о камер-юнкерстве Пушкина».
Впадая то в одну, то в другую крайность, Достоевский не придает более никакой цены словам того, кого когда-то называл «благородное сердце». Ему ненавистно все, чему поклоняется Белинский: полезное искусство, кабинетные теории об изменении положения народа. Он поклоняется тому, что ненавистно Белинскому: образу Богочеловека, свободному искусству.
Он не желает допускать, чтобы его судил человек, не способный его понять. Он не допускает, чтобы придавали значение суждениям этого безумца, обуреваемого болезненной потребностью «растоптать все старое, с ненавистью, с оплеванием, с позором».
Все, кто вращается в орбите Белинского, – его злейшие враги. И прежде всего Тургенев, этот гигант с короткими толстыми пальцами, этот флегматичный и рафинированный барин, который упражняется в остроумии ради того лишь только, чтобы поддержать свою репутацию острослова. А! Белинский легко прибрал его к рукам. Он заморочил ему голову своим западничеством, своим социализмом, своим дурно переваренным атеизмом. «Я и раньше не любил этого человека лично», – напишет позже Достоевский о Тургеневе, запамятовав, что говорил на следующий день после знакомства с писателем: «Я тоже едва ль не влюбился в него».
А Тургенев будет утверждать: «…он ненавидел меня уже тогда, когда оба мы были молоды и начинали свою литературную карьеру, хотя я ничем не заслужил этой ненависти».
Позабыл ли уже Тургенев о «Витязе горестной фигуры»? О салонном злословии, об истории с каймой, о тысяче разных приемов вывести Достоевского из себя и превратить его в общее посмешище?
Вражда Тургенева и Достоевского начинается во время публикации «Двойника». Чуть позже Достоевский порывает с Некрасовым.
«Скажу тебе, – пишет он брату, – что я имел неприятность окончательно поссориться с „Современником“ в лице Некрасова. Он, досадуя на то, что я все-таки даю повести Краевскому, которому я должен, и что я не хотел публично объявить, что не принадлежу к „Отечественным запискам“, отчаявшись получить от меня в скором времени повесть, наделал мне грубостей и неосторожно потребовал денег. Я его поймал на слове и обещал заемным письмом выдать ему сумму к 15-му декабря… Одним словом, грязная история. Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе… Некрасов же меня собирается ругать. Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе».
Тем временем в литературу вступают новые молодые писатели. Достоевский больше не чудо-ребенок, создавший «Бедных людей». Он уже написал много книг, сначала поразивших, а потом разочаровавших читающую публику. Он перестал быть дебютантом, но не стал автором с устоявшейся репутацией. Он не возбуждает в читателях ни почтительности, ни просто заинтересованной симпатии. Он застрял на полустанке. Он топчется на месте и психует, слыша за собой шаги тех, кто его догоняет. О них говорят. Имя им – легион. Они приближаются. Сумеет ли он удержать преимущество, которое имел перед ними? Или позволит себя обойти? На карту поставлено его будущее. Угар ранней славы, вскружившей ему голову, рассеялся – наступило отрезвление. Погубить свое будущее было бы уж слишком глупо, в самом-то деле!
«Явилась целая тьма новых писателей, – пишет он Михаилу. – Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест и надеюсь, что навсегда».
Навсегда! Он пишет так, чтобы успокоить Михаила, а в глубине души не так уж уверен в себе. Быть может, ничего нового он больше не скажет? Быть может, Белинский и его клика правы, отрицая его талант? Быть может, ему лучше исчезнуть из литературы?
Ну нет! Он еще не показал свою настоящую силу, слишком уж в тяжелых материальных условиях ему приходится работать. Бедность не подходящий климат для вдохновения. Вечно он сидит без денег. Вот это-то его и убивает. Эта мысль, переходя из письма в письмо, становится наваждением.
«Беда работать поденщиком! Погубишь все, и талант и юность и надежду».
«Я прожил много денег, то есть ровно 4500 руб. со времени нашей разлуки с тобою и на 1000 руб. ассиг<нациями> продал вперед своего товару».
«Про себя скажу, что я решительно не знаю, что еще со мною будет. Денег у меня нет ни копейки… Я пишу и не вижу конца работе… Скука, грусть, апатия и лихорадочное судорожное ожидание чего-то лучшего мучат меня».
«А система всегдашнего долга, которую так распространяет Краевский, есть система моего рабства и зависимости литературной».
«Если б не было добрых людей, я бы погиб… Я живу очень бедно и всего, с того времени, как я тебя оставил, прожил 250 руб. сереб<ром>, до 300 р. сереб<ром> употребил на долги. Меня сильнее всех подрезал Некрасов, которому я отдал его 150 руб. сереб<ром>, не желая с ним связываться».
Деньги, деньги, вечно деньги! Он не умеет их зарабатывать, не умеет тратить, не умеет беречь. Он торопится и всю свою жизнь будет торопиться. Ему не-уютно в этом мире, ему требуется постоянно менять обстановку.
Он начинает с того, что меняет квартиру. Одну, другую, третью. Исступленная страсть к переездам гонит его из одного конца Петербурга в другой.
Он находит новых друзей: Бекетовых, Майковых, доктора Яновского. Среди них он чувствует себя в безопасности. Они любят его, они ему не завидуют и не смеются над ним. В литературном салоне Майковых он с удовольствием наблюдает за танцующими парами и танцует сам.
Однако о какой размолвке, о каком недоразумении идет речь в письме с извинениями, от 14 мая 1848 года, адресованном мадам Майковой?
«…я чувствую, что оставил вас вчера так сгоряча, что вышло неприлично… Я боюсь, чтоб Вы не подумали, что я был крут и (соглашаюсь) – груб с каким-нибудь странным намерением… Вы поймете меня: мне уже по слабонервной натуре моей трудно выдерживать и отвечать на двусмысленные вопросы, мне задаваемые».
Нет, ни дружеские собрания, ни товарищеские ужины, которые он устраивает в «Отель де Франс», ни восторженные похвалы близких, не разгоняют его тоску. Он заболевает от нервного перенапряжения. Доктор Яновский лечит его. Достоевский каждое утро посещает его, между ними завязывается долгая дружба, и вскоре они даже поселяются вместе и заводят общую кассу.
Болезнь Достоевского странная. С приближением вечера его охватывает «мистический ужас».
«Это – самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию же минуту, осуществится», – пишет он в «Униженных и оскорбленных».
Незначительные эпизоды, пустяковые мелочи повседневной жизни разрастаются в его воображении до ужасающих размеров. Он блуждает в дебрях предзнаменований и вещих знаков. То ему кажется, что у него чахотка, то, что он сходит с ума. Он читает медицинские книги. Увлекается френологией Галля. Требует, чтобы доктор тщательно исследовал шишки на его черепе.
В один из июльских дней 1847 года Яновский встречает Федора Михайловича на улице. Достоевский, смертельно бледный с остекленевшим взглядом, шел пошатываясь, под руку его поддерживал какой-то военный писарь: с ним только что случился сильный припадок эпилепсии. Яновский сажает его на извозчика, привозит к себе и пускает ему кровь. Кровь течет густая, черная, как чернила. Достоевский кричит: «Спасен, батюшка, спасен!»
В другой раз тот же Яновский сталкивается на площади с Достоевским, веселым, без шляпы, в расстегнутом сюртуке, которого ведет под руку какой-то военный. Увидев своего друга, Достоевский закричал во всю мочь: «Вот, вот тот, кто спасет меня».
Он наносит визит брату. Мечтает поехать в Италию. Он жаждет какого-нибудь потрясения, которое избавило бы его от прошлого, от настоящего, избавило бы его от самого себя.
«Я бился как рыба без воды».Может, броситься под колеса экипажа? Может, броситься в воду?
Все было бы лучше, чем эта тоскливая безнадежность, которая с каждым днем все больше затягивает его. Зачем он живет? Чего он ждет от жизни?
«А коли не к кому, коли идти больше некуда», – спросит Мармеладов в «Преступлении и наказании».
Достоевский во власти страшного чувства: ему кажется, что ему больше незачем жить. Дорога, которой он шел, завела его в тупик. Он уже видит перед собой глухую стену. Еще несколько шагов – и он упрется в нее.
Часть II
Глава I Заговор
Кампании 1813–1814 годов привели русские войска в самое сердце Европы. Офицеры оккупационной армии быстро приобщились к западной культуре и были ею «завоеваны». Страны, истощенные военной тиранией Наполеона, пробуждались к новой общественной жизни. Во Франции, Италии, Германии множились тайные организации: карбонарии, Туген Вунд… В русской армии, возвратившейся на родину, также возникли сначала открыто, а затем тайно Северное общество, Южное общество, Общество соединенных славян, в которые входили титулованные дворяне и высокопоставленные чиновники. Программа обществ включала уничтожение крепостного права, отмену телесных наказаний и другие меры борьбы с жестоким консервативным режимом Александра I.
Александр I не был противником освобождения крестьян: он опасался, что внезапное, недостаточно подготовленное уничтожение крепостного права приведет к непредсказуемым последствиям.
При восшествии на престол Николая I группы противников самодержавия готовили при поддержке армии вооруженное выступление, – оно завершилось кровавым мятежом 14 декабря 1825 года. Императорская гвардия одержала верх над «декабристами», их главари были повешены или сосланы в Сибирь. Хотя восстание декабристов потерпело поражение, брожение в обществе не прекращалось. Царь признавал неизбежность преобразований, предлагаемых декабристами, но намеревался осуществить их сам и не допускал никакого вмешательства революционного дворянства в политику империи. Отсюда передача крестьянского вопроса в специальные комиссии и одновременно учреждение полицейского надзора над интеллектуалами всех мастей.
Так что, хотя новый царь объявил о своей приверженности «западному прогрессу» и о своей обеспокоенности судьбой мужиков, в глазах интеллигенции он по-прежнему оставался воплощением самодержавного произвола, мелочной подозрительности и социальной и политической отсталости.
Никогда еще кипение умов не достигало такого накала, как в эту эпоху. Каждый хотел думать, читать и учиться мыслить. Думали за тех, кто ни о чем не задумывается. Думали о тех, кто мешает думать другим. Думали в одиночестве, в кружках, в кабинетах, в салонах, думали даже на улицах. Думали, но не одобряли абстрактную мысль. Люди сороковых годов презирали метафизические проблемы – их поглощали неотложные задачи, связанные с положением народа.
«Дух нашего времени таков, – писал Белинский в 1842 году, – что величайшая творческая сила может только изумить на время… если она вообразит, что земля недостойна ее, что ее место на облаках, что мирские страдания и надежды не должны смущать ее таинственных ясновидений и поэтических созерцаний».
К самодержавию западники и славянофилы относятся с равной подозрительностью. Западники считают Россию отсталой страной, возродить которую может только программа реформ по образцу крупных европейских государств. Напротив, славянофилы считают, что реформы Петра Великого были всего лишь неудачной попыткой скопировать в России европейский режим и теперь следует вернуться к допетровской – к московской Руси. Они мечтают о Церкви, независимой от государства, об исконно русской России, замкнутой в самой себе, извлекающей институты из своего векового уклада. Общее между соперничающими лагерями одно – и это немаловажно – недовольство существующим порядком вещей. Из-за границы контрабандным путем проникают книги. Студенты зачитываются сочинениями Жорж Санд, Шарля Фурье, Луи Блана. Ратуют за народ, ничего не зная о нем. Воображают фаланстеры, где живут в согласии счастливые и приветливые люди. Умиляются при мысли о равном разделе имущества между всеми сословиями. Политическая экономия окрашивается поэзией. Революция утрачивает запах резни. Научный прогресс вступает в союз с догмами православия. Для университетской молодежи вступить на путь заговора становится чуть ли не делом чести.
Группы декабристов состояли из дворян, группы людей сороковых годов – из мелких чиновников, студентов, журналистов, писателей, даже торговцев: идейное брожение захватило и мелкую буржуазию. Речь шла не о революции, совершенной народом, а о революции, совершенной во имя народа.
Один из таких мятежных кружков создан бывшим студентом, а ныне чиновником Министерства иностранных дел Петрашевским. Хотя Петрашевский состоял на государственной службе[30], он носил черную бороду, делавшую его похожим на эфиопа, и широкополую шляпу, придававшую ему облик итальянского заговорщика.
Достоевский познакомился с ним в мае 1846 года.
Прошел целый год, прежде чем Федор Михайлович появился на одной из «пятниц» Петрашевского. По правде говоря, он отправился туда от нечего делать, из чистого любопытства. Маленький деревянный домик с резными наличниками на окнах очаровывает его. Шаткая лестница, в точности такая, как он себе представлял, ведет на второй этаж. Блики тусклого света, исходящего от масляной лампы, пляшут на скрипучих стершихся ступеньках и гаснут во мраке.
Обстановку комнаты составляют старый тощий диван, обитый дешевым ситцем, несколько грошовых стульев и стол. Единственная сальная свеча освещает этот нарочито скудный интерьер. Потому что Петрашевский человек состоятельный, но чрезвычайно чувствительный к театральным эффектам. Ему невыносима мысль, что речи о судьбах народа будут звучать в по-мещански обставленной квартире. Да и как подстрекать к заговору при свете дня или даже при свете обыкновенных канделябров?
На деле о заговоре речь не идет. По крайней мере, пока еще не идет. Друзья Петрашевского собираются, чтобы обсудить последние политические и литературные новости. Небрежно развалившись на диване и стульях, расстегнув пуговицы мундира, они пьют чай и покуривают трубки на длинных чубуках и с маленькой головкой.
Здесь бывают Салтыков-Щедрин, Кайданов, братья Майковы, Плещеев, Милютин, Дуров, Дебу, Спешнев и другие.
«…у нас не было никакого организованного общества, – рассказывает в своих „Записках“ Ахшарумов. – На собраниях этих не вырабатывались никогда никакие определенные проекты или заговоры, но были высказываемы осуждения существующего порядка, насмешки, сожаления о настоящем нашем положении».
Другой «петрашевец», Кузьмин, утверждает, что «всякая несправедливость, злоупотребления, стеснения, самоуправство глубоко возмущали душу каждого».
А Баласогло пишет: «Единственная… общая всем цель была… убежище от карт и либеральной болтовни».
Все это было вполне невинно. В первый же свой визит Федор Михайлович в этом убедился. Приглашенные показались ему юными, пылкими, симпатичными. В кружке была общая библиотека иностранных «запрещенных книг» – настоящее лакомство для Достоевского. Кроме того, ему хотелось расширить круг знакомств, выйти из своего одиночества и примкнуть к близкой ему по духу группе людей, чтобы обмениваться мнениями и выработать какие-нибудь убеждения, которые позволили бы ему жить дальше. Время от времени он посещает «пятницы». Находит удовольствие в бесконечных словопрениях, из коих явствует, что все идет плохо и все нужно обновить. Вопрос в том, как?
У «петрашевцев» не было единства мнений о методах проведения в жизнь французской социалистической системы. Ахшарумов соглашался оставить царя на троне, ограничив его власть конституцией. Спешнев – сторонник радикальных действий. Петрашевский, увязший в теориях Фурье, не предлагал определенного плана устройства будущего общества. Что до Достоевского, то он настроен скептически. Признавая благородство целей социалистов-утопистов, он считал их всего лишь честными фантазерами, он не верил, что их человеколюбивые миражи могут привиться в России. Он был убежден, что русские должны обратиться к своей собственной истории и искать источники развития русского общества в вековом укладе народной жизни. В русской общине, артели, в круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и спасительные, чем все мечтания Сен-Симона и его последователей. «Он говорил, – вспоминает Милюков, – что жизнь в икарийской коммуне или в фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги».
Из Достоевского хотели сделать революционера. Он никогда им не был. «Для меня никогда не было ничего нелепее, – напишет он в показаниях Следственной комиссии, – идеи республиканского правления в России. Всем, кто знает меня, известны на этот счет мои идеи». Не переворота он хотел, а постепенного переустройства. Не о социальном перевороте он мечтал, а о поступательном характере развития. Он заявляет, что народ не пойдет по пути европейских революционеров. И читает друзьям заключительное четверостишие из стихотворения Пушкина «Уединение».
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный И рабство, падшее по манию царя…[31]Да, все – уничтожение крепостного права, ослабление цензуры, отмена телесных наказаний – должно произойти по воле царя.
«Царь для народа не внешняя сила, – напишет он позже. – Царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его».
Монарх и его подданные – не господин и его рабы, а отец и его дети. Убить эту отеческую любовь значит убить Россию. Просвещать эту любовь, направлять ее и значит работать во имя всеобщего блага. Нужно ждать. Нужно – «верить».
Между тем проходили месяц за месяцем, а крестьяне не получали свободу, зато полицейский надзор усиливался.
В разных губерниях крестьяне поднимаются против помещиков. В 1846 году мужики убили 12 помещиков, в 1848 году – 18. В 1846 году насчитывалось 27 случаев массового неповиновения крестьян, в 1848 году – 45. В 1847 году крестьяне Витебской губернии почти поголовно поднимаются и двигаются к Петербургу. На полдороге их останавливают, применив вооруженную силу.
Эхо революции 1848 года во Франции всколыхнуло маленький кружок. Достоевский теряет веру в возможность реформ сверху.
«Ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание?» – спрашивает кто-то.
«Так хоть бы и через восстание!» – восклицает в ответ Федор Михайлович.
Он становится чрезмерно впечатлительным. Его литературные неудачи, его издерганные нервы обезоруживают его – он не в силах противостоять надвигающимся событиям. Не раз он берет слово и клеймит жестокость помещиков или суровость военной дисциплины.
«Как теперь вижу я перед собой Федора Михайловича, – вспоминает Дебу, – вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка».
И Семенов-Тян-Шанский подтверждает: «…в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем».
Федор Михайлович соглашается писать доклады обличительного содержания и читать их на собраниях кружка. Но ничего не успевает приготовить и все чаще ограничивается тем, что декламирует наизусть целые страницы из Державина, Пушкина и Гоголя.
Тем временем брат Михаил выходит в отставку и возвращается в Петербург. Его представляют «главному заговорщику». Мнение о нем Михаила совпадает с мнением Федора Михайловича. Этот Петрашевский эксцентричный бахвал, сумасброд, комедиант. Его собственные идеи ему не по плечу. Нужно действовать, а не пророчествовать. Любопытная деталь: Петрашевский пытался организовать фаланстер в лесу принадлежащего ему имения, но мужики, не читавшие французских социалистов, спалили здание – символ их грядущего счастья.
Со своей стороны С. Ф. Дуров, поэт-мистик, составил новый кружок, независимый от «петрашевцев». Этот кроткий и убежденный визионер отстаивает христианский характер социализма. Достоевский скажет Следственной комиссии, что Дуров был «до смешного религиозен». Однако Пальм, Плещеев и сам Федор Михайлович присоединяются к его кружку.
Весь Петербург знает об этих ночных бдениях, и никто не принимает их всерьез. Сенатор К. Н. Лебедев в своих «Записках» называет молодых людей «дети-заговорщики», их действия оценивает как «глупость, школьничество, мелкие остроты», а все дело как «дело о школьниках».
В 1845 году в сатирической пьесе А. Григорьева под названием «Два эгоизма» выведен Петрашевский под именем Петушевского и Аксаков под именем Бикакова. «Техник» нигилизма Бакунин пишет Герцену: «Петрашевцы составляли в действительности общество самое невинное, самое безобидное».
И вот из этой толпы робких и безобидных юнцов мало-помалу выделяется и выступает на первый план загадочная личность – Николай Спешнев. У него женственно красивое лицо с тонкими чертами, полными губами, большие, обведенные темными кругами глаза. Густые темно-русые кудри волнами падают на плечи. Спешнев сторонник прямого революционного действия, какими бы ни были его последствия. Все средства хороши для свержения самодержавия. Вооруженный мятеж, ружейная пальба, политические убийства не пугают его. При аресте в его бумагах найдут текст революционной присяги:
«Когда Распорядительный комитет общества… решит, что настало время бунта, то я обязуюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке… вооружившись огнестрельным или холодным оружием».
Загадочная личность Спешнева, которого Достоевский назовет своим «Мефистофелем», окажет на Федора Михайловича поистине пагубное влияние. Достоевский ненавидит Спешнева за его ледяную иронию, за его откровенный атеизм. И, однако, не может вырваться из-под его влияния. Спешнев не похож на простого смертного. В нем есть некая инфернальность, непреклонная решимость, холодное высокомерие, которые замораживают всякую симпатию к нему. Его невозможно любить. Можно или воспротивиться его властной силе, или ей подчиниться. И Достоевский – с печалью, отвращением, страхом все больше подпадает под его завораживающее обаяние. В минуту отчаяния и слабости он берет у Спешнева в долг 500 рублей серебром, и этот долг терзает и тяготит его. Он становится раздражительным, угрюмым, придирчивым. Доктору Яновскому, уверявшему его, что угнетенное состояние духа его скоро пройдет, он возражает: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги… и теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад; такой уж он человек… Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».
Мефистофель!.. Невольно мысли обращаются к тем бесам, к тем двойникам, – к обезображенным отражениям героев Достоевского, – которые так и кишат на страницах его произведений. Несомненно, Достоевский разглядел в революционере Спешневе воплощение своего собственного либерализма в его завершенной – уродливой форме. Федор Михайлович хотел – самое большее – облегчить положение крестьян, пересмотреть законы цензуры, привлечь внимание царя к вопиющей нищете страны, но когда эти же идеи развивал Спешнев, они заканчивались призывом к бунту и кровопролитию.
То, что у одного едва намечено, у другого доходит до абсурда. И при этом не приводит к разрыву. Достоевский – начало Спешнева. Спешнев – завершение Достоевского. Спешнев – извращенный Достоевский. Спешнев – кара Достоевского.
«…все, что ни есть… давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как падаль, – ты мне же подносишь как какую-то новость!.. Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?»
Нужно было отступить, порвать с таким опасным сотоварищем, но Достоевский уже попал в переплет, – он уже превратился в жертву.
Шестеренки затянули его, и от мысли о непоправимости происшедшего голова его идет кругом. Он теряется от жуткого сознания своей зависимости. И сам предлагает Спешневу создать узкий кружок из четырех, максимум из шести человек. Спешнев соглашается. Обсуждают вопрос о приобретении тайком ручного печатного станка для распространения в народе зажигательных прокламаций. Филиппов делает чертежи аппарата, и его заказывают по частям в разных мастерских Петербурга. Готовый станок прячут в доме одного из заговорщиков, и каким-то чудом его не обнаружат при обыске.
Достоевский не ограничивается организацией тайного общества вокруг Спешнева, – он старается завербовать в него новых членов. В марте 1849 года он наносит визит Аполлону Майкову, остается у него ночевать на диване, стоявшем напротив кровати хозяина. Когда друзья готовятся ко сну, Достоевский приступает к революционной пропаганде.
«Петрашевский, – говорит он, – дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут».
Речь идет о заговоре Спешнева, Филиппова, Достоевского и их друзей. Майков отказывается присоединиться к новому кружку. «Я доказывал, – пишет он в письме к Висковатову, – легкомыслие и беспокойность такого дела и что они идут на явную гибель. Да притом – это мой главный аргумент – мы с вами (с Федором Михайловичем) поэты, следовательно, люди непрактические, и своих дел не справим, тогда как политическая деятельность есть в высшей степени практическая способность.
И помню я, – продолжает Майков, – Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество, и пр.».
Утром, расставаясь с Майковым, Достоевский заклинал его никому не говорить об этом ни слова.
27 февраля 1849 года в III Отделении стало известно, что у «коммуниста» Петрашевского собираются по пятницам «гимназисты, либералы и студенты Университета».
Граф Орлов, генерал, шеф жандармов поручает чиновнику Министерства внутренних дел Липранди расследовать это дело. Почти целый год Липранди искал образцового шпиона, который, по его словам, «должен был… стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить… и… стать выше предрассудка… который… пятнает ненавистным именем доносчика». Он нашел этот редкостный перл в личности Антонелли.
Антонелли, сын художника-итальянца, академика живописи, – блондин с большим носом, со светлыми бегающими глазками и манерами, услужливыми, как у уличного разносчика. Он учился в Петербургском университете, а теперь чиновник Министерства иностранных дел. Он согласился выполнить возложенную на него миссию при условии, что его имя не будет упомянуто ни в одном досье.
11 марта 1849 года Антонелли впервые появляется на «пятнице» Петрашевского. Он держится несколько скованно, несколько смущенно. Его жилет красного цвета привлекает все взгляды. Он угощает всех дорогими сигарами. Вступает в общую беседу, высказывает либеральные идеи, пытаясь спровоцировать резкие выпады против правительства и против Церкви.
«Для чего он здесь бывает? – спрашивает Кузьмин у Баласогло, и тот отвечает: „Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице“».
С этого дня Антонелли постоянно посещает «пятницы» Петрашевского. Он бывает также на собраниях, устраиваемых другими членами кружка. Вернувшись к себе, он подробно записывает все, что видел и слышал в течение вечера и передает донесения в Министерство внутренних дел, где Липранди их изучает и сводит воедино.
Однако улики, собранные против «петрашевцев», жидковаты: какие-то общие разглагольствования, невразумительная критика… Антонелли разочарован: не доверяют ли ему заговорщики или же они всего-навсего безобидные школяры?
Как-то Достоевский приходит к Дурову, и тот передает ему копию знаменитого письма Белинского к Гоголю. Эту копию прислал из Москвы Плещеев. Федор Михайлович показывает письмо Пальму, Момбелли, Иванову и обещает Петрашевскому прочесть письмо на одной из «пятниц».
Идет март 1849 года. 15 апреля Достоевский исполняет свое обещание. Позже Достоевский будет отрицать, что одобрял содержание этого брызжущего ненавистью послания: «Да, я прочел эту статью, – пишет он в объяснениях Следственной комиссии, – но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее?.. Теперь я прошу взять в соображение следующее обстоятельство: стал ли бы я читать статью человека, с которым был в ссоре именно за идеи (это не тайна; это очень многим известно), выставляя ее как образец, как формулу, которой нужно следовать?.. я прочел всю переписку, воздержавшись от всяких замечаний и с полным беспристрастием».
Антонелли слушал, как падают на это собрание обреченных, подобно словам приговора, одна за другой фразы:
«Церковь же явилась иерархией, стало быть поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми… Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством…
Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия».
Молодые люди прерывают чтение бранью, смехом, аплодисментами. Их песенка спета, – Антонелли мысленно уже составляет подробный донос.
Следующие собрания были не менее урожайными для агента Министерства внутренних дел. Так, на обеде у Спешнева Достоевский присутствует на чтении Григорьевым «Солдатской беседы», сочинения, осужденного следствием как «статья преступного содержания, направленная против армии и правительства».
Несколькими днями раньше на квартире заговорщика Европеуса был устроен обед в честь Шарля Фурье. Достоевский на нем не присутствовал. Праздник удался. Петрашевский, бывший в тот день в ударе, закончил свою речь словами: «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, надо же приговор наш исполнить». Что же до маленького Ахшарумова, то он потребовал в резких выражениях отменить семью, собственность, государство, уничтожить законы и армию, разрушить города и храмы. После чего сел с удовлетворением человека, исполнившего свой долг.
Донос Антонелли, содержащий все эти опасные для общественного порядка сведения, генерал граф Орлов вместе с запиской о всем деле передает Николаю I. Читая эти страницы, император, должно быть, вспоминал о декабристах, в которых ему пришлось стрелять в день восшествия на престол. Главарей восстания он приказал повесить или сослать в Сибирь. И вот перед его судом предстали их наследники. Неужто нет конца борьбе с западной заразой? В страхе перед повторением мятежа 1825 года он преувеличивает опасность и замышляет примерно наказать заговорщиков:
«Я все прочел, – пишет он на полях записки, – дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь… С Богом! Да будет воля Его».
Орлов рассылает предписания. 22 апреля 1849 года майор жандармского дивизиона Чудинов получает приказ: «Арестовать отставного инженер-поручика и литератора Федора Михайловича Достоевского».
22 апреля – пятница. Федор Михайлович, как обычно, отправился к Петрашевскому, обсуждалось издание журнала. Под моросящим холодным дождем он возвращается к себе в 4 часа утра, уставший, промокший. Он раздевается, ложится спать и тотчас засыпает. Примерно через час он сквозь сон слышит какие-то голоса и бряцанье сабли. Он открывает глаза и видит: лампа зажжена, а перед ним стоят частный пристав и офицер с подполковничьими эполетами, у двери – солдат.
– Вставайте… По повелению…
– Позвольте ж мне, – начинает ошеломленный Достоевский.
– Ничего, ничего! одевайтесь… Мы подождем-с, – говорит офицер. У него приятные манеры и мягкий голос. Достоевский успокаивается. Речь может идти только о каком-то недоразумении. Его уведут, допросят и сразу отпустят. Какое он совершил преступление, чтобы его брать под стражу?
Пока он одевается, незваные гости просматривают книги, рукописи, потом складывают бумаги и письма и аккуратно связывают их веревочкой. Пристав заглядывает в печку и шарит в золе чубуком трубки Достоевского. Унтер-офицер встает на стул и лезет на печь, но срывается и падает на стул, а потом вместе со стулом на пол. Пристав замечает на столе старый погнутый пятак и внимательно его разглядывает.
– Уж не фальшивый ли? – спрашивает Достоевский.
– Гм… Это, однако, надо исследовать, – бормочет тот и присоединяет монету к другим вещественным доказательствам. Достоевский торопливо оделся. Все выходят из комнаты. У подъезда стоит карета. Хозяйка и ее слуга качают головами, наблюдая, как жандармы вталкивают их жильца в карету. Карета трогается и двигается сквозь предрассветный туман. На улицах холодно и пусто.
Глава II Тюрьма
Во двор III Отделения въезжают кареты, разворачиваются, останавливаются.
Из карет высаживают обвиняемых, свезенных со всех концов Петербурга. Устанавливают их личность и проводят в большой зал. У входа в каждое помещение стоят солдаты, с ружьем к ноге. Лица угрюмы, бледны, заспанны. Достоевский узнает нескольких друзей, тут же и его брат Андрей:
– Брат, ты зачем здесь? – едва успевает он спросить, как их разлучают.
Обвиняемые окружают одного из чиновников. В руках у него список. Достоевский замечает перед именем Антонелли написанные карандашом слова: «А. – агент по наряженному делу».
В тот же день Михаил Достоевский в полуобморочном состоянии приходит к Милюкову. Милюков вспоминает:
«– Что с вами? – спросил я.
– Да разве вы не знаете! – сказал он.
– Что такое?
– Брат Федор арестован.
– Что вы говорите! Когда?
– Нынче ночью… обыск был… его увезли… квартира опечатана.
– А другие что?
– Петрашевский, Спешнев взяты… кто еще – не знаю… меня тоже не сегодня, так завтра увезут.
– Отчего вы это думаете?
– Брата Андрея арестовали… он ничего не знает, никогда не бывал с нами… его взяли по ошибке вместо меня».
Они договариваются обойти друзей и разузнать, кто еще арестован. Всех взяли дома, квартиры опечатали.
Тем временем генерал граф Орлов докладывает Николаю I: «Честь имею донести Вашему Величеству, что арестование совершено, в III Отделение привезено 34 человека, со всеми их бумагами».
23 апреля в 11 часов вечера все арестованные перевезены в Петропавловскую крепость.
Крепость построена Петром Великим; в 1718 году в ее казематах держали участников заговора царевича Алексея. Царевич Алексей, не разделявший образ мыслей отца, был брошен в застенок, подвергнут допросу и до смерти замучен. В царствование Анны Иоанновны в крепости построили специальную тюрьму, по какой-то странной причуде названную Алексеевским равелином в честь царя Алексея Михайловича. Первой узницей равелина была княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшая на русский престол. Декабристы также были «гостями» Алексеевского равелина. И вот двадцать пять лет спустя под мрачные своды тюрьмы вступили «петрашевцы».
Заговорщиков 1849 года разделили на две группы. Тех, кто вошел в первую, разместили в одиночных камерах в бастионах крепости. «Наиболее опасных преступников», вошедших во вторую группу, заключили в казематы Алексеевского равелина. Среди них был и Достоевский.
Равелин, построенный на вдававшемся в Неву мысе, представлял собой треугольное здание, наружные стены которого омывали грязные воды Невы. Посреди «треугольника» был небольшой садик для прогулок заключенных. Через все здание шел длинный темный коридор, куда выходили двери девятнадцати камер. Шаги надзирателей громким эхом отдавались под каменными сводами. У «петрашевцев» отобрали одежду и взамен выдали тюремную: рубаху и штаны из грубого холста и арестантский халат из толстого солдатского сукна. Облаченный в этот нелепый наряд, Достоевский переступил порог своей камеры.
Помещение было довольно просторным: шесть метров в длину и три с половиной метра в ширину. В камере стояли койка с тюфяком и набитой соломой подушкой, стол, табуретка, деревянная кружка с водой; к подоконнику прикреплена плошка с сальной свечой.
Прочная железная решетка закрывает квадратное, замазанное белой краской маленькое окошко в середине двери, снаружи занавешенное тряпкой, – заключенные называют его «глазок». Дверь открывается пять раз в день: в семь часов утра приносят чай, в десять тюремное начальство совершает обход, в полдень приносят обед – миску с супом и куском говядины, вечером – ужин. В конце дня приходит надзиратель, зажигает свечу и уходит.
И воцаряется тишина, глубокое безмолвие камней наполняет пространство. Сюда не проникает городской шум, лишь из гулкой пустоты коридора доносятся мерные шаги часового, словно поступь существа из иного мира, из другого столетия. Воздух сырой, стены покрыты плесенью. Пламя свечи слабеет, колеблется и гаснет. И кромешная тьма, точно обломок стены, точно внезапная смерть, обрушивается на узника.
Достоевский вскакивает, прижимает к вискам ладони. Кончено. Нужно спать. Нужно заснуть любой ценой. А между тем его мозг работает с поразительной ясностью. Несчастен ли он? Да нет. Потерпев полное крушение, он испытывает облегчение, в котором никому не осмелился бы признаться. Давно уже он сознавал необходимость какого-нибудь внешнего толчка, какого-то потрясения, которые переломили бы его пустую, бесполезную, незадавшуюся жизнь. Арест, тюрьма вырвали его из монотонного существования, которое он вел, которое засасывало его. Сама глубина его несчастья возвышает его над остальным человечеством. Наконец-то он стал «исключительным». Наконец он стал «безответственным». Можно отдохнуть, перевести дыхание. Судьба играет им. И отныне не от него зависит, станет ли он великим человеком или останется щепкой. Все теперь в руках божьих.
«Какое, однако, несправедливое дело было, – скажут ему тридцать лет спустя, – эта ваша ссылка». «Нет, – возразит он резко, – нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ… И почем вы знаете – может быть, там, на Верху, т. е. Самому Высшему, нужно было меня провести на каторгу, чтоб я там…узнал самое главное, без чего нельзя жить».
Два с половиной месяца заключенным запрещалось писать близким и получать какую-либо корреспонденцию.
Некоторые из «петрашевцев» тяжело переносят предварительное заключение.
Григорьев страдает неврастенией.
Катенев сходит с ума, и его перевозят в госпиталь, где он вскоре умирает.
Ястржембский подумывает о самоубийстве: «В равелине я просидел с 23 апреля по 23 декабря 1849 года, – признается он в мемуарах, – и если бы мне пришлось посидеть еще неделю, я, вероятно, не вышел бы из него живым».
Петрашевский, очень страдавший в заключении, обращается в Комиссию с жалобой: постоянный стук за стеной лишает его сна, а из всех углов камеры слышатся разные нашептывания, что привело его «в состояние тупоумия и беспамятства».
Что же до Ахшарумова, то он выдернул торчавший из кровати гвоздь и, чтобы как-то заполнить время, обтачивал его о железную решетку.
«…то становился я на окно, то ходил взад и вперед в моей клетке без всяких занятий… Нередко садился я и на пол и, сидя на коленях, закрывая лицо обеими руками, я громко сетовал и плакал, затем, поспешно вставая, вскакивал на окно».
Андрей Достоевский, арестованный по ошибке в тот же день, что и его брат, освобожден 6 мая 1849 года; Михаила Достоевского, арестованного вместо Андрея, выпустят только 24 июня.
«Отставной подпоручик Михаил Достоевский не только не имел никаких преступлений против правительства, но даже им противодействовал», – говорилось в рапорте.
В июле в существовании заключенных происходит переворот: им разрешают читать книги, писать и получать письма.
«Я несказанно обрадовался, любезный брат письму твоему, – пишет Федор Михайлович 18 июля 1849 года. – Получил я его 11 июля. Наконец-то ты на свободе, и воображаю, какое счастье было для тебя увидеться с семьею… Ты мне пишешь, любезный друг, чтоб я не унывал. Я и не унываю; конечно, скучно и тошно, да что ж делать?.. Вообще мое время идет чрезвычайно неровно, – то слишком скоро, то тянется. Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что все равно… Теперь ясные дни, большей частию по крайней мере, и немножко веселее стало. Но ненастные дни невыносимы, каземат смотрит суровее. У меня есть и занятия. Я времени даром не потерял, выдумал три повести и два романа… В человеке бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думал, чтоб было столько, а теперь узнал по опыту».
Это чудесное спокойствие духа не перестает удивлять: ведь Достоевский ничего не знал о своей дальнейшей судьбе и не мог общаться ни с кем из товарищей по заключению. Одиночество отвечает его душевному состоянию. Он чувствует себя как никогда хорошо. Он перебирает события своей прошлой жизни. Вспоминая детство, надеясь на скорое освобождение, он забывает, что лежит на жесткой койке при свете свечного огарка, а в темном коридоре расхаживает взад и вперед караульный.
Во время заключения он пишет «Маленький герой», поэтичную, полную робкой чувственности новеллу. В тюремной камере автор – ожидающий приговора арестант – рассказывает, как пробуждается в душе мальчика первое любовное чувство. Новелла будет опубликована только в 1857 году.
Проходят недели, и письмо, которое Достоевский адресует брату 27 августа, уже не такое бодрое, как первое.
«Насчет себя ничего не могу сказать определенного. Все та же неизвестность касательно окончания нашего дела. Частная жизнь моя по-прежнему однообразна. Но мне опять позволили гулять в саду, в котором почти семнадцать деревьев. И это для меня целое счастье. Кроме того, я теперь могу иметь свечу по вечерам, и вот другое счастье… Хочешь мне прислать исторических сочинений. Это будет превосходно. Но всего лучше, если б ты мне прислал Библию (оба Завета)… О здоровье моем ничего не могу сказать хорошего. Вот уже целый месяц, как я просто ем касторовое масло и тем только и пробиваюсь на свете. Геморрой мой ожесточился до последней степени, и я чувствую грудную боль, которой прежде никогда не бывало. Да к тому же, особенно к ночи, усиливается впечатлительность, по ночам длинные, безобразные сны, и сверх того, с недавнего времени, мне все кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей комнате сижу, словно в пароходной каюте».
И 14 сентября 1849-го: «Я же все по-прежнему. То же расстройство желудка и геморрой. Не знаю уж, когда это пройдет. Вот подходят теперь трудные осенние месяцы, а с ними моя ипохондрия. Теперь небо уж хмурится, а светлый клочок неба, видный из моего каземата, – гарантия для здоровья моего и для доброго расположения духа».
Действительно, его стойкость на исходе. Полная изоляция, в которой он изнывает, медленно подтачивает его силы. Чтобы рассеяться, он перестукивается с Филипповым, сидящим в соседней камере. Так утомительно никого и ничего не видеть, а только все время думать. Как будто он помещен под пневматический колокол и в его безвоздушной пустоте ему нечем дышать, он задыхается. Выходит, он такой же человек как и другие? Он теряет ясное представление о времени и пространстве.
Он больше не различает, где явь, где сон. Когда он был ребенком, он каждый вечер оставлял на ночном столике записку: «Сегодня я впаду в летаргический сон. Похороните меня не раньше, чем через пять дней». И вот он впал в летаргический сон. Он погребен в буквальном смысле слова. Он больше не существует.
Следствие продвигается медленно. Допросы учащаются. Заключенных водят на допрос по одному. Время от времени в каземате появляется офицер в сопровождении жандарма, велит арестанту переодеться в гражданскую одежду и ведет его по бесконечным слабо освещенным коридорам к выходу. Пересекают двор. Входят в «Белый дом», где заседает Следственная комиссия.
Комиссия состоит из пяти членов: князя Гагарина, шефа жандармов генерала Дубельта, князя Долгорукова, генерала Ростовцева и коменданта крепости генерал-адъютанта Набокова – председателя Комиссии.
Достоевскому вменяется в вину участие в собраниях, на которых критиковались действия правительства, осуждались институты цензуры и крепостной зависимости, и распространение письма Белинского к Гоголю, «наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти», а также в присутствии при чтении «возмутительного сочинения» Григорьева «Солдатская беседа».
Члены Комиссии пытаются, проявляя мягкость, заманить Федора Михайловича в ловушку (будущий поединок Раскольникова со следователем Порфирием): «…я уполномочен от имени Государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело», – говорит Ростовцев. Федор Михайлович молчит. Тогда генерал вскакивает со стула и, патетически выкрикнув: «Я не могу больше видеть Достоевского!», выбегает из кабинета.
Допрос продолжается. Достоевский не отрицает фактов: «Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесно приятельском?»
Чтение «Солдатской беседы» «началось… нечаянно… Впечатление было ничтожное».
Что же до письма Белинского, Достоевский признавал, что сделал ошибку и что ему не следовало читать этой статьи вслух. «…весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему Отечеству», – утверждает он.
«…я никогда и не был социалистом, – добавляет он, – хотя и любил читать и изучать социальные вопросы».
У него не вырвут ни одного обвинения в адрес его товарищей по несчастью. Более того, чтобы ускорить освобождение Михаила, он возвел обвинение на себя: «Я говорю это к тому, что брат познакомился с Петрашевским через меня, что в этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства его… этот арест должен быть для него буквально казнию, тогда как виновен он менее всех».
Члены Следственной комиссии очень затруднялись юридически определить преступление, которое не было совершено. Достаточно ли одних только разговоров о революционных намерениях для осуждения деятельности небольшого кружка? Да и были ли точно революционные намерения у этих болтливых и бестолковых либералов? И вообще: где кончается эволюция, где начинается революция?
Следствие длилось пять месяцев; 232 человека, обвиняемые и свидетели, допрошены устно и письменно. Несмотря на упорные настояния Липранди, Комиссия кончила тем, что признала невиновность обвиняемых:
«Все сии собрания, отличавшиеся вообще духом, противным правительству… не обнаруживают ни единства действий, ни взаимного согласия и к разряду тайных организованных обществ они тоже не принадлежат».
Тем не менее министр внутренних дел требует нового расследования, и на этот раз Комиссия находит, «что и открытого уже совершенно достаточно, дабы обратить на себя самое бдительное внимание правительства».
30 сентября 1849 года «дело Петрашевского» передается в военный трибунал. Специальная комиссия в составе из шести штатских и шести генералов определяет меру вины каждого из двадцати восьми молодых людей, обвиняемых в государственных преступлениях.
16 ноября военно-судебная Комиссия приговаривает семерых арестованных к каторге и ссылке и пятнадцать к отдаче в солдаты. Шестеро освобождены.
Но следствие на этом не заканчивается. В нарушение всех юридических процедур император передает дело в Генерал-аудиториат при Военном министерстве, который выносит приговоры в соответствии с суровыми военными законами. Генерал-аудиториат начинает с того, что всех приговаривает к смертной казни. Вынеся смертный приговора, Аудиториат ходатайствует перед императором о смягчении наказания – замене смертной казни каторжными работами.
Окончательный приговор гласит: «Достоевского… за… участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского… сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет». Николай I наложил резолюцию: «На 4 года, а потом рядовым». Император приказал, чтобы эта милосердная мера держалась в строжайшей тайне.
Глава III Эшафот
21 декабря 1849 года заключенные еще ничего не знают об уготованной им судьбе. Их больше не допрашивают. Не отвечают ни на какие вопросы. Быть может, это значит, что их скоро освободят?
22 декабря около шести часов утра молодых людей разбудил шум приближающихся к камере шагов. Слышатся короткие команды. Щелкают каблуки. Бряцают в ножнах сабли. В замке поворачивается ключ. В камеру входит жандармский офицер в сопровождении тюремного надзирателя. Арестантам возвращают их собственную одежду и приказывают переодеться. Затем «петрашевцев» поодиночке выводят из крепости во двор.
Достоевский переступает порог тюрьмы. Порыв ледяного ветра ударяет в лицо. Дрожа от холода, он всматривается в занимающийся день, в промозглый хмурый петербургский рассвет. Во дворе стоит вереница двуконных возков-карет. Лошади, напуганные грохотом сапог и звяканьем упряжи, бьют копытами. В разных концах двора мелькают голубые мундиры. Осужденных рассаживают по каретам. Раздается выкрик: «Сабли вон! По каретам!» В карете рядом с арестантом усаживается конвойный. Эскадрон жандармов окружает кареты, разносится короткая команда, и колонна, эскортируемая конными жандармами с саблями наголо, трогается. Куда их везут? Собираются прочесть приговор военного трибунала? Но тогда как объяснить этот бесконечный кружной путь?
– Куда везут? – спрашивает Спешнев у сопровождающего его солдата.
– Не приказано сказывать, – отвечает тот.
Сквозь заиндевелые оконные стекла нельзя разглядеть, куда везут. Кажется, переехали через Неву, – копыта лошадей стучат по деревянному настилу моста. А теперь карета как будто прогрохотала по булыжной мостовой Литейной. Спешнев пробует ногтем очистить обмерзшее оконное стекло, солдат удерживает его:
– Не делайте этого, не то меня будут бить.
Через три четверти часа кареты останавливаются, дверцы открываются.
Перед ними огромный Семеновский плац. Всю ночь шел снег. За желтыми зданиями казарм виднеются крыши домов, покрытые свежим чистым снегом, из труб мирно вьется дымок. На валу, окружающем плац, столпился народ: бородатые купцы в меховых шубах, женщины, закутанные в платки, чиновники в фуражках с кокардами, студенты – всего три-четыре тысячи человек.
В центре плаца сооружен бревенчатый помост, обнесенный по краю невысоким забором, – это эшафот. Вокруг него выстроены в каре войска. Чуть дальше – три врытых в землю деревянных столба. Одна за другой пустеют кареты. Достоевский узнает Спешнева, как всегда невозмутимого и высокомерного, дрожащего от страха Григорьева, Петрашевского. Он бросается к ним, обнимает их.
– Выстроить шеренгу! – отдают приказ.
Вперед выступает священник в черной рясе с крестом и Евангелием в руках и ведет выстроившихся в цепочку осужденных вдоль рядов войск. Осужденные окоченели от холода. Ноги увязают в глубоком снегу.
«– Что с нами будут делать? – спрашивает один, понизив голос.
– Прочтут приговор… вероятно, всех на каторгу…
– Для чего столбы у эшафота?
– Привязывать будут… казнь расстрелянием».
Двадцать молодых людей, пройдя перед фронтом, по узкой лестнице поднимаются на эшафот. Аудитор со списком в руках выкликает осужденных по именам и расставляет их по краям эшафота: девять по правую сторону, одиннадцать по левую. Позади каждого стоит жандарм. У подножия эшафота группа генералов в парадных мундирах с важной миной на лицах пританцовывает на месте, пытаясь согреться.
Достоевский стоит рядом с Момбелли. Он не слишком обеспокоен. До его сознания как будто бы не доходит, что развертывающийся на его глазах спектакль имеет к нему отношение. Он рассеян, его мысли заняты другим. Вдруг у него возникает желание пересказать соседу сюжет новеллы, которую он сочинил в крепости.
Но его прерывают крики:
– На караул!
– Шапки долой!
Никто не двигается: осужденные не поняли, что приказ адресован им. Один из генералов командует:
– Снять шапки, будут конфирмацию читать.
«Петрашевцы» выполняют команду. Они стоят на морозе без шапок, в одних рубашках, промерзшие до костей, на глазах выступают слезы.
Над ними ясное небо. Ноги проваливаются в снег. Кончики сапог покрылись инеем, жандарм, стоящий за спиной, дышит в затылок.
На середину эшафота выходит военный аудитор и невнятно, запинаясь, читает длинный текст приговора. Перечисление преступлений каждого и изложение причин его осуждения неизменно заканчивается краткой формулировкой: «Подвергнуть смертной казни расстрелянием».
Петрашевский, Момбелли, Григорьев, Ахшарумов… Уже раз десять аудитор прочитал этот приговор. Он продолжает: «Достоевский… к смертной казни».
Федор Михайлович вздрагивает, точно очнувшись от глубокого сна. «Смертная казнь»… В это мгновение солнце прорывается сквозь утренний туман, и его лучи играют на отливающем золотом куполе Семеновской церкви, отражаясь в свисающих с крыш сосульках.
«Не может быть, чтобы нас казнили», – шепчет Достоевский своему соседу.
Момбелли вместо ответа показывает на телегу, прикрытую рогожей. Под тканью смутно вырисовываются очертания гробов (на самом деле там была сложена арестантская одежда).
Достоевский все еще не верит. Он машинально разглядывает бородавку на щеке жандарма, блестящую медную пуговицу на его мундире. Он наблюдает – и на всю жизнь запомнит, как аудитор складывает бумагу, сует ее в карман, пощипывает пальцами замерзшее ухо и медленно спускается по ступеням эшафота.
На помост поднимается священник. Взволнованным голосом он произносит слова апостола Павла: «Оборотцы греха есть смерть»… Он внушает несчастным смертникам, что со смертью телесной не все кончается, что через веру и раскаяние наследуется в том мире жизнь вечная. Потом он призывает их к исповеди и подносит крест для целования. Один только Шапошников, человек из народа, подошел к исповеди. Впрочем, любопытная деталь: сначала никто из смертников не заметил, что у священника не было с собой Святых Даров.
Достоевский прикладывается к холодному серебряному кресту. Выпрямляется. Сомнений больше нет – присутствие священника убивает последнюю надежду. Неужто осмелились бы вовлечь церковь в эту комедию?
Но наказание несоразмерно вине. Никто из них не заслужил такой кары. Несправедливость приговора возвеличивает несчастные жертвы, съежившиеся от холода посреди деревянного эшафота. Чрезмерность наказания окружает их ореолом мученичества. И они это сознают. И всей душой наслаждаются бессмысленностью подобного жертвоприношения.
«…дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!» – напишет впоследствии Достоевский в «Дневнике писателя».
Да, это дело, о котором он, сопоставляя его с их легкомысленными мечтаниями, так опрометчиво судил, которое он сам, хорохорясь, хулил и высмеивал, теперь, когда за него приходится умирать, превращается в святое деяние.
Тем временем священник спустился с помоста. К смертникам подходят два человека, одетые в цветные кафтаны. У них огромные волосатые руки мясников. Это палачи. Звонит колокол. Бьют барабаны, и их погребальный гул отдается в каменных стенах окружающих плац зданий. Барабанная дробь затихает, вновь усиливается, все заглушая, навязчивая, непрекращающаяся… Смертников поставили на колени. Над их головами в знак разжалования палачи ломают шпаги. Потом на молодых людей натягивают белые балахоны с длинными рукавами и капюшонами.
В первой тройке – Петрашевский, Момбелли, Григорьев. Их привязывают к столбам, и палачи надвигают на их лица капюшоны. Слышится команда. Три взвода выходят вперед и выстраиваются перед осужденными.
Достоевский закрывает глаза. По порядку казни он – шестой. Его очередь – следующая. Через пять минут и его привяжут к тем же столбам. Всего каких-то пять минут – и его не будет в живых. Страшная тоска наваливается на него. Нельзя ни секунды потерять из этих пяти минут. Надо как можно лучше распорядиться отмеренными ему минутами жизни, прожить их как можно полнее, извлечь из них все их богатство, всю тайную радость, прежде чем исчезнуть в вечной ночи. Время, которое ему остается прожить, он делит на три части. Две минуты на прощание с товарищами. Две минуты на размышления. Одна минута, чтобы в последний раз взглянуть на окружающий мир.
Но о чем размышлять? На что смотреть? Ему двадцать семь лет, он здоров, он полностью сознает мощь своего таланта, – и вот он должен умереть. Он теперь есть и живет – и через три минуты он превратится в ничто – в кого-то или во что-то. Он переводит взгляд на собор и уже не может оторвать глаз от пылающего на ярком солнце золоченого купола, от снопа исходящих от него лучезарных лучей. Ему кажется, что через секунду-другую не останется ничего, кроме него и этого ровно струящегося света, и они сольются в одно целое, ясность и покой поглотят его, и он растворится в небытии. Конвульсивный страх сотрясает его.
«Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!»
Тем временем солдаты вскидывают ружья и берут на прицел. Мертвая тишина причиняет физическую боль. Ее разрывает приказ: «Пли!» Вот сейчас три тела нелепо обмякнут и упадут на землю. И их унесут, и заменят другими… Но почему никто не стреляет? Почему не слышно выстрелов?
Петрашевский с полным самообладанием приподнимает свой капюшон – посмотреть, что происходит. Адъютант машет белым платком. Солдатам дана команда: «Отставить!» Казнь остановлена. Палачи отвязывают от столбов Петрашевского, Момбелли, Григорьева и снова ведут на эшафот.
Аудитор выступает вперед и снова, ужасно заикаясь, начинает читать, на этот раз текст помилования: «Виновные… помилованы по личной просьбе Его Императорского Величества».
Каторга, ссылка. Достоевский раздавлен громадностью счастья. Спасен! Все остальное неважно! Двадцать лет спустя он признается жене, «как он был счастлив в тот день, он такого и не запомнит другого раза».
Некоторые его товарищи, напротив, истомлены волнением, измотаны всем этим фарсом и жалеют, что избежали смерти.
Григорьева рвет. Он шатается. Клацает зубами. Теряет рассудок.
Сначала не верилось, что эта чудовищная инсценировка устроена с одобрения царя. На самом же деле он сам предусмотрел все подробности церемонии, входя в малейшие ее детали. В течение двух дней шла напряженная переписка между палачами: сколько заготовить белых балахонов? Сколько поставить столбов? Надо ли вырыть ямы за столбами? Надо ли привязывать осужденных к столбам? Завязывать ли им глаза? Николай I, желая преподать полезный урок «безрассудным юнцам», утратил чувство меры. Вместо того, чтобы поддержать в них веру в монарха, он ее убил.
Воспоминание об этой казни оживет в книгах Достоевского. «Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: „Ступай, тебя прощают“, – пишет он в „Идиоте“. В этом же романе князь Мышкин рассказывает о сцене казни, в точности подобной той, которая произошла на Семеновском плацу. И в 1876 году в „Дневнике писателя“ Федор Михайлович спрашивает: „Знаете ли вы, что такое смертный страх? Кто не был близко у смерти, тому трудно понять это“».
Нет, он не забудет, никогда он не забудет этих мгновений. Уже палачи снимают с осужденных балахоны. Дают им овчинные тулупы, валенки, арестантские шапки. На эшафот поднимаются кузнецы, подходят к Петрашевскому. Его прямо отсюда отправляют в Сибирь. Кто-то снизу бросает на эшафот связку кандалов, и они с лязгом падают на дощатый помост. Кузнецы заковывают ноги Петрашевского в железные кольца. И он сам хладнокровно им помогает. Потом он обнимает друзей и поддерживаемый двумя жандармами спускается по лестнице, тяжело передвигая скованные позвякивающими кандалами ноги. Его усаживают в стоящие наготове сани. Слышится команда. Щелкает кнут. Кибитка трогается, медленно выбирается из толпы любопытных, которая смыкается за ней, и постепенно исчезает из глаз.
Осужденные окоченели от холода. «Потрите подбородок», «Потрите щеку», – говорят они друг другу. Кашкин и Пальм падают на колени и начинают молиться. Пальм повторяет: «Добрый царь, да здравствует наш царь!»
Осужденных рассаживают по каретам и снова везут в Петропавловскую крепость.
По возвращении в крепость всех осматривает врач, дабы определить, не пострадали ли их умственные способности от пережитого потрясения. Затем осужденных разводят по камерам. Оставшись один, Достоевский пишет письмо брату Михаилу:
«Брат, любезный друг мой! все решено! Я приговорен к 4-х-летним работам в крепости (кажется, в Оренбургской) и потом в рядовые… Сейчас мне сказали, любезный брат, что нам сегодня или завтра отправляться в поход. Я просил видеться с тобой. Но мне сказали, что это невозможно… Брат! я не уныл и не пал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою.
А может быть, и увидимся брат. Береги себя, доживи, ради Бога, до свидания со мной. Авось когда-нибудь обнимем друг друга и вспомним наше молодое, наше прежнее, золотое время, нашу молодость и надежды наши, которые я в это мгновение вырываю из сердца моего с кровью и хороню их.
Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через четыре года будет возможно… Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках.
Если кто обо мне дурно помнит, и если с кем я поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впечатление – скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе удастся их встретить. Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение.
Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз грешил против сердца моего и духа – так кровью обливается сердце мое… Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое.
Ох, когда бы, когда бы тебя увидать! Прощай! Теперь отрываюсь от всего, что было мило; больно покидать его! Больно переломить себя надвое, перервать сердца пополам. Прощай! Прощай! Но я увижу тебя, я уверен, я надеюсь, не изменись, люби меня, не охлаждай свою память, и мысль о любви твоей будет мне лучшей частию жизни. Прощай, еще раз прощай! Все прощайте!»
Достоевского должны были отправить в Сибирь 24 декабря, в Рождественскую ночь. Его брат Михаил и писатель Милюков добиваются у коменданта крепости разрешения проститься с Федором Михайловичем перед отъездом. Встреча произошла в большой пустой комнате в нижнем этаже комендантского дома. Наступала ночь, комната освещалась одной лампой.
Михаил и его спутник ожидали уже полчаса, когда ввели Федора Михайловича и Дурова. Оба осужденных были спокойны, оба улыбались.
«Смотря на прощанье братьев Достоевских, – пишет Милюков, – всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.
– Перестань же, брат, – говорил он, – ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, – и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня… А выйду из каторги – писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, – будет о чем писать»…
Этот человек, в течение последних проведенных на свободе месяцев придумывавший себе болезни, страдавший от ночных кошмаров, по всякому поводу обижавшийся и ссорившийся с окружающими, терявшийся от любого пустяка, теперь переносит со спокойным мужеством испытание эшафотом и разлуку с близкими. Его, человека физически и морально больного, не пугают четыре года холода, лишений, тяжелой работы. И не стоит этому удивляться: Достоевский – человек безмерных чувств. Ему по плечу исключительные ситуации. В разгар бури он дышит полной грудью.
«Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины», – заметит он в «Записках из подполья». И добавит: «Так что я, пожалуй, еще „живее“ вас выхожу».
По истечении получаса дежурный офицер прервал свидание и отвел осужденных в камеры.
Пробило полночь, когда Достоевского заковали в ножные кандалы весом в десять фунтов.
Затем конвойные вывели Федора Михайловича, Дурова и Ястржембского во двор, где ждали трое открытых, запряженных тройкой саней. Перед ними стоял крытый возок для фельдъегеря, который должен сопровождать их до Тобольска. Ночь стояла холодная и ясная. От лошадей валил густой пар.
Осужденным приказали сесть в сани, рядом с каждым сел жандарм. По знаку фельдъегеря санный поезд двинулся в путь под скрип придавленного полозьями снега.
У ворот крепости осужденных ждали Михаил Достоевский и Милюков.
– Прощайте! – крикнули они.
– До свидания! До свидания! – прозвучало в ответ.
Тройки рысью ехали по пустым улицам. Окна домов ярко освещены. Сквозь стекла видны сияющие огнями и украшенные серебряными игрушками елки. За прозрачным тюлем занавесей мелькали тени танцующих. Люди праздновали Рождество – любимый праздник Достоевского. Они были счастливы, смеялись, ели, пили, ласкали детей, строили планы на будущее.
И не догадывались, что в эти минуты три человека, забившись в угол казенного экипажа, замерзшие, измученные, потерянные, на долгие годы расставались с Петербургом, увозимые на каторгу в Сибирь.
«Я в сущности был очень спокоен, – напишет Достоевский брату в 1854 году, – и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности. Нас провезли мимо твоей квартиры, и у Краевского было большое освещение. Ты сказал мне, что у него елка, что дети с Эмилией Федоровной отправились к нему, и вот у этого дома мне стало жестоко грустно. Я как будто простился с детенками. Жаль их мне было, и потом, уже годы спустя, как много раз я вспоминал о них, чуть не со слезами на глазах».
Путешествие было тяжелым. Ехали в открытых санях. Короткие тулупы не защищали от холода. После нескольких остановок для смены лошадей конвой на рассвете въехал в Шлиссельбург и остановился возле трактира.
Волоча за собой кандалы, дыша на замерзшие пальцы, молодые люди расположились в зале трактира и согревались горячим чаем. «Мне было весело, – вспоминает Достоевский, – Дуров болтал без умолку, а Ястржембскому виделись какие-то необыкновенные страхи в будущем».
Фельдъегерь, славный старик, добрый и милосердный, разрешил арестантам пересесть в крытые сани. Он обещал также подольше задерживаться на каждой остановке и взял на себя половину расходов.
Днем обоз трогается в путь. По случаю праздника ямщики нарядились в серые суконные армяки, перепоясанные алыми кушаками. В деревнях, мимо которых они проезжали, не видно людей. Крыши домов осели под тяжестью снега. На зеленовато-голубом небе четко вырисовывались черные ветви обледенелых деревьев, словно бы застывших в своих ледяных саванах. Десятичасовые этапы изнуряли и людей, и лошадей. Холод становился нестерпимым. В Пермской губернии стояли сорокаградусные морозы.
Особенно изматывающим был переезд через Урал. Разыгралась метель. Лошади спотыкались, сани проваливались в снег, увязали в сугробах. Среди ночи приходилось вылезать из саней и ждать, пока жандармы вытащат сани из снега, успокоят лошадей, расчистят дорогу от снежных заносов. Ледяной ветер бросал в лицо комья снега, обжигал лицо и руки. Слабый свет фонаря дрожал, готовый вот-вот погаснуть. «Кругом снег, метель, – пишет Достоевский, – впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади все прошедшее – грустно было, и меня прошибли слезы».
11 января 1850 года на восемнадцатый день пути прибыли в Тобольск.
В то время Тобольск был пересыльной тюрьмой для осужденных на каторгу. Арестанты выбрались из саней, и их отвели в канцелярию острога.
В темном грязном помещении сидели писцы в арестантской одежде с клеймами на лбах и щеках. У одного были вырваны ноздри, у другого лицо изрыто шрамами. С усердием школьников они делали записи в регистрационных книгах.
– В кандалах? – спросил смотритель острога.
– Да-с, – отвечали ему.
– Обыскать, – скомандовал он.
У них отобрали деньги и купленную в городе бутылку рома. Потом заперли в камере. Это была «узкая, темная, холодная, грязная комната». В ней находились три железные койки, на которых валялись грязные, набитые сеном мешки. Стоял застойный запах гнилого мяса, промерзшей грязи. За тонкой перегородкой в полумраке шевелилась масса людей, чувствовалось, что помещение переполнено. Раздавались крики, проклятия, ругань, хохот. А когда на минуту этот шум затихал, слышались шаги расхаживавшего перед дверью караульного.
У Дурова были отморожены пальцы на руках и на ногах. Ястрембский отморозил кончик носа. Достоевского мучили выступившие на лице и во рту золотушные язвы.
Однако среди заключенных царило лихорадочное оживление: их готовили к последнему этапу для отправки по разным острогам. Проверяли прочность кандалов. Брили головы. Выжигали клейма. Клейма были разные и смысл их загадочен: КАТ – каторжник. СК – ссыльнокаторжный. БК – беглый каторжник.
После каждой попытки к бегству добавляли новое клеймо. Хмурые каторжники сами старательно выполняли работу палача.
Это уж было слишком. Ястржембский громко жалуется, хочет покончить с собой. «Я подумал, что бы сказала моя сестра, – вспоминает он, – если бы увидела, в каком я положении». Достоевский утешает и ободряет его.
Вскоре им разрешают выпить чаю и выкурить сигары, которые Федору Михайловичу удалось припрятать от тюремного смотрителя.
Достоевский и его товарищи провели в Тобольске шесть дней. В этом городе жило несколько декабристов, освобожденных от каторжных работ и вышедших на поселение: Муравьев, Анненков, Фонвизин… Их жены занимались благотворительностью и облегчали, как могли, участь несчастных, останавливавшихся на несколько дней в пересылочной тюрьме.
Революционеры 1825 года, узнав о прибытии в город тех, кто, как и они, верил «в дело свободы», кто, как и они, боролся за нее и пал жертвой под ударами царской расправы, приняли в них горячее участие и старались их ободрить. Жены принесли еду и вино. Они умолили смотрителя пересыльной тюрьмы устроить тайное свидание с молодыми людьми на его квартире.
«Мы увидели этих великих страдалиц, – напишет позже Достоевский в „Дневнике писателя“, – добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь… Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья».
Встреча продолжалась целый час. Расставаясь с осужденными, жены декабристов благословили их и подарили каждому Евангелие – единственную книгу, которую дозволялось читать в каторжном остроге. Достоевский никогда не расставался с этой священной реликвией.
Когда посетительницы ушли, Достоевский рассмотрел томик, который держал в руках. Обложка была подпорота внутри и в тайнике спрятаны 10 рублей ассигнациями.
16 января Достоевский и Дуров выезжают из Тобольска, их везут в Омск. «…содержать без всякого снисхождения», – предписывал приказ губернатора Восточной Сибири.
В семи верстах от Тобольска сани остановились в открытом поле. Мадам Фонвизина и мадам Францева подкупили жандармов, и те позволили им проститься с узниками. Они терпеливо ждали на трескучем морозе, два черных, затерянных на белом снегу комочка. Встреча была краткой. Пожали друг другу руки, произнесли несколько напутственных слов: в Омск написали, там о них позаботятся, постараются облегчить их участь.
Жандармы стоят поодаль, от нетерпения переминаясь с ноги на ногу. Пора двигаться дальше. Женщины крестят осужденных: «Храни вас Бог».
Достоевский и Дуров садятся в сани. Ямщик прищелкивает языком, и конвой мчится под треньканье колокольчиков по бесконечной заснеженной дороге – дороге в Мертвый дом.
Глава IV Каторга
23 января 1850 года после трехдневного санного пути сквозь снега и метели Достоевский и Дуров достигли конца своего путешествия – Омской крепости.
Омская крепость обнесена земляным валом, укрепленным частоколом из 1500 врытых в землю деревянных столбов. За крепостным валом находились дворец губернатора, канцелярия инженерного управления и корпусной штаб. Позади них тянулись казармы – старые здания, представлявшие собой грубо сколоченные деревянные срубы. Еще дальше теснились службы – кухня, сарай, амбар. Центр двора занимала большая ровная площадка, где строились арестанты для поверки и переклички.
Начальник Омского острога плац-майор Кривцов – настоящий зверь в обличье человека. Арестанты прозвали его «Васька Восьмиглазый» за его рысий взгляд, от которого ничего нельзя утаить.
Он был глуп, заносчив, жесток. Сознание неограниченности своей власти опьяняло его и доводило до диких выходок, как и водка, которую он хлестал как воду.
Когда он входил в острог и бросал вокруг злобный взгляд, шевеля слюнявыми губами, самые закаленные каторжники дрожали от страха, точно малые дети. Он не ленился вскакивать ночью, чтобы взглянуть на свое убогое стадо. Ворвавшись в острог и став посередине, этот всклокоченный, едва державшийся на ногах пьяница, придирался к трезвому арестанту под предлогом, что тот в стельку пьян.
«Другой раз при посещении ночью, – пишет Достоевский брату, – за то, что человек спит не на правом боку, за то, что вскрикивает или бредит ночью».
А на утро следовало примерное наказание – розги.
Каждый месяц Кривцов составлял рапорт о поведении заключенных и передавал его в канцелярию.
Претензии узников он объединял, изучал и сам разбирал. Он мог облегчить наказание или замучить человека до смерти, поручив ему непосильную работу. Однажды он назначил сто палок пятидесятилетнему поляку, бывшему профессору университета, за то, что этот несчастный заявил по прибытии: «Мы политические преступники, а не бандиты».
Достоевский и Дуров предстали перед Кривцовым в день приезда в острог. Они увидели человека с опухшим лицом, багровым носом, слезящимися глазами, обвисшими угреватыми щеками.
– Как твое имя?
– Дуров.
– А твое?
– Достоевский.
– Унтер-офицер! сейчас их в острог, выбрить в кордегардии по-гражданскому, немедленно, половину головы; кандалы перековать завтра же… Все отобрать. Отдать им только одно белье, и то белое, а цветное, если есть, отобрать. Остальное все продать с аукциона… Арестант не имеет собственности… Смотрите же, вести себя хорошо! чтоб я не слыхал! Не то… телес-ным на-казанием! За малейший проступок – р-р-розги!
После полудня тюремный цирюльник пришел выполнить приказ майора. Достоевскому обрили полголовы, отрезали один ус и сбрили всю бороду. Эта операция, повторявшаяся каждую неделю по субботам, превращалась в настоящую пытку, потому что бритва цирюльника была не острее обычного куска железа. Лезвие не срезало, а вырывало волосы, царапая кожу до крови. Люди корчились на табуретке, вопили, грозили бунтом.
Позже один заключенный, у которого была своя бритва, нанялся за копейку брить Достоевского.
Одежда арестанта состояла из серых штанов, серой пополам с черным куртки, с нашитым на спине желтым тузом, короткого полушубка и мягкой, без козырька фуражки.
Представьте себе на мгновение Достоевского, «писателя с будущим», друга семьи Майковых, вздыхателя Авдотьи Панаевой, в этом шутовском наряде, с головой, одна половина которой обрита, так что обнажилась бледная кожа, а другая прикрыта прядями светлых волос, с одним обвисшим усом, со скованными железом ногами посреди гогочущей, изрыгающей ругательства полудикой орды каторжников.
«Никто здесь никого не мог удивить», – напишет Достоевский в «Записках из Мертвого дома».
Разнообразие преступлений, совершенных этими заживо погребенными, могло сравниться только с разнообразием национальностей: тут были черкесы, евреи, монголы, украинцы, поляки, москвичи, тут были воры, фальшивомонетчики, убийцы, отцеубийцы, политические заключенные…
Был тут Михайло, зарубивший топором своего господина: барин сразу после венца отобрал у него молодую жену. Тот же Михайло при столкновении на этапе с конвойным вспорол ему ножом живот. Михайло был совсем молодой человек, смирный и кроткий, как девушка. Был там Аристов, шантажист, шпионивший на каторге за своими товарищами и снабжавший их водкой и картами. Был там молодой горец, который во имя духа семьи, помог братьям ограбить армянского купца. Был там и матерый разбойник, зарезавший пятилетнего мальчика, заманив его игрушкой…
Одни не сознавали себя закоренелыми грешниками, не испытывали чувства вины и никогда не рассказывали о своих преступлениях. Другие терзались угрызениями совести и жаждали кому-нибудь открыть душу. У каторжников было строгое правило: «…не надо было про это говорить, потому что говорить про это не принято». Они несколько даже и кичились способностью ничему не удивляться. Они были пресыщены, они были «отпетые». Быть каторжником считалось почетным, звание каторжника еще нужно было заслужить, этим званием можно было гордиться. Не считалось унизительным подчиняться приказам начальства. Это был взнос в ту своего рода сделку, выгодную обеим сторонам, которую осужденный заключал с государственной властью.
«Конечно, остроги и система насильных работ, – пишет Достоевский, – не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений на его спокойствие».
И среди этой омерзительной фауны – среди воров, доносчиков, убийц – Достоевский провел четыре года – самых плодотворных для творчества лет жизни.
С наступлением сумерек двери острога запирались. Это было длинное ветхое и холодное строение. Прогнивший пол покрывал толстый и липкий слой грязи. Летом маленькие окна были в зеленых подтеках, зимой залеплены инеем и снегом. Потолок протекал. Струи холода и резкие порывы ветра врывались сквозь щели в стенах.
«Нас как сельдей в бочонке, – напишет Достоевский брату. – Затопят шестью поленами печку, тепла нет (в комнате лед едва оттаивал), а угар нестерпимый – и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водою. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая. Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, „живой человек“. Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, и вшей, и тараканов четвериками».
Когда наступал вечер и затихали шаги караульных, в остроге начиналась ночная жизнь. Попойки, карты, ссоры. Некоторые каторжники, прозванные «целовальники», специализировались на торговле водкой. У них были помощники, добывавшие водку «вне острога» и прятавшие ее там, куда каторжников водили на работу. Водку наливали в бычьи кишки, обматывали вокруг тела и тайно проносили в острог. Эта «живая вода» разбавлялась поочередно каждым участником операции и, чтобы напиться допьяна, нужно было выпить ее изрядное количество, и чем дольше острожник не пьянел, тем больше это тешило его самолюбие.
Карточные игры в остроге были запрещены, но каторжники, которых называли «караульные прислужники», стояли на страже в прихожей, подстерегая появление майора, и за утрату бдительности расплачивались собственной спиной. Ссоры были частыми, буйными, остервенелыми. Среди каторжников было немало мастеров ругаться. Вокруг них, точно на конкурсе непристойного красноречия, собирался кружок почитателей. Тут были свои чемпионы, их поощряли свистом и криками. «Но впоследствии я узнал, – пишет Достоевский, – что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия».
Иногда доходило до драк – внезапных, беспричинных, бессмысленных. Потом каторжники, оглушенные, избитые засыпали на своих нарах. Медленно догорали свечи, и ночную тишину нарушали лишь храп и звяканье кандалов. В этом зловонном хлеву, в холоде, среди звуков, издававшихся человеческим стадом, Достоевский тщетно пытался забыться сном. Его сосед по нарам вытянул руку из-под одеяла и, думая, что он спит, обыскивал его карманы. Кто-то справа от него бредил во сне. Кто-то глухо кашлял в дальнем конце помещения, сморкался, икал, харкал. А кто-то вставал и в полусне, точно лунатик, брел к параше.
Федор Михайлович был ввергнут в бездну человеческого страдания, окунулся в самую гущу зла, изнуряющего плоть, отупляющего ум.
И под курткой, едва доходившей ему до колен, он нащупывал Евангелие, переданное ему женами декабристов.
На рассвете барабан кордегардии бил зорю. Офицер отпирал дверь острога. Свежий зимний воздух врывался в помещение и, смешиваясь с удушливым смрадом и молочно-белыми клубами пара, проносился по казарме. Заключенные подымались с нар, окоченевшие, угрюмые. Одни по привычке крестились, другие сразу же начинали грызться между собой. А пламя сальной свечи освещало всю сцену…
Потом, позвякивая кандалами, арестанты толпились у ведер с водой. Каждый по очереди брал ковш, набирал в рот воды и умывался, выплевывая воду в ладони и ополаскивая ею лицо.
А Достоевский, переминаясь с ноги на ногу, ждал своей очереди, согревая дыханием онемевшие от холода пальцы.
Пища была скудной: хлеб и щи, в которых плавало несколько кусочков говядины. По праздникам выдавали кашу без масла, а на Великий пост кислую капусту с водой и больше почти ничего.
«…никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы, – пишет Достоевский. – Но всякий что-нибудь работает, продает и имеет копейку. Я пил чай и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасало. Не курить табаку тоже нельзя было, ибо можно было задохнуться в такой духоте. Все это делалось украдкой».
Каторжники встретили Достоевского и Дурова настороженно. Новенькие были людьми образованными, дворянами – барами, следовательно, врагами.
Кроме того, они не понимали в чем их преступление. Кого они убили? Что украли?
«Они бы нас съели, если б им дали, – пишет Достоевский. – Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностью всевозможных оскорблений. „Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал“ – вот тема, которая разыгрывалась четыре года».
Федору Михайловичу очень хотелось завоевать расположение своих товарищей по каторге, и он острее других страдал от их заносчивости и враждебности.
Тем не менее он по доброй воле, терпеливо старался не выделяться среди них, понять их образ мыслей, вникнуть в их ссоры, уяснить их претензии. Но каторжники находили, что он нарушает меру. Раз он добивается их дружбы, значит, он ее недостоин.
Однажды каторжники, недовольные плохой пищей, решают заявить «претензии» майору Кривцову.
Достоевский к ним присоединяется.
– Ты здесь зачем? – грубо спросил один.
– Ишь, тоже выполз, – крикнул другой.
– Муходавы, – проговорил третий с невыразимым презрением.
– Ты ведь собственное ешь; чего ж сюда лезешь.
– Ах, боже мой! Да ведь и из ваших есть, что свое едят, а вышли же. Ну, и нам надо было… из товарищества.
– Да… да какой же вы нам товарищ? – спросил один с недоумением.
Достоевский вынужден был уйти.
«…всякий из новоприбывающих в остроге через два часа по прибытии становится таким же, как и все другие, – пишет Достоевский. – Не то с благородным, с дворянином. Как ни будь он справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой».
Каторгу отбывали несколько польских интеллигентов, осужденных на каторжные работы за участие в польском восстании: бывший профессор Жадовский, которого каторжники называли «святым» за то, что он без конца молился; Богуславский, прозванный «больным», а также Токаржевский и Мирецкий, оба они перед отправкой в Сибирь были наказаны палками. Но и они не понимали Достоевского и не любили его.
Воодушевленные национальной идеей, они ненавидели Россию и русских и считали за честь проявлять эту ненависть при каждом удобном случае. Они не признавали в Достоевском ни социалиста, ни демократа, ни просто «пионера свободы». Они находили его слабым и лишенным самолюбия. Они не понимали, как человек, осужденный как политический преступник, приговоренный самим императором к каторжным работам, терпевший ссылку, усталость, холод, лишения – весь невыносимый быт каторжного острога, не ропщет на судьбу, не позволяет себе ни единого слова жалобы на суровость приговора да еще провозглашает мессианскую роль монархии и народа, которые так несправедливо отступились от него. Эта покорность оскорблениям, это смирение, наслаждение этим смирением казались им всего лишь нелепой позой и выводили их из себя.
И однако Достоевский был искренен, когда признавался, что не таит зла на тех, кто искалечил его жизнь.
Есть удары такой силы, что любой протест против них – мелок и даже смешон. Есть некие таинственные знаки, которым можно только повиноваться, потому что они низводят вас до ваших подлинных – ничтожных размеров. Вы что-то делаете, пишете, разговариваете, и вдруг могучая длань хватает вас, мощный глас заглушает ваш крик, и вы превращаетесь в ничто и счастливы превратиться в ничто, не принадлежать себе, позволить неведомой силе управлять вами, играть вами, заставляя вас то проигрывать, то выигрывать, и уготовить вам будущее – то ли радостное, то ли горестное. Что за глупое тщеславие вечно добиваться первой роли! Как опрометчиво вечно пытаться победить судьбу!
Да, иногда так ощутима близость Бога, то кроткого, то карающего. И его незримое присутствие вырывает вас из привычного течения жизни. Это может длиться несколько мгновений, несколько часов, несколько дней… А потом вы чувствуете, что Его всевидящее Око отвратилось от вас – поводок ослабел… Пробил урочный час – теперь предстоит действовать самому, полагаться на самого себя – и держать ответ за содеянное.
Вот тогда-то и начинается подлинная трагедия человека.
Эти резкие повороты – от внезапных приступов апатии, овладевающих в разгар событий, к неожиданному пробуждению совести, – пережили все персонажи Достоевского, как пережил их и он сам. Раскольников, убив старуху-процентщицу, чувствует, что его воля парализована, и он принужден сам донести на себя, оправдываться, как если бы кто-то направлял его, несмотря на все его сопротивление, «…как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой… Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать».
А когда зубья шестеренки разжимаются, индивидуум может распрямиться, расправить члены и вновь почувствовать себя свободным.
Достоевский выдержал испытание каторгой с триумфом, потому что он с самого начала принял каторгу как должное. Он смог вновь обрести себя потому, что на некоторое время отказался быть самим собой. Он победил потому, что был готов проиграть.
Достоевского определили во второй разряд, то есть назначили отбывать каторгу в крепости, подчиненной военному ведомству. Во второй разряд включали самых опасных преступников. Этот разряд считался более тяжелым, чем первый, отбывавший каторгу в рудниках, и чем третий, отбывавший каторгу на заводах, потому что «устройство этого разряда – все военное, очень похожее на арестантские роты».
«Всегда-то вы там в цепях, под замком, под конвоем».
«Всегда под конвоем, никогда один… кроме того, кандалы».
Каждый день арестанты ходили на «каторжные работы». Они перевозили кирпич, вертели точильное колесо или обжигали и толкли алебастр.
«Работа доставалась тяжелая, – пишет Достоевский брату, – и я, случалось, выбивался из сил, в ненастье, в мокроту, в слякоть или зимою в нестерпимую стужу. Раз я провел четыре часа на экстренной работе, когда ртуть замерзала и было, может быть, градусов 40 морозу. Я ознобил себе ногу».
Больше всего ему нравилось перетаскивать кирпичи с берега Иртыша к строившейся казарме.
«Мне она даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось то, что от работы во мне видимо развивалась сила».
Сначала он мог таскать по шести кирпичей, а в каждом кирпиче было по двенадцати фунтов, потом он дошел до десяти и даже до целой дюжины и очень этим гордился.
Перед арестантами катил свои могучие величавые воды Иртыш. За ним расстилались бескрайние вольные степи. Воздух был свеж и прозрачен. Далекая песня киргиза доносилась с другого берега, где можно было различить обкуренную юрту, дымок над юртой и киргизку, хлопотавшую возле своих баранов.
Все здесь напоминало о свободе, бегстве, о дикой, но вольной жизни. И при виде чахлого цветка, весной вылезшего из расселины между камнями, еще больнее сжималось сердце и нестерпимее становилась тоска об утраченном…
Особенно же любил Федор Михайлович разгребать сугробы снега у казенных зданий. Лопата по самую рукоятку погружается в рыхлый снег. Медленный нажим, затем рывок – и подхваченная лопатой белая пирамида отрывается от земли, летит в воздух и разлетается блестящей пылью. И снова лопата вонзается в сверкающую на солнце снежную массу. И можно ни о чем не думать. Забыть о цепях, сковывающих израненные лодыжки. И на мгновение поддаться иллюзии, что ты свободен. Но уже выкрикивают команду и нужно строиться и, понурив голову, снова возвращаться в казарму.
Нередко какой-нибудь горожанин, разжалобившись, останавливался при виде каторжников под конвоем и совал пару копеек арестанту.
Местные власти, за исключением майора Кривцова, благожелательно относились к Достоевскому.
Однажды по причине слабого здоровья, а также, без сомнения, благодаря хлопотам друзей в Петербурге и Тобольске, Федора Михайловича направили в канцелярию инженерного управления переписывать бумаги. Целых три месяца он там отдыхал, испытывая чисто животное удовольствие. Но полковник Мартенс решил, что политическому преступнику не место в канцелярии, и вскоре Достоевский снова влился в толпу кандальников.
Унтер-офицерами на каторге были бывшие моряки Балтийского флота, разжалованные в рядовые и сосланные в Сибирь за участие в бунте в Морском кадетском корпусе. Через год ссылки их произвели в унтер-офицеры и определили нести караульную службу в самом остроге, так что в их подчинении оказались арестанты, назначавшиеся для работ внутри острога.
Нередко эти «морячки», как их ласково называли, сами выбирали арестантов для легких работ в остроге. В их число они как можно чаще включали Достоевского, начальство закрывало глаза на эти невинные поблажки.
Но однажды, когда Достоевский под предлогом «работы в кордегардии» остался в казарме, туда неожиданно вошел майор. Увидев лежавшего на нарах Федора Михайловича, он закричал:
– Это что такое? Почему он не на работе?
– Болен, – отвечал бывший в карауле «морячок».
– Вздор!.. Я знаю, что вы потакаете им!.. в кордегардию его!.. розог!
Караульные бросились выполнять приказание, а «морячок» побежал предупредить коменданта крепости. Генерал де Граве тотчас приехал, сделал Кривцову публичный выговор и запретил подвергать больных телесным наказаниям.
Кривцов выслушал выговор, стоя навытяжку, побагровев и задыхаясь от злобы.
Старший доктор тюремного госпиталя Троицкий также всячески старался облегчить участь Достоевского. Нередко под каким-нибудь предлогом он давал ему на несколько дней приют в госпитальной палате, где можно было отлежаться и передохнуть.
Достоевский облачался в грязный колпак, в пропахший запахом гноя и засохшей мокроты больничный халат. Повсюду на стенах виднелись подозрительные пятна: следы раздавленных клопов, рвоты, припарок. В палате стоял удушливый, зловонный запах. По ночам параша вносилась в палату, хотя сортир находился в двух шагах от двери.
Лампа слабо освещала изувеченные тела каторжников, тщетно искавших забвения в сне. Избитые хныкали как малые дети. Иногда унтер-офицер посылал за кузнецом: расковать мертвого.
Жена Троицкого передавала Федору Михайловичу чай, даже вино, а также французский журнал «Le Nord»[32].
Эти нарушения были раскрыты заботами ординатора госпиталя, помощника Троицкого, пославшего на него донос в Петербург. Для расследования дела из Тобольска в Омск прибыл советник уголовной палаты, который не нашел формальных доказательств вины Троицкого, и дело было прекращено.
На вопрос советника: не писал ли он чего-нибудь в остроге или в госпитале, Достоевский ответил:
– Ничего не писал и не пишу, но материалы для будущих писаний собираю.
– Где же материалы эти находятся?
– У меня в голове.
На самом деле они хранились под подушкой у старшего госпитального фельдшера.
Как-то группа каторжников работала на берегу Иртыша на разборке старой баржи, и каторжник поляк Рожновский уронил в реку топор. Конвойный приказал ему спуститься к реке и топор достать. Каторжник с ворчанием разделся, связал кандалы и нырнул в воду. Достоевский и еще один арестант удерживали его за веревку. Плац-майор, по обыкновению пьяный, объезжал работы. Он крикнул:
– Не задерживать работ, пусть сам знает, бросьте веревку.
Ни Достоевский, ни его товарищ не послушались. Кривцов побелел от злости, лицо его задергалось.
– В кордегардию после работ! – приказал он.
Вечером Достоевский вернулся в казарму бледный, с блуждающим взглядом, перекошенным ртом. Позже посреди ночи каторжников разбудил животный визг. Достоевский катался по полу, сотрясаемый припадком падучей, и бился головой об стену. Его пришлось связать.
Был ли Федор Михайлович действительно подвергнут телесному наказанию по приказу Кривцова или же описанный эпизод всего лишь легенда? Мнения об этом расходятся.
Наказание розгами дворянина было серьезным событием в каторжном доме. Когда ссыльный поляк Жадовский был, действительно, высечен, весь город Омск узнал об этой экзекуции и осудил бессмысленную жестокость майора. Однако среди жителей города не было собрано никаких сведений о наказании Федора Михайловича.
«Никогда, – пишет доктор Яновский Майкову 12 марта 1881 года, – я ничего подобного не слышал ни от Федора Михайловича, ни от его брата Михаила Михайловича, хотя я неоднократно и с полной откровенностью с ними беседовал».
И добавляет:
«Недавно в Женеве я долго говорил с нашим протоиереем А.К. Петровым. Он лично знал Достоевского и знал его вдову. Он сказал мне, что Федор Михайлович часто и искренно с ним разговаривал и никогда даже не намекал на такое „страшное и незабываемое“ событие».
Не менее категоричен и барон Врангель:
«Могу засвидетельствовать со слов самого Ф.М., что ни на каторге, ни в бытность его бессрочным солдатом его никогда никто из начальства или товарищей каторжников, или солдат – пальцем не тронул».
И Любовь Достоевская, дочь Федора Михайловича, опровергает в таких выражениях публикацию, появившуюся в «Новом времени»:
«Не знаю, откуда могла появиться в литературе нелепая, ни на чем не основанная легенда о телесном наказании, которому якобы подвергся мой отец на каторге».
Как бы там ни было, не подлежит сомнению, что предрасположенность Достоевского к эпилепсии развилась на каторге. Если первый приступ произошел после смерти отца, если более или менее сильные припадки происходили у юного писателя в Петербурге, то острую форму «королевская болезнь» приняла в Мертвом доме.
«…до возвращения его из Сибири, – пишет Милюков, – я не подозревал этого; но, когда он приехал в Петербург, болезнь его не была уже тайною ни для кого»…
В марте 1852 года комендант Омской крепости ходатайствовал перед властями о позволении перевести каторжников Достоевского и Дурова в категорию «исправившихся» и снять с них кандалы.
Прошение, преодолев все административные инстанции, попало к императору – он его не подписал.
И потекла прежняя жизнь, изнуряющая, однообразная, когда один день похож на другой «как две капли воды».
Перед праздниками арестантов водили в баню. Баня была тесная, жарко натопленная, заполненная клубами белого горячего пара. Сотня каторжников набивалась в нее. Они шлепали по грязи, проталкивались к лавкам, обрызгивали друг друга горячей водой, хлестались березовыми вениками, их голые тела выглядели еще уродливее, чем в арестантской одежде. На распаренных спинах выступали лиловые вспухшие рубцы от полученных когда-то ударов плетей или палок. Они гоготали, гремели цепями, требовали поддать еще пару.
«Из облака пара, – пишет Достоевский, – замелькают избитые спины, обритые головы, скрюченные руки, ноги… Мне пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место».
Дни Великого поста на каторге пробуждали в душе Федора Михайловича впечатления детства, наполняя сердце пронзительной печалью. Он вновь видел себя ребенком, с трепетом входящим в ярко освещенную церковь, до самого свода заполненную пением хора, подобным рокоту моря, и воздухом, пропитанным запахом ладана; под звуки торжественных песнопений и молитв его тело и охваченная восторгом душа как будто бы рождались заново.
Когда-то он с жалостью посматривал на простых людей, толпившихся у входа в церковь.
«Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то не так, как у нас, молились смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным сознанием своей приниженности.
Теперь и мне пришлось стоять на этих же местах, даже и не этих: мы были закованные и ошельмованные; от нас все сторонились, нас даже как будто боялись, нас каждый раз оделяли милостыней, и, помню, мне это было как-то приятно, какое-то утонченное, особенное ощущение сказывалось в этом странном удовольствии».
В дни больших церковных праздников арестанты облачались в чистые рубахи и считали делом чести проявлять предельную вежливость по отношению к тюремному начальству. Еда была сытная и подавалась на покрытых белой скатертью столах.
Но уже к вечеру все каторжники бывали пьяны как свиньи, гнусны, в кровь избиты. Черкесы, пившие только воду, усаживались на крылечке и с брезгливым любопытством наблюдали за выходками пропойц. Те горланили. Затягивали песни. Играли на балалайке. Блевали. Заводили нескончаемые ссоры.
«Мало-помалу, – пишет Достоевский, – в казармах становилось несносно и омерзительно. Конечно, было много и смешного, но мне было как-то грустно и жалко их всех, тяжело и душно между ними».
На третий день праздников каторжники ставили спектакль. Театр устраивался в помещении военной казармы. Скамьи предназначались для унтер-офицеров, стулья – для лиц высшего офицерского звания, на приход которых надеялись. Позади скамеек стояли арестанты без шапок, с обритыми головами, с выражением детской радости на покрытых шрамами и клеймами лицах.
«Всем хотелось себя показать перед господами и посетителями с самой лучшей стороны».
Наконец занавес поднимался, открыв декорацию. Арестанты, игравшие роли вельмож и светских женщин, как и их сотоварищи, оставались в кандалах, таская их за собой по полу.
«Ужасно любопытно было для них (зрителей. – А.Т.), – пишет Достоевский, – увидеть, например, такого-то Ваньку Отпетого, али Нецветаева, али Баклушина совсем в другом платье, чем в каком столько уж лет их каждый день видели. „Ведь арестант, тот же арестант, у самого кандалы побрякивают, а вот выходит же теперь в сюртуке, в круглой шляпе, в плаще… точно сам ни дать ни взять барин!“»
Праздники кончались, и жизнь каторги текла по-прежнему. Дни проходили за днями, месяцы за месяцами. Кошмар монотонности затягивал Федора Михайловича. Ни одной близкой души. Нечего читать, кроме нескольких, редко попадавшихся, французских журналов и Евангелия. Это одиночество было худшим из мучений.
Если бы можно было хотя бы поддерживать связь со своими! Но каторжникам запрещалась частная переписка, кроме отдельных, исключительных и строго ограниченных случаев.
И Михаил, со своей стороны, не посылал писем в Сибирь из страха перед репрессиями. Он был женат, был главой большой семьи. Он пострадал от несправедливого ареста. Он боялся скомпрометировать себя, боялся повредить Федору Михайловичу, написав ему письмо.
Выйдя из каторги, Достоевский сразу же посылает брату Михаилу письмо, полное трогательных упреков:
«Скажи ты мне ради Господа Бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки? И мог ли я ожидать этого?.. Я писал тебе письмо через наш штаб. До тебя оно должно было дойти наверное, я ждал от тебя ответа и не получил. Да неужели тебе запретили? Ведь это разрешено, и здесь все политические получают по нескольку писем в год… Кажется, я отгадал настоящую причину твоего молчания. Ты, по неподвижности своей, не ходил просить полицию или если и ходил, то успокоился после первого отрицательного ответа, может быть, от такого человека, который и дела-то не знал хорошенько».
Михаил старается оправдаться в малоизвестном письме от 18 апреля 1856 года:
«После нашей разлуки с тобою спустя месяца три я начал хлопотать о дозволении писать к тебе. Видит Бог и моя совесть, я хлопотал долго и усердно. Я ничего не выхлопотал. Мне отвечали на основании законов, что до тех пор, пока ты на каторжных работах, это невозможно… Насчет тайной переписки я был достаточно предупрежден, чтобы осмелиться на нее. И потому я решил помогать тебе, если представятся случаи, но не компрометировать ни тебя, ни себя ни единою строкою. Брат, друг мой, у меня шесть человек детей, я находился и, может быть, еще нахожусь и теперь под надзором, брат, скажи мне, не была ли простительна с моей стороны подобная решимость?»
Приходится отметить, что и после освобождения Федора Михайловича Михаил не стал писать ему чаще.
В последний год каторги Достоевскому жилось легче, чем в первый. Федор Михайлович завоевал расположение нескольких каторжников, завел знакомства в городе, получил разрешение читать некоторые книги.
«…трудно отдать отчет о том странном и вместе волнующем впечатлении, которое произвела во мне первая прочитанная мною в остроге книга… Это был нумер одного журнала… Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее; отыскивал следы того, что прежде, в мое время, волновало людей, и как грустно мне было теперь на деле сознать, до какой степени я был чужой в новой жизни».
Наконец листья на деревьях начинают желтеть, вянет трава в степи, и вот уже падает первый снег, и в воздухе кружатся легкие снежинки. Час освобождения близится. Достоевский ждет терпеливо и спокойно. Каторжники, встретясь с ним во дворе, поздравляют его:
– А что, – отвечает он, – вам-то скоро ли?
– Мне-то! Ну, да уж что! Лет семь еще я промаюсь, – отзывается тот и рассеянно, точно заглядывая в будущее, поднимает взгляд к небу.
Накануне самого последнего дня в сумерках Федор Михайлович, как обычно, обошел весь острог. Мысленно, серьезный и печальный, он прощается с почернелыми бревенчатыми срубами казарм, за четыре года еще более обветшавшими. Здесь, за этой оградой погребена его юность, здесь погребены его надежды. Он выходит из каторги уставшим, постаревшим, разочарованным, и снова ему предстоит бороться, страдать, жить… Ради чего? Ради кого?
На другое утро еще до выхода на работу Достоевский обошел все казармы и попрощался с арестантами.
«Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они… Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью».
Все отправились на работу, а Достоевский идет в кузницу. Кузнецы-арестанты снимают с него кандалы.
Удар молотка. Кандалы падают. Достоевский поднимает их, держит в руках, долго смотрит на них в последний раз.
«Ну, с Богом! С Богом!» – повторяют каторжники.
Но Федор Михайлович не двигается. Горло перехватывает желание рыдать, кричать.
Свободен! Свободен!.. Пошатываясь, он выходит из кузницы, останавливается, обращает взгляд в небо.
Достоевский вышел из каторги около 15 февраля 1854 года и только в марте был переведен в Семипалатинск.
Две недели он жил в Омске у своих друзей Ивановых.
Мадам Иванова была дочерью декабриста Анненкова. Она встречала Достоевского на его пути в Тобольск. Во все время его заточения она и ее муж проявляли чудеса изобретательности, чтобы облегчить участь писателя, передавали ему то немного денег, то какую-нибудь домашнюю еду.
«К.И. И<вано>в был мне как брат родной. Он сделал для меня все, что мог… Я должен ему рублей 25 серебром», – писал Достоевский брату.
Федор Михайлович был отправлен по этапу в Семипалатинск, где стоял 7-й линейный Сибирский батальон, куда он был зачислен рядовым.
Шли пешком, шагая по изрытым, разбитым дорогам. По пути бывших каторжников догнала повозка, груженная канатами. Достоевский и его спутники взбираются в повозку и устраиваются на связках канатов. Повозка неторопливо двигается вперед. Воздух свеж. Высоко в небесном безмолвии плывут облака. Душу Федора Михайловича переполняет счастье, волнение и неизъяснимое чувство благодарности.
Глава V Три откровения
В поэме «Несчастные» Некрасов, по его собственному признанию, описал жизнь Достоевского в остроге. В этой поэме политический преступник, «молчальник» и «белоручка», поначалу чувствует враждебность каторжников. Но однажды ночью у изголовья умирающего он потребует от «буйно веселящихся» острожников молчанием почтить последние мгновения жизни товарища. Он завоевывает их уважение, доказывает свое нравственное превосходство и становится их учителем.
Когда Федор Михайлович вернется в Петербург, Некрасов покажет ему поэму «Несчастные» со словами: «Это я об вас написал».
И Достоевский ответит ему:
«Напротив, это я ученик каторжников».
Да, он многому научился у каторжников, и обучение каторгой повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Четыре года каторги – резервуар, питавший его гений. Эти четыре года – центр его жизни. Они делят его на две равные половины: есть Достоевский до «Записок из Мертвого дома» и Достоевский после «Записок из Мертвого дома». Разумеется, это не две разные личности, но вторая богаче первой, вторая осуществляет то, что первая только обещала.
Федор Михайлович поочередно то проклинает, то благословляет «сибирский период». В письмах, написанных после освобождения, стенания причудливо чередуются со словами благодарности и выражением христианского смирения.
«Никогда один, и это четыре года без перемены, – право, можно простить, если скажешь, что было худо.
Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал.
Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно.
Я в каком-то ожидании чего-то… и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто бы созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное.
Вообще каторга многое вывела из меня и много привила ко мне.
…это мой крест, и я его заслужил.
А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное это было время, не в силах я рассказать тебе, друг мой… Во все 4 года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я в каторге».
В «Записках из Мертвого дома» Достоевский рассказал об испытании, которым стала для него сибирская каторга. Правда, предосторожности ради он вывел себя в образе некоего Александра Петровича Горянчикова, «сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей». В действительности же все, что он описывает, произошло с ним самим, он сам все это видел и все это пережил и рассказал об этом с ужасающей трезвостью.
Когда Федор Михайлович опубликовал свою книгу, тюремные порядки были уже иными. Реформы Александра II смягчили варварский режим, установленный Николаем I. Телесные наказания запретили, ввели контроль строгий за острожным начальством. Так что произведение Достоевского обличало порядки, уже осужденные самим царем.
Цензура разрешила издание «Записок» при условии исключения мест, «противных по неблагопристойности выражений своих правилам цензуры».
Впрочем, Достоевский позаботился дополнить текст авторскими примечаниями вроде таких:
«Все, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в мое время. Теперь, я слышал, все это изменилось и изменяется».
Или:
«Буквальное выражение[33], впрочем в мое время употреблявшееся не одним нашим майором, а и многими мелкими командирами, преимущественно вышедшими из низших чинов».
Неверно было бы думать, что, написав «Записки из Мертвого дома», Достоевский окончательно сбросил с себя бремя каторги. Это произведение, замечательное по содержавшейся в нем правде о человеке, честное до жестокости, – только первый взнос, почерпнутый из сокровищ, накопленных за четыре года страданий и размышлений.
Достоевский увидел целый мир. Он мастерски его описал. Но он израсходовал лишь мелкую монету из своей кладовой. Он освободился от нее, так же как освобождаются от балласта, выбрасывая его за борт.
Избавившись от балласта, он может набрать высоту. Он может отказаться от сибирской живописности, забыть об обритых наголо головах, о перекошенных ртах, о непристойной брани – и осмысливать невыразимые уроки каторги. Он рассказал о том, что он наблюдал. Ему остается рассказать о том, чему он научился. И всей его жизни не хватит на то, чтобы благополучно довести до конца эту работу.
Встреча с народом, встреча с Россией, встреча с Евангелием. Это тройное чудо свершилось в смрадной арестантской казарме, в глухом краю, когда близкие писателя считали, что он навсегда заживо погребен в недрах Сибири.
С начала XIX века европейская культура быстро распространялась среди русской элиты – огромная империя еще не готова к ее восприятию. Эта культура – искусственная продукция: у нее нет традиций, в ней нет ничего магического. Интеллигенция находится между двумя равной силы притяжения полюсами. Над ней – царь, власть которого освящена церковью. Царь – воплощение единства нации, личное выражение верховного начала, царь – высшее олицетворение национальной жизни. Под ним народ. Народ неотесанный, непостижимый, неподатливый. Интеллигенции невозможно слиться с народом, как невозможно и узурпировать императорскую власть. Царь и народ – две составляющие, навечно слитые воедино, над ними не властно время, и сила этого веками создававшегося единства в самой его неизменности. Чудо единения царя с народом – непостижимо. У каждого из них своя тайна. В них нужно просто верить, ибо они в буквальном смысле слова отличны от вас.
Этот головокружительный зов народа – феномен, неизвестный Западу. Он возможен только в стране, где социальные классы четко противопоставлены: интеллигенция – народ. На одной стороне утонченная европейская культура, на другой – варварское невежество. Оба эти мира резко разграничены. Элита малочисленна – народ бесчислен. И эта горсточка по-европейски образованных людей загипнотизирована народной массой. Она боится быть ею поглощенной, но хотела бы ее понять, узнать ее и – господствовать над ней. И чем меньше она понимает народ, чем меньше она его знает, тем больше она им восхищается.
Федор Михайлович еще ребенком тянулся к мужикам Дарового и пациентам Мариинской больницы. Он и позже в Петербурге интересовался народом, но это был интерес, так сказать, «материалистический»: предполагавший уничтожение крепостного права, отмену телесных наказаний, введение школ в деревнях. На каторге он взглянул на народ под совершенно иным углом зрения.
Вот он наконец лицом к лицу с народом, живет бок о бок с ним, соприкоснулся с ним вплотную. Он горит желанием сродниться с народом, но народ отвергает его: он барин, он не может стать мужиком. Родившись барином, он не может внезапно превратиться в мужика.
Отказ принять его, признать его своим он переносит без обид, стоически, но с грустью. Все четыре года каторги он живет одиноко среди этого чуждого ему племени. Все четыре года его неотступно преследует мысль о слиянии с этим запретным миром. Все четыре года он наклоняется над этой пропастью, не желающей его поглотить. Он живет среди зверей в человеческом облике. Он страдает от их скотства, глупости, злобности.
«Все каторжные говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, „живой человек“».
Но мало-помалу он убеждается, что у них есть душа. «И в каторге, – пишет он брату, – между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото».
Это открытие завораживает, преследует его. Народ не развит, не образован. Народ – все те, кто работает руками, те, кто не рассуждает, а чувствует. Народ – носитель исконной русской жизни. Мужик прежде всего дитя. Он сохранил в себе детское простодушие. Он уберегся от культуры, социальных условностей, разного рода ученой лжи. Он близок к Богу. Народ владеет, сам того не сознавая, тайной жизни по божеским законам. Обратиться к народу, сблизиться с народом, значит, приблизиться к Богу.
Впоследствии Достоевский будет неоднократно возвращаться к этой мысли в романах и в «Дневнике писателя».
Вспомним мужика Марея. Маленький Федор, испуганный криком «Волк! Волк!», бежит к Марею, хватает его за рукав, а тот с робкой нежностью прикасается к его губам своим толстым, запачканным в земле пальцем и кротко успокаивает его:
«Христос с тобой».
«Что за чудный народ, – пишет Достоевский в письме от 22 февраля 1854 года. – Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».
Вскоре Достоевский отведет русскому народу поистине мессианскую роль. Пока же он довольствуется тем, что просто любит его, – любит смиренной любовью.
Несколько лет спустя, рассказывает В. Перетц, когда Достоевский был у Сусловых, один молодой врач упрекнул Достоевского за его мистические идеи о будущем России и в упор задал вопрос:
– Да кто вам дал право так говорить от имени русского народа и за весь народ?!
Достоевский быстрым неожиданным движением открыл часть ноги – и кратко ответил изумленной публике, указывая на следы каторжных оков:
– Вот мое право!
Эта идеализация народа, это презрение к культуре тем более живучи у Достоевского, что он долго был отрезан от образованного мира. Он не получает писем, не читает книг. Единственный источник духовной пищи – Евангелие, а в Евангелии сердце торжествует над разумом. Размышления над Библией имели первостепенное значение для того духовного переворота, который совершался в Достоевском. Отныне все его произведения, вся его жизнь будут отражением заветов Евангелия.
И разве его романы зрелой поры не деяния современных апостолов, осененных благодатью, ввергнутых в сомнения, эти сомнения преодолевающих, отвергающих Бога и вновь его обретающих, толкаемых на путь к неизреченному знанию?
Изучение священных текстов смещает линию горизонта в мире Достоевского. Не земные радости и не земные горести будут терзать его героев. Его романы станут как бы двухэтажными. На нижнем этаже будет протекать повседневная жизнь с ее обычной суетой: завистью, борьбой за существование, погоней за деньгами, стремлением превзойти ближнего.
На верхнем этаже развернется подлинная человеческая драма: искания Бога, поиски духовного обновления человека.
Пусть студент убил старуху процентщицу, пусть сын ненавидит отца, до того, что желает ему смерти, пусть злой муж кается перед запертой дверью жены, – все это лишь аксессуары, обрамление настоящего действия: подлинная трагедия разыгрывается не там, она разыгрывается в области морали – в области возвышенного. Она происходит на взлете души. Единственное счастье, как и единственное несчастье, которые принимаются в расчет, свершаются не в мире земном. Герои Достоевского презирают все материальное, они не ищут комфорта, богатства, места в обществе или семейного счастья – их мучат не мирские желания. Их души жаждут слиться с бесконечным – они жаждут душой слиться с Богом.
«Меня Бог всю жизнь мучил», – восклицает Кириллов в «Бесах». И это мучение Богом – мучение самого Достоевского.
Душа его неутомимо взыскует веры и любви, но Федор Михайлович никогда не испытывал веры теоретически обоснованной, любви застывшей. Он страстно жаждет уверовать, но дьявольская проницательность удерживает его у самой границы благодати, за которой начинается истинная вера. Он сам себя изводит вопросами. Ищет ответы в Писании. Он спорит, вместо того, чтобы поверить без рассуждений.
«Я скажу Вам про себя, – пишет он госпоже Фонвизиной, – что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же. Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе Символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
Такую позицию – позицию недоверия к официальной церкви Достоевский занимает, ничего не зная о Кьеркегоре[34]. Для него вера не есть что-то раз навсегда данное. Веру нужно постоянно защищать от врагов: неверующих, колеблющихся, ее надо защищать от самого себя.
Религиозный экстаз подогревается сомнениями. Мистическое отчаяние разжигается фанатизмом. Угроза придает особую цену угрожаемому объекту. Вера – это риск. Церковь с ее отработанными ритуалами – исповедями, отпущениями грехов – уменьшает этот риск. Церковь делает веру доступной каждому. Церковь обеспечивает веру с комфортом. А Достоевскому ненавистен любой комфорт – философский ли, нравственный ли. Он предпочитает сражаться за веру в одиночку. Он хочет самостоятельно найти свой путь.
«…через большое горнило сомнений моя осанна[35] прошла».
И в самом деле, все его творчество станет пением осанны. Или, точнее, с первыми звуками этого пения начнется его настоящее творчество.
Глава VI Семипалатинск
Семипалатинск – типичный азиатский городок, куда сходились караваны верблюдов. Он застроен одноэтажными бревенчатыми домиками, их окна выходят во внутренний двор, чтобы у прохожих не было искушения подглядывать за мусульманскими женщинами, занимавшимися в комнатах домашними делами. Двери у домов низкие, дабы хозяину было сподручнее снести голову чужаку, осмелившемуся проникнуть в его жилище. Вдоль улиц, на которых не было ни одного фонаря, тянулись бесконечные заборы. Улицы были немощеные, нигде ни деревца, ни кустика – кругом сыпучий, сухой, горячий песок, в котором по щиколотку увязали ноги. При порывах ветра песок поднимался, закручиваясь в вихри, хлеставшие прохожих в лицо. Под струями дождя песок превращался в сероватую густую, быстро затвердевавшую грязь.
В центре города в окружении семи мечетей стояли каменная церковь и казарма пехотного полка, неподалеку находились аптека, уездная школа и галантерейная лавка, где можно было купить все – от простых гвоздей до парижских духов и даже кое-что из еды. Но это и все. Книг не было, почта приходила нерегулярно, газета была редкостью и переходила из рук в руки, пока не зачитывалась до дыр. Молчание, затерянность, одиночество пустыни…
Пять-шесть тысяч жителей – купцы-татары, солдаты, чиновники – составляли все население городка.
За казацкой слободкой разбили свои юрты пастухи-киргизы.
Город существовал уже более ста лет. Крепость, построенная в 1718 году, с тех пор мало изменилась.
Нередко отряды кара-киргизов устраивали набеги на город. Тогда поднимали гарнизон и кое-как отбивали наскоки восставших ханов.
По прибытии в Семипалатинск Достоевский был записан рядовым в 1-ю роту 7-го Сибирского линейного полка.
В сибирской армии солдатская доля была тяжкой. Весь день солдаты проводили в строевых учениях: маршировка, несение караула, наряды, смотры, парады. По ночам стояли на часах на каком-нибудь затерянном участке на краю степи. Эти учения и ночные бодрствования изматывали Федора Михайловича.
«Приехал я сюда в марте месяце, – сообщает он брату. – Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал свое дело не хуже других… Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов. Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил».
Батальон состоял из сосланных помещиками крепостных, солдат-наемщиков, отбывавших службу за других, и разного рода ссыльных. Умственный уровень гарнизона не слишком отличался от каторжного. Достоевский снова попал в общую казарму, с ее смрадом, ссорами, побудками на рассвете…
Соседом Достоевского по нарам был кантонист 17-летний Кац. Федор Михайлович участливо относился к нему, завоевал его доверие, предложил держать общую кассу. Они по очереди ходили в город за покупками, потом варили на кухне кашу или капусту. По очереди чистили амуницию, по очереди начищали до блеска ремни. На сэкономленные деньги Кац завел самовар. И нередко несколько чашек чая заменяли Федору Михайловичу несъедобный обед в солдатской столовой. Батальонная пища была хуже некуда. Официально на содержание одного солдата отпускалось 4 копейки, но из этих 4 копеек ротный командир, кашевар и фельдфебель удерживали в свою пользу полторы копейки. Это как будто бы крошечное хищение приносило расхитителям 744 рубля в год. Весь Семипалатинск знал об этом, но никому и в голову не приходило протестовать.
С бесконечным терпением Достоевский старался завоевать расположение товарищей по полку. Подменял их на дежурствах. Делил с ними еду, которую добывал на стороне. Даже одалживал им деньги. Начальство было им довольно. Друзья в Омске хлопотали за него, и наконец ему было разрешено поселиться в городе.
Он снял комнату недалеко от казармы у солдатской вдовы. Изба была бревенчатая, обветшавшая, вросшая в землю. Во дворе находился колодец с журавлем. Достоевский занимал комнату, где из-за низкого потолка всегда царил полумрак. Бревенчатые стены были обмазаны глиной и увешаны лубочными картинками. Всю обстановку составляли широкая скамья, кровать, стол, стул и дощатый ящик, служивший комодом. Угол возле двери занимала большая русская печь. Постель отделялась от комнаты ситцевой перегородкой. Федор Михайлович платил хозяйке за комнату, стирку и стол пять рублей в месяц. Еще немного денег вдова прирабатывала на двух своих дочерях, которым служила сводней. «Эх, барин, – говорила она о младшей, – все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель и честь».
20 ноября 1854 года молодой барон Врангель прибыл в Семипалатинск и вступил в должность прокурора Западной Сибири. Ему двадцать два года. У него красивое, окаймленное черными бакенбардами лицо. На нем элегантный, сшитый в Петербурге мундир. Этот отпрыск знатной семьи совершенно растерялся, оказавшись в забытой богом глуши, за несколько тысяч верст от столицы. Что он будет делать здесь целых два года среди невежественных людей, в затерянном среди песков городке, где единственные развлечения охота и рыбная ловля?
Перед отъездом из Петербурга он побывал у Михаила Достоевского, и тот передал для брата письмо и книги. Барон Врангель знал Достоевского только по его произведениям. Однако по одному из тех необъяснимых совпадений, которые случаются в жизни, он, будучи еще лицеистом, присутствовал «на казни» «петрашевцев».
«Я видел, – вспоминает Врангель, – как на эшафот всходили какия-то фигуры, как внизу около него к вкопанным в землю столбам привязывали в белых саванах людей, как их отвязывали, потом подъехали тройки почтовых с кибитками и те же повозки, что я видел на Литейной, – и вскоре площадь опустела; народ разбрелся, крестясь и благословляя милость царя».
Врангель, нанеся обязательный визит военному губернатору области, послал слугу разыскать Достоевского.
Федор Михайлович встретил посланца с подозрением. Кто этот барон Врангель? Что ему нужно? Звание прокурора не внушало доверия. Все же он принял приглашение на чашку чая.
В назначенный час в комнату барона Врангеля вошел солдат в серой солдатской шинели с красным стоячим воротником и красными погонами. Он немного сутулился, руки были свободно опущены. Болезненно бледное лицо и приплюснутый нос усыпаны веснушками. Серо-стальные глаза смотрели угрюмо и печально. Светло-русые волосы коротко острижены. Незнакомец казался раздраженным и обеспокоенным. Он ждал объяснений. Когда барон Врангель рассказал ему о встрече с его братом в Петербурге, передал посылки и письма от Михаила, лицо Достоевского осветила детская радость. Он сразу переменился, повеселел и попросил разрешения тут же прочесть письма. Слезы выступили у него на глазах, когда он читал письмо от брата.
Врангель, тоже получивший целую груду писем, вскрыл несколько конвертов, стал читать весточки из Петербурга от родных и друзей. От этого напоминания о далекой счастливой жизни у него сжалось сердце. Он вдруг почувствовал себя одиноким, оторванным от всего, что было ему дорого. Молодой прокурор и государственный преступник стояли друг перед другом в сибирской глуши, вдали от тех, кого любили, от тех, кто мог их понять, оба забытые судьбой, одинокие, потерянные…
Позабыв о достоинстве прокурора Его Величества, барон Врангель разразился рыданиями и бросился на шею стоявшему перед ним солдату Достоевскому. В это мгновение родилась их дружба.
«Судьба сблизила меня с редким человеком, – пишет Врангель родителям, – как по сердечным, так и умственным качествам; это наш юный несчастный писатель Достоевский. Ему я многим обязан, и его слова, советы и идеи на всю жизнь укрепят меня… Узнайте, добрый папенька, Бога ради, не будет ли амнистии».
И еще: «…неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах. Это было бы ужасно. Горько и больно за него – я полюбил его, как брата, и уважаю, как отца».
Он больше, чем любил его, больше, чем уважал, – он всеми доступными ему средствами пытался облегчить ему жизнь.
Общество высших чиновников Семипалатинска приняло с распростертыми объятиями молодого аристократа, с изящными манерами, одетого с безупречным вкусом, с точеными, точно рисунок на медали, чертами лица. Тотчас стало известно, что его сопровождает личный слуга, что барон снял просторную квартиру, нанял экипаж и что его жалованье прокурора позволяет ему жить на широкую ногу. Мужчины важно говорили о его аристократическом происхождении и блестящем будущем. Дамы им восторгались. Девицы на выданье видели его во сне.
Объехав с визитами всю эту провинциальную колонию, барон Врангель задался целью ввести Достоевского в общество. Деликатное это было дело. Все знали, что Достоевский бывший каторжник. Кроме того, его грубый серый мундир с красным воротником внес бы диссонанс в любой даже самый скромный праздник. Барону намекали на нежелательность визитов бывшего колодника, напоминали, что прокурор должен быть разборчивым в знакомствах больше, чем кто-либо другой. Врангель никого не слушал. Он так успешно добивался своего, что генерал Спиридонов, военный губернатор Семипалатинской области, согласился пригласить Достоевского к себе домой: «Ну, ну, приходи с ним, да запросто, в шинели, скажи ему».
Генерал Спиридонов был добрейший человек, гуманный, хлебосольный. Он быстро распознал высокие достоинства Достоевского и пригласил его приходить так часто, как он сам захочет.
Пример, поданный высшим эшелоном местной власти, распахнул перед бывшим кандальником двери светских гостиных. Командир батальона полковник Белихов, еще раньше вызывавший к себе солдата Достоевского читать ему вслух газеты и журналы, не упускал случая пригласить его к обеду. Жена лейтенанта Степанова читала Достоевскому свои стихи и просила их поправлять. Полковник Мессарош, заядлый игрок, организовавший в Семипалатинске военный оркестр, не мог больше обходиться без Федора Михайловича. Серая шинель писателя и блестящий мундир прокурора мелькали рядом на всех светских собраниях.
Однако Достоевский неохотно откликался на приглашения военных и гражданских хозяев Семипалатинска. Он смертельно скучал в этих провинциальных гостиных и предпочитал проводить вечера в беседах со своим новым другом.
Вернувшись со службы, Федор Михайлович сразу же отправлялся к барону Врангелю, устраивался удобно в кресле, расстегивал воротник мундира и раскуривал трубку. В это время он обдумывал новые произведения: «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково» и «Записки из Мертвого дома». Он был в веселом расположении духа, распевал арии из опер, рассказывал своему юному другу эпизоды из будущей книги и радостными возгласами встречал Адама, – слугу, портного и повара в одном лице, когда тот вносил в комнату кастрюлю со стерляжьей ухой.
Этот Адам был хмурый, неряшливый пьянчужка с испитым лицом, кривыми ногами и вздернутым носом. Часто он садился под окнами и затягивал сиплым унылым голосом протяжную песню, такую жалобную и так надрывавшую душу, что друзья после долгих уговоров, потеряв терпение, выливали ему на голову кувшин воды, дабы привести его в чувство.
Когда со стола было убрано, Федор Михайлович не торопился затевать с Врангелем литературный спор. Он читал ему наизусть «Египетские ночи» Пушкина или целые страницы из «Мертвых душ». Он уговаривал его бросить «профессорские книги» и заняться поэзией. Нередко Федор Михайлович рассказывал ему о себе. Вспоминал детство, дружбу с братом Михаилом, свой литературный дебют… Но избегал всякого намека на процесс «петрашевцев».
Поздно ночью Федор Михайлович возвращался в свою закопченную избу, зажигал сальную свечку и брался за перо.
«Записки из Мертвого дома» частично написаны в этой дощатой лачуге при слабом свете сального огарка. Медленно смеркалось. Слышался лай собак. За перегородкой вдова ворочалась на своем тюфяке и охала во сне.
Через некоторое время Федор Михайлович отодвигал исписанные страницы, откладывал перо: ему не работалось.
«Я не мог писать, – признается он Майкову. – Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать».
Что же это было за «обстоятельство»? Что же это был за «случай»?
Глава VII Мария Дмитриевна Исаева
Незадолго до приезда в Семипалатинск Врангеля Федор Михайлович познакомился с семьей Исаевых.
Мария Дмитриевна Исаева – молодая женщина лет тридцати, сухощавая блондинка с мелкими чертами лица и твердой линией рта. Ее организм уже подточен чахоткой. При малейшем волнении ее щеки заливал нездоровый румянец, а в глазах появлялся лихорадочный блеск. Она была натурой нервной, болезненно экзальтированной. Ее отец, полковник Констан, сын французского эмигранта, занимал должность директора карантина в Астрахани. Все три дочери месье Констана получили хорошее по тем временам воспитание. Они бывали в свете, танцевали на балах, и Мария с очаровательной грацией исполняла танец с шалью. Она гордилась своими светскими успехами и мечтала поскорее покинуть пустынные берега Каспийского моря и занять место в обществе. Ей казалось, что она сделала блестящую партию, выйдя замуж за молодого учителя гимназии. Увы, бедняга, вовсе не глупый и не злой, оказался горьким пьяницей.
Он терял одно место службы за другим и наконец очутился в Семипалатинске с женой и сыном на руках. Но и здесь, как и на прежних местах службы, был уволен из школы за свои пьяные выходки.
Бывший учитель, оставшийся без места, без средств к существованию и надежд на будущее, топил в вине сожаления о загубленной жизни. Его жена с гордостью, обостренной несчастьями, пыталась скрыть от посторонних глаз нужду, в которую впала семья. С утра до вечера она штопала, мыла, убирала. Перед этими провинциалами, жестокими и жадными до сплетен, она разыгрывала комедию семейного благополучия и удовлетворенного самолюбия. А в это время ее муж проводил целый день в городе, праздный, опустившийся, болтливый… Он встретился с Достоевским на квартире подполковника Белихова. Оба они прониклись друг к другу странной симпатией. Чем привлекало Федора Михайловича общество этого пьяницы? Жалел ли он его? Вероятно. Но несомненно также, что он чуял в нем великолепную дичь для будущих романов. Этот плаксивый пьянчужка, часами разглагольствовавший об уделе человека, о познании Христа, о добре и зле, о культуре и варварстве, всплывет в его памяти, когда он будет создавать незабываемую фигуру Мармеладова в «Преступлении и наказании»; Мармеладов – бывший чиновник, его жена умирает от чахотки, а дочь продает себя, и он пьет, дабы достичь крайней степени отчаяния:
«Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне всласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез!»
И как Мармеладов приводит к себе студента Раскольникова, так Исаев представляет своей жене Достоевского. Встреча в жизни вышла более радушной, чем в романе. Мадам Исаева в восторге от знакомства с человеком из общества: с ним можно поговорить о литературе, приемах, о политике, ему можно рассказать об успехе ее танца с шалью.
Она по-дружески отнеслась к солдату Достоевскому, горячо сочувствовала его горестям, даже искренне к нему привязалась, но при этом, как считает Врангель, ничуть не была в него влюблена.
«Она знала, – пишет он в своих воспоминаниях, – что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он „без будущности“, говорила она».
Да и как мог обритый, с землисто-желтым лицом бесправный солдат увлечь особу, только и мечтавшую о блеске и «галантности на французский лад».
Достоевский, напротив, совершенно покорен Марией Дмитриевной. Впервые в жизни женщина слушала его с нежным участием, слегка окрашенным чувственностью. Впервые женщина так чутко откликалась на его признания. Оба они были обойдены судьбой, оба выброшены из жизни. У обоих мечты юности разбились при столкновении с безотрадной действительностью. Оба они люди без будущего. Жалость и сердечность Марии Дмитриевны Достоевский принял за рождающуюся ответную любовь.
Сам же он не решался объясниться с женой своего друга. Он стал чаще навещать ее, удвоил знаки внимания, намеки. Вскоре между ними установилась своеобразная дружба, омрачавшаяся смятением и безнадежностью. Добровольное самоотречение разжигало желание писателя. Он почти не спал. Он не мог работать. Каждый день барон Врангель выслушивал доверительные признания своего компаньона. Достоевский то и дело тащил его к Исаевым. «…но не-симпатична мне была та среда ради мужа ее», – пишет Врангель.
У мадам Исаевой был восьмилетний сын Павел, или просто Паша, – черноволосый, непоседливый, как маленькая обезьянка, проказник. Достоевский согласился давать ему уроки, что было лишним предлогом для встреч с его матерью.
Ах, если бы она была свободна! Вот, если бы она была свободна!.. Он увлекался нелепыми проектами, отчаивался, не желал слушать разумные советы Врангеля, уверяя, что ни разу в жизни так не любил.
Мало-помалу Мария Дмитриевна заражается пылом своего вздыхателя, невзирая на его красный воротник. Ей льстит его безграничное и робкое обожание, к ней как будто вернулось юношеское волнение, с которым она переступала порог бальной залы. Ее сжигает лихорадочное нетерпение. Двое любовников изнемогают в ожидании, упиваются своим благородством, своим необыкновенным, мучительным и молчаливым романом, на благополучный исход которого нет надежды.
12 марта 1855 года в Семипалатинск прискакал флигель-адъютант Ахматов с сенсационным сообщением: император Николай I скончался 18 февраля в 12 часов 20 минут пополудни.
Известие о кончине императора не слишком взволновало мусульманское население Семипалатинска, зато взбудоражило «интеллигенцию», в большинстве своем состоявшую из жертв николаевского режима. Заговорили о мягкости характера, милосердии, просвещенности нового царя. Обсуждали важность предстоящих реформ. Воспрянул духом и Федор Михайлович.
Вместе с Врангелем он присутствовал в соборе на панихиде по тому, чьей волей был сослан в Сибирь. В соборе вокруг Достоевского все серьезны, но, по свидетельству Врангеля, никто не пролил ни одной слезы.
С наступлением лета жара в Семипалатинске становилась невыносимой. Раскаленный песок обжигал ноги даже сквозь туфли. Термометр поднимался до 32° в тени по Реомюру.
Барон Врангель снял дачу – единственный загородный дом в окрестностях города, именовавшийся «Казаков Сад». Дом был деревянный, крыша текла, полы провалились, зато места в нем было много и стоял он посреди огромного парка. В парке били ключи чистейшей студеной воды и были вырыты водоемы. От дома начинался широкий зеленый луг, отлого спускавшийся до самого берега Иртыша.
Достоевский и Врангель разбили в парке цветники, обсадили цветами аллеи.
«Ярко запечатлелся у меня образ Федора Михайловича, – вспоминает Врангель, – усердно помогавшего мне поливать молодую рассаду, в поте лица, сняв свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, полинявшего от стирки; на шее болталась неизменная, домашнего изделия, кем-то ему преподнесенная длинная цепочка из мелкого голубого бисера, на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы».
В «Казаковом Саду» жизнь друзей течет мирно. Они купаются, читают, лениво посасывая трубки, газеты, совершают по окрестностям прогулки верхом. Достоевский – никудышный наездник и первый смеется над своей неуклюжестью.
Они старались также приручить ужей, в изобилии водившихся под террасой. Поили их молоком, приучали к своему присутствию, и ужи перестали бояться людей.
Однажды семипалатинские дамы нанесли визит «знаменитым отшельникам», застали их в кругу змей и, подобрав юбки, в ужасе бежали. С тех пор никто не осмеливался нарушить их уединение.
Тем временем проходили недели, и страсть Достоевского к Марии Дмитриевне разгоралась. Он часто уезжал к Исаевым и «всякий раз, – пишет Врангель, – возвращался оттуда в каком-то экстазе».
Невольно приходят на память вечера, которые когда-то Федор Михайлович проводил в салоне Панаевых. Мадам Панаева, как теперь Мария Дмитриевна, притягивала его своей недосягаемостью. Обе они были замужем. Обе принимали его у себя. Обеих он любил в уверенности, что любовь его безответна.
Сексуальная жизнь Достоевского до его возвращения в Россию нам мало известна. Был ли он по природе холоден или, напротив, чувствен? На этот вопрос, заданный Кашиной-Евреиновой, Чуковский ответил:
«Да, для меня совершенно ясно, что как Некрасов, так и Достоевский недели не могли прожить без женщины».
Напротив, доктор Яновский, друг юности Достоевского, утверждает: «…я никогда не слыхал от него, чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил бы какую-нибудь женщину страстно».
А Ризенкампф пишет в своих воспоминаниях:
«К женскому обществу он всегда казался равнодушным и даже чуть не имел к нему какую-то антипатию».
Действительно, неизвестна ни одна связь Достоевского до его женитьбы. По-видимому, его сексуальность развивалась достаточно медленно. Этот мужчина, больной, нервный, наделенный легковозбудимым воображением, восхищался женщинами издали, безотчетно боялся их, может быть, и желал их, но сам же и осуждал себя за это желание.
Героини его первых романов, за исключением Неточки, бесцветны и насквозь литературны. Они не из плоти и крови, они безлики и бестелесны, – они созданы мужчиной, который любил только в воображении.
Необъяснимая загадка – это подавление желаний и инстинктов, этот запрет, налагаемый на страсть, пристрастие к двусмысленным ситуациям, к привязанностям, у которых нет будущего, – эта склонность к сексуальной неудовлетворенности, которая характеризует всю молодость Достоевского. Этот человек, по натуре нетерпеливый, извлекает сладостную муку из ожидания, этот целомудренник наслаждается прикосновением к опасности, таящейся в грехе. Как и его герои, он согласен принять жизнь ради того только, что невозможно.
Однако удивительная идиллия Федора Михайловича оборвалась раньше, чем он ожидал.
Исаева перевели на место судебного заседателя в Кузнецке – городке, находившемся в 700 верстах от Семипалатинска. Разлука стала неизбежной. Достоевский в отчаянии от этой новости. «И ведь она согласна, не противоречит, вот что возмутительно!» – твердит он с горечью.
Хмурый, расстроенный, он кружил по комнате точно сомнамбула. Время от времени он останавливался, объяснял Врангелю, что жизнь его навсегда разбита, что ничего он не желает, кроме смерти, и снова продолжал свое мрачное кружение.
Врангель утешал его, уплатил долги Исаевых, подготовил их отъезд. Врангель и Достоевский в линейке поехали провожать путешественников «до выезда на дорогу». Исаевы разместились в открытой перекладной телеге, на кибитку у них не хватило денег.
В день отъезда барон Врангель пригласил учителя с женой к себе выпить на дорожку шампанского и, пользуясь случаем, напоил допьяна несчастного Исаева. В дороге он предложил ему пересесть в свой экипаж, на что едва державшийся на ногах пьянчуга с готовностью согласился. Федор Михайлович примостился в телеге между Марией Дмитриевной и Пашей. Такая перестановка всех устроила.
Обе повозки неторопливо двигались вперед. Исаев заснул, уткнувшись в плечо Врангеля. Федор Михайлович и Мария Дмитриевна нежно ворковали. Чудная ясная майская ночь медленно окутывала вершины сосен. Благоухал воздух, напоенный ароматом цветущих трав. В мягко струившемся лунном свете дорога казалась бесконечной. Безучастная красота природы усугубляла боль разлуки. Наконец повозки остановились. Пришла пора прощаться.
Пропойца храпел в углу экипажа. Маленький Павел что-то бормотал во сне. Мария Дмитриевна и Федор Михайлович обнялись, заплакали, крестили друг друга, клялись не забывать, писать.
Барон Врангель, подхватив мужа, вытащил его из коляски и пересадил пьяного и сонного Исаева в телегу между Марией Дмитриевной и Пашей. Возница взмахнул кнутом, лошади рванулись, и вскоре телега скрылась в клубах дорожной пыли. Все было кончено.
А Достоевский, повесив голову, безмолвно как вкопанный стоял посреди дороги, по щекам его катились слезы. Врангель подошел к другу, молча взял его за руку и усадил в экипаж.
Друзья возвратились в Семипалатинск на рассвете. Достоевский ушел к себе и до самого утра метался по комнате из угла в угол. Потом отправился в лагерь на учения. Вернувшись, лег, весь день не ел и не пил, а лежал и нервно курил трубку за трубкой, устремив в потолок неподвижный взгляд.
4 июня Достоевский пишет мадам Исаевой:
«Если б Вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! Право, это время похоже на то, как меня первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого. Я так к Вам привык. На наше знакомство я никогда не смотрел, как на обыкновенное, а теперь, лишившись Вас, о многом догадался по опыту. Я пять лет жил без людей, один, не имея в полном смысле никого, перед кем бы мог излить свое сердце. Вы же приняли меня как родного… Сколько неприятностей доставлял я Вам моим тяжелым характером, а вы оба любили меня. Ведь я это понимаю и чувствую, ведь не без сердца ж я. Вы же, удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты. Вы были мне моя родная сестра. Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни… По вечерам, в сумерки, в те часы, когда, бывало, отправляюсь к вам, находит такая тоска, что, будь я слезлив, я бы плакал, а Вы верно бы надо мной не посмеялись за это… Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда; мне здесь все надоело. Такая пустота!»
Достоевский теряет вкус к работе, веселость, даже самый здравый смысл. Он мрачен, раздражителен, он становится суеверным. Зная, что Врангель влюблен в тридцатичетырехлетнюю женщину, мать шестерых детей, которая живет в 400 верстах от Семипалатинска, он сравнивает их судьбы и сокрушается их общим несчастьем. Он так и сяк толкует их сны. То чего-то пугается, то вдруг беспричинно радуется. Он верит в талисманы. И кончает тем, что посещает ясновидящую старуху, гадавшую на бобах.
А из Кузнецка приходят дурные вести.
Письма Марии Дмитриевны полны жалобами на одиночество, лишения, на беспробудное пьянство мужа, на скуку и дрязги маленького городка… Единственная отдушина – беседы с новым другом Исаева, симпатичным молодым учителем, серьезным и добрым.
Достоевского терзает ревность. Что это еще за молодой учитель? Любит ли она его? Забыла уже о прошлом? Он пишет ей целые тома писем и живет только ожиданием почты. Теряет аппетит. Худеет. Страдает от нервных припадков.
Барон Врангель решает помочь другу – устроить ему свидание с мадам Исаевой в Змиеве, маленьком городке, расположенном на полпути между Семипалатинском и Кузнецком.
Мария Дмитриевна предупреждена письмом о времени встречи.
Военные власти не разрешали солдатам совершать такие дальние поездки, и барон Врангель прибегнул к уловке. Он распустил в городе слух, что Достоевский перенес припадок падучей, ослаб и ему необходимо отлежаться дома. Полковой врач Ламотт, вовлеченный в заговор, удостоверил болезнь молодого человека.
Адаму, слуге Врангеля, велено закрыть ставни и никого не принимать. И в десять часов вечера, когда в Семипалатинске погасли все огни, экипаж Врангеля помчал друзей в Змиев.
«Можно сказать, не ехали, а вихрем неслись, – рассказывает Врангель, – чего, по-видимому, совсем не замечал мой бедный Федор Михайлович; уверяя, что мы двигаемся черепашьим шагом, он то и дело понукал ямщиков».
Увы! В Змиеве Достоевского и Врангеля вместо мадам Исаевой ждало ее письмо. Молодая женщина извинялась, что не явилась на свидание: ее муж очень плох, она не могла отлучиться и оставить его одного.
Возвращение было мрачным: отмахали 300 верст за 28 часов с риском попасть в дезертиры и – напрасно. К счастью, отсутствия друзей никто не заметил.
Несмотря на неудачу, барон Врангель полон решимости и через некоторое время добивается согласия батальонного командира на поездку Достоевского вместе с ним в Змеиногорск «к друзьям инженерам». Разрешение дано. Слуга Врангеля шьет Достоевскому элегантный сюртук. Впервые бывший каторжник облачается в гражданскую одежду. Друзья отправляются в путь в уверенности, что на этот раз их старания не пропадут даром.
И снова светлая лунная ночь и та же укатанная без ухабов и камней пыльная дорога. Тройка мчится вперед, и вдруг перед ними предстает грандиозное зрелище. Вдали верстах в пяти от города разгорается кровавое зарево пожара – крестьяне жгут осеннюю и летнюю засохшую траву. Пламя бушует, подобно огненному морю, выбрасывая снопы искр, то меркнущих, то вновь разгорающихся, извивающихся, точно красные огненные змейки; языки пламени сближаются, вспыхивают на фоне темного неба, словно сверкающие звезды, и сливаются, превращаясь в неиствующий огненный смерч. Лошади пугаются и галопом мчатся сквозь огонь и дым.
Наконец подъезжают к серебряным рудникам Змиева. Вокруг завода раскиданы маленькие домики, где живут рабочие, за ними – дома горных инженеров и высших чиновников. Вдали вьется голубая лента реки.
Приехав в Змиев, Достоевский тотчас пишет Марии Дмитриевне и просит ее приехать к нему как можно скорее.
Проходит пять дней, а от Марии Дмитриевны все еще нет никаких вестей.
Придется ни с чем возвращаться в Семипалатинск и снова погрузиться в однообразие казарменной жизни. Нужно подождать. Снова ждать. Вечно ждать. Нервы Достоевского натянуты до предела.
И вот 14 августа 1855 года Федор Михайлович получает письмо из Кузнецка: муж мадам Исаевой скончался после долгой болезни. Мария Дмитриевна описывает его агонию, его нищие похороны. У нее не было денег, и ей пришлось одолжить их у соседей, чтобы оплатить похоронные дроги для бедных. Кто-то прислал ей три рубля, и она приняла это подаяние.
Достоевский ошеломлен этой вестью. Он питал симпатию к этому забулдыге. И тем не менее в его душе растет странное облегчение, нечистая маленькая радость. Последнее препятствие устранено – Мария Дмитриевна свободна. Он может жениться на ней! Едва он сформулировал эту мысль, как вознегодовал на самого себя. Он казнил себя за то, что смеялся над этим несчастным и часто проклинал его присутствие в доме. Быть может, он даже втайне желал его смерти? И вот смерть настигла его. Как когда-то его отца. И вот он снова ответствен за нее. И снова виновен вопреки всем земным законам.
Врангеля нет в Семипалатинске, он уехал по служебным делам в Бийск. Достоевский пишет ему отчаянное письмо, в котором просит послать денег мадам Исаевой как бы по своей инициативе:
«Я Вам отдам непременно, но не скоро… Но я-то сам не хочу, чтоб мне были благодарны, тогда как я того не стою; ибо взял из чужого кармана, и хоть постараюсь отдать Вам скорее – но взял почти что на неопределенный срок». Он умоляет друга написать несколько слов, посылая эти деньги, чтобы пощадить уязвленную гордость вдовы:
«…с человеком одолженным надо поступать осторожно; он мнителен; ему так и кажется, что небрежностию с ним, фамильярностию хотят его заставить заплатить за одолжение, ему сделанное».
«Я отвечал, что деньги Ваши, а не мои, – напишет он позже Врангелю. – Боже мой! Что это за женщина! Жаль, Вы ее так мало знаете!»
Надежда на скорую встречу окрыляет Достоевского. Он открывается брату Михаилу:
«Теперь вот что, мой друг: я давно уже люблю эту женщину и знаю, что и она может любить. Жить без нее я не могу, и потому, если только обстоятельства мои переменятся хотя несколько к лучшему и положительному, я женюсь на ней. Я знаю, что она мне не откажет».
Спустя несколько недель он это подтвердит:
«В разлуке с ней мы обменялись клятвами, обетами… Она меня любит и доказала это».
На самом же деле бедняжка никогда еще не была так нерешительна, как в момент, когда обещала ему свою руку. Оставшись одна без опоры, без средств с маленьким сыном на руках, она тронута деятельным состраданием Достоевского. Но она его не любит. Он беден. Он болен, и уже досужие языки в Семипалатинске нашептывают Достоевскому, что мадам Исаева собирается выйти замуж за другого. И действительно, Достоевский и сам замечает в последних письмах своей «невесты» недомолвки, которые пугают его. Она пишет:
«Что если б нашелся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек делал ей предложение – что ей ответить».
Она обращается к нему за советом, как к другу. Эта уловка обезоруживает Достоевского.
Он не может, не будучи обвиненным в эгоизме, принудить Марию Дмитриевну порвать с человеком «с добрыми качествами и обеспеченным» и выйти замуж за него – за неизлечимо больного, за солдата, каторжника, лишь недавно сбросившего кандалы. Но он не может и допустить, чтобы она решилась выйти за другого: ведь его она любит и не перестанет любить.
Не по собственной склонности подумывает она о браке с другим – досужие провинциальные кумушки навязывают ей этот брак. Они воспользовались отсутствием его, Достоевского, играют на слабости Марии Дмитриевны. А он может отстоять свое счастье лишь несколькими строчками, набросанными на листке бумаги.
Сейчас в любую минуту, в любую секунду может решиться его судьба, а он здесь, вдали от нее, одинокий, бессильный, без денег, среди чуждых ему по духу людей. Однако он сознает, что не переживет окончательный разрыв с Марией Дмитриевной.
Врангель уехал из Сибири в Петербург. Достоевский пишет ему:
«Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш!.. Ведь я на нее имею права, слышите, права!.. Ради бога, не теряя времени, напишите ей в Кузнецк письмо и напишите ей яснее и точнее все надежды мои. Особенно если есть что-нибудь положительное в перемене судьбы моей, то напишите это ей во всех подробностях, и она быстро перейдет от отчаяния к уверенности и воскреснет от надежды, напишите всю правду и только правду. Главное, подробнее. Это очень легко. Вот так: „Мне передал Ф. М. Ваш поклон – так как, я знаю, Вы принимаете большое участие в судьбе Ф.М., то спешу порадовать Вас, есть вот такие-то известия и надежды для него“».
Ах, если бы его произвели в офицеры! Он просит Врангеля похлопотать за него. В ожидании ответа он шлет Марии Дмитриевне безумное письмо, где угрозы чередуются с униженными мольбами и страстными признаниями. После двух лет молчаливой любви и десяти месяцев разлуки он более не может без нее обойтись. Он получит амнистию. Он вырвется из сибирской глухомани. Он будет писать: «…я могу…даже incognito[36] печатать». Он заработает денег, много денег, вытащит из нищеты ее и ее сына.
Ответ мадам Исаевой его несколько успокаивает. Мария Дмитриевна просто хотела «испытать» любовь Федора Михайловича, потому что она его ревнует. Федор Михайлович ликует, смягчается, упрекает себя в грубости. Он снова окрылен надеждой.
Затишье было коротким. В следующих письмах Мария Дмитриевна рассказывает ему о молодом учителе, которого ей представил ее покойный супруг. Она восторгается его характером, его умом. Сама же она, сообщает Достоевский Врангелю, боится, что «не составит моего счастья, что мы оба слишком несчастны и что нам лучше»… Достоевский доведен до крайности, он решается на рискованный шаг. Впервые он использует болезнь как предлог, чтобы выехать из Семипалатинска в Кузнецк, но не сразу получает разрешение. Наконец едет. Они встречаются.
Мария Дмитриевна ломает руки, рыдает, призывает Бога в свидетели и наконец признается, что любит другого – молодого учителя Вергунова.
Ей двадцать девять лет, ему двадцать четыре. Она умница, образованна, знает людей. Он – сибиряк, малообразованный, школьный учитель с грошовым жалованьем, наивный и тщеславный как павлин.
Достоевский свидетельствует против своего соперника, защищая свое дело. Разве это муж для нее? Хватит ли у него сил защитить ее? Молодость этого молокососа его единственное достоинство. А что будет потом? Что, если он оскорбит ее подлыми упреками? Не пожалеет ли она о привязанности того, кто здесь, перед ней и умоляет ее подумать в последний раз.
Мария Дмитриевна в полной растерянности. Его пылкая защитительная речь доходит до ее сердца и почти убеждает ее. Она говорит: «Не плачь, не грусти, не все еще потеряно; ты и я и более никто!»
Достоевский запасается мужеством и отправляется на поиски соблазнителя. Вергунов оказывается не на высоте. С первых же слов Достоевского он разражается слезами. «…он только и умеет плакать!» – напишет Достоевский Врангелю.
Через два дня, убедив молодую пару, Федор Михайлович возвращается в Семипалатинск. Оттуда он шлет им обоим патетическое послание, излагая все свои доводы. Но оба любовника уже опомнились, и Достоевский навлекает на себя возмущенный ответ Марии Дмитриевны и оскорбительное письмо Вергунова.
«Со мной то же случилось, что с Gil-Blasом и Archevêque de Grenade[37], когда он сказал ему правду», – меланхолически замечает Достоевский.
Все погибло. С каким-то мрачным наслаждением Федор Михайлович примиряется со своим поражением. Снова он погрузился в пучину несчастья. Снова его окутал мрак. Тут-то и рождается у него идея о полном самоотречении.
Он не может стать мужем этой женщины, но он может позаботиться о ее счастье.
Мысль об этом рыцарском поступке воодушевляет его. Он возложит на себя святую миссию – миссию ангела-хранителя. Его отвергают, что ж, хорошо! Он поразит мир своим великодушием, тонкостью своей души. С этого момента он станет покровителем двух влюбленных, хоть они и нанесли ему такую глубокую рану. Он хлопочет о приеме сына мадам Исаевой в кадетский корпус в Сибири. Он обращается к друзьям в Омске и Петербурге с просьбой ускорить назначение пенсии молодой вдове. Барону Врангелю он адресует невообразимую просьбу: он умоляет его «на коленях» добыть самое лучшее место с высоким жалованьем будущему мужу Марии Дмитриевны: «Это все для нее, для нее одной. Хотя бы в бедности-то она не была, вот что!.. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были… Теперь он мне дороже брата родного… не грешно просить: он того стоит».
Сострадание отвергнутого влюбленного к своему сопернику станет главной темой романа Достоевского «Униженные и оскорбленные».
«Я же тебя оставила первая, а ты все простил, – говорит героиня романа, – только об моем счастье и думаешь».
Так же князь Мышкин в романе «Идиот», любя Настасью Филипповну, позволяет ей бежать с Рогожиным и клянется сопернику в дружбе.
Стало быть, для Достоевского, как и для его героев, приключение как будто бы окончено.
Но еще один, последний театральный трюк, – и в деле новый поворот.
20 октября 1856 года Федор Михайлович произведен в прапорщики, то есть в первый офицерский чин. Повышение обеспечивает ему приличное денежное содержание, возможность попасть под общую амнистию и, значит, возвращение в Россию. Достоевский вновь загорается надеждой и вновь делает предложение Марии Дмитриевне.
24 ноября он получает разрешение на поездку в Кузнецк. Он приезжает туда в радостном нетерпении, уверенный в успехе, великолепный. Он защищает свое дело. Он приводит цифры, даты. Мария Дмитриевна заражается его энтузиазмом. Они созданы друг для друга. Они не могут не соединить свои жизни. Но где они возьмут 600 рублей, по самым скромным подсчетам необходимые для свадьбы? У Достоевского есть план. Вернувшись в Семипалатинск, он сразу пишет Врангелю:
«Если не помешает одно обстоятельство, то я до Масленицы женюсь – Вы знаете на ком… Она же любит меня до сих пор. Она сама мне сказала: „Да“… Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом по письмам ее я знал это… О, если б Вы знали, что такое эта женщина!.. Денег у меня нет ни копейки. По самым скромным и скупым расчетам мне, на все, надо 600 руб. серебром. Я намерен их занять у Ковригина… Но с будущей почтой пишу в Москву к дяде, человеку богатому, который не раз помогал нашему семейству, и прошу у него 600 руб. серебром. Если даст мне, то я тотчас же отдам Ковригину».
Для верности Достоевский просит сестру Варю поддержать перед дядей его просьбу.
«Друг мой, милая сестра! Не возражай, не тоскуй, не заботься обо мне. Я ничего не мог лучше сделать. Она вполне мне пара. Мы одинакового образования, по крайней мере, понимаем друг друга… Мне 35 лет, а ей двадцать девятый… Знаю, Варенька, что первый вопрос твой, как доброй сестры, любящей и заботящейся о судьбе брата, будет: „Чем ты будешь жить?“ – ибо, конечно, жалованья недостаточно для двух… Одним словом, я не пропаду… Здесь есть один из моих знакомых, человек, с которым я сошелся по-дружески, богатый и добрый. Я намерен попросить у него взаймы… Но этот долг надобно отдать… И потому я намерен обратиться к дядюшке, написать ему письмо, изложить все без утайки и попросить у него 600 рублей серебром…Письмо к дядюшке я посылаю по почте… Ради бога, передайте ему это письмо сами, в добрую минуту, и объясните его».
23 января 1857 года капитан Ковригин, служащий на Локтевском заводе, присылает 600 рублей, о которых просил Достоевский.
27 января Федор Михайлович получает отпуск на две недели, чтобы заняться приготовлениями к свадьбе. Он пишет брату Михаилу, прося его прислать кое-какие необходимые вещи: платье, шляпку, бархатную мантилью, полдюжины тонких носовых платков и два чепчика, желательно с голубыми лентами. Он отлично понимает, что его братья, его сестры, его тетки, его дяди единодушно осудят этот брак. Но ему нет до них дела. Перед церемонией он отправляется к врачу, чтобы удостовериться в своем здоровье, и тот уверенно его успокаивает.
И вот 6 февраля 1857 года в русской православной церкви Кузнецка прапорщик Достоевский венчается с Марией Дмитриевной Исаевой.
Тотчас после церковного обряда молодожены уезжают в Семипалатинск, где Достоевский должен продолжать службу.
Но нервное напряжение, владевшее им в последние дни, было чрезмерным. Резкие переходы от надежды к отчаянию, предсвадебные хлопоты и суматоха исчерпали силы писателя. Во время остановки в Барнауле с ним случается страшный припадок эпилепсии. И Мария Дмитриевна, новобрачная, наблюдает за этой чудовищной деградацией.
Достоевский, сотрясаемый болью, корчится, хрипит, как безумный хватает руками воздух. На искривленных губах выступает желтая пена. От внезапных судорог сжимается горло. Он задыхается. Он почти умирает. А она здесь, стоит над ним с помертвевшим лицом, оцепенев от страха и отвращения.
Как ей любить это странное существо, которое вдруг утрачивает все человеческое? Первый брак приковал ее к пьянице, который возвращался к ней нетвердой походкой, встрепанный, взмокший, от которого разило вином, который тайком блевал; второй брак связал ее с больным, который катается по полу, воет, давится пеной, точно бешеный. И на этот раз ее медовый месяц оборачивается безобразным фарсом. И на этот раз ее хрупкие мечты разбиваются о жуткие гримасы реальности.
Врач, срочно вызванный к больному, равнодушно констатирует приступ эпилепсии и прописывает полный покой.
Чета проведет четыре дня в Барнауле, у одного доброго друга. Достоевский уничтожен своим новым несчастьем. Сам того не ведая, он обманул жену. Полагая, что вырвет ее из жалкого прозябания, он вверг ее в существование еще более жалкое; он убил всякую надежду на возможность любви между ними, однако отныне им суждено жить вместе, быть рядом, терпеть друг друга, лгать, изворачиваться, изображая притворную привязанность.
Мария Дмитриевна слишком горда и никому не признается, что совершила ошибку. Она пишет сестре:
«Я не только любима и балуема своим умным, добрым и влюбленным в меня мужем, – даже уважаема и его родными».
20 февраля 1857 года Достоевский и его жена возвращаются в Семипалатинск. Их тотчас обступают заботы: нужно искать квартиру, добывать деньги, заводить хозяйство. Мария Дмитриевна от нервного напряжения заболевает. В довершение всего объявлено о смотре, который проводит бригадный генерал. Весь город в волнении. Но мало-помалу восстанавливается спокойствие. Мария Дмитриевна обустраивает жилище Достоевского, окружая домашним уютом это существо, на которое обрушилось столько несчастий, очаровывает небольшое общество Семипалатинска и даже создает у себя нечто вроде литературного салона, где можно говорить по-французски.
В конце мая Федор Михайлович получает двухмесячный отпуск для поправления здоровья и устраивается в окрестностях Семипалатинска.
Тем временем его пасынок Павел принят в Сибирский кадетский корпус в Омске. Семья живет скромно. Денщик Василий исполняет обязанности кучера, лакея и повара. Достоевский отдыхает, он немного пополнел, он всецело поглощен своими будущими произведениями.
Глава VIII Писатель-солдат
В первый год жизни в Семипалатинске военная служба не позволяла Достоевскому полностью отдаться творчеству. Потом любовь к Марии Дмитриевне целиком захватила его. Он писал мало и через силу:
«Друг мой, я был в таком волнении последний год, в такой тоске и муке, что решительно не мог заниматься порядочно».
Это утверждение все же кажется преувеличением, поскольку он продолжает делать заметки для «Записок из Мертового дома» и работает над комическим романом: «…я пишу комический роман, но до сих пор все писал отдельные приключения».
В 1855 году Достоевский трудолюбиво сочиняет оду «На смерть Николая I», приговорившего его к каторжным работам. Стихотворение обращено к вдовствующей императрице Александре Федоровне:
Свершилось, нет его! Пред ним благоговея, Устами грешными его назвать не смею. Свидетели о нем – бессмертные дела. Как сирая семья, Россия зарыдала; В испуге, в ужасе, хладея, замерла; Но ты, лишь ты одна, всех больше потеряла!И еще сотня строчек в таком же духе. За этим напыщенным сочинением в 1856 году последовало еще одно – на этот раз на коронацию Александра II:
К тебе, источник всепрощенья, Источник кротости святой, Восходят русские моленья…Дальше мы увидим, какой будет судьба этих замаскированных просьб о помиловании.
В ожидании результата Достоевский напряженно обдумывает разные замыслы: написать статью об искусстве и посвятить ее дочери покойного царя великой княгине Марии Николаевне – президенту Академии художеств. Если бы ему удалось заручиться ее высоким покровительством, он был бы избавлен от придирок цензуры: «Хочу просить позволения посвятить статью мою ей и напечатать без имени».
Вскоре он оставляет этот план ради «Писем из провинции» – литературного обзора творчества современных писателей.
И спешит познакомиться с недавно опубликованными произведениями.
«Тургенев мне нравится наиболее, – пишет он Майкову, – жаль только, что при огромном таланте в нем много невыдержанности. Л.Т. мне очень нравится, но, по моему мнению, много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь)… Наши дамы-писательницы пишут как дамы-писательницы, то есть умно, мило и чрезвычайно спешат высказаться. Скажите, почему дама-писательница почти никогда не бывает строгим художником?»
Из-за недостатка материала Достоевскому приходится отложить работу над «Письмами из провинции»: «Нет под рукой необходимейших книг и журналов, – жалуется он брату. – И вот так-то погибает у меня все, и литературные идеи и карьера моя литературная».
Он мечтает также издавать журнал, написать роман о сибирской жизни.
Тем временем Михаил вспомнил о рассказе «Маленький герой», сочиненном Достоевским восемь лет назад во время заточения в Алексеевском равелине.
Достоевский не был удовлетворен этой работой, собирался рассказ переделать и в первом же письме, адресованном брату после выхода с каторги, просил никому этот рассказ не показывать. Михаил не принял во внимание запрет и, когда ему показалось, что настал подходящий момент, предложил «Маленького героя» редактору «Отечественных записок». Он тотчас уведомил Федора Михайловича о своем демарше и мужественно ждал упреков брата. Но при слове «печататься» Достоевский позабыл обо всех своих возражениях.
Возможно ли, что после восьмилетнего перерыва ему посчастливится снова увидеть свое произведение напечатанным – возродить прошлое, вновь вернуться в мир литературы?.. Целая лавина вопросов обрушивается на его брата и барона Врангеля:
«Почему не напечатана моя „Детская сказка“?.. Не отказали ли?.. Почему не напечатали, была ли попытка, а если была, то что сказали? – ради Христа, напиши обо всем этом… Это очень важно мне знать».
Он сгорает от нетерпения. Он, точно дебютант, переполнен радостным волнением. Вся карьера его поставлена на карту. Публикация «Маленького героя» откроет ему путь, столь долго бывший запретным. Если в принципе ему разрешат литературную деятельность, ему нечего бояться будущего.
В августе 1857 года «Маленький герой» появился в «Отечественных записках». Рассказ подписан псевдонимом «М-ий».
Михаил просит брата срочно прислать новый роман, о котором он рассказывал ему в письмах. Он предложит его во вновь создающийся журнал «Русское слово». Он так уверен в успехе, что добился у дирекции 500 рублей аванса для Федора Михайловича, обязавшись представить рукопись в конце 1858 года. Но Федор Михайлович уже договорился с Плещеевым, бывшим «петрашевцем». Плещеев избежал испытания каторгой, он был приговорен к легкому наказанию: ссылке и зачислению солдатом в гарнизон Оренбурга.
С 1856 года Плещеев сотрудничал с журналом «Русский вестник», издававшийся Катковым. В том же году Достоевский, по настоянию своего бывшего товарища, пообещал Каткову роман и получил 500 рублей аванса.
Предложения двух журналов, «Русского вестника» и «Русского слова», поставили Достоевского в сложное положение. Он желал дебютировать только романом, которым сам был бы доволен. И не хотел портить торопливой работой роман, который вынашивал уже несколько лет.
«Что же касается до моего романа, то со мной и с ним случилась история неприятная, и вот отчего: я положил и поклялся, что теперь ничего необдуманного, ничего незрелого, ничего на срок (как прежде) из-за денег не напечатаю… Вот почему, видя, что мой роман принимает размеры огромные, что сложился он превосходно, а надобно, непременно надобно (для денег) кончать его скоро – я призадумался… Я увидел себя в необходимости испортить мысль, которую три года обдумывал, к которой собрал бездну материалов (с которыми даже и не справлюсь – так их много) и которую уже отчасти исполнил, записав бездну отдельных сцен и глав. Более половины работы было готово вчерне. Но я видел, что я не кончу и половины к тому сроку, когда мне деньги будут нужны до зарезу… И потому весь роман, со всеми материалами, сложен теперь в ящик».
Отложив роман в сторону, Достоевский впрягается в работу над менее значительными произведениями – двумя повестями «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково», но результат не удовлетворяет его.
«Не нравится мне она, – пишет он брату о повести „Дядюшкин сон“, – и грустно мне, что принужден вновь являться в публику так не хорошо… Нельзя то писать, что хочется писать, а пиши то, о чем, если б не надобны деньги, и думать бы не захотел. И для денег я должен нарочно выдумывать повести».
«Дядюшкин сон» – несколько тяжеловесная буффонада, в центре которой принудительная женитьба старика. В повести «Село Степанчиково» Достоевский набрасывает образ авантюриста, Опискина, который выдает себя за либерала, пострадавшего за убеждения, воздействует на окружающих потоком громких либеральных фраз, ханжескими нравоучениями, рассчитанными репликами, вздохами, слезами. Предполагали, что Опискин – всего лишь пародия на критика Белинского. Может быть, и так. Во всяком случае, этот бессовестный Тартюф от социализма, этот шут, ханжа, самодур, позер, лицемер и приживальщик, играющий в свободомыслие, этот елейный лицемерный демон предвещает демонов эпохи великих романов – предвещает «Бесов».
О повести «Дядюшкин сон» Достоевский скажет в 1873 году:
«Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще, и ужасно опасаясь цензуры… А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности».
«Дядюшкин сон» опубликован в 1859 году в «Русском слове». «Село Степанчиково» из-за недоразумения в отношениях с «Русским вестником» появится в «Отечественных записках».
Впрочем, надо прямо признать, что эта повесть не имела того успеха, который заслуживала. Причина в том, что Достоевский был забыт и публикой, и критикой. Он выпал из текущего литературного процесса. Он принадлежал к другому поколению, явился из другого мира. Задача его состояла не в том, чтобы продолжать литературную деятельность, словно она и не прерывалась, а в том, чтобы начать ее заново, с нуля, и непреклонно, терпеливо, постепенно завоевывать одного за другим читателей и друзей, которых потерял.
Принимая во внимание его долги, спешно выполняемые заказы журналов, его неуверенность в своей писательской судьбе, остается лишь поражаться беспримерному мужеству, с которым он вступил в эту борьбу.
Прежде всего ему необходимо освободиться от армии и уехать из Сибири.
Этапы этого марша к свободе не менее волнующи, чем скупые и точные записи в бортовом журнале борющегося со штормом корабля.
В 1855 году Достоевский сочиняет первую оду, о которой говорилось выше, и посвящает ее императрице. Генерал Гастфорт знакомится с ней и производит автора в чин унтер-офицера, «дабы сим поощрить его доброе поведение, усердную службу и непритворное раскаяние в грубом заблуждении молодости».
Эта первая нашивка дарована Достоевскому в ноябре 1855 года.
В 1856 году Федор Михайлович пишет новое стихотворение, на этот раз на коронацию Александра II и передает его генералу Гастфорту, приглашенному в Петербург на коронационные торжества.
Более того: копию стихотворения он посылает барону Врангелю и просит постараться, чтобы она дошла до высочайшего адресата.
«…установить за ним секретное наблюдение», – таков приказ генерала Сухозанета, которому Гастфорт передал прошение Достоевского.
В марте 1856 года Достоевский, не дожидаясь этого весьма жалкого результата, предпринимает рискованный шаг: обращается к знаменитому генералу Тотлебену. Братья Тотлебены – его соученики по Инженерному училищу. С тех пор бывший «кондуктор» Тотлебен отличился при осаде Севастополя, завоевал милость императора и получил титул графа.
«…с этим человеком когда-то я был знаком хорошо, – пишет Достоевский Врангелю, – с братом его я друг с детства. Еще за несколько дней до ареста моего я, случайно, встретился с ним, и мы так приветливо подали друг другу руки. Что же? Он, может быть, не забыл меня».
А Тотлебену он пишет длинное письмо – шедевр гибкости и смирения:
«Боюсь, что, взглянув на подпись, на имя, Вами, вероятно, забытое, – хотя я когда-то (очень давно) и имел честь быть Вам известным, – боюсь, что Вы рассердитесь на меня и на дерзость мою и бросите письмо, не прочитав его… Не обвиняйте меня в том, что я не понимаю всей неизмеримой разницы между моим положением и – Вашим. В моей жизни было слишком много печального опыта, чтоб я мог не понять этой разницы».
И продолжает, рассказывая о своем аресте, отъезде, каторге:
«Я знаю, что я был осужден справедливо, но я был осужден за мечты, за теории… Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых неосновательность я уже сам вижу… Я желаю быть полезным. Трудно, имея в душе силы, а на плечах голову, не страдать от бездействия… Вся мечта моя: быть уволенным из военного званья и поступить в статскую службу, где-нибудь в России или даже здесь… Я желал бы иметь позволение печатать… Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным… Я знаю, что, написав это письмо, я сделал новую вину против службы. Простой солдат пишет генерал-адъютанту! Но Вы великодушны и Вашему великодушию вверяю себя».
Тотлебен больше, чем великодушен, – он деятелен.
Очень скоро он добивается того, что сам великий князь Николай вступается за Достоевского перед военным министром.
20 октября 1856 года Федор Михайлович произведен в прапорщики. Через шесть месяцев ему возвращено потомственное дворянство:
«В мае месяце я получил еще монаршую милость: возвращение прежнего потомственного дворянства. Это значит полное прощение вины моей».
Наконец 16 января 1858 года Достоевский подает прошение о позволении выйти в отставку по болезни. Дело тянется целый год. И вот 18 марта 1859 года выходит высочайший приказ об увольнении в отставку по болезни прапорщика Достоевского с награждением следующим чином – подпоручиком и о позволении избрать местом жительства любой город России за исключением обеих столиц. Въезд в Петербург и в Москву ему воспрещен. Его местожительством назначен небольшой городок Тверь. Губернатору Твери предписано 7 мая 1859 года учредить негласный надзор за бывшим политическим преступником.
Эта великая новость официально сообщена Федору Михайловичу только через четыре месяца после подписания императорского указа.
А он ждет, он теряет терпение, захлебываясь в обилии проектов, замыслов: собрать вместе и издать свои произведения в двух томах, написать большой роман…
«Ты пишешь мне беспрерывно такие известия, что Гончаров, например, взял 7000 за свой роман (по-моему, отвратительный)[38], и Тургеневу за его „Дворянское гнездо“ (я наконец прочел. Чрезвычайно хорошо) сам Катков (у которого я прошу 100 руб. с листа) давал 4000 рублей, то есть по 400 рублей с листа. Друг мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400? От бедности я принужден торопиться, а писать для денег, следовательно, непременно портить».
Больше чем когда-либо он нуждается в деньгах и меньше чем когда-либо знает, где и как их раздобыть. Переезд в Тверь потребует значительных расходов. И на что он будет жить в Твери?
Он просит задаток у издателя Кошелева. Издатель высылает ему 1000 рублей, которые быстро, по выражению Достоевского, «растаяли как воск».
После уплаты неотложных долгов денег едва хватает на переезд в Казань. Он умоляет Михаила выслать в Казань на его имя 200 рублей.
«Но ведь ты мой ангел-спаситель! Спаси и теперь!»
30 июня он получает временный билет № 2030, разрешающий ему покинуть Семипалатинск и выехать в Тверь.
«Завтра выезжаю в 5 часов пополудни», – сообщает он Михаилу 1 июля.
Он прощается с друзьями. Дарит своему бывшему ротному командиру портреты, книги, посуду, кресла, столик, свой военный мундир, саблю и эполеты. И налегке 2 июля 1859 года расстается с Семипалатинском, где прожил больше пяти лет.
Дорога была долгой и утомительной. Достоевские останавливаются в Омске, чтобы забрать сына Марии Дмитриевны – пансионера в кадетском корпусе. Они проводят в городе три-четыре дня.
Федор Михайлович воспользовался остановкой, чтобы повидать друзей, которые приходили ему на выручку в годы каторги. Он даже посещает острог и долго, благоговейно, погрузившись в воспоминания, стоит перед этой оградой, перед этими запертыми воротами…
После двухдневной остановки в Тюмени путешественники достигли лесов Урала. Дорога плохая. Жарко. Лошади едва двигались, одолеваемые тучами мошкары. Тарантас трещал при каждом толчке. Вдруг на повороте дороги Достоевский заметил столб, увенчанный двуглавым орлом: здесь пролегала граница между Европой и Азией. Кучер остановил лошадей. Пассажиры вышли из повозки.
Момент был торжественный: эту же самую воображаемую черту Достоевский пересек десять лет назад, и вот теперь она снова перед ним. Он уезжал больной, закованный в цепи, впереди его ждали тюрьма и каторга. Все годы своего заключения он жил ради этой минуты – минуты, когда его нога снова ступит на русскую землю. И вот свершилось – его мечта сбылась. Федор Михайлович обнажил голову и сказал просто:
«Привел наконец Господь увидать обетованную землю».
Недалеко от столба находилась сторожка инвалида – смотрителя границы. Достоевский позвал его, достал флягу с водкой, стаканы, и те, кто покидал один мир и вступал в другой, чокнулись с тем, кто оставался на своем посту.
Затем Достоевский, его жена и его пасынок отправились в лес собирать землянику.
Глава IX Тверь
В Казань Достоевские приезжают со 120 рублями серебром.
200 рублей, которые Михаил обещал прислать в этот город, еще не получены. Только через десять дней Достоевскому выдали на почте эти деньги.
2 июля 1859 года Достоевские выехали из Семипалатинска, 19 августа они прибыли в Тверь.
Но и в Твери Федор Михайлович не обрел желанного покоя, в котором так нуждался. Город грязен, безобразен, безнадежно провинциален.
«Теперь я заперт в Твери, – пишет Достоевский Врангелю, – и это хуже Семипалатинска… Сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов, – даже библиотеки нет порядочной. Настоящая тюрьма».
Он снимает маленькую меблированную квартиру в том самом доме, в котором когда-то останавливался Пушкин. Старший брат проводит у него несколько дней, и Достоевский оживает. А после отъезда Михаила тоска и нетерпение овладевают им еще сильнее.
«Вот ты уехал, а я ведь знаю, что мы все еще не так познакомились друг с другом, как надо, как-то не высказались, не показались во всем».
Он снова одинок. Томится вдали от столиц, попусту теряя драгоценное время. Губернатор города граф Баранов приглашает его к себе. Жена Баранова – кузина графа Соллогуба. Достоевский когда-то встречал ее в салонах Петербурга. Этот отголосок прошлого разжигает его нетерпение. Ему не сидится на месте. Ему необходим Петербург. Не в силах он жить вдали от Петербурга. В многочисленных письмах к Врангелю он только об этом и говорит. К кому обратиться: к князю Долгорукову, к графу Тотлебену, к графу Баранову, к Тимашеву, чтобы получить у царя дозволения поселиться в Петербурге?
В октябре граф Баранов советует Достоевскому обратиться с прошением к самому императору. Губернатор берется передать письмо монарху через графа Адлерберга. Достоевский колеблется, но в конце концов посылает два прошения: одно Тотлебену, другое – Александру II.
Тотлебену он пишет 4 октября:
«И вот я уже полтора месяца здесь и не знаю, чем и когда кончатся все затруднения. Между тем мне нет никакой возможности не жить в Петербурге. Я болен падучею болезнею; мне нужно лечиться серьезно, радикально… Я женат; у меня есть пасынок; я должен содержать жену и воспитать ее сына… Спасите меня еще раз!.. Может быть, если бы Вы сказали обо мне князю Долгорукому, то побудили бы его поскорее кончить дело. На Вас вся надежда моя».
И 19 октября граф Баранов посылает письмо Достоевского императору:
«Ваше императорское величество! В Вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь! Благоволите дозволить мне переехать в С. -Петербург для пользования советами столичных врачей. Воскресите меня и даруйте мне возможность с поправлением здоровья быть полезным моему семейству и, может быть, хоть чем-нибудь моему Отечеству!
Государь всемилостивейший! Простите мне еще и другую просьбу и благоволите оказать чрезвычайную милость, повелев принять моего пасынка, двенадцатилетнего Павла Исаева, на казенный счет в одну из с. – петербургских гимназий… Вы осчастливите его бедную мать, которая ежедневно учит своего сына молиться о счастии Вашего императорского величества и всего августейшего дома Вашего. Вы, государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных. Вы уже осчастливили миллионы народа Вашего; осчастливьте же еще бедного сироту, мать его и несчастного больного, с которого до сих пор еще не снято отвержение и который готов отдать сейчас же всю жизнь свою за царя, облагодетельствовавшего народ свой!
С чувствами благоговения и горячей, беспредельной преданности осмеливаюсь именовать себя вернейший и благодарнейшим из подданных Вашего императорского величества.
Федор Достоевский».
Европейцу подобное письмо показалось бы раболепным, но для Достоевского оно было естественным выражением его доверия царю. Он перед царем как дитя перед родителем. Он кается перед ним, как блудный сын кается перед отцом. Когда в мае 1849 года революционера Бакунина арестовали и посадили в Петропавловскую крепость, император Николай I тотчас послал к нему графа Орлова. В письме к царю Бакунин пишет:
«Но граф Орлов сказал мне, от имени В. имп. В., слово, которое потрясло меня до глубины души и переворотило все сердце мое: „Пишите, сказал он мне, пишите к Государю как бы вы говорили со своим духовным Отцом“».
И Бакунин, этот профессиональный нигилист, ниспровергатель всех традиций, апостол всеобщего разрушения склоняется перед волей государя и исповедуется ему:
«Да, Государь, буду исповедоваться Вам как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощенья; – и прошу Бога, чтобы он мне внушил слова простыя, искренния, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу В. Им. Величества».
Таким образом, между царем и его подданными нет места стыду.
На прошении Достоевского Долгоруков собственноручно начертал следующую фразу: «Высочайше повелено относительно Исаева снестись с кем следует. Что касается до самого Достоевского, то просьба его уже решена».
Только 25 ноября 1859 года губернатор Твери был официально уведомлен о решении императора – с каким опозданием!
Куда мучительнее топтаться у входа в рай, чем быть низвергнутым в ад!
«Поговорим о старом, – пишет Достоевский Врангелю, – когда было так хорошо, об Сибири, которая мне теперь мила стала, когда я покинул ее»…
Поддержка жены могла бы помочь Федору Михайловичу пережить отсрочку или, скорее, эту близость счастья. Но Мария Дмитриевна хворает, и болезнь окончательно портит ее характер и без того сварливый, капризный, ревнивый, мнительный. Она никогда не любила Достоевского. Она приняла его предложение в припадке романтической экзальтации. И не прощает ему того, что так в нем обманулась. Он беден. Он безобразен. Он болен. Он смешон. Сама его доброта ей невыносима. Невыносимо и то, что «приличные люди» спешили выразить ему свои симпатии, зазывали его к себе, расточали ему всяческие знаки внимания.
Между супругами происходили душераздирающие сцены, когда они не скупились на злые слова, осыпали друг друга оскорбительными признаниями, несправедливыми мелочными упреками.
Призналась ли она ему, как это утверждает Любовь Достоевская, что изменила ему после свадьбы с учителем Вергуновым? Анекдот правдоподобен, но не подтвержден ни одним документальным свидетельством. Достоевский чрезвычайно скрытен, когда дело касается его интимной жизни. Но не на это ли он намекает в письме к Врангелю от 22 сентября: «Если спросите обо мне, то что Вам сказать: взял на себя заботы семейные и тяну их».
«…мы были с ней положительно несчастны вместе», – признается он позже, в 1865 году, в письме, к которому мы еще вернемся.
Желанного облегчения не приносит ему и работа: его постоянно отвлекают бесконечные визиты.
Припадки эпилепсии учащаются. Геморрой также причиняет ему жестокие страдания. Тем не менее с неслыханным мужеством он правит корректуру «Села Степанчикова» и завершает сбор заметок к «Запискам из Мертвого дома». Он предполагает также вернуться к ранним произведениям, внести в них правку и заново их издать.
«Они увидят наконец, что такое „Двойник“!.. (и наконец, если я теперь не поправляю „Двойника“, то когда же я его поправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником?)».
О «Мертвом доме» он пишет: «…ведь у них не бараньи головы. Ведь они понимают, какое любопытство может возбудить такая статья в первых (январских) нумерах журнала… Не думай, милый Миша, что я задрал нос или чванюсь… Совсем нет; но я очень хорошо понимаю любопытство и значение статьи и своего терять не хочу».
Термин «статья», который употребляет Достоевский, говоря о «Записках из Мертвого дома», свидетельствует, что поначалу он замышлял это произведение в скромных размерах и лишь в процессе работы оно разрослось и приобрело окончательный объем.
«Теперь я завален делами. Писать начну („Мертвый дом“) после 15-го. У меня болят глаза, заниматься решительно не могу при свечах; все хуже и хуже».
В 1850 году благоразумный Михаил открыл табачную фабрику, выпускавшую папиросы в изящных сигаретницах, содержащих сюрприз. Вначале успех был огромным, но быстро пошел на убыль, и бывший инженер-поэт уже подумывал как бы, пусть и с убытком, ликвидировать предприятие. (Он ликвидировал его в 1861 году). Приобретенный коммерческий опыт побудил его взяться за ведение дел Федора Михайловича, но тот слишком торопится, выходит из терпения, раздражается, и ответы Михаила полны резких упреков:
«Я не понимаю, милый друг, что заставляет тебя так тревожиться и волноваться. Ты свое дело сделал: написал роман, мне его переслал, положись на меня и спокойно жди результата». (Письмо от 2 октября 1859 года.)
«Нынче опять получил от тебя бомбу… Экой ты неугомонный».
2 ноября Достоевский получает ответ от Тотлебена – его просьба удовлетворена: князь Долгоруков не возражает против его возвращения в столицу.
25 ноября 1859 года губернатор Твери получил уведомление от управляющего канцелярией III Отделения:
«…по ходатайству… о разрешении Вам жительства в Санкт-Петербурге Государь Император изъявил на это всемилостивейшее согласие свое с тем, однако, чтобы учрежденный за Достоевским секретный надзор продолжаем был и в С.-Петербурге».
Друзья в Петербурге ищут ему квартиру, обставляют ее и нанимают кухарку.
Из Твери в столицу Достоевский едет по железной дороге.
На платформе вокзала писателя встречают братья Михаил и Николай, писатель Милюков, друзья, знакомые и радостно приветствуют его. Поезд останавливается, и Достоевский спрыгивает с подножки.
– Вот он! – крики, смех, объятия.
– Десять лет! Целых десять лет!
«Федор Михайлович, как мне показалось, не изменился физически, – пишет Милюков, – он даже как будто смотрел бодрее прежнего и не утратил нисколько своей обычной энергии».
Часть III
Глава I От журнала до «Записок из Мертвого дома»
Достоевский, отбыв каторгу и ссылку, вернулся в Петербург и попал в совершенно незнакомый ему мир. Россия Александра II не походит на Россию Николая I. Александр II на встрече с представителями московского дворянства заявил: «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет уничтожаться снизу». В 1860 году освобождение крестьян было вопросом месяца. Главный комитет под председательством государя изучает формы освобождения без денежной выплаты помещикам и возможности для крестьян приобрести в полную собственность земли, которые они обрабатывают.
Другие крупные либеральные реформы находятся в стадии разработки. Печать несколько освобождается от гнета цензуры. В обществе осуждают телесные наказания. Ратуют за введение гласного суда.
Эти торопливые нововведения, покушающиеся на вековые устои, будоражат общественное мнение. Дворянство, лишенное привилегий, разумеется, враждебно относится к инициативам правительства. Но и прогрессивные круги русского общества не очень-то поддерживают мужественную деятельность Александра II: неожиданное проведение в жизнь сверху их собственной программы удовлетворяло их только наполовину. Политика «капельницы» разжигала нетерпение.
Пробудив в обществе жажду гуманитарного прогресса, император не способен ее утолить, не поступившись своими прерогативами самодержца. С каждым месяцем требования радикальных кругов все больше опережают самые смелые намерения центральной власти. Раз уж взялись за обветшалое здание царизма, стоило бы одним ударом разрушить его до основания.
Каждый считал себя вправе обсуждать и решать вопросы внутренней политики. Каждому необходима свежая и точная информация. Времени на размышления не оставалось. На «свежеиспеченные» новости набрасывались, как голодные на хлеб, и жадно их проглатывали.
В этой накаленной атмосфере главную роль играет пресса – уже не средство развлечения, а источник информации. Пресса отражает настроения образованной части общества. В Петербурге прогрессивные журналы «Современник», «Русское слово», в Лондоне «Колокол» Герцена обличают беззакония и произвол царского режима и требуют полного политического переустройства. Таким образом, уступки Александра II не смягчают антимонархические и антицерковные настроения в обществе, а, наоборот, лишь подливают масла в огонь.
Вот в этот-то зашатавшийся мир внезапно попадет Достоевский с его огромной любовью к царю и к России. Он прибывает словно из другого столетия, с другой планеты. Он радостно приветствует последние социальные преобразования. Он верит в будущее России. Он довольно улыбается и не замечает, что улыбается он один. А заметив, храбро ввязывается в драку.
Перед современниками он вновь выступает с позиций, которые занимал в 40-е годы. Нет, каторга не изменила его. Он вовсе не консерватор – он русский консерватор. Он и не либерал – он русский либерал. Этот «консерватизм-либерализм по-русски» предполагает ряд реформ, но реформ не копирующих Запад, а извлеченных из глубин русской истории.
Славянские народы обладают врожденной самобытностью, и очень важно эту самобытность бережно оберегать. Реакционеры славянофилы больше московиты, чем русские. Прогрессисты либералы больше европейцы, чем русские. Между двумя этими полюсами есть промежуточная позиция – она-то и приемлема. И Достоевский намерен ее поддерживать и развивать.
Однако его не понимают, не хотят понять. Для студенческой молодежи он бывший смертник, каторжанин, недавно сбросивший оковы, – мученик за идею свободы. Когда на литературных вечерах его будут просить прочесть главы из «Записок из Мертвого дома», то рукоплескать будут не писателю, а единомышленнику. Тот ореол, которым они окружают его имя, основан на недоразумении, – он не из их стана. И он страдает оттого, что его любят за идеи, которые он никогда не разделял, за идеалы, которые он никогда не защищал.
Он признается Страхову, как ему неприятно выступать с чтением отрывков из «Мертвого дома»: «Мне все тогда кажется, как будто я жалуюсь перед публикой, все жалуюсь… Это нехорошо».
Эта ложная ситуация невыносима. Необходимо разъяснить свою позицию. Достоевский и его брат Михаил решают издавать журнал.
По правде говоря, мысль об издании журнала возникла еще в 1858 году, и 31 октября того же года цензура одобрила программу журнала. И только в 1860–1861 годах под давлением настоятельной необходимости братья Достоевские возвращаются к своему проекту и приводят его в исполнение.
Журнал, или скорее ежемесячное обозрение, называется «Время».
Главный редактор журнала – Михаил Достоевский; он ведает административными и финансовыми вопросами. Федор Достоевский руководит художественным, литературным и политическим отделами. Он же составляет текст объявления о подписке на журнал, представляющий собой пространную защиту русского либерализма: «Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал».
И в № 1 журнала, появившемся в январе 1861 года, редактор разъясняет, что «Время» журнал ни славянофилов, ни западников: «Но общество поняло, что с западничеством мы упрямо натягивали на себя чужой кафтан, несмотря на то, что он уже давно трещал по всем швам, а с славянофильством разделяли поэтическую грезу воссоздать Россию по идеальному взгляду на древний быт»…
Мужественно заняв четкую позицию, «Время» расположилось точнехонько между двух огней, и на него дружно набросились и славянофилы, и западники.
Однако читатели нахлынули, и тираж журнала неуклонно возрастал. Достоевский заручился сотрудничеством Тургенева, Островского, Некрасова, критика Аполлона Григорьева и молодого философа Страхова.
Для привлечения читателей Федор Михайлович не колеблясь публикует «Преступление Ласенера»[39] и фрагменты из «Мемуаров» Казановы[40]. Фактически он выполняет всю редакторскую работу: он пишет рассказы, критические статьи, заказывает переводы романов, печатавшихся с продолжением, правит их, с увлечением выстраивая отведенные ему разделы.
Работает он исключительно по ночам. В одиннадцать часов, когда в доме наступает тишина, он устраивается у самовара, раскладывает листы лощеной бумаги и начинает писать, попивая крепкий холодный чай, сладкий, как сироп. В пять часов утра он ложится спать и спит до двух часов пополудни.
Такой режим ему не по силам. Через три месяца после выхода первого номера журнала «Время» он заболевает. Конечно, он скоро выздоравливает, но припадки эпилепсии учащаются: один-два каждую неделю. Он смутно предчувствует их приближение. Все волнения разом отступают и разрешаются каким-то высшим спокойствием. Он умиротворен, свободен от всех забот, его наполняют ясная гармоничная радость и надежда.
«Но эти моменты, эти проблески, – пишет он в „Идиоте“, – были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок… Что же в том, что это болезнь? – решил он наконец, – …если минута ощущения… оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни?»
«На несколько мгновений, – рассказывал также друзьям Федор Михайлович, – я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».
Высшей точки мистического экстаза Федор Михайлович достигал в то мгновение, когда его тело сотрясали конвульсии, на губах выступала пена и он с воплем падал на пол. Страхов, которому довелось быть свидетелем одного из припадков, оставил нам его описание: «Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты».
Падая, ему случалось пораниться. На лице выступали красные пятна. Когда он приходил в себя, его конечности были сведены судорогами, голова затуманенной. По его словам, у него было ощущение, будто он великий преступник, злодей, над которым довлеет какая-то ужасная вина, и ничто не может освободить его от этой неведомой вины. Смерть ли отца, гибель ли пьяницы Исаева до такой степени терзали его? Эта потребность пострадать, понести кару подчинила себе всю внутреннюю жизнь Достоевского.
Нередко после припадков Федор Михайлович терял на несколько дней память, впадал в мрачное настроение. Не мог работать. Его записные книжки за 1862–1863 годы содержат следующие записи, пугающие самой своей краткостью:
«Припадки
1-го апреля – (сильный)
1-го августа – (слабый)
7-го ноября – (средний)
7-е генваря – (сильный)
8 марта – (средний)»
И в таких тяжелейших условиях Достоевский сочинил первый после возвращения с каторги большой роман «Униженные и оскорбленные» и закончил «Записки из Мертвого дома».
В январе 1861 года в первом номере журнала «Время» начал печататься роман «Униженные и оскорбленные». Эта книга – любопытная смесь устаревших романтических приемов в духе Эжена Сю и личных впечатлений автора. Эта книга – сплав замаскированной исповеди и социального романа-фельетона.
Иван Петрович (Ваня) любит Наташу Ихменеву. Она любит другого – Алешу, сына князя Валковского. Обе семьи разделяет вражда из-за безобразной судебной тяжбы. Неважно: Наташа решается бежать из родительского дома и «жить своей жизнью» с юным и ветреным Алешей. До сих пор действие романа развивается в соответствии с дурной модой на сентиментальные анекдоты, печатавшиеся с продолжением в дамских журналах. Но Достоевскому достаточно лишь слегка затронуть самый избитый сюжет, чтобы превратить его в захватывающую историю, его рассказ – горячечная исповедь, словно внезапно вырвавшаяся у автора. Ваня, безнадежно вздыхающий о Наташе, – молодой начинающий писатель, первая книга которого пользовалась большим спросом в читальнях. И эту первую книгу не отличить от «Бедных людей».
«…выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник», – заявляет Ваня в «Униженных и оскорбленных». (Разве это не портрет Макара Девушкина из «Бедных людей»?)
«Зачем, зачем он умер?.. Да вот этот, молодой, в чахотке… в книжке-то?» – спрашивает маленькая Нелли. (Разве не о студенте Покровском из «Бедных людей» идет речь?)
Рукопись Вани попадается на глаза «критику Б.», обрадовавшемуся как ребенок, – недавно так же радовался, прочитав «Бедных людей», Белинский. Сходство между Ваней и Достоевским обнаруживается с первых же страниц книги.
Но есть и еще кое-что, кроме этого. Ваня, узнав о страсти Наташи к Алеше, помогает своей любимой бежать с молодым князем и всячески покровительствует молодой паре. Он сообщает новости о Наташе ее родителям, в самых трудных обстоятельствах приходит на помощь влюбленным. Он добровольно становится их ангелом-хранителем. Эта преданность сопернику, это великодушие отвергнутого вздыхателя воспроизводит интригующее и непостижимое отношение самого Федора Михайловича к Марии Дмитриевне и учителю Вергунову.
«Я признаюсь, – все эти молодые господа, доводящие свое душевное величие до того, чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть у него на побегушках, мне вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только, и выдумать их в литературе могли только творцы, более знакомые с головною, нежели сердечною любовью». Таково суждение строгого критика Добролюбова о Ване, уступившем любимую счастливому сопернику. Он воспринял эту ситуацию как литературный вымысел автора, тогда как Достоевский был абсолютно искренен, воссоздавая в «Униженных и оскорбленных» историю своего романа с Марией Дмитриевной.
«Я берусь вам все устроить, все, и свидания, и все… Я буду переносить ваши письма; отчего же не переносить?» – говорит Ваня.
И Наташа отвечает: «Я же тебя оставила первая, а ты все простил, только об моем счастье и думаешь… Нет, я тебя не стою! Видишь, я какая: в такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастии… если я люблю Алешу как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего люблю… без тебя я не проживу; ты мне надобен, мне твое сердце надобно, твоя душа золотая»…
Можно подумать, что слышишь Марию Дмитриевну, благодарившую Достоевского за его самоотречение, умолявшую его не покидать ее, но неимевшую сил расстаться с Вергуновым, горюющую, рыдающую в какой-нибудь убогой комнатке Кузнецка.
Как бы там ни было, в этом произведении заметен некоторый спад в творчестве Достоевского. Роман распадается на две сюжетные линии, слабо связанные между собой: на историю Наташи и историю Нелли. Ситуации искусственны. Персонажи нежизненны. Ваня, от лица которого ведется рассказ в «Униженных и оскорбленных», наделен тусклым, несложным, расплывчатым характером «типичного рассказчика». Наташа – влюбленная в духе ранней манеры Достоевского. Она любит Алешу, который любит ее только наполовину, она также любит и Ваню и страдает от того, что заставляет его страдать и т. д.
Она – духовная сестра Вареньки из «Бедных людей» и Настеньки из «Села Степанчикова», – все эти девушки умны, добры, чувствительны и совершенно бесцветны.
Отец Алеши князь Валковский – типичный мелодраматический злодей, нарисованный одной черной краской, злодейские черты которого доведены до абсурда.
Интереснее образ Алеши. Этот взбалмошный, вечно в чем-нибудь провинившийся и всегда получавший прощение юнец возбуждает и удерживает внимание читателя. Алеша – разновидность негодяя, хорошо воспитанного и не сознающего, что он негодяй. Признав свои поступки дурными, он раскаивается, но раскаяние не изменяет его натуру. Он нерешителен, бесхарактерен, он удручающе ничтожен.
Он говорит Наташе о ее сопернице: «Не думай же чего-нибудь. Мне именно с тобой хочется про нее говорить, а с ней про тебя». И его огорчение так горячо, так обаятельно, что невозможно сердиться на него за его подлость.
Не учителя ли Вергунова, своего плаксивого и уступчивого соперника из Кузнецка хотел Достоевский нарисовать в образе Алеши Валковского? Вполне возможно. Но соблазнитель изображен здесь со странной симпатией, – как будто Достоевский давно уже его простил.
Над всеми этими фигурами возвышается пленительный образ Нелли. Она – сердце, зерно всей книги. По правде говоря, история умирающей от чахотки девочки, которую приютил у себя Ваня и которая оказывается внебрачной дочерью князя Валковского, весьма смахивает на сентиментальный роман, печатающийся с продолжением из номера в номер. Но сам характер маленькой Нелли – шедевр деликатности и чистоты. Нелли – сиротка, воспитанная злющей фурией криками и пощечинами. Однако Нелли благодарна этой женщине, которая бьет и мучит ее, но не прочь ее удочерить и оставить у себя. Нелли хотела бы расплатиться за услугу, которую та ей оказала. Она всегда готова расплачиваться, не щадя себя, своей спиной или своей любовью. Когда Ваня вырывает ее из-под власти старухи Бубновой, уводит к себе, заботится о ней, утешает ее, ее любовь превращается в обожание. Но она упряма и горда, она скрывает от него свою любовь. Пережитые несчастья чрезвычайно закалили ее: «Упрямая, сатана! – кричит Бубнова. – Молчит, хоть бей, хоть брось, все молчит; словно себе воды в рот наберет, – все молчит!»
Нелли и сама говорит о себе: «Меня будут бранить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду все молчать, все молчать, пусть бьют, ни за что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не плачу». Она невзлюбила Наташу, потому что Ваня деятельно помогает этой чужачке. Однако когда ее «спаситель» расскажет ей о несчастьях молодой женщины, Нелли, сама умирающая от чахотки, все пустит в ход, чтобы создать видимость счастья той, которая «много страдала».
Затем, исполнив свою роль, она умрет, сожженная своей любовью.
Критика сурово отнеслась к «Униженным и оскорбленным».
«Г. Достоевский, вероятно, не будет на меня сетовать, что я объявляю его роман, так сказать, „ниже эстетической критики“», – пишет Добролюбов.
«Неестественность положения никогда не может быть художественной! – пишет Кушелев-Безбородко. – А неестественность положения тут на каждом шагу.
Главный же недостаток этого романа в том, что он (Достоевский. – Н.У.) не обрисовал, не очертил, не разъяснил ни одного живого лица, ни одного настоящего типа».
«Главное, – пишет критик Зарин, – взяться не за чтó; нет никакой опоры. Слышно: кто-то о чем-то как будто стонет. Но кто и о чем?»
Аполлон Григорьев, критик, сотрудничавший с журналом «Время», заявлял, что в романе выставлены «куклы», что в нем «ходячие книжки», а не лица.
Достоевский только улыбался в ответ на эти упреки: «Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я сам уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было)… Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе)… Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь».
Впрочем, ошеломляющий успех «Записок из Мертвого дома» затмил неудачу «Униженных и оскорбленных». На этот раз критика единодушно признает огромный талант автора.
«Давно не встречали мы в нашей литературе сочинения, которое действовало бы на читателя так увлекательно, как „Записки из Мертвого дома“», – пишет Милюков.
Достоевского сравнивают с Данте. Восхищаются сценой в бане, где обнаженные, изуродованные, покрытые шрамами тела мечутся в облаках пара, насыщенного тошнотворными испарениями. Выделяют эпизод с театром, когда закованные в кандалы каторжники разыгрывают комедию перед своими наголо обритыми товарищами. Отмечают также сцены в госпитале, сцены наказания шпицрутенами и последний день на каторге – день освобождения.
Некий чиновник Цензурного комитета потребовал изменений в тексте, потому что «люди, не развитые нравственно и удерживаемые от преступлений единственно строгостью наказаний»… могут из «Записок» получить превратное представление о слабости «определенных законом за тяжкие преступления наказаний». Так писал этот безымянный бюрократ. 12 ноября 1860 года Главное управление цензуры, не приняв во внимание замечания Комитета, разрешает публикацию «Записок из Мертвого дома» при единственном условии: исключении мест «противных по неблагопристойности выражений своих правилам цензуры».
Публикация «Униженных и оскорбленных» и «Записок из Мертвого дома» привлекли к журналу «Время» новых читателей. В 1861 году число подписчиков возросло до 2300. В 1862 году достигло 4302. Михаил ликвидировал свою табачную фабрику, производившую сигареты с сюрпризом, и всецело посвятил себя журналу. Он и Федор Михайлович определяли основные направления публиковавшихся статей. Вера в свое дело и мужество воодушевляли молодую редакцию журнала. Они трудились на благо России. Они трудились на благо всего мира.
Тем временем политические события следовали одно за другим. Манифест Александра II от 19 февраля 1861 года освободил крестьян империи. Но реформа запоздала. О ней слишком много говорили, ее слишком долго ждали, она уже не могла удовлетворить общественное мнение. Шелгунов выразил это так: «…когда все основания освобождения определились и шла редакционная работа Положения 19 февраля, у общества явился досуг подумать и о другом». Радикалы откликнулись быстро. Герцен, революционер, живший в изгнании, писал в своей газете «Колокол», издававшейся в Лондоне:
«Однако как зачали генералы да чиновники толковать народу „Положение“, оказывается, что воля дана только на словах, а не на деле… На словах народу от царя воля, а на деле… все прежние горе да слезы». (1 июля 1861 г.)
И 1 ноября того же года:
«Прислушайтесь… со всех сторон огромной родины нашей: с Дона до Урала, с Волги до Днепра, растет стон, поднимается ропот – это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля».
Газета Герцена запрещена правительством, но проникает в Россию тайком и передается из рук в руки. Университетская молодежь охвачена брожением. Она хочет нового порядка. Какого? Она и сама толком не знает. Но дело не в этом.
В ноябре 1861 года разразилось так называемое «студенческое дело». Либеральные идеи вскружили головы студентов разных факультетов. Студенты читали революционные прокламации, устраивали митинги, создавали студенческие кассы. Они даже учредили тайный «трибунал», дабы самим судить себя. Вся эта «деятельность», выходящая за рамки официальной политики, отвлекала их от занятий. В университетских аудиториях спорили, а не обучались. Учиться перестали – нечему было больше учиться. Университетские власти обратились к императору с просьбой о декрете, запрещающем сходки, митинги, депутации. Студенты бурно протестовали против этой «травли». Толпы бунтующих студентов вышли на улицы. По два-три раза в день полиция окружала группы студентов и уводила их под арест. Кончилось тем, что зачинщиков посадили в Петропавловскую крепость. Те были в восторге от этой неожиданно свалившейся на них славы. Весь город, само собой, только и говорил об их мужестве, и в часы, отведенные для посещения заключенных, множество людей собиралось у ворот тюрьмы. Михаил Достоевский от имени журнала «Время» послал им огромный ростбиф, флягу с коньяком и бутылку вина. Приговоренные к высылке главари покидали город в сопровождении целого эскорта почитателей.
Университет закрыли «для пересмотра университетского устава». Профессора добились разрешения читать публичные лекции в помещениях Думы. Студенты взяли на себя организацию занятий и соблюдение порядка.
2 марта состоялся музыкально-литературный вечер. На этом вечере известный либерал профессор истории П.В. Павлов прочел свою статью, одобренную, как и вся программа вечера, цензурой. Профессор прочел статью с таким пафосом, что ее смысл несколько исказился и в ней проскользнул выпад в адрес императора. Его чтение прервала оглушительная овация. На следующий день студенты узнали, что профессор Павлов выслан из Петербурга. Его коллеги в знак солидарности прекратили свои лекции. Дабы завершить инцидент, правительство запретило публичные лекции, и Думский университет был закрыт.
Достоевский, выступавший на вечере 2 марта, вспомнит об этом деле, описывая публичное чтение в «Бесах»:
«Последних слов даже нельзя было и расслышать за ревом толпы… вопили, хлопали в ладоши, даже иные из дам кричали: „Довольно! Лучше ничего не скажете!“
Несмотря на закрытие Думского университета, революционные агитаторы продолжают свое дело. Множатся тайные кружки. Чернышевский и Утин, сотрудники „Современника“, вместе с полковником артиллерии Лавровым основывают общество „Земля и воля“ с целью бороться с императорской властью – злейшим врагом народа».
Революционные прокламации засовывают под двери частных квартир:
«Да здравствует социальная и демократическая республика русская».
И также: «…мы издадим один крик: „В топоры“, – и тогда… бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!»
И еще: «…зальем кровью улицы городов и не оставим от них камня на камне».
Достоевский находит одну из таких прокламаций на ручке замка своей квартиры. Этот листок возмущает и расстраивает его.
«И вот мне, давно уже душой и сердцем не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, – напишет он позже в „Дневнике писателя“, – мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость… Тут подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно».
Он отправляется к Чернышевскому, сотруднику «Современника» и члену общества «Земля и воля», и просит его образумить авторов прокламации.
«Может, и не произведет действия, – отвечает тот. – Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны».
16 мая 1862 года в Петербурге вспыхивают загадочные пожары. Несмотря на все усилия полиции и пожарных, целые кварталы пылали в течение двух недель.
«Помню, – пишет Страхов, – мы вместе с Федором Михайловичем отправились для развлечения куда-то на загородное гулянье. Издали, с парохода, видны были клубы дыма, в трех или четырех местах подымавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то сад, где играла музыка и пели цыгане».
Виновных не нашли, но в поджоге подозревали нигилистов «Земли и воли». Из-за этого подозрения журнал «Современник» приостановили на восемь месяцев.
Чуть позже революционера Чернышевского заточили в Петропавловскую крепость.
А Достоевский, измученный политическими событиями, изнуренный работой главного редактора, решил выехать за границу. Давно уже доктора советовали ему отправиться «в Европу» и несколько месяцев отдохнуть. Мария Дмитриевна не поедет с ним: путешествие стоит слишком дорого, к тому же она не хочет оставлять одного в Петербурге своего сына Павла: он готовится к экзаменам для поступления в гимназию.
И 7 июня 1862 года Достоевский один уезжает «открывать Европу».
Глава II Первая поездка в Европу. Польское дело
Достоевский приезжает в Париж в середине июня, он никого не знает в Париже, и никто не знает его. Он не ищет встречи ни с Виктором Гюго, опубликовавшим в это время «Отверженные», ни с Флобером, публиковавшим «Саламбо», ни с Теофилем Готье, роман которого «Капитан Фракасс» только что вышел из печати; не встречается он ни с Ренаном, ни с Сен-Бевом, ни с Тэном. Он замыкается в своем одиночестве варвара. Он тоскует по России, и его ностальгия быстро перерастает в дурное настроение.
«Париж прескучнейший город, – пишет он Страхову, – и если б не было в нем очень много действительно слишком замечательных вещей, то, право, можно бы умереть со скуки».
Во Франции он проводит всего десять дней и уже убежден, что «француз тих, честен, вежлив, но фальшив и деньги у него – все».
Вскоре он бежит из Франции в Англию. В Лондоне Федор Михайлович встречается с нигилистом Герценом, и, хотя их политические убеждения прямо противоположны, они легко ладят друг с другом.
«Вчера был Достоевский, – пишет Герцен Огареву, – он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ».
Что до Достоевского, то он во время визита выказывает Герцену «достаточно нежности», но через несколько лет упрекнет его за то, что он предал Россию. «Герцен не эмигрировал, – напишет он позже в „Дневнике писателя“, – нет, он так уж и родился эмигрантом… Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога… Разумеется, Герцен должен был стать социалистом… из одного только „логического течения идей“ и от сердечной пустоты на родине… Он… отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить свои дела и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой».
Лондон, благодаря пояснениям Герцена, понравился Федору Михайловичу больше, чем Париж. «Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты».
Он возвращается в Париж 8 июля.
Еще во время первого приезда в Париж Достоевский написал Страхову, предложив ему вместе поехать в Швейцарию и в Италию. Страхов соглашается. Местом встречи выбрана Женева. Достоевский направляется туда через Кельн, Дюссельдорф, Майнц и Базель и 22 июля встречается в Женеве со Страховым.
Друзья скучают в Женеве. Федор Михайлович находит эту страну «скучной и мрачной». Из Женевы они едут в Люцерн, а оттуда в Турин и Геную. Из Генуи отплывают в Ливорно и затем по железной дороге едут во Флоренцию.
Достоевский не умеет путешествовать. Подобно сомнамбуле, он пробегает одну страну за другой и пробуждается от грез лишь для того, чтобы ухватить взглядом толстого буржуа, сидящего за столиком кафе, или хозяйку отеля, которая сморкается, дергая себя за нос, как за дверной колокольчик. Его память со скоростью щелкающего фотоаппарата запечатлевает их жалкие личные драмы, неудовлетворенные желания, тайные угрызения. Мысленно он, точно с кроликов, живьем сдирает с них кожу. Окружающий их декор видится ему в зыбких очертаниях, как бы растворяющихся в тумане. Достоевский не замечает того, что окружает человека, – он видит только людей. Пейзаж не интересует его. Если его взгляд и задерживается вдруг на гладких прямых улицах Турина, то потому лишь, что они напоминают ему улицы Петербурга, а река Арно напоминает ему Фонтанку. «…его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, – пишет Страхов, – все его внимание было устремлено на людей».
Проведя неделю во Флоренции, друзья расстаются: Страхов едет в Париж, Достоевский возвращается в Россию.
По возвращении в Петербург Достоевский пишет для журнала «Время» путевые записки – очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях». С жестокой иронией он высмеивает страны, которые посетил.
«Француза, то есть парижанина (потому что ведь, в сущности, все французы парижане), никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном шаре. Впрочем, о всем земном шаре, кроме Парижа, он весьма мало знает. Да и знать-то не хочет».
«Ежегодно в нужное время обсуживаются важнейшие государственные вопросы, и парижанин сладко волнуется. Он знает, что будет красноречие, и рад».
«Другая законная и не менее сильная потребность буржуа, и особенно парижского буржуа, – это se rouler dans l’herbe»[41]. Это о любви к природе.
И о любви: «Когда буржуа расчувствуется или захочет обмануть жену, он всегда называет ее: ma biche[42]. И обратно, любящая жена в припадке грациозной игривости называет своего милого буржуа: bribri[43]… Для парижанина большей частью все равно, что настоящая любовь, что хорошая подделка под любовь».
Все это Достоевский разглядел во время своего первого и краткого пребывания в Париже. Лондон оставил у него впечатление огромного, блестящего, суетящегося города: «…эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити со своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка»… Ему кажется, что он попал в храм современного Ваала. Вся Европа, весь Запад, на его взгляд, погублены прогрессом. Эти страны, утратившие Бога, которыми правит человек – король, но управляют деньги, расчет, наука, постепенно задыхаются под гнетом своих искусственно созданных богатств. Спасение придет извне. Спасение принесет новый народ – русский народ, не испорченный цивилизацией, сохранивший в сердце простую наивную детскую веру – сохранивший в своем сердце Христа, и этот народ ждет своего часа у врат Истории.
Россия спасет Европу.
Однако в начале 1863 года вся Европа поднимается против России. В 1856 году царь посетил Варшаву и пообещал своим польским подданным забыть прошлое: «Я вам приношу забвение прошлого… бросьте мечтания. По моему убеждению, вы сможете только тогда быть счастливыми, когда Польша, подобно Финляндии, присоединится к великой семье, образуемой Российской империей».
Императорским указом 1861 года в Польше учреждался Государственный совет, состоявший из поляков, а для местного самоуправления учреждались губернские, окружные и городские советы, члены которых выбирались поляками. Более того, учреждались независимые от Петербурга комиссии народного просвещения и вероисповедания, которым передавались суды, школы, церковные дела. Поляк маркиз А. Велепольский возглавил административный аппарат и стал членом Совета, а великий князь Константин Николаевич, сторонник либеральных реформ, стал наместником Царства Польского.
Велепольский придерживался умеренных взглядов. А в Польше, как и в России, смягчение режима не охладило пыл недовольных, а, напротив, еще больше его разожгло. Уступки, сделанные императором, расценили как признак слабости. На великого князя Константина Николаевича было совершено покушение. 13 января 1863 года вспыхнуло открытое восстание. Отряды повстанцев атаковали русские гарнизоны, размещенные во многих пунктах на территории Польши и Литвы.
Репрессии были безжалостны. В Литве М.Н. Муравьев, прозванный Вешателем, объявил: пленных не брать. В Польше новый царский наместник генерал Ф.Ф. Берг отличился резней в Фишау.
Франция, Англия, Австрия потрясены этими кровавыми расправами. Но Россия осталась глуха как к их настоятельным просьбам, так и к их угрозам.
В Лондоне революционер Герцен встал на защиту поляков:
«Поддерживать силою оружия правительство, составляющее польское и наше несчастье, вам невозможно, не совершив сознательно преступления или не унизившись до степени бессознательных палачей… Дисциплина необязательна там, где она зовет на злодейство».
Такая позиция по отношению к польскому восстанию была ошибкой «Колокола», повлекшей за собой тяжелые последствия: в самом деле, независимость Польши привела бы к расчленению Российской империи. Для русских либералов откликнуться на призывы Герцена значило изменить родине. Большинство среди них не было еще достаточно «развитым», чтобы поставить общечеловеческие интересы выше интересов национальных. Ведь русские подверглись нападению – и русские защищались. Русская кровь лилась в Польше. Западные державы собирались вмешаться и навязать свое посредничество императорскому правительству, – патриотическая гордость вмиг пробудилась. Либералы и славянофилы оказались в одном лагере. Спрос на «Колокол» резко упал, тираж сократился, – Герцену пришлось прекратить издание «Колокола».
В этой накаленной атмосфере Страхов выступил в журнале «Время» с большой статьей о польском деле «Роковой вопрос». Эта статья, несколько отвлеченная и расплывчатая, порицала поляков за то, что они, гордясь своей высокой – западноевропейской цивилизацией, смотрели на русских как на варваров. Ярый католицизм поляков, их высокомерие, их чувство превосходства над соседними нациями, в статье сурово осуждались. Однако, пишет Достоевский Тургеневу, «некоторые неловкости изложения, недомолвки… подали повод ошибочно перетолковать ее», и продолжает: «растолковали ее так: что мы сами, от себя уверяем, будто поляки до того выше нас цивилизацией, а мы ниже их, что, естественно, они правы, а мы виноваты».
Славянофилы расценили публикацию статьи «Роковой вопрос» как антипатриотическую. «Московские новости» яростно атаковали «Время» за выступление в поддержку Польши. Напротив, поляки и их сторонники увидели в Страхове своего единомышленника. Во Франции журнал «La Revue de deux mondes», враждебно настроенный по отношению к русским, перепечатал статью, основные положения которой совпадали с точкой зрения всего цивилизованного мира.
Кончилось тем, что 24 мая 1863 года министр внутренних дел прекратил издание журнала за публикацию статьи, «идущей прямо наперекор всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам».
Хлопоты, объяснения, протесты Михаила ни к чему не привели. Страхов был потрясен. Достоевский, в отчаянии от этого нелепого удара, поразившего журнал на пороге крупного успеха, мечтал рассеяться и подумывал о новой поездке в Европу. В Литературном фонде он взял в долг 1500 рублей под гарантию своих будущих произведений с обязательством вернуть всю сумму до февраля 1864 года. На этот раз Федор Михайлович надеялся, что уедет не один.
Глава III Вторая поездка в Европу. Полина Суслова
Покинув Тверь и поселившись в Петербурге, Федор Михайлович Достоевский жил в состоянии постоянного умственного возбуждения.
Творчество романиста, руководство журналом, писание статей по случаю, – такая загруженность усугубляла его нервное переутомление. Измученный, издерганный, он хотел бы отдохнуть от литературных забот в обществе жены.
Но Мария Дмитриевна тяжело больна. Лицо ее осунулось, глаза запали, щеки ввалились, – оно походило на маску смерти. Нос заострился, губы съежились и как бы приоткрылись для последнего вздоха. И потом – она его не любила. Она сама ему об этом сказала. Она бросила ему эти слова прямо в лицо. Любой предлог годился, чтобы возобновить старую ссору. «Зря я вышла за тебя. Без тебя я была бы счастливее. Я тебе в тягость, я прекрасно вижу, что я тебе в тягость».
И каждая из этих ядовитых стрел впивалась прямо в сердце Федора Михайловича.
«…женат, болен падучей болезнью, литературствую, участвую в издании журнала», – с грустью пишет он вдове Белинского. Он так нуждается в разрядке, он хотел бы бежать из этой душной комнаты, где умирающая женщина напоминает ему о его прошлом, осыпает упреками, обвиняет себя, а потом заходится в истерических рыданиях. Он жаждет любви – молодой, чистой, легкой. Он мечтает о кокетливом смехе, о завлекающей игре глаз, о нежных признаниях, – он хочет, чтобы любовь приносила радость.
В 1860 году он влюбляется в актрису Шуберт, легкомысленную и веселую, но остается лишь ее верным рыцарем. Впрочем, он легко примиряется с этой ролью, – он давно к ней привык. С нездоровым удовольствием он играет роль посредника между нею и ее мужем доктором Яновским. Снова он любит, не признаваясь в своей любви, и жертвует собой ради той, которая никогда не ответит на его любовь. Как с мадам Панаевой, как с Марией Дмитриевной, ему приходится снова пройти через восхитительное испытание «влюбленной дружбой». Он уверяет ее, что, будь у него хоть крупица таланта, он сочинял бы для нее водевили. Он пишет ей 12 июня 1860 года: «Я откровенно Вам говорю: я Вас люблю очень и горячо, до того, что сам Вам сказал, что не влюблен в Вас, потому что дорожил Вашим правильным мнением обо мне и, Боже мой, как горевал, когда мне показалось, что Вы лишили меня Вашей доверенности… Но Вашим письмом Вы все рассеяли, добрая моя бесконечно. Дай Вам Бог всякого счастья! Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в Вас! Это мне дает возможность быть еще преданнее Вам, не опасаясь за свое сердце… Прощайте, голубчик мой, с благоговением и верою целую Вашу миленькую шаловливую ручку и жму ее от всего сердца».
Неизвестно, как долго бился бы Достоевский в путах этого мариводажа, если бы ему вскоре не выпал новый шанс обрести счастье.
Достоевского часто приглашают выступить с чтением отрывков из его произведений на литературных вечерах в пользу нуждающихся студентов.
Хорошенькая Полина Суслова не пропускает ни одного из этих чтений. У нее бледное с крупными чертами лицо, выдающими ее крестьянское происхождение, пристальный высокомерный взгляд. У нее низкий голос, медлительная речь. Манеры ее сдержанны. «На Катьку Медичи она в самом деле похожа, – пишет Розанов, ее будущий муж. – Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком равнодушно; „стреляла бы в гугенотов из окна“ в Варфоломеевскую ночь – прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены». Ее отец, бывший крепостной, хитростью и энергией ставший главным управляющим имениями своего бывшего помещика, честно обогатился и завел собственную фабрику. Младшая его дочь Надежда станет первой в России женщиной-врачом. А старшая Полина удовлетворяется в своих амбициях положением вечной студентки.
Полина – типичная экзальтированная девушка нового поколения: она записывается на все лекции университета и посещает одну из десяти, на лекции делает заметки и никогда их не перечитывает, готовится к экзаменам и не приходит их сдавать; зато она посещает сборища университетской молодежи и участвует в их пустопорожних говорильнях. Она увлекается политикой. Она питает свой ум бессодержательными теориями, а свое сердце аффектированными чувствами. Она за всеобщую революцию, за депутации, демонстрации, манифестации, провокации, прокламации, – за агитацию всех видов. Она ярая феминистка и проповедует свободную любовь и равенство в правах. В Бога она не верит. Позже директор школы[44] во Владимире даст ей такую характеристику:
«Суслова действительно человек неблагонадежный; во-первых, она носит синие очки, во-вторых, волосы у нее подстрижены. Кроме того, имеются слухи о ней, что „в своих суждениях она слишком свободна и никогда не ходит в церковь“».
Эта юная нигилистка под сильным впечатлением растущей известности Достоевского. Ей кажется, что именно этот человек, этот великий страдалец, так много любивший и познавший все человеческие страсти, может понять ее и разобраться в хаосе, царящем в ее душе. Возле него ее девические волнения легко улягутся. Он будет давать ей советы. Он сумеет придать новый – возвышенный смысл ее сумбурной, лишенной цели жизни. Он сделает из нее женщину, полезную обществу. Она нуждается в нем.
Отбросив стыдливость и колебания, она шлет ему безрассудное письмо и просит о встрече. Она приносит ему рукопись рассказа и добивается чести сотрудничать с журналом «Время».
Рассказ появится в сентябре 1861 года. А Достоевский будет сопротивляться этой юной не скрывавшейся любви до декабря 1862-го.
Он старше ее. Он довольно безобразен со своим круглым с рыжеватыми усами лицом, с тяжелым лбом и ясными и острыми, точно осколки стекла, глазами. Она, напротив, красива и дышит здоровьем и молодостью, и она горда. А он женатый человек, обремененный заботами, долгами, жизненным опытом. Она свободная невинная девушка с горячей кровью, полная жизни. Их союз ни одному из них не принесет счастья. Однако он так жаждет убежать от жены, больной, сварливой, крикливой, которая вечно кашляет и харкает кровью и которая вот-вот умрет! Он хотел бы также забыть лукавую любезность актрисы Шуберт. Он хотел быть любимым душой и телом. Он хотел бы… Он хотел бы начать жизнь сначала – вместе с Полиной. Соблазн овладеть этим юным телом, завладеть этим неокрепшим умом слишком велик. Он поддается искушению, ясно сознавая, что совершает тяжкий грех.
В действительности же не ее он погубит, – он потеряет самого себя.
С первых же дней их связи Полина Суслова возненавидела своего сорокалетнего соблазнителя. Она наивно надеялась, что он разберется в противоречиях ее души, сделает из нее избранное существо, и она, озаренная его гением, воспарит на духовную высоту для исполнения высшего предназначения; а он сам идет по своему пути спотыкаясь и не ее возвышает до себя, а сам опускается до нее. Она желала бы, чтобы он овладел ее умом, а на самом деле это она завладела его чувствами. Он открыл ей счастье, без которого она более не может обходиться, но которое почему-то вызывает у нее отвращение. Она чувствует себя униженной, оскверненной. Ей противно видеть перед собой это веснушчатое лицо, эти жидкие усы, эти умоляющие глаза. И при этом она живет только ради того, чтобы быть вместе с этим человеком. Она его жалеет, презирает, она его ненавидит. Он – ее враг, и он ей необходим. «…ночи, – занесет она позже в свой дневник, – когда вдруг просыпалась, в ужасе припоминала происшедшее днем, бегала по комнате и плакала».
Когда, после запрещения журнала «Время», Федор Михайлович решает уехать из России, она сразу соглашается сопровождать его.
Однако ликвидация журнала оказывается делом более хлопотливым, чем можно было предполагать. Достоевский вынужден отложить свой отъезд. Он надеется, что Полина терпеливо дождется завершения всех его дел и в начале августа они вместе отправятся в путь. Но Полина тотчас же воспользовалась предлогом, чтобы ускользнуть от него, путешествовать одной и затеряться в большом городе, где ее никто не знает. Бегство для нее – последняя попытка спастись от него, вырваться из-под его власти. Она запирает чемоданы. Она запихивает туда своего любовника. Она бежит в Париж, а он обещает вскоре присоединиться к ней.
Несколько месяцев спустя, 19 августа 1863 года, Полина получает письмо от Достоевского; он сообщает о своем скором приезде. Он стремится к ней и через несколько дней будет в Париже. Но по дороге в Париж он намеревается остановиться в Висбадене. Как бы ему ни хотелось увидеть Полину, в нем сильнее желание попытать счастья в рулетке. Прямо с вокзала он отправляется в игорный дом. Впервые он переступает его порог. Входит в огромные залы, залитые ослепительным светом ярко горящих люстр, огни которых играют в хрустальных подвесках и отражаются в потускневших от времени зеркалах, украшающих стены.
Посреди зала – игорный стол. Его зеленое поле словно бы испускает сияние, наполняя пространство призрачным свечением, подобным зеленоватой прозрачности абсента. В скупом свете, исходящем от плафона, изможденные, застывшие лица, обрамляющие стол, кажутся покрытыми налетом плесени. И глаза на этих лицах прикованы к светящемуся шарику рулетки. Они, эти глаза, надеются, молят, высчитывают. Они словно бы излучают своего рода коллективную навязчивую идею, которой не в силах сопротивляться и Достоевский. Он ставит небольшую сумму и выигрывает. Ставит снова и снова выигрывает. Он рискует всей своей наличностью, и крупье придвигает к нему лопаточкой груду жетонов и монет – всего 10 400 франков. Он богат, богат! Он бросается вон из игорного дома, бежит на вокзал, покупает билет и возвращается в отель, теряя голову от счастья.
Но едва захлопнулась крышка чемодана, как азарт игрока захлестнул его. Взбудораженный искушением – сорвать банк и «выиграть 100 000 франков», он дрожит как в лихорадке. И мчится в игорный дом. И одну за другой проигрывает все свои ставки. К концу дня у него остается 5000 франков. Он возвращается в отель, совершенно разбитый и счастливый. Он расстается с Висбаденом и уезжает в Париж.
«Не говорите об этом никому, милая Варвара Дмитриевна, – пишет он сестре жены. – То есть… я разумею, главное. Пашу. Он еще глуп и, пожалуй, заберет в голову, что можно составить игрой карьеру… Ну, и не следует ему знать, что его папаша посещает рулетки».
Он-то разгадал тайну игры:
«Секрет-то я действительно знаю; он ужасно глуп и прост и состоит в том, чтоб удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться».
«…с самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег, – напишет в „Игроке“ Достоевский, – моя любовь отступила как бы на второй план… Неужели я и в самом деле игрок!..»
26 августа Достоевский приезжает в Париж. Он посылает Полине срочной почтой записку, назначая ей свидание. А 27 августа Полина записывает в дневник: «Сейчас получила письмо от Федора Михайловича по городской уже почте. Как он рад, что скоро меня увидит. Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень».
В тот же вечер он встречается с ней в скромном пансионе на улице Суфло, где она поселилась. Она, бледная, с сухими глазами, бросается к нему. Последовавшая сцена описана ею в дневнике.
«– Здравствуй, – сказала я ему дрожащим голосом». Он неловко обнимает ее.
«– Я думала, что ты не приедешь, – сказала я, – потому что написала тебе письмо.
– Какое письмо?
– Чтобы ты не приезжал.
– Отчего?
– Оттого, что поздно.
Он опустил голову». Ей видны его волосы, его огромный страдальческий лоб. Вдруг он восклицает своим хриплым голосом:
«– Я должен все знать, пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру».
Полина спокойно предлагает ехать к нему.
«Всю дорогу мы молчали. Я не смотрела на него. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом „Vite, vite!“[45], причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением… Он… всю дорогу держал мою руку и по временам сжимал ее и делал какие-то судорожные движения. – Успокойся, ведь я с тобой, – сказала я».
Когда они приезжают и входят в его комнату, Федор Михайлович запирает дверь и падает к ногам Полины. Он, «обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: „Я потерял тебя, я это знал!“»
Никогда еще не была она так желанна, как в этот момент, – момент, когда она отдалялась от него.
Вот она стоит перед ним, прямая, неподвижная, защищенная своим свободным шелковым платьем, а он видит сквозь него ее юное, полное горячей крови тело, которое так хорошо знает. Он жалобно стонет: «Может быть, он красавец, молод, говорун. Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое».
Полина успокаивает его кротко и грустно. Затем, когда он овладевает собой, неторопливо рассказывает ему о своем любовном приключении. В эти месяцы в Париже она влюбилась в молодого красавца по имени Сальвадор. Он испанец, у него гордый вид завоевателя, сочный жадный рот, а над верхней губой «легкий пушок». У него безупречные манеры аристократа. А когда он на нее смотрит, она млеет от счастья. Она безоглядно отдалась вспыхнувшему чувству, спасаясь от тяжелой мутной страсти Достоевского. Примитивная здоровая чувственность Сальвадора излечивает ее от психологических истязаний, от утонченного мучительства, которыми наслаждался Федор Михайлович. А ей, вечной студентке, нужен молодой дерзкий самец, а не гениальный писатель. Она говорит, говорит, а Достоевский слушает ее с помертвевшим лицом.
Наконец он спрашивает:
«– Ты счастлива?
– Нет.
– Как же это? Любишь и не счастлива, да возможно ли это?
– Он меня не любит.
– Не любит! – вскричал он, схватившись за голову, в отчаянии. – Но ты не любишь его, как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?
– Нет, я… я уеду в деревню, – сказала я, заливаясь слезами».
Ибо все-таки она заплакала. И Достоевский смотрит на эти слезы с удивлением и надеждой. Если она плачет перед ним, то не все еще потеряно. Если она перед ним плачет, он может ее утешать, он может кем-то быть для нее. Бесконечная нежность заливает его душу, и он обнимает ее, точно обиженного ребенка.
«– О Поля, зачем же ты так несчастлива! Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня»…
Он станет ее другом, раз не может больше быть ее любовником. Он будет защищать, оберегать ее. С изощренным наслаждением он вновь вживается в свою роль бескорыстного утешителя. Как в истории с мадам Панаевой, как с Марией Дмитриевной, с актрисой Шуберт он снова будет умирать от голода у накрытого стола, будет самоотверженным помощником, статистом, – будет «третьим лишним».
Он предлагает поехать в Италию, он будет ей «как брат».
«Я ему обещала прийти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня».
Конечно, она еще не решила, поедет ли с ним. В довершение страданий она получает письмо от друга Сальвадора: Сальвадор лежит в тифозной горячке и просит Полину не навещать его. Полина впадает в панику. Она сообщает печальную новость Федору Михайловичу. Он ее успокаивает: с парижскими медиками и в парижском воздухе это не опасно, Сальвадор быстро выздоровеет. И он выздоровел даже быстрее, чем они надеялись: на следующий день Суслова встречает его на улице, живого и здорового. После короткого объяснения она решительно порывает с прекрасным испанцем и соглашается ехать с Федором Михайловичем в Италию.
«Да, – сказал он, – и я рад, но, впрочем, кто тебя разберет?»
И вот эти двое, холодная амазонка и ее сгорающий от страсти спутник, пускаются в новую эскападу.
Они останавливаются в Баден-Бадене: Федор Михайлович «все время играет… на рулетке и вообще очень беспечен», – заключает Суслова. Они пьют чай в его комнате. Потом Полина ложится на кровать, берет руку Федора Михайловича в свою, а он как добрый товарищ уверяет, что «имеет надежду». Вдруг он внезапно встает, проводит рукой по лбу.
«– Ты не знаешь, что сейчас со мной было! – сказал он со странным выражением.
– Что такое? – Я посмотрела ему в лицо, оно было очень взволнованно.
– Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.
– Ах, зачем это? – сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.
– Так мне захотелось, и я решил, что поцелую».
Он умолкает и кружит по тесной гостиничной комнате, натыкаясь на мебель. Полина просит его уйти: «Ну так пойди к себе, я хочу спать».
Он уходит, но тотчас возвращается под предлогом закрыть окно. Подходит к ней, советует ей раздеваться. Она смотрит на это склонившееся к ней лицо, искаженное желанием, на его голодные глаза, раздувающиеся ноздри. «Я разденусь, – сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода».
Он уходит, точно побитая собака. Возвращается к себе, ложится и мечтает об этом молодом цветущем теле, которое дышит в двух шагах от него.
Этот затопивший его сладострастный дурман, эта неутоленная страсть доводят до предела нервное напряжение Федора Михайловича. Он ищет разрядку в игре. Игра заменяет ему плотский акт, в котором ему отказано. Околдованный непредсказуемостью поворотов колеса рулетки, он достигает пароксизма чувств, который познал с Полиной. В нем также рождается ощущение, что, отдаваясь игре, он черпает в ней некую низменную радость, будто совершает против кого-то преступление и разрушает в себе самом нечто прекрасное, нечто такое, что может спасти его. Он приходит в отель в изнеможении, точно после ночи любви.
А на следующий день утром он снова настроен мирно, по-братски.
В Баден-Бадене Достоевский проигрывает 3000 франков.
«Не понимаю, как можно играть, путешествуя с женщиной, которую любишь», – удивляется Михаил, знающий о его связи.
«Тут шутя выигрываются десятки тысяч, – отвечает Федор Михайлович брату. – Да я ехал с тем, чтоб всех вас спасти и себя из беды выгородить. А тут, вдобавок, вера в систему».
В Женеве они закладывают часы Федора Михайловича и кольцо Полины: ссуды хватает на дорогу в Турин, где их ждут денежные переводы из Петербурга.
В Турине отношения двух любовников портятся.
Федор Михайлович доведен до крайности этой женщиной, разделяющей его жизнь и отвергающей его самого. Он предупреждает ее: «Ты знаешь… мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться».
В романе «Игрок», где Достоевский рассказал историю своей связи с Полиной, читаем такую фразу:
«Бывали минуты… что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: „Бросьтесь вниз“, то я бы тотчас и бросился, и даже с наслаждением».
И дальше находим капитальную формулу: «Да, она много раз считала меня не за человека».
Это – самое невыносимое. Она больше не видит в нем мужчину. Она потому и соглашается на совместное путешествие, что его присутствие ее не пугает.
«Федор Михайлович… сказал, – пишет Суслова, – что ему унизительно так меня оставлять (это было в час ночи)… Я раздетая лежала в постели. „Ибо россияне никогда не отступали“».
И, бросив эту плоскую шутку, уходит.
Время, размышления, привычка мало-помалу притупляют страсть Достоевского. Он изнемог, а ему надо подумать о своем творчестве. Он хотел бы вернуться в Россию. Тем более что состояние Марии Дмитриевны внезапно ухудшилось.
Во время своего безрадостного путешествия Федор Михайлович не переставал беспокоиться о больной жене.
«…думаю часто и о Марье Дмитриевне. Как бы, как бы хотелось получить об ней добрые известия! Что-то ее здоровье?» – пишет он брату Николаю (28 августа 1863).
«Что услышишь об мамаше, тотчас же мне сообщи». (Письмо Павлу Исаеву, 28 августа 1863.)
«Пишите хоть что-нибудь о Марье Дмитриевне». (Письмо В.Д. Констан, 20 сентября 1863.)
Из Рима Достоевский и Суслова едут в Неаполь; из Неаполя опять в Турин. В середине сентября Федор Михайлович и его подруга окончательно расстаются: Полина возвращается в Париж, Достоевский – в Россию.
По дороге он останавливается в игорном городе Гомбурге и проигрывает отложенные на дорогу деньги. В панике он пишет Сусловой. Полина, сама стесненная в средствах, закладывает часы и цепочку в ломбарде, занимает небольшую сумму у друзей и немедленно высылает деньги Федору Михайловичу.
Об этом человеке, которого она только что выручила, она позже напишет: «Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Д[остоевского], он первый убил во мне веру».
По непостижимому повороту событий в 1880 году Полина выйдет замуж за молодого критика Василия Розанова, гениального комментатора Достоевского, ей будет сорок лет, а ему двадцать четыре. Он обожает ее, а она смеется над ним. После шести лет жизни, как в аду, она бросит его, и он будет безутешен и будет умолять ее вернуться. Она ему ответит: «Тысяча людей находятся в вашем положении и не воют – люди не собаки».
Розанов, близкий к отчаянию, просит отца Полины образумить дочь, а тот в ответ называет ее «Враг рода человеческого». Позже этот несчастный обратится за поддержкой к друзьям, даже к жандармскому начальству, но откликнется на его жалобы, выслушает его излияния не кто иной, как Анна Григорьевна, вдова Достоевского.
Что до Федора Михайловича, то связь с Полиной станет одной из главных тем его творчества.
Эта женщина, пылкая и холодная, будет поочередно Дуней, сестрой Раскольникова в «Преступлении и наказании», Аглаей в «Идиоте», Лизой в «Бесах», Катериной Ивановной в «Братьях Карамазовых» и, главное, Полиной Александровной в «Игроке».
Во время путешествия с Полиной он уже обдумывал эту повесть. 30 сентября 1863 года он пишет Страхову: «Теперь готового у меня нет ничего. Но составился довольно счастливый… план одного рассказа… Я беру… человека… многоразвитого, но во всем недоконченного… восстающего на авторитеты и боящегося их… хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя… Весь рассказ – рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке».
Но по возвращении в Россию Достоевскому некогда писать этот роман. Мария Дмитриевна совсем плоха. Ее нужно срочно перевезти в Москву, где климат более здоровый, чем в Петербурге.
Юный Павел Исаев едет вместе с ними, но Мария Дмитриевна стала до такой степени раздражительна, что не выносит присутствия сына, и Федор Михайлович отсылает Павла в Петербург. Впрочем, Достоевский и сам вынужден ехать в Петербург, где Михаил собирается издавать новый журнал «Эпоха» взамен «Времени».
Группа сотрудников та же, что издавала журнал «Время». Но денег нет. Покупают бумагу в кредит, печатают в кредит, брошюруют, переплетают в кредит, авторам не платят гонораров. После множества трудностей цензура разрешает издание «Эпохи» «с тем, чтобы издатель обязался сохранять безукоризненное направление».
Начиная с этого момента Достоевский разрывается между журналом и умирающей женой. Между Петербургом, где его ждут новые осложнения с журналом, и Москвой, где в меблированной комнате медленно агонизирует полубезумная Мария Дмитриевна. Такая жизнь продолжается в течение многих месяцев.
«Черти, черти, вот черти!» – по временам шепчет больная. И только после того, как открывали окно и делали вид, что изгоняют чертей из комнаты, больная успокаивалась.
Перед этим восковым лицом, обглоданным чахоткой, Достоевского мучат угрызения совести: за то, что он бежал от нее из России, за связь с Полиной, за свою глубокую, ему одному понятную вину. У изголовья умирающей жены он сочиняет жестокую по обнаженности, беспощадную по откровенности исповедь – одну из вершин своего творчества – «Записки из подполья».
Глава IV «Записки из подполья». Две смерти
«Подпольный человек», исповедь которого излагает Достоевский, быть может, столь же походит на автора, сколь двойник Голядкина походит на самого Голядкина. Подпольный человек обитает в дрянной, скверной комнате – в своем «углу». Он живет один. Друзей у него нет. «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек», – говорит он о себе. И втайне наслаждается сознанием своей приниженности. Он варится в собственном соку, в некой смеси из веселости и угрызений, шутовства и ненависти, приправленной непомерно раздутыми страхами. Ему нравится «в иную гадчайшую петербургскую ночь» возвратиться в свой угол и мысленно перебирать все гадости, которые совершил за день, все унижения, которые вытерпел. Он испытывает болезненное удовольствие, сознавая, что дошел до последней степени низости, что никогда не будет таким, как другие – нормальным человеком, что он существо совершенно исключительное, не сливается с толпой, вне толпы, сам по себе, живет обособленно от людей. «Я-то один, а они-то все».
Из своего уединения он наблюдает за деятельными людьми или, по его выражению, за «непосредственными людьми». Это люди с крепкими нервами, начисто лишенные способности размышлять. Ведь для того, чтобы действовать, нужно иметь пустоту в голове. Тот, кто мыслит, неизбежно пребывает в бездействии, ибо мысль, как кислота, разъедает обманчивую фальшь декораций, среди которых развертывается действие. Действие по самой своей сути пагубно для деятельности ума. Действие подчиняется общепринятым законам и этими законами руководствуется. Деятельность и возможна лишь в обществе, которое держится на непреложных основаниях.
Позитивные науки классифицируют опыты, из выводов естественных наук и законов природы воздвигают каменную стену, закрывающую горизонт. И люди смиренно останавливаются перед этой каменной стеной[46]: «Вот прочная стена, вот стена, на которую можно опереться, – вот очевидность». Стадо глупцов, замуровавших себя в стенах земной человеческой логики, не подозревает, что наука, возведя каменную стену, отгораживает человека от беспредельного пространства вселенной и превращает его мир в тюрьму. И за этой оградой люди живут озабоченные только своей маленькой выгодой, защищенной установленным порядком. Они с удовлетворением потирают руки, потому что могут жить беззаботно. И если какой-нибудь философ, какой-нибудь подпольный человек примется доказывать, что никакой стены не существует, они закричат: «Помилуйте, восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена… и т. д., и т. д.».
И подпольный человек (а скорее сам Достоевский) произносит в ответ замечательную фразу: «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.
Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре».
«Бывают ли математические умопомешательства, бывают ли сумасшедшие, считающие, что два плюс два равно трем?» – вопрошает Бодлер[47].
Подпольный человек, этот созерцатель, отвергает все искусственные классификации, отрицает самоочевидное, восстает против законов науки. Он предается раздумьям, пытаясь постичь мир, где не властвуют ни математика, ни материя. Он будет жить в невозможном. Впрочем, Бог, сотворив человека, и требует от своего создания невозможного. В какого жалкого идола превратился бы Бог, если бы он позволил человеку довольствоваться уютной комнатой, жить, забившись в свой угол, если бы допустил, чтобы человек принизил себя, забыл бы свет Божественной истины и сделался бы разумной машиной!
«…ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик!»
И в мире морали происходит то же, что и в мире природы. Нравственные законы держат под замком человеческие существа, точно так же, как и законы физики. Перешагнуть через этот устоявшийся ряд, перескочить через преграду, возведенную из всех этих принципов, – и значит достичь высшей истины.
Поскольку моральные оковы разбиты, больше не будет ни добра, ни зла. Более того, поскольку законы науки отброшены, все перемешивается, – наступает общий хаос. И к этому-то хаосу и стремится подпольный человек.
Посреди всеобщего хаоса подпольный человек наслаждается беспредельной свободой, и эта свобода ему дороже собственного благоденствия.
«Человеку надо – одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела… А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется».
Через страдание человек приближается к непостижимому, недосягаемому, – он приближается к чуду. Через страдание он вырывается за пределы своего «Я».
Действительно, путь страдания, путь свободы ведет либо к открытию Бога, либо к обожествлению человека: Богочеловек или Человекобог. Ницше преображает человека в сверхчеловека – Человекобога. Согласно Ницше, в процессе превращения в сверхчеловека в человеке погибает все человеческое. Сверхчеловек не просто человек качественно иной – это идол, Бог, в котором ничего не осталось от его человеческой природы.
Напротив, у Достоевского человеческая природа гармонично сочетается с божественной природой. Бог не поглощает человека, а человек не исчезает в Боге. У Достоевского есть и Бог, и человек. И связует их друг с другом чарующий посредник – Христос. Путь свободы, быть может, есть путь страдания, но на человека, прошедшего через мучительные испытания, в конце его крестного пути прольется неизреченный свет Христовой Правды.
Быть может, дано было Достоевскому во время припадков эпилепсии вознестись на самый верх стены и заглянуть оттуда в заветное пространство. И, ослепленный увиденным, он срывается и летит вниз, в душе сожалея о мимолетности этого чудного видения. Но он видел, видел!.. Он один из тех, кто видел!.. Он признается в этом устами подпольного человека. И, таким образом, подпольный человек становится ключом ко всему его творчеству.
Ибо на протяжении всей своей творческой жизни Достоевский будет метаться между миром естественного и миром сверхъестественного. Он повисает между небом и землей, взывая и к небу и к земле. Он не выбирает между миром, где правит закон причинности, и миром, где действует закон «дважды два три». Он то более, то менее удачно приводит в равновесие обе эти конструкции. С болезненной старательностью пытается он втиснуть в плотную массу реальности свою экстравагантную историю. Он насыщает каждое из своих кошмарных видений множеством точных в своей материальности деталей, от которых не отказался бы и сам Флобер. Он как будто оправдывается: «Видите, смотрите, смотрите, я вовсе не потерял рассудок. Все это возможно, все это – правда».
А между тем целое, слепленное из разнородных кусков, трещит по всем швам. События стремительно сменяют друг друга, как это бывает во сне, и все происходящее кажется особенно неправдоподобным на фоне тщательно выписанного декора. Неодолимая сила ввергает персонажи в водоворот событий. Они произносят многостраничные монологи, публично читают исповеди, но когда они спят, когда едят? Автор и сам этого не знает. Ничто ничем не определяется. Никто ни на кого не может положиться. Добро и зло перемешиваются. В «стене» пробиты огромные бреши, и на груде развалин залитые холодными мертвящими сверхъестественными лучами, предвещающими конец света, разыгрывают свои роли актеры, лица которых размалеваны под дьявола.
Их драма немыслима в мире, опирающемся на законы науки. Их драма возможна только за пределами этих законов, она возможна в человеческих душах. Мужчины и женщины Достоевского не верны с точки зрения первой истины, зато верны с точки зрения второй. Они то, чем были бы мы сами, если бы мы не подчинялись нормам социального поведения, если бы нами не управляли физические законы, наконец, если бы мы не зависели от привычек. Эти существа подобны нам, пока они не начали действовать, пока не начали говорить. То, что они делают, быть может, сделали бы и мы, если… То, что они говорят, быть может, сказали бы и мы, если… Достоевский заставил-таки попрыгать это «если»! Он не признавал условное наклонение. Он заставил своих героев действовать и говорить так, как обычные люди действуют и говорят только мысленно. Его персонажи – это идеи, заключенные в материальную оболочку. Подпольный человек, Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Шатов, Верховенский, Иван Карамазов – все эти существа одержимы каждый своей идеей. Идеи воспламеняют их, идеи их испепеляют. Комфорт, деньги, положение в обществе ничего не значат для них. Они пренебрегают тем, что у них перед глазами, в руках, на зубах – тем, что они видят, едят, осязают, на что наступают ногами. Они не различают граней между мечтой и действительностью. Они легко пересекают границу, отделяющую область реального от области призрачного, и до бесконечности раздвигают границы вселенной.
Поэтому абсурдно утверждать, что герои Достоевского – целиком русские и что их приключения не могут быть поняты ни в одной другой стране, кроме России.
Было бы весьма наивно полагать, что Россия XIX века была населена истеричками, эпилептиками, чахоточными и что русская публика узнавала себя в романах Достоевского. Совсем наоборот: и читатели, и критики были единодушны в своем мнении: «У нас таких людей нет». А по поводу одного из персонажей «Униженных и оскорбленных» граф Кушелев-Безбородко писал даже, что он, этот персонаж, гораздо чаще встречается за границей, во Франции, Англии, Бельгии, чем в России.
Конечно, любовь к вечным вопросам, умственная экзальтированность, резкая смена настроений – типичные черты славянского характера. Конечно, у славян «вторая истина» спрятана не так глубоко, как у латинян или саксов; но тут разница в уровне, а не в принципе. Создания Достоевского вовсе не чисто русские, потому что они поглощены решением мировых проблем. Идеи, носителями которых они являются, выходят далеко за рамки проблем национальной литературы. Перед лицом Создателя они выражают бесконечную тоску и бескрайнюю скорбь всего мира, а не только тоску и скорбь России. Подполье Достоевского не имеет границ и невидимой сетью накрывает весь мир.
Как бы там ни было, эта книга, впервые опубликованная в журнале «Эпоха», не привлекла внимания профессиональных критиков. Один лишь Аполлон Григорьев сказал Достоевскому: «Ты в этом роде и пиши». Достоевский никогда не забывал эти простые слова.
Журнал выходил нерегулярно. Подписчики возмущались. Розничная продажа резко упала. Михаил, лишенный практической сметки, к тому же с некоторых пор пивший сверх меры, привел дела в полный упадок.
Что до Федора Михайловича, он задержался в Москве. Состояние Марии Дмитриевны с каждым днем ухудшается. Она по-прежнему не желает видеть своего сына.
«Она сказала, что позовет его, когда почувствует, что умирает». (Письмо Михаилу от 26 марта 1864 года.)
«Каждый день бывает момент, что ждем смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне». (Письмо Михаилу от 2 апреля 1864 г.)
«Мамаше сегодня вечером слишком, слишком худо. Доктор ни за что не отвечает, молись, Паша». (Письмо Павлу Исаеву от 10 апреля 1864 года.)
15 апреля у Марии Дмитриевны происходит сильный припадок: хлынувшая горлом кровь залила грудь и стала ее душить. Достоевский посылает брату телеграмму и письмо: «Я просил выслать Пашу. Может быть, у него есть хоть какой-нибудь черный сюртук. Штаны бы разве только купить».
Мария Дмитриевна умирает в полном сознании. Она прощается с близкими, всех благословляет и мужественно ждет смерти.
Тело ее сотрясают конвульсии. Она с трудом дышит, хрипит, из горла вырывается какое-то бульканье… Потом «бледно-желтое, иссохшее лицо ее закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла». Так позже опишет Достоевский агонию Катерины Ивановны, умершей от чахотки, в романе «Преступление и наказание».
Мария Дмитриевна умерла в 7 часов вечера. «Сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Мария Дмитриевна, – пишет Достоевский Михаилу, – и всем вам приказала долго и счастливо жить. Помяните ее добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней».
И этой же ночью перед телом жены Достоевский заносит в записную книжку такую странную фразу: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»
Достоевскому невыносима мысль, что он потерял эту женщину. Пусть она обманывала его, мучила, осложняла его жизнь ненужными тяготами, но она – неразрывная часть его прошлого. Здесь, на столе, простерта вся его молодость с тяжелыми веками, закрытыми глазами, сомкнутыми губами. Каким одиноким он вдруг стал, каким потерянным, как он страшится жизни! После долгих лет совместного существования он вдруг осознал, как дорога была ему эта женщина.
31 марта 1865 года он напишет Врангелю:
«О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо… несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), – мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу… Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь… Я… никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею».
После похорон Федор Михайлович возвращается в Петербург, где его присутствия требуют дела журнала. Всеми силами он старается преодолеть свое горе, он погружается в работу.
Но не прошло и трех месяцев после смерти жены, как на него обрушивается новое горе. 9 июля Павел Исаев получил от него следующее письмо:
«Милый Паша, пришли мне белья. Брат при смерти. Не говори никому об этом. Я написал Коле. Я, может быть, на малое время буду в городе. Не говори никому.
Твой весь Федор Достоевский».
10 июля в 7 часов утра Михаил, давно уже страдавший желчной болезнью, испустил последний вздох.
Этот удар доводит до исступления отчаяние Достоевского. Можно подумать, что судьба не позволяет ему перевести дух, преследует его, травит с рассчитанной злобой. После смерти жены у него оставался брат, его друг, его утешитель. Теперь у него никого не осталось. Он один, он более одинок, чем в тюрьме, более одинок, чем в Сибири. Он не знает, для кого ему жить, не знает, для чего жить.
«И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломалась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих… Новые связи делать, новую жизнь выдумывать! Мне противна даже и мысль об этом. Я тут в первый раз почувствовал, что их некем заменить, что я их только и любил на свете и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокруг меня холодно и пустынно».
Глава V Вдовец
Михаил оставил всего триста рублей, на эти деньги его и похоронили. Он оставил также 25 тысяч долгу, из них 15 тысяч по векселям, срок которых истек. Журнал держался исключительно на кредитах, предоставлявшихся лично издателю. Когда издателя не стало, в кредитах отказали. В кассе журнала не было ни копейки денег, а предстояло, чтобы удовлетворить подписчиков, выпустить шесть книг «Эпохи». Одно только печатание этих шести книжек стоило 18 тысяч рублей. Эти 18 тысяч и 15 тысяч долга по векселям составили 33 тысячи, – сумму, необходимую, чтобы довести журнал до конца года.
Разумеется, Достоевский мог не брать на себя оплату долговых обязательств брата. Он мог бы также прекратить издание журнала и отдать все его имущество кредиторам. И тогда на имя, на память его брата легло бы пятно. Для Достоевского неприемлем столь кощунственный способ урегулирования дел. Он принимает на себя материальную ответственность за долги брата, будь они законными или сомнительными.
Более того. Из великодушия и щепетильности он взваливает на себя содержание семьи брата, оставшейся без всяких средств, – его вдовы и четырех младших детей.
Приняв это решение, Достоевский едет в Москву, выпрашивает у своей старой тетки Куманиной 10 тысяч рублей и возвращается в Петербург с твердым намерением продолжать, чего бы это ни стоило, издание «Эпохи». Но журнал уже обречен: потребовалось новое разрешение цензуры на продолжение журнала, и первый номер от 31 января вышел только 22 марта.
Кроме того, цензура не позволила Федору Михайловичу поставить свое имя ни как редактора журнала, ни как его издателя. Подписчики, недовольные задержками журнальных номеров, негодовали как устно, так и письменно.
Тогда Достоевский, не щадя себя, стал печатать журнал сразу в трех типографиях. Он сам был единственным редактором: читал корректуры, вел переговоры с авторами, договаривался с цензурой, правил статьи, добывал деньги, просиживая за работой до шести часов утра, и спал по пять часов в сутки.
«О друг мой, – пишет он Врангелю, – я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным… Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние и, вдобавок, один… А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть».
Ему так хочется отвлечься, найти поддержку в чьей-нибудь преданности, в какой-нибудь сердечной привязанности, что он пытается восстановить отношения со своими близкими и завести новые знакомства. Он медленно возвращается к жизни. Знакомится с семьей Корвин-Круковских; их старшая дочь Анна прислала в «Эпоху» два своих рассказа, и они понравились Достоевскому.
Анна высокая стройная девушка с тонкими чертами лица, с длинными белокурыми волосами и с глазами «зелеными, как глаза Ундины». Она умна, независима, горда и мечтает играть выдающуюся роль, посвятив свою жизнь исключительному человеку.
Достоевский робеет в обществе Анны и ее родителей. «…он конфузился и злился… Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось», – вспоминает Анна.
Однажды, к праведному ужасу родителей, он вдруг рассказывает в присутствии девочек будущую «Исповедь Ставрогина» и чувствует, что они потрясены его рассказом. И Анна горда тем, что столь возвышенный ум ею интересуется, и упрекает его за презрение к передовой молодежи и новым идеям.
«– Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита! – кричал иногда Достоевский. – Для них всех смазанные сапоги дороже Пушкина!
– Пушкин действительно устарел для нашего времени, – спокойно замечала Анна».
Достоевский, не помня себя от гнева, выкрикивает, что ноги его больше у них не будет, и убегает, а на следующий день возвращается с виноватым видом.
Как-то вечером младшая сестра Соня играет на рояле «Патетическую сонату», которую разучила специально для Достоевского, а в соседней маленькой гостиной между старшей сестрой и Федором Михайловичем происходит объяснение. Достоевский страстно шепчет: «…поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел… И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом».
Анна не решается связать свою судьбу с этим больным и гениальным человеком и отвечает ему отказом, а маленькая Соня перестает играть и, притаившись за портьерой, вслушивается в их шепот.
Эта четырнадцатилетняя девочка пылко влюблена в Достоевского и осуждает колебания сестры. А он, этот великий сердцевед, так глубоко проникший в души Неточки и маленькой Нелли, не способен ничего прочесть ни на нежном юном личике, ни во взгляде, которым она провожает его до самой двери, когда он, отвергнутый, уходит, поникший, сгорбившийся, бессильно опустив руки. Уходит, вновь ввергнутый в свое одиночество.
Придет день, и Соня станет знаменитым математиком – Софьей Ковалевской. Что до Анны, она осуществит свою мечту о героических деяниях, выйдя замуж за французского заговорщика Жаклара[48]. Его приговорят к смертной казни и заключат в крепость на границе с Германией. Отец молодой женщины поможет ему бежать, за двадцать тысяч франков подкупив часового.
И снова, в который уже раз, Достоевский терпит унижение от женщины. Он с удвоенной энергией набрасывается на работу. Журнал с каждым днем теряет подписчиков, их число упало до 1300. Кредиторы, векселя которых он переписал на свое имя, осаждают его со всех сторон.
В конце лета Достоевский получает предупреждение: или уплата долгов, или заключение в долговую тюрьму. Самые неотложные долги достигают трех тысяч рублей. Достоевский тщетно пытается уломать кредиторов, они не идут на уступки, – провал журнала слишком очевиден.
9 июня газета «Голос» объявляет о прекращении «Эпохи».
И тогда-то издатель Стелловский является к Достоевскому и предлагает ему купить за три тысячи рублей право на издание всех его сочинений в трех томах. Сверх того Стелловский требует от Достоевского обязательства к 1 ноября 1866 года представить ему новый роман. После этой даты Достоевский должен будет уплатить штраф, а если к 1 декабря не закончит роман, то потеряет право на все свои сочинения: все они перейдут в исключительную собственность издателя. Стелловский не сомневается, что Достоевский не управится к сроку, и тогда он получит право публиковать все романы своего должника, не выплачивая ему никакого вознаграждения.
Стелловский хорошо известен в литературных кругах как пират издательского дела. Он эксплуатировал Писемского, Крестовского, Глинку. Визит этого хитрого, мелочного, наживавшегося на несчастье других издателя равносилен приговору.
Однако Достоевский доведен до полного разорения. Любопытно, что отсрочка на двенадцать дней, данная ему Стелловским для размышлений, точно совпадала с передышкой, предоставленной ему до дня наложения ареста.
Федор Михайлович подписал соглашение со Стелловским.
Фактически же он получил малую часть обещанной суммы, ибо Стелловский скупил за бесценок часть векселей, подписанных Достоевским, и то, что давал одной рукой – рукой издателя, отбирал другой – рукой кредитора.
У Достоевского остается всего 175 рублей серебром. Пусть так! Он уедет за границу.
Тройная надежда побуждает его бежать из России. Он жаждет увидеться с Полиной, которую не может забыть: «Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит такой любви», – пишет он сестре Сусловой Надежде. Он жаждет также попытать удачи в рулетке. Наконец, он хочет не спеша поработать над книгами, которые ему заказаны.
Достоевский приезжает в Висбаден в конце июля. Суслова должна присоединиться к нему в первых числах августа. В ожидании ее приезда Федор Михайлович идет в игорный дом.
И вот снова перед ним зеленый ковер игорного стола, усыпанный луидорами, флоринами, фридрихсдорами. Снова он видит застывшие алчные лица, руки, судорожно вцепившиеся в край стола, точно в ограждающие пропасть перила. Снова слышит магические слова: тридцать одно, красное, черное, чет, нечет…
«Я был как в горячке, – напишет он в „Игроке“, – и двинул всю эту кучу денег на красную – и вдруг опомнился! И только раз во весь тот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно осознал: что для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!»
За пять дней Достоевский проигрывает все свои деньги – 175 рублей.
Он заложил часы. Счета отеля не оплачены. Достоевский забывает о гордости и взывает о помощи к Тургеневу, сохраняя к нему застарелую неприязнь: «Мне и гадко и стыдно беспокоить Вас собою. Но, кроме Вас, у меня положительно нет в настоящую минуту никого, к кому бы я мог обратиться, а во-вторых, Вы гораздо умнее других, а следственно, к Вам обратиться мне нравственно легче. Вот в чем дело: обращаюсь к Вам как человек к человеку и прошу у Вас 100 (сто) талеров… когда тонешь, что делать».
Тургенев присылает 50 талеров.
«Благодарю Вас, добрейший Иван Сергеевич, за Вашу присылку 50 талеров. Хоть и не помогли они мне радикально, но все-таки очень помогли», – пишет в ответ Федор Михайлович.
Униженный, угнетенный, он ждет приезда Полины, – она, быть может, привезет немного денег. А Полина прибывает в Висбаден, не имея денег даже на оплату комнаты.
Очень скоро Достоевский подумывает, не отправить ли ее обратно? Это бегство в любовь, о которой он мечтал, как о верхе блаженства, обернулось кратким пребыванием в жалкой гостинице, где хозяин, завидев вас, поворачивается к вам спиной, а слуги ухмыляются и обливают вас презрением. В конце августа Полина уезжает из Висбадена в Париж. После ее отъезда хозяин приказывает не давать Федору Михайловичу в долг ни завтрака, ни обеда, а присылать только чай, потому что он «не умеет заработать на жизнь».
«И так со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем, – пишет Достоевский Сусловой. – Да и чай подают прескверный… платье и сапоги не чистят, на мой зов нейдут, и все слуги обходятся со мной с невыразимым, самым немецким презрением. Нет выше преступления у немца, как быть без денег и в срок не заплатить». Собрав остатки достоинства, Достоевский рано утром уходит из отеля и возвращается с наступлением ночи, но от этих ежедневных прогулок разгорается аппетит. Тогда он смиряется и остается у себя в комнате, читает, пишет. И рассылает множество писем с просьбами прислать денег, и у него нет ни одного су, чтобы их оплатить.
«Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем вот уже третий день – и странно: мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам».
Достоевский шлет призывы о помощи во все стороны: Полине в Париж, барону Врангелю в Копенгаген, Герцену в Женеву, Милюкову и издателю Каткову в Россию. Но Врангель в отлучке, Герцен уехал в горы, Милюков, которого Достоевский просил продать куда бы то ни было одно из его будущих сочинений за 300 рублей, получает отказ в «Библиотеке для чтения», в «Современнике» и в «Отечественных записках». Не подает признаков жизни и Катков – Достоевский предложил ему для «Русского вестника» роман в пять-шесть листов. Однако идея книги соблазнительна:
«Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях поддавшись некоторым странным „недоконченным“ идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху… дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. „Она никуда не годна“, „для чего она живет?“, „Полезна ли она хоть кому-нибудь?“ и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать; с тем, чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс…
Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое. Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело».
В этом кратком изложении легко узнаются главные темы «Преступления и наказания».
Да, в узкой, полутемной, похожей на шкаф комнате, без еды, без света, в немытом белье, выпрашивая направо и налево хоть какие-нибудь гроши, чтобы вернуться в Россию, на последней грани нищеты и одиночества Достоевский работал над книгой, которая принесет ему всемирную славу.
«…повесть, которую я пишу теперь, будет, может быть, лучше всего, что я написал».
Тем временем Врангель вернулся в Копенгаген, где его ждали два отчаянных письма Достоевского. Он тотчас посылает ему деньги, необходимые для возвращения в Россию, и приглашает погостить у него. Федор Михайлович с радостью соглашается повидать старого друга.
Он приезжает в Копенгаген 1 октября.
И уезжает 10 октября в Петербург.
Вернувшись в столицу, он переносит один за другим три припадка эпилепсии. «Тем не менее сижу и работаю, не разгибая шеи», – пишет он Врангелю.
Триста рублей, которые он просил у Каткова, приходят к нему из Висбадена, но этих денег уже недостаточно.
«Работая для Вашего журнала, я не могу взять никакой другой работы, чтоб содержать себя, и на содержание мое не имею ни копейки и заложил даже платье мое. И потому прошу Вас выдать мне 1000 рублей вперед».
Семья его покойного брата бедствует. Его самого преследуют кредиторы, с которыми он еще не успел рассчитаться. «…многие из них благоразумны и принимают предложение мое рассрочить уплату на 5 лет; но с некоторыми не мог еще до сих пор сладить. Это надрывает дух и сердце, расстроивает на несколько дней, а тут сиди и пиши. Иногда это невозможно».
Приступы эпилепсии не дают ему работать. В довершение всего геморрой вынуждает его пятнадцать дней провести в постели. Однако к концу ноября, работая как каторжный, он заканчивает большую часть романа.
Но ему не нравится написанное. И он сжигает рукопись. И начинает работу заново. «Новая форма, новый план меня увлек».
Он работает день и ночь. Он соединяет сюжет, о котором рассказывал Краевскому и который назвал «Пьяненькие» (эпизод с Мармеладовым), и сюжет о бедном студенте, о котором рассказывал Каткову. Он оставляет проект дневника Раскольникова и выбирает форму романа. Он продолжает работу постепенно, по мере ее публикации. Каждый месяц он пишет главы, которые должны появиться в следующем номере: примерно шесть печатных листов за четыре недели!
18 февраля 1866 года он сообщает Врангелю:
«Недели две тому назад вышла первая часть моего романа в первой январской книге „Русского вестника“. Называется „Преступление и наказание“. Я уже слышал много восторженных отзывов. Там есть смелые и новые вещи».
Глава VI «Преступление и наказание»
Проблема, мучающая Раскольникова, героя романа «Преступление и наказание», как и героя «Записок из подполья», – эта проблема безграничной свободы. Бедный, но гордый студент ищет выход из нищеты. Он знает одну старуху, дающую деньги под проценты. Что стоит существование этого зловредного существа по сравнению с его жизнью? Если он ее убьет, если он завладеет ее деньгами, он сможет помочь матери и сестре, ведущим жалкую жизнь в провинции, оплатить учебу в университете, стать влиятельным лицом и творить добро: «За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения». «Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки?» Его план неопровержимо логичен, опасно соблазнителен. «Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно».
События благоприятствуют осуществлению замысла, с неодолимой силой овладевшего им: «Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать». Он уже не в состоянии сопротивляться. Он наносит удар. Убивает. Грабит. И по странному стечению обстоятельств ни одна материальная улика не позволяет следователям подозревать его.
Вот тут-то и начинается настоящая драма – драма внутреннего возмездия. «Если действительно все это дело сделано было сознательно… если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял», – допрашивает сам себя Раскольников.
И мало-помалу, задавая себе вопрос за вопросом и ужасаясь ответов на них, он осознает подлинные мотивы своего преступления. «Не для того, чтобы матери помочь, я убил – вздор! – признается он Соне. – Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое… Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею?»
Итак, Раскольников, как и человек из подполья, задыхается в рамках официальной морали. Он ощущает свое превосходство над окружающей его безликой толпой. Он чувствует, что отличен от других и призван к особой судьбе: он избран для свершения опасной авантюры – обретения духовной независимости. Люди, подобные ему, имеют право пренебрегать нормами морали: для них существует иная, высшая мораль или, вернее, морали не существует вовсе, а одна лишь безграничная свобода. Для них преступление не злодеяние, а наказание – пустое слово. Несомненно, именно так Наполеон оправдывался в своих собственных глазах, если он, конечно, испытывал подобное желание. «…Настоящий властелин, кому все разрешается, – рассуждает Раскольников, – громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, – а стало быть, и все разрешается…»
Все дозволено некоторым. Все дозволено тем, кто сам готов все себе позволить, ибо само это желание – признак исключительности.
Для Раскольникова старуха-процентщица всего лишь первое препятствие, стена из плоти, которую предстоит разрушить, переступить и забыть, чтобы выйти на путь вожделенной свободы: «…я не человека убил, я принцип убил!» Убив этот принцип, Раскольников надеется ощутить себя сверхчеловеком, Богом. Он вздохнет свободно, он найдет себя в наконец-то завоеванной независимости.
Но на деле никогда он не был более зависим, чем с тех пор, как вышел из границ обычного человеческого существования. Навязчивая идея разъедает самое его чувство свободы. Он хотел разорвать все моральные путы, но вместо этого налагает на себя новые. Днем и ночью в его сознании идет борьба между оправданием и осуждением преступления, которым он желал бы гордиться. Днем и ночью одни и те же аргументы и доводы неотступно преследуют его. Он раздваивается. Он превращается в адвоката не только самого себя, но и своей жертвы. Он больше не индивид – он вместилище дебатов.
Духовная природа человека не может оправдать убийства, и личность убийцы распадается так же, как разлагается труп жертвы. Никакая цель, пусть самая возвышенная, никакая идея, никакая религия не дозволяют убийства. И тот, кто поднимает руку на своего ближнего, поднимает руку на Бога, поднимает руку на самого себя. Когда Раскольников опустил топор на череп старухи, не скаредную ростовщицу он убил – он убил самого себя или, вернее, тот божественный свет, который нес в себе.
«Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную», – уговаривает сам себя Раскольников. «Это человек-то вошь!» – восклицает Соня.
Любая человеческая жизнь дороже любой отвлеченной теории отдельного индивида. Никакое даже самое гуманное побуждение нельзя признать достойным, если оно влечет за собой смерть человека. Ибо человек, каков бы он ни был, есть создание божье. Да, старуха-закладчица была «бесполезная и зловредная вошь», да, Мармеладов – горький пьяница, да, Соня – безответная проститутка, но все они любимы Богом, ибо созданы по образу и подобию Божьему. Грандиозно, непостижимо, но перед Богом все они равноценны Раскольникову.
Таким образом, «переступив через стену», Раскольников с первых же шагов на новом пути терзается сомнениями. Ему не по себе на этой обширной, открывшейся перед ним равнине. И его силы, которых достало, чтобы переступить, здесь вдруг изменяют ему. Он желал быть сверхчеловеком, а дрожит и жалуется, точно запертый в темной комнате ребенок.
Он далек от всех. Он чужд всем и чужд самому себе. Он – другой. Окружающие принимают его за безумца. Тогда он бежит от этих людей, с которыми у него нет больше ничего общего, и идет к несчастным. Он сострадает пьянице Мармеладову, больной туберкулезом вдове Катерине Ивановне и Соне, которая продает себя, чтобы кормить братьев и сестер. Но и среди них он тоже чужой. Пролитая кровь отгораживает его от других людей. Пролитая кровь замыкает его в самом себе. Только покаявшись, понеся наказание, Раскольников вновь приобщился бы ко всему человечеству. Однако он боится быть уличенным, арестованным, преданным суду. Он ходит в полицейскую контору и обсуждает с полицейскими убийство старухи. И следователь Порфирий, который давно уже подозревает его, с демоническим хладнокровием играет с ним: то доводит до исступления, то удерживает от признания и успокаивает, то снова возбуждает в нем страх.
«Убежите и сами воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись… Я даже вот уверен, что вы „страданье надумаетесь принять“».
Раскольников не выдерживает испытания свободой. После жестокой внутренней борьбы он, этот сверхчеловек, бросается к ногам уличной женщины Сони и признается ей в убийстве. Она советует ему пойти с повинной.
«– Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? – спросил он мрачно.
– Страдание принять и искупить себя им, вот что надо, – отвечает Соня».
Он послушается ее: выйдет на перекресток, встанет на колени, поцелует «землю, которую осквернил». Потом пойдет в полицейский участок.
«Тихо, с расстановкой, но внятно проговорил:
– Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил».
Раскольникова приговорят к каторжным работам. Соня последует за ним в Сибирь. «Но, – пишет Достоевский, – он не раскаивался в своем преступлении».
«Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? – говорил он себе. – Тем, что он – злодеяние? Что значит слово „злодеяние“? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление… ну и возьмите за букву закона мою голову… и довольно!»
И он размышляет о том, что многие «благодетели человечества» не свернули со своего пути и были оправданы, он же не посмел дойти до конца и признан виновным. Рушится вся система его рассуждений. «Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною».
Из этого ложного убеждения, из этих мучительных сомнений внезапно рождается вера. Да, внезапно, как от одной искры вспыхивает сноп соломы. Когда-то Соня прочла ему из Евангелия от Иоанна главу о воскрешении Лазаря: «Я есмь воскрешение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Тогда ему не открылся пророческий смысл этого изречения, и только теперь в Сибири на устах его появляется слово «воскресение». «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам… Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь».
Так, благодаря падшей женщине Сонечке, Раскольников познает наконец высшую свободу. Это не свобода гордеца. Человек не Бог. Самый сильный духом человек нуждается в Боге. Восставать против Бога значит восставать против самого себя. Желать уподобиться Богу значит погубить в себе человека, значит возжелать раствориться в космическом пространстве, значит желать быть и не быть одновременно.
Таким образом, в рамках официальной морали существует свобода избрания добра. Эта низшая свобода допускает возможность греха. Можно было бы делать зло, но от этого воздерживаются, потому что это «запрещено», за это грозит «наказание», «тюрьма», «ад». Те, кто презирает подобные уроки глупых наставников, – мыслители, люди, сильные духом, – те переступают через стену. И тогда они оказываются в области другой свободы – высшей. Не из повиновения затверженному с детства правилу творят они добро и не от страха перед небесной или земной карой удерживаются от зла, – они творят добро и зло по своей собственной воле, следуя своему инстинкту. Одни принимают себя за сверхчеловеков и первыми же экспериментами над собой подрывают свои силы. Другие открывают сладость творить добро во имя самого добра. Добро по свободному выбору, добро без принуждения, добро во имя любви незаметно ведет их к Богу и спасает их.
Раскольников придет к Богу, когда отречется от содеянного. Он совершил злодейство. Он взял на себя этот грех из гордости. Он не сумел воспользоваться той, пусть и малой, свободой, которая была ему отпущена. Он хотел разрушить свою человеческую природу. Он предполагал, что нравственный инстинкт первым погибнет в его душе, когда он перешагнет через кровь. Но нравственный инстинкт оказался сильнее его: он его терзает, заставляет смиренно склониться к земле – он его спасает.
Раскаяние искупит ошибку, он будет свободен. В своем вновь обретенном смирении Раскольников находит себя и находит Бога и обретает себя в Боге и в мире. Он выбрал новый путь и возродился к новой жизни. «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Так окончательный вывод Достоевского совпадает с учением Евангелия.
Вокруг судьбы Раскольникова – центра, красной точки книги вращаются судьбы других грешников, которые, как и он, нарушили нормы прописной морали и которые, как и он, будут прощены. В грязном притоне Раскольников встречает пьяницу Мармеладова, мужа Катерины Ивановны и отца Сони. Подлец и фразер, Мармеладов потерял место и пропивает все, что имеет. Он заложил одежду жены. Он примирился с тем, что его старшая дочь пошла на панель и зарабатывает деньги, которые он не способен более зарабатывать сам. И он со своего рода извращенным сладострастием наслаждается глубиной своего падения и невозможностью земного воскрешения.
«Пожалеет нас Тот, – говорит он, – Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал… И всех рассудит… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: „Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите соромники!“ И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: „Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!“ И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: „Господи! почто сих приемлеши?“ И скажет: „Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…“»
Итак, в смирении – шанс искупить грех для того, кто готов смириться. И проститутка Сонечка смиренна более, чем кто-либо иной из персонажей романа. «Ты тоже переступила… смогла переступить, – говорит ей Раскольников. – Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь… свою (это все равно!)… стало быть, нам вместе идти, по одной дороге!»
Но тогда как Раскольников извлекает бесконечную гордыню из попрания людских законов, Сонечка сознает свое падение и переносит его так, как переносят неизлечимую болезнь. Она искренне привязывается к единственному человеку, который не гнушается ее. Она испытывает к нему, по выражению Достоевского, «ненасытимое сострадание». И перед этой чистотой, сохранившейся даже в грешном сердце, перед этой безропотностью Раскольников преклоняет колени. «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился».
«Не за бесчестье и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое.
Да скажи же мне наконец, – проговорил он, почти в исступлении, – как этакий позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются?»
Одной Соне признается Раскольников в своем преступлении. И она ответит ему: «Что вы, что вы это над собой сделали!.. Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!»
Образ этой святой грешницы, женщины, осужденной земными законами, но оправданной законом небесным, – один из самых обаятельных у Достоевского. Ее самоотречение, ее кротость причиняют нам боль, почему-то делают нас ответственными за ее беды. Как если бы она взяла на себя всю великую вину человечества, как если бы она, погубив себя, спасала нас. Но, по сути, никто не погибнет из тех, кто считает себя погибшим. Раз никто не виновен, а все виновны за все…
Рядом с Соней – сестра Раскольникова Дуня, готовая добровольно и покорно принять свою долю греха. Она идет на то, чтобы продать себя холодному негодяю Лужину, она, как и Соня, и грешница и святая. Грешница потому, что решается на брак с тем, кого не любит, святая потому, что соглашается на это ради брата. «…этот брак – подлость. Пусть я подлец, – говорит ей Раскольников, – а ты не должна».
Другой «великий грешник» – Свидригайлов, в доме которого Дуня служила гувернанткой и который домогался ее. Он – прирожденный циник. Ни во что не верит. Ничего не боится. Будущая жизнь представляется ему как «одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность». В погоне за наслаждениями он не считается с последствиями, к которым приводят его прихоти. «Вы сообразите: я ударил всего только два раза хлыстиком», – говорит он о смерти жены. Когда-то он изнасиловал глухонемую четырнадцатилетнюю девочку, потом повесившуюся на чердаке.
Свидригайлов последовал за Дуней, сестрой Раскольникова, в Петербург и преследует ее, добиваясь ее расположения. Он заманивает Дуню в пустую квартиру и предлагает, уступив ему, спасти брата, признание которого подслушал. Завлеченная в ловушку, Дуня хватает револьвер и готова выстрелить в своего обольстителя, но решительно отбрасывает оружие. И он, убедившись, что она не настолько любит его, чтобы убить, в отчаянии отпускает ее.
Этот великодушный порыв, вложенное в этот порыв достоинство опустошают его. В нем, никогда никого не любившем и никого не ненавидевшем, пробуждается подлинная страсть. На него, до сих пор испытывавшего только ощущения, угрожающе надвигается настоящее чувство.
«Весь этот вечер по десяти часов он провел по разным трактирам и клоакам».
Затем он отправляется к Соне и дает ей крупную сумму денег. Потом идет к своей невесте, девочке-подростку, проданной ему несчастными родителями, и дарит семье 15 тысяч рублей. Наконец, он снимает комнату в какой-то дрянной гостинице и пытается заснуть.
Но кошмары преследуют и изнуряют его. Он видит во сне лежащую в гробу девочку и узнает в ней загубленного им ребенка. Ему представляется также пятилетняя девочка, брошенная в углу темного коридора. Он ведет ее к себе. Но вот она поворачивается к нему пылающим личиком, простирает руки.
«А, проклятая!» – вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку… Но в ту же минуту проснулся.
В приступе лихорадки и отвращения к самому себе он выходит на улицу и стреляет в себя.
Мармеладов, Соня, Дуня, Свидригайлов, Лужин – негодяи, циники, несчастные, которые обрамляют великую фигуру Раскольникова, несут в самих себе свое прощение. Они сознают свое падение. А для Достоевского лишь те достойны быть судимы Богом, кто сам осуждает себя. Ничего нет на земле презреннее, чем человек, лишенный желаний, бесплодный ум, впавший в гордыню интеллектуал. Никакое преступление не отбирает права на прощение. Любовь спасает всех. Любовь и смирение, ибо любовь человеческая должна быть смиренной.
Достоевского упрекали за то, что он изображает только монстров и больных. «Муза лазарета», «жестокий талант», – говорили о нем.
Доктор Чиж, видный специалист по Достоевскому, считает, что четверть персонажей Достоевского – невропаты. Он насчитал шестерых в «Преступлении и наказании», двоих в «Братьях Карамазовых», шестерых в «Бесах», четверых в «Идиоте» и четверых в «Подростке».
И в самом деле, Раскольников постоянно «дрожит в лихорадке» или «мечется в бреду». Свидригайлова мучат сладострастные, леденящие душу галлюцинации, Мармеладов на грани белой горячки, Катерина Ивановна на последней стадии чахотки. И вообще, как говорит Свидригайлов, весь Санкт-Петербург – «это город полусумасшедших».
Конечно, на первый взгляд у нас нет ничего общего с этими приводящими нас в замешательство существами. И однако они притягивают нас, как притягивает бездонная пропасть. Мы никогда их не встречали, но они почему-то близки нам. Мы их понимаем. Мы их любим. Наконец, мы узнаем в них самих себя. Они ничуть не более аморальны, чем мы, – они то, чем мы не осмеливаемся быть. Они делают и говорят то, что мы ни говорить, ни делать не осмеливаемся. Они выставляют на яркий свет то, что мы прячем в глубинах нашего сознания.
Они больны? Безумны? Пусть! В этом их оправдание. Чтобы убедить читателя в жизненности своих созданий, в обоснованности их столкновений, в логичности их поступков, Достоевский вынужден наделить их слабоумием, туберкулезом, эпилепсией, истерией… Он взваливает это на них, избавляя от этого нас. Он делает нам уступку, приклеивая им на спину этикетку, с обозначением какой-нибудь патологии. Ведь его персонажи – бродячие идеи, и он, снабжая их медицинским ярлыком, как бы говорит: все, что я рассказываю, совершенно правдоподобно, потому что рассудок этих людей расстроен.
И официальная критика поддается на эту уловку. Она изучает книги Достоевского как учебники по психопатологии. Ей не приходит в голову приподнять маску и взглянуть в подлинное лицо этих монстров, в их человеческое, в наше собственное лицо.
«В который раз уже задаются вопросом, имеет ли право художественная литература заниматься болезненными исключениями», – пишет Вогюэ. Но где здесь исключения? Где здесь больные? Чтобы быть больным, нужно иметь тело. Создания Достоевского его не имеют. Создания Достоевского – воплощение наших собственных мыслей, они – сами наши мысли. А мир, в котором они обитают, подобен нашему благодаря искусству и лукавству автора. Эти выстуженные комнаты, смрадные притоны, сумрачные проулки, эти уличные фонари, криво торчащие из грязи, эти уродливые тряпки на окнах – все это походит на декор сновидений. Это не реалистическая живопись, а горячечные видения. И все детали, которые автор высвечивает в этом сплетении мрака и нечисти, поражают, как знаки дьявольского садизма. Смысл их загадочен: картинки, изображающие немецких барышень, в комнате у процентщицы, крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба в кабаке, клеенчатый, очень ободранный диван в каморке Мармеладова и грязная, издрогшая собачонка с поджатым хвостом, перебежавшая Свидригайлову дорогу перед смертью… Жуткие в своей точности детали, как электрошок, встряхивают нас, но они нас не пробуждают. Они служат просто для того, чтобы дать нам прочувствовать путь, ведущий от реальности к грезе. Они своего рода вехи, которые время от времени из милосердия Достоевский расставляет на нашем пути. И потом мы продолжаем наш путь сомнамбул…
Из-за конфликта с издателем Достоевскому не удается благополучно завершить публикацию романа. Катков и его «лейтенант» Леонтьев считают неприемлемой сцену, где убийца и блудница толкуют Евангелие, ибо это сцена может быть «дурно понята»: в ней увидят «следы нигилизма». Они требуют переделки. Достоевский упорствует. Напрасно: «Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3-х новых глав работы».
Но и переделка не помешала критикам увидеть в Раскольникове нигилиста. Впервые, пишет Страхов, писатель изобразил «нигилиста несчастного, нигилиста глубоко человечески страдающего».
Раскольникова сравнивали с революционером Базаровым, героем романа Тургенева «Отцы и дети». Однако между Базаровым и Раскольниковым огромная разница. Базаров – новый человек, герой своего времени и строго своего времени: нигилист. Раскольников – человек на все времена. Его мучают не социальные, а метафизические проблемы. Он порождение не интеллектуальной моды, а человеческой неизменности. Базаров мыслим только в рамках XIX века. Раскольников мог бы появиться и в Средние века, и в наши дни. Базаров – один из нас. Раскольников – каждый из нас…
Однако студенчество разделяет мнение критики и видит в Раскольникове всего лишь слепой шарж на университетскую молодежь. По странному совпадению, вскоре после публикации романа в Москве происходит убийство, и убийца – студент[49]. В нем находят нечто родственное Раскольникову. Увлечение Достоевским в студенческой среде ослабевает.
Что же до широкой публики, то она принимает «Преступление и наказание» с простодушным энтузиазмом. Это произведение, соединявшее в себе полицейский роман, сентиментальную историю и философский трактат, удовлетворяло вкус большинства читателей. Конечно, его не понимали, но им искренне восхищались. Имя автора было у всех на устах и произносилось вслед за именами Тургенева и Толстого. Это была слава!
Однако внезапный взрыв популярности не спасал Достоевского от денежных трудностей. Приближалось 1 ноября, когда он должен был представить Стелловскому новый роман, а у него не было написано ни строчки.
1 октября Милюков зашел к Достоевскому:
«Он быстро ходил по комнате с папиросой и, видимо, был чем-то очень встревожен.
– Что вы такой мрачный? – спросил я.
– Будешь мрачен, когда совсем пропадешь! – отвечал он, не переставая шагать взад и вперед.
– Как! Что такое?
– Да знаете вы мой контракт с Стелловским?
– О контракте вы мне говорили, но подробностей не знаю.
– Так вот посмотрите.
Он подошел к письменному столу, вынул из него бумагу и подал мне, а сам опять зашагал по комнате. Я был озадачен. Не говоря уже о незначительности суммы, за которую было запродано издание, в условии заключалась статья, по которой Федор Михайлович обязывался доставить к ноябрю того же года новый, нигде еще не напечатанный роман в объеме не менее десяти листов печатных большого формата, а если не выполнить этого, то Стелловский имеет право перепечатывать все будущие его сочинения без всякого вознаграждения.
– Много у вас написано нового романа? – спросил я.
Достоевский остановился передо мною, резко развел руками и сказал:
– Ни одной строки!»
Пораженный Милюков предлагает собрать знакомых литераторов, распределить между ними главы и написать роман общими силами.
«Нет, – отвечал Достоевский решительно, – я никогда не подпишу своего имени под чужой работой».
Тогда Милюков предлагает продиктовать весь роман стенографу. Федор Михайлович колеблется: сумеет ли он приспособиться к непривычному методу работы? Да и где найти подходящего стенографа?
«Завтра же похлопочу», – обещает Милюков.
На следующий день, 2 октября, Милюков отправляется к Ольхину, директору курсов стенографии для женщин, и объясняет суть дела. 3 октября в шестом часу вечера Ольхин подходит к одной из своих учениц и спрашивает:
«Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенографа, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя».
Глава VII Анна Григорьевна
4 октября 1866 года Анна Григорьевна Сниткина выходит из дому пораньше, заходит в Гостиный двор и покупает новые карандаши, бумагу и маленький портфельчик и не торопясь идет по Столярному переулку к дому, где живет Достоевский. Анна Григорьевна – невысокая двадцатилетняя девушка с бледным лицом, освещенным прекрасными серыми глазами, ясными и лучистыми. Она происходит из хорошей семьи. Она окончила Мариинскую гимназию с серебряной медалью. Ее мать разрешила ей работать секретарем у писателя только потому, что ее отец был страстным поклонником Достоевского. Каков он в жизни, этот Достоевский? Ведь он сверстник ее отца и, стало быть, пожилой человек, с брюшком и лысой головой и наверняка суровый и угрюмый. Мысль, что она будет «сотрудничать» с таким знаменитым писателем, наполняет ее радостным ожиданием, к которому примешивается беспокойство. А что, если он сочтет ее недостаточно умной? Сумеет ли она говорить с ним о его книгах? Она не твердо помнит имена и отчества героев «Бедных людей» и как же ей быть, если он с ней о них заговорит? Признаться в своей забывчивости или же притвориться, что не расслышала вопроса?
В одиннадцать часов она подходит к дому Алонкина – большому каменному зданию, разделенному на множество маленьких квартир, напомнившему ей дом Раскольникова, описанный в «Преступлении и наказании».
– Где квартира 13? – спрашивает она дворника.
– На втором этаже, под сводом, – отвечает дворник.
Пожилая служанка проводит ее в большую скромно обставленную комнату: в глубине стоит диван, перед ним круглый стол и несколько стульев. Она опускается на один из стульев, и тут же входит Федор Михайлович и извиняется за опоздание: его задержали.
«Он был среднего роста, – пишет она в „Воспоминаниях“. – Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные[50]… Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах)». Достоевский нервно расхаживает по комнате. Он выглядит больным и рассеянным. Накануне он перенес сильный припадок эпилепсии и еще не вполне от него оправился.
Угрюмо, глухим голосом он просит Анну Григорьевну записать под его диктовку отрывок из «Русского вестника». Он начинает диктовать очень быстро. Она останавливает его и просит диктовать помедленнее, она не привыкла к такому темпу стенографирования.
Пока она переписывает стенограмму, он нетерпеливо ходит взад и вперед по кабинету и торопит ее: «Слишком долго. Ну можно ли так медленно переписывать!»
Просмотрев переписанное, он замечает, что она пропустила точку и неясно поставила твердый знак. Он раздраженно восклицает: «Невозможно, это невозможно! Сегодня во всяком случае он не в состоянии диктовать. Приходите завтра!»
«Ах, мама, – восклицает Анна Григорьевна, вернувшись домой, – не спрашивайте меня о Достоевском!»
Она приходит на следующий день, и на этот раз работа спорится. Федор Михайлович настроен добродушно и диктует первые главы «Игрока». Время от времени он приостанавливается и рассказывает молодой девушке о своем детстве, об аресте, об эшафоте, о Сибири… Затаив дыхание, взволнованная, она слушает рассказы этого человека, столько выстрадавшего, столько размышлявшего, который так доверительно делится с ней своими воспоминаниями.
«Сколько страниц мы вчера записали? Успеем ли к сроку?» – беспокоится Достоевский.
Работа продвигается, и Федор Михайлович постепенно проникается верой в успех. Ему доставляет удовольствие работать вместе с этой девушкой, юной, воспитанной и серьезной. То, что он диктует ей роман о любви, придает всему приключению восхитительную неловкость. Перед этой прилежной девочкой Федор Михайлович с жестоким сладострастием воссоздает образ надменной Полины Сусловой. И даже дает героине романа имя бывшей любовницы.
Домашний учитель Алексей Иванович, от лица которого ведется рассказ, безумно влюблен в Полину, падчерицу генерала Загорянского. Полина знает о его любви, позволяет ему говорить о своей любви и не скрывает своего к нему презрения. «Ну да, да, мне от вас рабство – наслаждение, – кричит ей Алексей Иванович. – Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества!.. Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь! Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью?»
Полина признается ему, что ей позарез нужны деньги, дает ему 700 флоринов, и он отправляется в казино играть в рулетку. Внезапно в нем просыпается азарт игрока: «…во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык».
Он все проигрывает и уходит из казино, точно одурманенный. Полина настаивает, чтобы он продолжал играть, и он возвращается в игорный дом. На этот раз ему везет. «Виски мои были смочены потом и руки дрожали. Подскакивали было и полячки с услугами, но я никого не слушал. Счастье не прерывалось! Вдруг кругом поднялся громкий говор и смех. „Браво, браво!“ – кричали все, иные даже захлопали в ладоши. Я сорвал тут тридцать тысяч флоринов, и банк опять закрыли до завтра».
Он бежит в отель, врывается в комнату, где Полина ждет его.
«– Я даром денег не беру», – говорит она.
Она его целует, ласкает, отдается ему. «Ты милый, милый! – повторяет она. – Ну, отдай же мне теперь мои пятьдесят тысяч франков!»
Она берет их, а потом швыряет их ему в лицо и выбегает из комнаты.
Навсегда потеряв Полину, Алексей Иванович едет в Париж, где проматывает свой выигрыш с какой-то авантюристкой. Растратив все деньги, он снова начинает играть и живет рулеткой, играет по маленькой, то проигрывая, то выигрывая, то снова проигрывая…
«…право, есть что-то особенное в ощущении, когда один на чужой стороне, далеко от родины, от друзей и не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый, самый последний!»
Роман кончается на меланхолической ноте: «Завтра, завтра все кончится!»
Кроме двух главных фигур – Полины и Алексея Ивановича, в «Игроке» есть персонаж высокого фарса, – его стоит выделить. Это старая богатейшая тетка генерала, «бабуленька», смерти которой с нетерпением ждет все семейство. В один прекрасный день она прибывает в город игроков с целой свитой прислуги. По ее приказу ее везут в казино, и она предается игре с безудержной страстью. «Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик… даже кулаком стукнула по столу, когда крупье провозгласил „trente six“[51] вместо ожидаемого „zéro“»[52]. После крупного выигрыша, тут же поглощенного огромным проигрышем, разорившаяся бабушка возвращается в Россию.
Этот динамичный роман, где главные темы лишь намечены и читая который легко догадаться, что он диктовался с пятого на десятое, очень точно освещает две страсти Достоевского: Полина… и игра.
Листая «Игрока», как будто пробегаешь фразы из дневника Сусловой: та же атмосфера неудовлетворенного обожания, те же внезапные смены настроения, резкие повороты страсти.
«Я все самолюбие при вас теряю», – говорит герой своей избраннице, и Достоевский сам, наверное, нередко повторял эту фразу Полине.
«Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал перед ней на колени», – пишет Достоевский в «Игроке». «…он упал к моим ногам и, сжимая, обняв, с рыданием мои колени, громко зарыдал: „Я потерял тебя, я это знал!“» – пишет в дневнике Суслова.
Такие сопоставления можно и продолжить.
А свою неодолимую тягу к игре Достоевский сам объяснил одной поразительной формулой: «…во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык».
Рулетка позволяет ему искушать судьбу, играть с судьбой так же, как судьба играет им. Рулетка помогает ему «переступить стену». И, переступив, он попадает в мир, не подвластный логике, в мир, где все позволено, а формула «дважды два четыре» утрачивает свой смысл. Самые продуманные ставки аннулируются бесконечными капризами удачи. В игре и только в игре ничто ни от чего не зависит.
Игра – первое испытание свободой в физическом мире.
30 октября 1866 года после двадцати пяти дней успешной работы «Игрок» готов к печатанию. 1 ноября Достоевский везет рукопись Стелловскому. Но издатель принял меры предосторожности: он нарочно уехал из города; его домашние не знали, когда он вернется, а в конторе издательства приказчик наотрез отказался принять рукопись под предлогом, что хозяин его на это не уполномочил. Тогда Достоевскому пришла мысль явиться в полицейский участок и сдать рукопись приставу из рук в руки под расписку, датированную и подписанную.
Ловушка издателя сорвалась, заказ выполнен в срок, однако Достоевский не испытывает полного удовлетворения.
Он привык к этой девочке, каждый день приходившей к нему и с юношеской восторженностью спорившей с ним о его героях. Ему легко с ней работалось. При ней ему хорошо думалось, ему нравилось говорить с ней, приятно быть с ней.
Мысль о скорой разлуке огорчает его. Он наносит визит матери Анны Григорьевны и предлагает девушке и дальше «сотрудничать» с ним: стенографировать последние главы «Преступления и наказания». Анна Григорьевна сразу соглашается. Она возобновляет работу с писателем 8 ноября.
Он встречает ее в крайнем беспокойстве. Бледный, взволнованный, он помогает ей снять пальто и усаживает в кресло. Он смотрит на это ясное чистое лицо, еще не тронутое временем, простое и полное жизни. Как она молода! Как мало знает жизнь! Как он ее любит! Имеет ли он право открыть ей свою любовь? Ведь он в два раза старше ее, неизлечимо болен, опутан долгами. Те же самые соображения удерживали его, когда он думал об Анне Корвин-Круковской. Он боится отказа. Он уверен в отказе.
Она спрашивает, чем он был занят в последние дни.
«Новый роман придумывал, – отвечает он, – только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология молодой девушки. Будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу, Сонечку, ну, а теперь за помощью обращусь к вам».
И он рассказывает ей о замысле нового романа; герой «художник, человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет». На его долю выпало много несчастий: он потерял отца, потерял жену, близких, любимую сестру. Он одинок, разочарован, отвержен. Но в нем живо страстное желание вновь найти счастье, и вот в решительный период своей жизни он встречает девушку, добрую, умную, чуткую, отзывчивую. «И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренне и на всю жизнь? – спрашивает он ее. – Поставьте себя на минуту на ее место. Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?»
Он замолкает, смущенный собственной смелостью. Не испортил ли он их нежную дружбу, заговорив о любви? Не напугал ли он эту девушку, которая ни о чем не догадывается? Анна Григорьевна смотрит на него спокойно и радостно. Потом просто произносит: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь».
Семья Михаила, бывшая на попечении Достоевского, и Павел Исаев, пасынок Федора Михайловича, в новом браке писателя видели угрозу собственным интересам. Они старались внушить ему, что абсурдно и даже безнравственно жениться на такой «юнице». Эти упреки мучили Федора Михайловича, потому что они в точности совпадали с его собственными глубокими сомнениями.
«Моя моложавость, видимо, смущала Федора Михайловича», – вспоминает Анна Григорьевна. А Достоевский позже напишет Сусловой: «При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти. Она согласилась… Разница в летах ужасная (20 и 40), но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у ней есть, и любить она умеет».
Это письмо к «подруге вечной» выдает замешательство и стыд Достоевского. Ведь это мещанское счастье, сулящее покой, а невеста так юна… Все это смущает его, как если бы он совершил какой-нибудь неприглядный поступок. И потом, однажды пришвартовавшись в порту, не затоскует ли он по штормам, бушующим в открытом море? И все эти люди вокруг него – они так удивлены. Все эти люди, конечно, смеются над ним, за его спиной называют его «старый безумец», «садист»… Ну и пусть! 15 февраля 1867 года в семь часов вечера Федор Михайлович Достоевский венчается с Анной Григорьевной в церкви Святой Троицы.
«Ты мое будущее все – и надежда, и вера, и счастье, и блаженство, – все», – пишет Федор Михайлович в первом письме Анне Григорьевне, посланном по случаю ее именин. И юная невеста, получив такую декларацию, одновременно и обрадована и обеспокоена. Будет ли она на высоте этой задачи? Будет ли она достойна ответственности, так неожиданно возложенной на нее?
Она была бесцветным созданием, но безраздельно преданной, преданной, насколько можно было желать.
С пятнадцати лет она боготворила своего будущего мужа и пронесла это благоговение через всю жизнь. Она не слишком хорошо его понимала, но прилагала все старания, чтобы сделать его счастливым.
Она придумала его образ, доступный ее пониманию и для нее утешительный. Мещаночка, она и в нем видела мещанина. Простушка с еще не определившимся характером, она представляла его себе славным отцом семейства, непогрешимой личностью, очищенным от всех низменных инстинктов, любящим, любезным и, в отличие от других людей, сложных и злых, простым и добрым.
Из портрета кисти Рембрандта она сделала виньетку для картинки, из неистовой и загадочной личности – персонаж из наивной комедии, предназначенной для детей и подростков.
Ах, нет, она не была слишком умной, не была и слишком образованной, несмотря на свою серебряную медаль. Зато она обладала здравым смыслом, практической сметкой. Она родилась секретаршей. Один близко знавший ее человек выразился так: «Если бы она не вышла замуж за Достоевского, то открыла бы на Невском меняльную контору».
Она не внесла в жизнь Достоевского порывы, насыщенные отчаянием, великие потрясения гордыни, сверхъестественные экстазы, к которым приучили его другие женщины. Она не была богатой добычей для его романов. Не обогатила сокровищницу его заметок – она навела в ней порядок со всей добросовестностью образцовой хозяйки.
Аккуратная, рачительная, экономная, добродетельная, любящая расчетные книги, записывавшая в дневник цены на каждую выпитую чашку кофе со сливками или на каждое съеденное пирожное, тщательно изучавшая контракты мужа, бдительно следившая за выплатой гонораров, державшая в узде кредиторов, переписывавшая, копировавшая, каталогизировавшая – она вращалась в орбите гения, подобно хозяйке, кружащей по своей кухне. Она принадлежала к тому типу женщин, которые умеют «навести порядок» в житейских делах.
Она в каком-то смысле стряхнула пыль с жизни Достоевского. Она не была Музой великого человека – она была его сестрой милосердия. Но и Достоевский нуждался в сестре милосердия больше, чем в Музе.
Семейная жизнь Анны Григорьевны начиналась трудно. Невестка, братья, племянники Достоевского, его пасынок Павел Исаев, шалопай, лентяй и фразер, считают себя ущемленными женитьбой Федора Михайловича и хладнокровно вредят незваной гостье. Павел Исаев, живший у Достоевского, запрещает прислуге слушаться новую хозяйку, крадет сахар, тайком съедает сливки, оставленные для кофе его отчиму, и заявляет, пожимая плечами: «Ну, папа, когда хозяйством заведовал я, этих беспорядков не было!»
Он жалуется Достоевскому на обиды, которые ему, «сыну», будто бы наносит молодая женщина. И Достоевский выговаривает Анне Григорьевне: «Анечка, полно ссориться с Пашей, не обижай его, он добрый юноша».
Семейные сцены учащаются. Это отражается на здоровье Федора Михайловича. Он переносит несколько сильнейших припадков эпилепсии.
«Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силою посадила на диван, – рассказывает Анна Григорьевна. – Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стул с горевшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол; сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях.
Но, к моему чрезвычайному горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное».
А сам Федор Михайлович пишет Майкову:
«…чувствовать и сознавать ясно это нервное и мозговое расстройство было невыносимо. Рассудок действительно расстраивался, – это истина».
Врачи советуют ему ехать за границу лечиться. Анна Григорьевна одобряет этот проект побега. Достоевский и сам ничего лучшего не желает, как бежать от кредиторов, наседающих на него со всех сторон.
Однако когда он объявляет семье о своем отъезде, это вызывает взрыв единодушного протеста. Разве не обещал он раньше снять дачу, где вся семья провела бы лето? Если он хочет уехать, он должен оставить им денег на жизнь в его отсутствие. Каждый подсчитывает свои требования. В целом получается 1100 рублей, а у Достоевского есть ровно тысяча.
«Судьба против нас, дорогая моя Анечка! – говорит он. – Сама видишь: если ехать за границу теперь, весной, то потребуется две тысячи, а у нас не наберется и одной. Если останемся в России, то можем на эти деньги прожить спокойно два месяца».
Тем временем кредиторы вновь требуют возврата долгов и грозят Достоевскому долговой тюрьмой.
«Оно, положим, – долговое отделение с одной стороны было бы мне даже очень полезно, – пишет он Майкову, – действительность, материал, второй „Мертвый дом“, одним словом, материалу было бы по крайней мере на 4 или на 5 тысяч рублей, но ведь я только что женился и, кроме того, выдержал ли бы я душное лето в доме Тарасова (долговая тюрьма. – А.Т.).»
По совету матери Анна Григорьевна предлагает Достоевскому для оплаты поездки за границу заложить принадлежащие ей вещи – мебель, серебро, фарфор… Она предпочитает пожертвовать всем своим приданым, лишь бы не терпеть и далее глухую враждебность родственников. Да и какой выход остается им, если Федора Михайловича могут со дня на день упрятать в долговую тюрьму? Скрепя сердце Достоевский соглашается принять эту первую жертву своей юной жены.
12 апреля являются оценщики и определяют сумму, которую можно получить за мебель. И 14 апреля в пять часов пополудни чета Достоевских покидает город, куда вернется только спустя четыре с лишком года.
Глава VIII Достоевский и рулетка
«…Один, без материалу, с юным созданием, которое с наивною радостию стремилось разделить со мною странническую жизнь; но ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень. Я боялся, что Анна Григорьевна соскучится вдвоем со мной».
Из Петербурга Достоевские через Вильну едут в Берлин. Но Берлин кажется Федору Михайловичу таким холодным, пустым и скучным городом, что, проведя в нем сорок восемь часов, он уезжает в Дрезден. («…скучные немцы успели-таки расстроить мои нервы до злости»). В Дрездене Достоевский снимает квартиру из трех комнат и первым делом покупает жене шляпку из белой итальянской соломки, украшенную розами и черными бархатными лентами и называвшуюся, согласно моде, «Suivez-moi»[53].
«…я дивилась на Федора Михайловича, как ему не наскучило выбирать, рассматривать материи», – замечает Анна Григорьевна.
Вскоре устанавливается распорядок дня, который Достоевские неукоснительно соблюдают. Федор Михайлович работает по ночам, встает не раньше одиннадцати и завтракает с Анной Григорьевной. В два часа он встречается с женой в картинной галерее, и они вместе любуются «Сикстинской мадонной» Рафаэля, «Динарием кесаря» Тициана или «Охотой» Рейсдаля. В три часа чета обедает в ближайшем ресторане, а по вечерам прогуливается в громадном городском парке, где играет оркестр.
Федор Михайлович, пишет Анна Григорьевна, «очень любил музыкальные произведения… Моцарта, Бетховена… Мендельсона-Бартольди… Россини. Произведения Рихарда Вагнера Федор Михайлович совсем не любил».
В девять часов Достоевский и его жена возвращаются к себе пить чай. Потом Достоевский, прежде чем взяться за работу, садился за чтение, а Анна Григорьевна открывала дневник и записывала стенографическими значками происшествия дня.
Чего только нет в этом по-детски простодушном очаровательном дневнике молодой женщины: меню обедов, цены на яйца, прелестные рассказы о болтовне с дорогим Федей или о приступах его гнева, наброски портретов собеседников в ресторанах. Невольно приходишь в смущение при мысли, что в те часы, когда под пером Достоевского рождался роман «Идиот», его жена, подруга, спутница жизни, записывала в свой альбомчик:
«Я встала довольно рано и стала умываться, чем разбудила Федю, но он не рассердился». Или: «Только накануне Федя, давая мне гребешок, просил меня быть поосторожнее… У меня были страшно попутаны волосы, я, забыв наставление, стала расчесывать и вдруг сломала 3 зубчика… Я расплакалась и решила уйти из дому, ходить до вечера и унести с собой гребенку».
Ни одного упоминания о процессе создания романа. Анна Григорьевна не вникала в творческую лабораторию Достоевского. Она любила человека и не понимала художника. Будь она замужем за бакалейщиком, она записывала бы то же самое.
«Дорого бы я дал, чтобы узнать, Анечка, что ты такое пишешь своими крючками», – спрашивает он время от времени.
Около полуночи Достоевский, прежде чем засесть за работу, приходит поцеловать жену. Он присаживается на край кровати. И эти ночные беседы вознаграждают молодую женщину. «Начинаются долгие речи, нежные слова, смех, поцелуи», – записывает в дневнике Анна Григорьевна.
Наконец он оставляет ее одну. И, покинув этого нежного и невинного ребенка, возвращается к письменному столу, где его ждет рукопись нового романа.
Достоевский бежал из России, чтобы спокойно работать. А работа не двигается. И эта добровольная ссылка, сначала столь желанная, теперь тяготит его.
«А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна, – пишет он Майкову. – Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься».
Зачем он приехал в Дрезден? И где взять денег, чтобы вернуться в Петербург? Надежда одна – рулетка. Однако пока он не отваживается заговорить об этом с женой. Настроение его портится, он делается мрачным, угрюмым, сварливым, злым. Его все раздражает: супружество, Германия, пейзажи… «Федя бранился: зачем аллеи прямы, зачем тут пруд, зачем то, зачем другое», – записывает в дневник Анна Григорьевна.
Наконец он решается посвятить ее в свой план. И она одобряет его. Одобряет, чтобы избежать ссоры, чтобы не видеть, как он забьется в припадке. Одобряет вопреки разуму, вопреки сердцу. А Достоевский уже настолько захвачен предвкушением игры, что бросает молодую жену совершенно одну в незнакомом городе и сбегает из Дрездена в Гомбург.
«Он сказал, что если ему случится там выиграть, то он приедет за мною, и мы будем там жить. Это было бы хорошо… может быть, лучше бы было вовсе туда не ехать».
И вот 16 мая в три часа пополудни он уезжает, и жена с полными слез глазами провожает его на вокзале.
17 мая, прибыв в Гомбург, он пишет ей:
«… зачем я мою Аню покинул… и понял, что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела, как ты, – я и не стою. Как я мог бросить тебя? Зачем я еду? Куда я еду?.. Бог… дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит… а я с такими бесхарактерными, сбитыми с толку вещами, как эта глупая теперешняя поездка моя сюда, – самое тебя могу сбить с толку».
18 мая – новое письмо:
«…начал играть еще утром и к обеду проиграл 16 империалов… Пошел после обеда, с тем чтоб быть благоразумнее донельзя и, слава Богу, отыграл все 16 проигранных, да сверх того выиграл 100 гульденов. А мог бы выиграть 300, потому что уже были в руках, да рискнул и спустил. Вот мое наблюдение, Аня, окончательное: если быть благоразумным, то есть быть как из мрамора, холодным и нечеловечески осторожным, то непременно, безо всякого сомнения можно выиграть сколько угодно… Одним словом, постараюсь употребить нечеловеческое усилие, чтоб быть благоразумнее».
Но решимость оставляет его, и на следующий день он признается своей дорогой Ане:
«День вчера был для меня прескверный. Я слишком значительно… проигрался. Что делать: не с моими нервами, ангел мой, играть. Играл часов десять, а кончил проигрышем… Теперь на оставшееся (очень немного, капелька) хочу сделать сегодня последнюю пробу… Экое дикое ведь наше положение. И войдет ли кому в голову у наших, в Петербурге, что мы в настоящую минуту с тобой в разлуке и для какой цели!»
Стараясь успокоиться, он прогуливается по парку, посещает Кургауз, слушает музыку: «музыка прекрасная, лучше дрезденской». Он клянет свою страсть, пытается оправдаться в собственных глазах, убедить себя, что играет ради того, чтобы выиграть и вытащить из нищеты Аню и семью в Петербурге. Но вскоре он уже не может больше себя обманывать: его увлекает игра сама по себе. Он любит игру ради самой игры. Замерев от страха, застыв в напряжении, он живет ради мгновения, когда шарик рулетки придет в движение, прикует к себе все взгляды, и замелькают, доводя до головокружения, красное и черное, чет и нечет… выигрыш или проигрыш… Поворот колеса – и решится его судьба. Его захлестывает всепоглощающий азарт игрока. Пронзает жгучее наслаждение. Он обливается потом. Дрожит. Все посторонние мысли вылетают у него из головы. «А хуже всего то, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил, – признается подпольный человек. – Бес тотчас же сыграл со мной штуку».
Переступать границы, балансировать на краю пропасти, безоглядно рисковать, все поставив на карту, – разве это не значит жить полной жизнью? А там, в Дрездене, молодая женщина тоскует, беспокоится и заносит в дневник: «Все проиграно… Что теперь с нами будет?»
И, словно уловив ее тревогу, он снова корит себя за бесчувствие, дает себе слово вернуться, как только выиграет. Увы!
«…я все еще на одной точке, – пишет он 20 мая, – и леплюсь кое-как и не добился, покамест, ни до какого результата, так что и опять не выезжаю; что-то скажет сегодняшний день?»
Но «сегодняшний день» не приносит удачи.
«Милый мой ангел, вчера я испытал ужасное мучение: иду, как кончил к тебе письмо, на почту, и вдруг мне отвечают, что нет от тебя письма. У меня ноги подкосились, не поверил… Мне все приходило в голову, что ты больна, умираешь. С час я ходил по саду, весь дрожа; наконец пошел на рулетку и все проиграл… Тут я воротился и пошел опять заложить часы… Слушай же: игра кончена, хочу поскорее воротиться; пришли же мне немедленно, сейчас как получишь это письмо, двадцать (20) империалов».
Отправив это прошение, Достоевский возвращается к рулетке и ставит десять гульденов из оставшихся двадцати. На миг удача улыбается ему: он выигрывает тридцать золотых фридрихсдоров (300 гульденов). Он должен остановиться и бежать прочь из игорного дома. А он упорствует, не в силах противиться искушению, ставит все свое золото и проигрывает весь выигрыш.
«Я понимаю, что нечего делать, если уж ты совершенно не в состоянии и выносить моего отсутствия и так мнительна обо мне… Рассуди, дорогая моя: во-первых, уже моя собственная тоска по тебе сильно мешала мне удачно кончить с этой проклятой игрой и ехать к тебе, так что я духом был не свободен… Вот уже раз двадцать, подходя к игорному столу, я сделал опыт, что если играть хладнокровно, спокойно и расчетом, то нет никакой возможности проиграть!»
Анна Григорьевна посылает двадцать империалов и 25 мая отправляется на вокзал встречать своего блудного мужа. Но Феди в поезде нет. Обезумев от беспокойства, молодая женщина возвращается в отель, где ей передают письмо, датированное 24 мая:
«Анна, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл. Аня, как я буду теперь глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь! Одно и только одно ужасает меня: что ты скажешь, что подумаешь обо мне?.. О, друг мой, не вини меня окончательно! Мне игра ненавистна, не только теперь, но и вчера, третьего дня, я проклинал ее… Сейчас же по получении этого письма вышли 10 империалов».
27 мая Достоевский наконец возвращается в Дрезден. Жена ждет его на платформе. Он исхудал, бледен, глаза запали. Она бросается к нему в объятия. С первого же взгляда он понимает, что она от всего сердца простила его.
В тот же день Анна Григорьевна передает Достоевскому письмо, которое пришло в его отсутствие. По правде говоря, она вскрыла его, потому что узнала почерк Сусловой, но сумела аккуратно заклеить конверт, так что не было заметно, что письмо кто-то читал. «Это было очень глупое и грубое письмо, не выказывающее особенного ума в этой особе», – записывает она в дневник.
Достоевский читает письмо, приходит в волнение, смущается. И Анна Григорьевна, мучимая ревностью, сделав над собой страшное усилие, притворяется, что ничего не заметила.
«Анна Григорьевна оказалась сильнее и глубже, чем я ее знал и рассчитывал», – пишет Достоевский Майкову.
Тем не менее заботы, сожаления, скука портят настроение Федора Михайловича. Он сокрушается о проигранных деньгах. Винит в проигрыше себя. Объясняет свою неудачу спешкой, беспокойством за жену. И потом он и раньше приезжал на рулетку всегда на два или три дня и всегда с небольшими деньгами. Вот если бы он мог прожить недели две в городе, где есть рулетка, ему бы наверняка повезло: он бы не торопился, играл спокойно и хладнокровно, как автомат. Самое правильное было бы уехать в Швейцарию и пожить в Баден-Бадене. Он так убедительно излагает свой план жене, что она соглашается с ним, то ли убежденная его доводами и поверив ему, то ли наскучив с ним спорить.
Получив согласие на отъезд в Баден-Баден, Достоевский успокаивается и берется за работу. Он пишет статью о Белинском[54]. «…до того она меня измучила и до того трудно было ее писать, – признается он в письме к Майкову. – 10 листов романа было бы легче написать, чем эти два листа!»
Причина же в том, что у Достоевского еще не созрело окончательное суждение об этом человеке, которым он так восхищался и которого так ненавидел. Он и хотел бы выразить свою благодарность критику, благословившему его вступление в литературу, но горечь давней обиды охлаждает его энтузиазм. Пять раз он переделывает рукопись.
Вернувшись в Дрезден, Достоевский посылает письмо Каткову с просьбой выдать задаток в 500 рублей, нужных для поездки в Швейцарию и Италию. Но только 3 июля чета Достоевских выезжает из Дрездена в Баден-Баден.
В Баден-Бадене Достоевский ведет жену в игорный дом и объясняет, как действует рулетка. Они делают ставки, немного выигрывают и тут же теряют то, что выиграли. На следующий день Достоевский с десятью дукатами идет играть, оставив жену одну в комнате отеля. Бьет четыре часа. В семь часов вечера его все еще нет. Анна Григорьевна лежит на кровати, еле живая от беспокойства, а в комнату медленно заползают сумерки.
В одиннадцать часов он наконец появляется, изможденный, потерянный, без шляпы, с распустившимся галстуком. Он проигрался дотла. Он решает выбросить свой старый кошелек – это он приносит несчастье.
На следующий день все повторяется. Он едет в казино с пятью дукатами. Она его ждет. Он возвращается. Она спрашивает: «Проиграл?» Он, совершенно убитый, отвечает: «Да».
Через десять дней Достоевский проигрался окончательно, истощив все ресурсы семьи. Тут наступает для этой супружеской четы кошмарное, безумное существование, которое продолжается почти целый месяц. Федя закладывает в ломбарде свое обручальное кольцо, играет, проигрывает, отыгрывается, выкупает кольцо, снова закладывает и возвращается домой такой бледный, измученный, что Анна догадывается: он впух проигрался. Но он приносит сорок шесть золотых монет. И радостно возбужденный рассказывает жене о всех фазах игры: «Федя говорил, что ему ужасно как повезло сегодня: он ставил на золото и поминутно получал, так что все дивились его счастью».
А она слушает его, восхищается им и записывает в дневник: «Я была невыразимо рада этим деньгам, потому что мы могли бы ими прожить несколько времени».
Однако вечером она находит мужа без сил сидящим на скамейке в парке. Он объясняет: он играл, игроки его толкали, он разозлился и проиграл.
В другой раз он не совладал со своими нервами и плохо рассчитывал ставки, потому что рядом стоял какой-то сильно надушенный англичанин, и Федор Михайлович задыхался от запаха его духов.
Но если удача вдруг улыбнется ему, он снова загорается надеждой и покупает фрукты, цветы, сладости.
15 июля на руках у Федора Михайловича четыре тысячи франков. 18 июля в кушаке – семейной копилке, куда прятали выигранные деньги, остается всего двадцать четыре золотые монеты.
За несколько часов Достоевский проигрывает и этот скромный резерв. Он возвращается к жене и умоляет заложить что-нибудь в ломбард. Анна Григорьевна достает серьги, мгновение смотрит на них, разражается слезами и – кладет их в протянутую ладонь. «Федя встал передо мной на колени… целовал мои руки… говорил, что лучше меня нет никого на свете». Он уходит, и, когда дверь за ним закрывается, несчастная женщина, забившись в кресло, заливается слезами и шмыгает носом, словно обиженный, всеми покинутый ребенок.
Его сердце разрывается от мучительных угрызений. Он чувствует себя злодеем. Он вор и трус. Он это знает. И сознание своей низости доставляет ему болезненное удовольствие. Он бежит в ломбард, из ломбарда – в игорный зал. Его трясет, точно он только что совершил убийство. Чем безнадежнее его положение, тем неотвратимее притягивает его зеленый ковер игорного стола. В такие мгновения игра превращается в настоящее единоборство с судьбой. Выиграйте – и вы победитель и будете прощены. Проиграйте – и вы преступник. Такова же мораль Раскольникова перед каторгой.
«Прошло часа три, и… наконец Федя пришел… Он мне сказал, что все проиграл, даже полученные за заложенные серьги деньги. Федя сел на стул и хотел посадить меня к себе на колени, но я стала перед ним на колени и стала его утешать. Тогда Федя сказал мне, что это в последний раз в своей жизни он это делает (играет), что уж этого никогда более не случится. Федя облокотился на стол рукой и заплакал. Да. Федя заплакал; он сказал: „Я у тебя последнее украл, унес и проиграл“».
Он, сорокашестилетний мужчина, знаменитый писатель, рыдает, точно пойманный с поличным мальчишка, перед этой девочкой, которую взял в жены.
А на следующий день он выпрашивает у нее пять франков, потом закладывает свое обручальное кольцо, а за ним меховую шубку и обручальное кольцо жены. Вечером 19 июля он выиграл сумму, достаточную, чтобы выкупить оба кольца. 20 июля он снова все проиграл и снова заложил кольца.
Тем временем Анна Григорьевна получает письмо от матери. «Мама мне объявила, – записывает она в дневнике, – что К. не может более держать мебель и хочет ее оставить у себя, если мы ее не выкупим… Действительно, лишиться мебели, которая была мне подарена папою и дана мамою, которая так много стоила нашему семейству, мне было слишком тяжело».
Едва она дочитала письмо, как в комнату входит Достоевский, смертельно бледный, с искаженным лицом, воспаленными глазами.
«Он сказал, что все кончено: что он все проиграл… Это ужасно как поразило его, – я просто начала бояться, как бы припадок с ним не случился».
Пишут Каткову, матери Анны, занимают три золотых у писателя Гончарова, который отдыхает в Баден-Бадене, разыскивают ростовщика, закладывают ему меховое пальто, находят «маленького немца… из жидов», который дает семь флоринов под залог Фединого пальто, шесть флоринов за платье Анны и два за старую одежду. Вещи приходится выносить тайком от хозяйки. «Для этого я сложила в ужасно небольшой узелок, и Федя вынес его под своим пальто, которое держал в руке».
И снова игра, крупные проигрыши и смехотворные выигрыши. Бедный Федя, вспоминает Анна Григорьевна, возвращался в полном отчаянии и говорил, что или сойдет с ума, или пустит себе пулю в лоб.
За квартиру не уплачено, есть больше нечего, нет даже чая. В комнате душно. За стеной кричат дети, не давая спать. Под окнами квартиры Достоевских работает кузнец, его молот бьет по наковальне через регулярные интервалы, – этот грохот, эта жара, эти засиженные мухами обои доводят Анну Григорьевну до полного изнеможения. Да еще на полу в углу свалена куча грязного белья, она поднимается и обреченно принимается за стирку.
Несколько дней спустя Феде удалось выкупить заложенные вещи, и Аня получает сто пятьдесят рублей от матери. После обеда Федя выходит, чтобы выкупить кольцо, брошь и серьги.
«…Федя пришел домой этак часов в 8… Федя в страшном волнении бросился ко мне и, плача, сказал, что все проиграл, проиграл те деньги, которые я дала ему на выкуп серег… Мало-помалу Федор успокоился и просил меня дать ему 170 франков, но так как я теперь имею право не доверять ему, то просил идти вместе с ним к М-г Weismann выкупить у него наши вещи… всю дорогу Федя мне целовал руки и просил простить его, хотя я решительно не видела в этом особой беды».
«Анна Григорьевна все свое заложила, последние вещицы (что за ангел! Как утешала она меня, как скучала в треклятом Бадене, в наших двух комнатках над кузницей)», – пишет Достоевский Майкову.
В Баден-Бадене Достоевский встретил кроме Гончарова еще одного русского – Тургенева. Давно уже Федор Михайлович должен Тургеневу 50 талеров: «…И не отдал до сих пор!» Анна Григорьевна советует мужу нанести Тургеневу визит в знак того, что долг не забыт.
Достоевский неохотно соглашается. Он не любит Тургенева за его манеры скучающего барина. Его тошнит от его «аристократически-фарисейских объятий», с которыми тот «лезет целоваться». Он не оценил последний роман Тургенева «Дым», из которого извлек такую фразу: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». И с первых же минут беседа превращается в ожесточенный спор.
«Он объявил мне, что он окончательный атеист. Но, Боже мой: деизм дал нам Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили?.. Все они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что они надеются и кто за ними пойдет?»
Возмутительнее же всего то, что Тургенев ругает Россию и при этом заявляет, что любит ее!
Между прочим Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая – это цивилизация и что все попытки русизма и самостоятельности – свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. «– Для чего? – спросил он. – Отсюда далеко, – отвечал я. – Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно».
От этих слов Тургенев краснеет и кусает губы, удерживаясь от резкого ответа. А Достоевский, напомнив о неуспехе «Дыма» у критиков, коварно, с притворной наивностью продолжает:
«А ведь я не ожидал, что все эти критики на Вас и неуспех „Дыма“ до такой степени раздражат Вас; ей-богу, не стоит того, плюньте на все». Тот возражает: «Да я вовсе и не раздражен, что Вы!» – и покраснел.
Достоевский, меняя тему, заговаривает о немцах и дурно о них высказывается. Тургенев отвечает ему дрожащим от гнева голосом: «Говоря так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского и горжусь этим!»
И Достоевский расстается с Тургеневым в восторге от того, что вывел из себя этого оторвавшегося от родины аристократа.
В начале августа благодаря 500 рублям, присланным Катковым, у которого Федор Михайлович снова просил аванс, Достоевские могут уехать в Женеву. После уплаты всех долгов у них остается всего 140 франков, а переезд стоит 100 франков. Короткий визит Феди к рулетке, и сумма уменьшается ровно до 100 франков.
«Меня это уже окончательно взбесило, – пишет Анна Григорьевна. – Ну, как можно быть до такой степени беззаботным… Я хотела его бранить, а он стал предо мною на колени и просил его простить».
Снова, в последний раз закладывают серьги за 120 франков и за 20 франков выкупают кольца.
«Федя отправился на рулетку; я просила его, ради Бога, не быть там долго… Не больше как через 20 минут воротился… Федя и сказал, что разменял эти деньги на талеры… что он решительно все проиграл. Я просила его не унывать, а помочь мне запереть чемоданы».
Глава IX Скиталец
Достоевские приехали в Женеву всего с тридцатью франками. Они снимают меблированные комнаты у двух старых дев на углу улиц Вильгельма Телля и Бателье. Через три дня их капитал сокращается до 18 франков, правда, в перспективе у них 50 рублей, которые обещала прислать мать Анны Григорьевны. Федор Михайлович обращается за помощью к своему другу Майкову:
«Я знаю, Аполлон Николаевич, что у Вас самих денег лишних нет. Никогда бы я не обратился к Вам с просьбою о помощи. Но я ведь утопаю, утонул совершенно». Майков немедленно высылает 125 рублей, – они быстро расходятся.
В Женеве Достоевский вновь принимается за прерванную работу. Он заканчивает статью о Белинском, – эта статья так и не будет опубликована. Читает русские газеты, перечитывает Бальзака, Жорж Санд. Присутствует на Конгрессе мира и наблюдает торжественную встречу Гарибальди и его проезд по улице Монблан, украшенной зелеными ветками и яркими флагами. Герой Италии стоит в открытой коляске и в ответ на приветственные крики толпы взмахивает своей оригинальной серой шляпой. Позже Достоевские посещают заседание Конгресса, и поток произнесенных там речей удручает Федора Михайловича.
«…но что эти господа, – которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, – социалисты и революционеры, врали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо!.. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противуречие себе – это вообразить нельзя! И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделать маленькие; все капиталы прочь, чтоб все было общее по приказу, и проч. Все это без малейшего доказательства».
Тем временем наступает зима. Небо покрывается тучами. Дуют сильные вихревые ветры, прохожие торопливо бегут по улицам. Достоевский плохо переносит эту гнилую погоду. Приступы падучей учащаются. И усиливается его неискоренимая ненависть к Западу:
«Все здесь гадко, гнило, все здесь дорого. Все здесь пьяно. Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет. И все у них, каждая тумба своя – изящна и величественна. – Где Rue[55] такая-то? – Voyez, monsieur, vous irez tout droit et quand vous passerez près de cette majestueuse et élegante fontaine en bronze, vous prendrez etc[56].
Этот majestueuse et élegante fontaine[57] – самая чахлая, дурного вкуса, дрянь rococo[58], но он уж не может не похвалиться, если вы даже только дорогу спрашиваете…»
«Английский сад» вроде двух соединенных московских палисадников. И вообще этот город «верх скуки».
Заметив, что Федор Михайлович совсем захандрил, Анна Григорьевна подает ему мысль съездить на воды в Саксон ле Бен, – этот город-курорт находится всего в сотне километров от Женевы, и его казино славятся на весь мир. Она уже ясно осознает, что Феде необходимы эти непростительные проигрыши, эти жгучие угрызения совести, чтобы вновь сосредоточиться на работе. Взлеты и падения, радость победы и горечь поражения, доставляемые рулеткой, рискованная игра, завершающаяся полной катастрофой, как ни странно, приносят ему успокоение. К нему возвращается душевное равновесие. Поражение в игре он искупает напряженной работой.
Раз уж жена сама предлагает ему попытать удачи, он с радостью соглашается. Он приезжает в Саксон ле Бен с намерением, сыграв разок в рулетку, завтра же вернуться домой. Но 6 октября 1867 года он пишет жене:
«Аня, милая, я хуже чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня – ни копейки. Все! Все проиграл! И все оттого, что подлец лакей в Hôtel des Bains не разбудил, как я приказывал, чтоб ехать в 11 часов в Женеву. Я проспал до половины двенадцатого. Нечего было делать, надо было отправляться в 5 часов, я пошел в 2 часа на рулетку и – все, все проиграл».
Предвидения Анны Григорьевны полностью оправдались: вернувшись в Женеву, Достоевский с жаром принялся за прерванную работу. Поначалу он собирался писать совсем «простую историю».
Он предполагает использовать материалы и документы процесса Умецких, отчеты о котором читал в газете «Голос»: девочка, подвергавшаяся издевательствам со стороны родителей, четыре раза поджигала родительский дом. Это – только исходная точка. Достоевскому не удается выстроить сюжет вокруг этого инцидента, и он выходит из себя от нетерпения.
17 ноября Федор Михайлович, измученный работой и болезнью, возвращается в Саксон ле Бэн.
«Ах, голубчик, не надо меня пускать к рулетке! Как только прикоснулся – сердце замирает, руки-ноги дрожат и холодеют. Приехал я сюда без четверти четыре и узнал, что рулетка до 5 часов. (Я думал, до четырех.) Стало быть, час оставался. Я побежал. С первых ставок спустил 50 франков, потом вдруг поднялся, не знаю насколько, не считал; затем пошел страшный проигрыш; почти до последков. И вдруг на самые последние деньги отыграл все мои 125 франков и, кроме того, в выигрыше 110. Всего у меня теперь 235 ф<ранков>. Аня, милая, я сильно было раздумывал послать тебе сто франков, но слишком ведь мало. Если б по крайней мере 200. Зато даю себе честное и великое слово, что вечером, с 8 часов до 11-ти, буду играть жидом, благоразумнейшим образом, клянусь тебе… а сам наверно приеду послезавтра, то есть во вторник».
Во вторник тон меняется:
«Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! О, ангел мой, не печалься и не беспокойся! Будь уверена, что теперь настанет наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор! Теперь роман, один роман спасет нас».
Он закладывает кольцо и зимнее пальто. Ему нужно 50 франков, чтобы вернуться в Женеву. Потом он как-нибудь выкрутится. Он обратится к Каткову, к поэту Огареву, которого встретил в Женеве, заложит драгоценности, если потребуется.
Он пишет жене:
«Спасу и поправлю все. Прошлый раз я приезжал убитый, а теперь надежда в моем сердце… Не подумай, ради Христа, что я буду играть на эти 50 франков».
На этот раз за его возвращением не последовала напряженная работа: перечитав рукопись, он нашел ее отвратительной и сжег.
Однако он только что написал Каткову с просьбой присылать ему 100 рублей ежемесячно в счет аванса, а в декабре прислать 200 рублей. И Катков, «наиблагороднейший человек», согласился на его просьбу при условии, что Федор Михайлович представит первую часть книги к 1 января 1869 года.
Наступает конец декабря, а у Достоевского ничего не готово. Зато у него зародилась новая и – удивительная идея: «Идея эта – изобразить вполне прекрасного человека, – пишет он Майкову. – Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно. Вы, конечно, вполне с этим согласитесь. Идея эта и прежде мелькала в некотором художественном образе, но ведь только в некотором, а надобен полный. Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул как на рулетке: „Может быть, под пером разовьется!“ Это непростительно».
Между тем план книги сложился. Возле героя появляется героиня и другие персонажи, столь же притягательные, как и герой. «Первая часть, по-моему, слаба. Но мне кажется есть еще одно спасение… Первая часть есть, в сущности, одно только введение… Роман называется „Идиот“».
И в другом письме Достоевский уточняет трудности, с которыми сталкивается в процессе работы:
«На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос… Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон и тем только и берет… Жан Вольжан, тоже сильная попытка, – но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества. У меня ничего нет подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача. Некоторые детали, может быть, будут недурны. Боюсь, что будет скучен. Роман длинный».
Ссылка, нужда, болезнь – все поселившиеся на земле бедствия, объединившись, ополчились против него. В глубине души он прекрасно знает, что это и придает ему мужество успешно продолжать свою работу. На улице холодно, а в комнате маленький скверный камин и нет двойных рам, как в России. Хотя большую часть денег он тратит на дрова, ему не удается поднять температуру выше 5° по Реомюру. Он пишет, закутавшись в зимнее пальто. Денег, присылаемых Катковым, хватает только на первые дни месяца, а потом начинается хождение в ломбард. И в этом отчаянном положении, как физическом, так и моральном, Достоевский узнает великую новость: Анна Григорьевна беременна.
Достоевского распирает от гордости при мысли, что он станет отцом. «Мы оба уже нежно любили нашего будущего младенца». Решают девочку назвать Соней в честь Сони Мармеладовой, а мальчика Михаилом в память брата Федора Михайловича.
Урезав ежедневные расходы, Достоевский нанимает повитуху и сиделку. С приближением дня родов он впадает в панику и ночью с ним случается сильнейший приступ эпилепсии. Когда приступ проходит, он засыпает. Жена, почувствовав сильные боли, будит его. «Как мне тебя жалко, дорогая моя», – с жалостью произносит он, потом голова его падает на подушку, и он снова мгновенно засыпает.
На следующее утро он, мигом одевшись, бежит за повитухой. Она еще не вставала. Он звонит, стучит, угрожает и требует, чтобы она тотчас отправилась к Анне. Повитуха, расспросив Аню, уверяет, что до родов еще часов семь-восемь, и обещает вернуться. И не возвращается. Федор Михайлович снова бежит ее искать и находит за обедом с друзьями. Он ее уводит, и она снова говорит, что нужно ждать до вечера.
В третий раз он отправляется за акушеркой около девяти часов вечера и отрывает матрону от игры в лото с друзьями. «O, ces russes, ces russes!»[59] – ворчит она.
Все же она идет с ним, но запрещает ему входить в комнату, где Анна Григорьевна испытывает последние схватки. Федор Михайлович запирается в соседней комнате, падает на колени и молится. Вдруг среди стонов жены ему слышится какой-то странный, как будто детский крик. Он бежит к двери, с силой толкает ее и, бросившись на колени перед кроватью, целует руки молодой матери.
«– Un qarçon, n’est pas?»[60]
«– Fillette, une adorable fillette!»[61] – отвечает сиделка.
Он бережно берет запеленутого младенца, которого ему протягивают, целует его и восклицает: «Аня, погляди, какая она у нас хорошенькая!»
А акушерка, пораженная таким половодьем счастья, повторяет: «Oh, ces russes, ces russes!»[62]
Впоследствии Достоевский опишет свои ощущения в сцене родов жены Шатова в романе «Бесы»:
«Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно…
– Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно… И нет ничего выше на свете!»
Обожание дочки доходит у Достоевского до умопомрачения. Он утверждает, что она его узнает, улыбается ему, понимает его. Он присутствует при ее купании, сам завертывает ее в одеяльце и зашпиливает его булавками. Он ее носит, укачивает на руках и, заслышав ее голосок, бросает свои занятия и бежит к ней узнать, не случилось ли чего-нибудь.
Он пишет Майкову: «Это маленькое, трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное – для меня было уже лицо и характер… Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил».
Присланные Катковым деньги быстро ушли на плату сиделке, акушерке и домовладельцу, и Достоевский решает съездить в Саксон ле Бен и в последний раз попытать счастья в рулетке.
Результат не заставил себя ждать:
«Милый мой ангел Нютя, – пишет Достоевский 4 апреля, – я все проиграл как приехал, в полчаса все и проиграл. Ну что я скажу тебе теперь, моему ангелу Божьему, которого я так мучаю. Прости, Аня, я тебе жизнь отравил! И еще имея Соню!
Я снес кольцо… Пришли мне как можно больше денег. Не для игры (поклялся бы тебе, но не смею, потому что я тысячу раз тебе лгал)… Ангел мой, пришли мне 100 фр. У тебя останется 20 или меньше, заложи что-нибудь. Только бы поскорее к тебе!»
В ожидании денежного перевода из Женевы он рискует деньгами, полученными за кольцо, и проигрывает их. У него остается 50 сантимов.
«Друг мой! Пусть это будет моим последним и окончательным уроком», – пишет он вечером жене.
Но добавляет: «…знай, мой ангел, что если б не было теперь этого скверного и низкого происшествия, этой траты даром 220 фр., то, может быть, не было бы и той удивительной, превосходной мысли, которая теперь посетила меня и которая послужит к окончательному общему нашему спасению! Да, мой друг, я верю, что, может быть, Бог, по своему бесконечному милосердию, сделал это для меня, беспутного и низкого, мелкого игрочишки, вразумив меня и спасая меня от игры – а стало быть, и тебя и Соню, нас всех, на все наше будущее!»
Имеется в виду письмо, которое он собирается написать Каткову – извиниться за опоздание с присылкой продолжения «Идиота» и предложить ему соглашение: он обещает Каткову второе издание романа в качестве гарантии денег, уже ему выплаченных. Он просит его также выслать немедленно 300 рублей. Эти деньги – они безусловно прибудут в Женеву до 1 мая, позволят Достоевскому переехать в Веве, где нет таких резких колебаний погоды, как в Женеве. И в Веве он возьмется за работу. А когда роман будет закончен, они уедут в Италию…
Он возвращается домой гордый своим новым проектом. Но через несколько дней маленькая Соня простужается во время прогулки и начинает кашлять. Вызванный доктор уверяет, что нет причин для беспокойства. Несмотря на его уверения, Достоевский встревожен до крайности, он ничем не может заняться, не может писать. Он не отходит от колыбели. И его худшие предчувствия оправдываются: 24 мая девочка умирает.
Федор Михайлович обезумел от горя. Он плачет навзрыд над остывающим тельцем, покрывает поцелуями личико и ручки. Он вместе с женой обряжает ее в белое атласное платьице, укладывает в обитый белым атласом гробик, занимается необходимыми для погребения формальностями. А когда первые комья земли со стуком падают на крышку гроба, ему кажется, что его поразили в самое сердце, что его самого закопали, зарыли в землю, что его самого погребли в этой могиле.
Этот ребенок был его гордостью, его надеждой. Он так ясно представлял себе будущее, которое ждет их всех троих. Вечера в кругу семьи, совместное чтение, – всю массу семейных радостей, так внезапно отобранных у него.
Жизнь не баловала его радостями. Одну из этих радостей он только что испытал, такую высокую, такую чистую радость, что он сам стал лучше. И вот даже это высшее человеческое счастье у него отнято. Все кончено, кончено: никогда больше не посмотрит он в это крошечное еще не определившееся личико, не подстережет движения этих крошечных хмурящихся бровок, не дотронется до теплой шейки… И невыносимо будет смотреть на проходящих по улице, встреченных на улице детей, – каждый ребенок будет напоминать об их утрате. Воспоминания о малышке буквально раздирали его сердце. Впервые в жизни он испытывал искушение возроптать на Бога, восстать против преследующей его Судьбы.
«Ох, Аполлон Николаевич, – пишет он Майкову, – пусть смешна была моя любовь к моему первому дитяти, пусть я смешно выражался об ней во многих письмах моих многим поздравлявшим меня. Смешон для них был только один я, но Вам, Вам я не боюсь писать… И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива? Но, впрочем, оставим это, жена плачет. Послезавтра мы наконец расстанемся с нашей могилкой и уедем куда-нибудь…»
В конце мая Достоевские покидают Женеву, где все напоминает им о Сонечке, переезжают на другой берег озера и устраиваются в Веве.
В Веве горе Федора Михайловича и Анны Григорьевны обостряется. Жизнь кажется им бесполезной. «Все наши мысли, все наши разговоры сосредоточивались на воспоминаниях о Соне и о том счастливом времени, когда она своим присутствием освещала нашу жизнь», – пишет Анна Григорьевна.
«Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! – пишет Федор Михайлович Майкову. – Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его; где любви найду; мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет и что я никогда ее не увижу».
Ночью Анну Григорьевну мучат кошмары, она захлебывается в рыданиях. Ее мать, приехавшая из Петербурга, тщетно пытается утешить ее. В Веве, маленьком городке, нет никаких развлечений. Панорама голубого и легкого как дым озера, молочно-белых гор, вырисовывающихся на фоне сияющей небесной голубизны, – все это спокойствие, вся эта красота, столь дорогая туристам, доводили до тошноты Федора Михайловича. Он заболевает. Жена его тоже больна. Ему кажется, что только завершив роман, он придет в себя.
«Романом я недоволен до отвращения. Работать напрягался ужасно, но не мог: душа нездорова… Если поправлю роман – поправлюсь сам, если нет, то я погиб».
Тем временем полиция Петербурга вскрывает и читает все его письма и устанавливает за ним наблюдение, что крайне раздражает Достоевского. Женевский священник – осведомитель тайной полиции. Из анонимного письма Федор Михайлович узнает, что на границе, когда он будет въезжать в Россию, его велено тщательно обыскать. И как нарочно как раз в это время он получает по почте запрещенное сочинение «Тайны царского двора времен Николая I»[63]. Среди действующих лиц – ссыльный Достоевский и его первая жена. Там же рассказывается, что Федор Михайлович скончался по дороге в Сибирь, а его жена ушла в монастырь и постриглась в монахини. Этот бесстыдный памфлет страшно возмутил Достоевского. Он пишет протест, который, впрочем, не отошлет, но его черновик сохранится до наших дней:
«От всякой клеветы, как бы она ни была безобразна, все-таки что-нибудь остается».
В начале сентября Достоевские уезжают из Веве в Италию. Сначала они останавливаются в Милане, но город наводит на Федора Михайловича тоску. Не переставая идут дожди, и нигде не найти ни одной русской книги. «Ничего русского, ни одной книги и ни одной газеты русской не читал вот уже 6 месяцев, – пишет он Майкову. – И вот идея „Идиота“ почти лопнула».
Он настойчиво просит Майкова сообщать ему обо всем, что происходит в России. Майков сообщает о создании нового литературного журнала «Заря». Возглавляет редакцию нового журнала Страхов, сотрудничавший в журналах «Время» и «Эпоха». Достоевский горд и взволнован: «Итак, наше направление и наша общая работа не умерли, – пишет он Страхову, – и новое дело нашлось вынужденным начать с того, на чем мы остановились. Это слишком отрадно».
Из Милана Достоевские перебираются во Флоренцию, где устраиваются окончательно недалеко от Палаццо Питти.
Перемена обстановки несколько смягчает горе Федора Михайловича и его жены. Они вместе осматривают соборы, дворцы, музеи. Достоевский восхищается произведениями своего любимого художника – Рафаэля. К тому же они находят библиотеку, выписывающую русские газеты. Федор Михайлович ежедневно проводит в читальном зале послеобеденное время.
Катков присылает деньги с регулярностью, которую только можно желать. Роман продвигается. Достоевский даже решает придать ему неожиданный конец:
«Если есть читатели „Идиота“, то они, может быть, будут несколько изумлены неожиданностью окончания; но, поразмыслив, конечно, согласятся, что так и следовало кончить».
Глава X «Идиот»
«Русский вестник» начал публикацию «Идиота» в январе 1868 года. Достоевский говорил, что никогда еще не было в его литературной жизни поэтической мысли лучше и богаче, но он не выразил и десятой доли того, что хотел. И действительно, «Идиот», как и «Бесы» и «Братья Карамазовы», – одно из самых значительных его произведений.
Эпилептик князь Мышкин возвращается из швейцарской клиники, где один из профессоров из милости лечил его. Он сирота. Все его имущество – тощий узелок с вещами. Он ничего не знает о реальной жизни. Он говорит о себе словами своего врача:
«…он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил».
Князь, это двадцатишестилетнее дитя, учтив без заискивания, робок, добр и невинен. Он не жил, или, вернее, он не жил деятельной жизнью. Его жизнь проходила во внутреннем созерцании. Он жил вдали от мира, разделенного социальными перегородками, от мира, где правит арифметический закон «дважды два – четыре». Он чист, он готов к любому контакту с людьми. Но когда он попадает к ним – в огромный город, населенный хищниками, мошенниками, сластолюбцами, шутами и пьяницами, он оказывается там чужим.
Первый визит по приезде в Санкт-Петербург он наносит своему дальнему родственнику генералу Епанчину, чтобы посоветоваться с ним о делах. Он только недавно покинул свое уединенное убежище и совершает промах за промахом. Он обращается с длинной речью к камердинеру генерала, допускает бестактность по отношению к его секретарю; позже он, произнося горячечную тираду, разобьет китайскую вазу. Эта китайская ваза – своего рода символ. Китайская ваза – материальный мир, с которым он сталкивается и в который, воодушевляясь своими убеждениями, вносит хаос и разрушение.
Однако этот симпатичный крушитель фарфора, этот простодушный и неловкий проповедник не вызывает возмущения у окружающих. Детская доверчивость, с которой он относится к людям, обезоруживает тех, кто встречает его враждебно. Конечно, над ним смеются, но ему прощают нарушение условностей, как прощают иностранцу ошибки в неродном языке. В нем угадывают чужеземца, от которого абсурдно требовать норм поведения, неизвестных в его стране. И потом, этот странник, этот пришелец, на первый взгляд лишенный всякого образования, наделен особым знанием. Ему ведомо то, что не дано постигнуть тем, кто замурован в стенах этого мира. Он обладает главным умом. «Главный ум у вас лучше, чем у них у всех, – говорит ему дочь генерала, – такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума: главный и неглавный. Так? Ведь так?»
По сути, весь роман сводится к этому: вторжение главного ума во владения ума неглавного. Этот главный ум – ум, не подчиняющийся законам причинности и противоречий, не зависящий от норм морали, – есть ум подполья, ум чувства, который неизбежно внесет расстройство в любую среду, куда будет пересажен. Приход Мышкина – приток свежего воздуха в эту спертую атмосферу. Первое его появление встречено взрывами смеха: он смешон, он «дурак», идиот, даже его мать в детстве обращалась с ним, как с идиотом. Но мало-помалу этот идиот, этот дурак подрывает принципы, считавшиеся незыблемыми. Слабоумный заставляет задуматься людей здравомыслящих. Чужак делается необходимым. Слабосильный укрощает сильных, причем вовсе не стремясь к этому. Он верит, что окружающие его люди благородны и любят его. Он относится к существам насквозь испорченным и злым так, точно они исполнены кротости и любви, и превращает их в своих союзников. Они становятся добрее, потому что он хочет видеть их такими, потому что он верит, что они таковы.
Он – центр силового поля. Он притягивает к себе все сердца. Гордецы, смиряясь, приобщаются благодати, эгоисты открывают душу раскаянию, озлобленные обретают невинность детства. Стыд, ненависть рассеиваются при его появлении. Жизнь каждого наполняется не земным, а высшим смыслом. Окружающие воспринимают его как живое доказательство того, что существует иной мир, что возможна иная жизнь. Он влияет на видящих его, на слушающих его. Они уже не те, что были до встречи с ним.
Сильнее других испытывают воздействие его личности насильники, злодеи, заблудшие – все те, кто «переступил границы». Кто первым поймет его? Купец Рогожин, зверь, который убьет в конце книги свою любовницу. И падшая женщина Настасья Филипповна. Почему они? Да именно потому, что эти существа свободны от принципов расхожей морали. Они «переступили через стену». Конечно, оказавшись за ограждавшей их когда-то крепостной стеной, они сбились с пути. Но они – те, кто прошел через испытание свободой, страдал, творил зло, – ближе к истине и более достойны истины, чем те, кто не пробовал вкусить ее. Страсть извиняет все. Страсть, даже преступная, выше самоуспокоенности пустой души.
Впрочем, среди друзей Мышкина, кроме тех, кто бежал из мира-тюрьмы, есть и те, кто туда еще не вошел: дети. У детей податливый ум, не знающий запретов. Они не успели составить о мире застывшее представление, для них все в движении, – у них еще есть шанс. Для них ничто ни от чего не зависит, и все может превратиться во все. Эти новые существа, эти «птички» инстинктивно таковы, какими другие тщатся стать, преодолевая тяжкие испытания. Дети ближе к природе – они ближе к Богу. Позже они тоже подчинятся законам, установленным людьми, и будут потеряны для свободы. Родители и учителя преждевременно превратят их в ученых старичков, холодных резонеров, в цепляющихся за комфорт буржуа, – в монстров разного рода. Но пока они еще свободны – и уязвимы. И поскольку они свободны, поскольку они уязвимы, – они друзья Мышкина. Мышкин, как и они, – дитя, забредшее ко двору взрослых.
«Большие не знают, – говорит он, – что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О Боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть. Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете… а Тибо (школьный учитель. – А.Т.) просто мне завидовал; он сначала все качал головой и дивился, как это дети у меня все понимают, а у него почти ничего, а потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба ничему не научим, а они еще нас научат».
Интеллектуалы воздвигают на пути к небу систему укреплений из прописных истин и укрываются за ними от света небесной истины, их собственная гордыня отгораживает их от Истины: «Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам».
Всех этих бунтарей, этих непокорных и блаженных объединяет своего рода таинственное братство. Заплутавшись в бесконечности чувства, они общаются между собой телепатическими токами. Они разгадывают друг друга еще до того, как успеют совершить какой-нибудь поступок. Они наделены вещим даром угадывать будущее. Ничто не удивляет, ничто не возмущает этих исступленных визионеров. Так, когда спрашивают у Идиота, возможен ли брак между Настасьей Филипповной и Рогожиным, он отвечает просто: «Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее».
«…а я все-таки боюсь! – говорит другой персонаж книги. – Не понимаю чего, а боюсь… В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь!»
Настасья Филипповна наперед знает, что погибнет. Она пишет о Рогожине: «Я бы его убила со страху… Но он меня убьет прежде…»
И князь Мышкин, заметив на столе Рогожина нож, угадывает в нем орудие убийства.
«– Ты листы, что ли, им разрезаешь? – спросил князь.
– Да, листы…
– Да он… совсем новый».
Расставшись с Рогожиным, Идиот спрашивает себя: «Но… разве решено, что Рогожин убьет?!»
Позже он отправится к Рогожину без зова, просто потому, что «предугадывает» несчастье. И Рогожин будет ждать его у входа в дом, просто потому, что «предугадывает» его приход, и скажет ему: «Лев Николаевич, ступай, брат, за мной, надоть».
Однако эти существа, пророчески предвидящие свою судьбу, не могут предотвратить подстерегающую их опасность. Они не умеют, не могут, они как будто бы и не хотят обойти пропасть, к краю которой неотвратимо приближаются. Они рабы своего ясновидения. Они не властвуют над своей жизнью – они ее чувствуют. Они жадны до сильных ощущений. Они не жаждут ни счастья, ни отчаяния – они только желают доказать себе, что существуют. А всякое несчастье – благо для тех, кто хочет измерить пределы своего бытия. Я страдаю, следовательно, я существую. Я превозмогаю муки, следовательно, я буду существовать. Тот, кто идет навстречу испытаниям, устремлен к Богу. Тот, кто уклоняется от них, удаляется от него.
«Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее».
Действие романа развивается от катастрофы к катастрофе.
Каждая из них заранее известна «чувствительным персонажам», но они не отворачиваются ни от одной. Героев Достоевского манит то, что сулит верную гибель. Князь Мышкин, «положительно прекрасный человек», впервые пришел в дом генерала Епанчина. Едва вступив в круг семьи, он уже оказывается в центре всех интриг. Он втягивается в чужие дела, которые угрожают его душевному спокойствию, самой его жизни. Стоило ему увидеть на фотографии страдальческое лицо Настасьи Филипповны, как он тут же решает дать свое имя этой великой грешнице, хотя понимает, сколь абсурдно его желание. Он борется за молодую женщину с мрачным и грубым Рогожиным и, когда наконец отступается от нее, знает наверняка, что посылает Настасью Филипповну под нож. И Настасья Филипповна бежит из-под венца к Рогожину потому, что сознает – это самая большая ошибка, которую она может совершить. И Рогожин убивает ее потому, что предчувствует: он будет каяться в этом всю жизнь. И убийца, и человек «положительно прекрасный» примиряются у ее тела: оба они испытывают облегчение оттого, что неизбежное наконец свершилось.
«Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно… князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки… больше он ничего не мог сделать!»
Эта книга страсти, кажется, первый большой роман о любви, написанный Федором Михайловичем Достоевским. И однако любовь, все те любовные драмы, которые образуют сюжетные линии «Идиота», не имеют самостоятельной значимости. Любовь – препятствие для преодоления, а не передышка, рождающая надежду. Любовь – этап на пути к Истине, а не сама Истина. У Достоевского любовь никогда не приносит умиротворения ни душе, ни телу. Желание никогда не удовлетворено. Плотский акт никогда действительно не совершен. Женщина для него – некий реактив, но ее место между мужчиной и Богом отнюдь не бесполезно. Ее назначение – пробудить в мужчине способность страдать, мучить его, сломить, возвысить, заставить преступить нравственные запреты и наконец ввергнуть его, изнемогающего, изумленного, обновленного в неизреченный мир свободы. Женщина – вечный соблазн, и преодоление его обещает конечный покой.
Напрасно было бы искать в последних романах Достоевского героиню, которая была бы главным лицом произведения, подобно Анне Карениной и Наташе Ростовой Толстого, Татьяне Пушкина или Эмме Бовари и Евгении Гранде. Великие романы Достоевского – мужские романы. Антропология Достоевского, если воспользоваться выражением Бердяева, – антропология мужская. Для него женщина не самоценна: она средство, а не цель. И почти всегда одна женщина делится между двумя мужчинами. Их привлекают к этой женщине разные чувства, так как мужчина может любить одновременно двух женщин. Женщина раскалывает личность мужчины надвое. Он раздваивается на любовь-сострадание и любовь-страсть. Мышкин любит Настасью Филипповну, но он также любит и дочь генерала красавицу Аглаю. Красота Аглаи пленяет его, притягивает, но трагическое лицо Настасьи Филипповны вызывает у него бесконечное сострадание.
«Я не могу лица Настасьи Филипповны выносить… Я… я боюсь ее лица! – говорит он. – Я ее „не любовью люблю, а жалостью“».
И поставленный перед выбором между Настасьей Филипповной и Аглаей, он выбирает первую: «Он только видел пред собой отчаянное, безумное лицо, от которого… у него „пронзено навсегда сердце“… „Ведь она… такая несчастная!“»
Настасья Филипповна мечется между больным князем, целомудренным и добрым до глупости, и жестоким и страстным Рогожиным. Она возбуждает бесконечную жалость в Мышкине и неистовую страсть в Рогожине. Ее тело и ее душа играют каждое свою роль в судьбе этих двух соперничающих из-за нее мужчин. Одного погубит ее тело, другого – ее душа. И однако, когда она будет мертва, оба эти породнившиеся в страдании любовника с равной силой ощутят избавление.
Таким образом, для Достоевского любовь одного человека к другому не заменяет любви к Богу. Земная любовь несовершенна: кратковременна, мучительна, смешна, – но она потрясает души и готовит их к той единственной любви, которая никогда не приносит разочарования.
Следует, впрочем, заметить, что любовь к ближнему – единственный вид помощи, который персонажи Достоевского ждут друг от друга. Мышкин – святой, он не умеет действовать, он умеет только любить. Если он пытается действовать, он совершает ошибки. Ему не только не удается кому-нибудь помочь, наоборот, он разрушает самые благополучные ситуации. Проход этого «положительно прекрасного человека» между людьми оплачивается одним убийством и тремя или четырьмя семейными драмами. Сам же «положительно прекрасный человек» окончательно сходит с ума. Он не смог жить в чуждом ему климате, не смог выдержать искуса жизнью, не смог воплотиться в человека. Но его гибель спасла тех, кто его окружал, общение с ним пробудило в них лучшие человеческие качества, заставило задуматься над вечными вопросами бытия.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
Так, строфа из Евангелия выражает, кажется, скрытый смысл романа «Идиот».
Из всех созданных Достоевским персонажей в Идиоте, может быть, меньше всего человеческого и земного. Алеша Карамазов тоже чист душой, но ему все известно о зле, ему понятна власть страстей, ведомы соблазны тела и искушения духа, и он умеет ими управлять. Алеша Карамазов – полноценный человек, князь Мышкин – человек «не от мира сего». Он лишен чувственности, и сам говорит о себе: «Я не могу жениться ни на ком, я нездоров».
Это неземное создание следовало как-то приблизить к миру человеческих чувств, облечь в плоть воплощенную в нем идею, дать ей лицо, голос, наделить прошлым. Для придания большей жизненности своему бестелесному герою Достоевский использует свой личный опыт.
Мышкин – эпилептик. Перед приступом его, как и Достоевского, переполняет беспредельный восторг. Как и Достоевский, он ждет его, он надеется на бесценное мгновение, когда откроется ему в озарении высшая гармония мира: «В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет». Болезнь постоянно держит его в состоянии своего рода гипнотической радости. Внезапно мир заливается для него необычайным светом. В этом проблеске его взор проникает за пределы человеческого бытия, и он чудом прозревает грядущее.
Воспоминания князя – также воспоминания самого Достоевского. Так, князь рассказывает историю человека, которому прочли смертный приговор: расстрелять как политического преступника. «Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет». Дальше следует точное описание казни «петрашевцев».
Еще одна автобиографическая деталь: Мышкину больно смотреть на висящую у Рогожина копию с картины Ганса Гольбейна «Снятие со креста». «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» – восклицает он. В «Воспоминаниях» Анны Григорьевны читаем: «По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна (Hans Holbein), изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению… Я… не в силах была смотреть на картину… и… ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии». И он сказал ей эту фразу: «От такой картины вера может пропасть».
Отношение князя к своему сопернику Рогожину также напоминает отношение самого Достоевского к его сопернику Вергунову: «Я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен… Если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь, да и к тебе больше никогда не приду».
Да, на всем протяжении книги чувствуется, как старается Достоевский, нагромождая вещественные детали, фактические подробности, личные наблюдения, убедить неискушенную публику в достоверности этой фантастической истории. В мир, где действует принцип: «дважды два – четыре», он вводит персонажей, задуманных под знаком: «дважды два – три», и прилагает все усилия, чтобы совместить несовместимое. И однако в этом романе, действие которого происходит на твердой земле, нет статистов. Все – Рогожин, Настасья Филипповна, Ипполит, Лебедев, Аглая, Иволгин, – все они озаряют этот кошмар своим светом.
«Разве не способен к свету Рогожин?» – задает себе вопрос князь. Он хотел бы проникнуть в душу своего соперника. Только ли слепая страсть владеет этим человеком? Способен ли он страдать и сострадать? «Эти глаза теперь молчат (они все молчат), но я знаю их тайну», – пишет Аглае Настасья Филипповна. Кажется, этот человек не властен над своей судьбой. С первых же страниц книги он настигнут, захвачен, управляем своим преступлением. Он убивает эту женщину, столь долго желаемую, в самый момент обладания. И убивает потому, что надеялся разгадать ее душу в телесном слиянии, но само это слияние бесповоротно разъединило их. Рогожин и Настасья Филипповна замкнуты каждый в своем одиночестве, и обычные человеческие поступки недостаточны, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние. Склонившись над этим лицом, вдыхая это дыхание, Рогожин терзается, чувствуя, как далек от женщины, которую прижимает к груди. Она не принадлежит ему и никогда не будет принадлежать ему безраздельно. Рано или поздно она снова покинет его. Одна только смерть соединит их навсегда. И он вонзает ей в сердце нож. Потом ждет прихода князя.
«Спавший был закрыт с головой белою простыней, но члены как-то неясно обозначились… Кругом в беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати, на креслах, на полу даже, разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты… В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул».
Князь не удивлен признанием Рогожина, и, когда тот говорит: «Выносить не давать», он отвечает: «Н-ни за что!.. Ни-ни-ни!»
Постепенно оба погружаются в беспамятство. Когда приходят арестовывать убийцу, застают Рогожина, мечущегося в горячке и бреду, а князя, тихо водящего рукой по его волосам и щекам.
Что до Настасьи Филипповны, то она предвидит свою смерть с самого начала приключения. «Я бледна, как мертвец», – замечает она с кривой улыбкой перед тем, как идти венчаться в церковь. И в самом деле, у этой грешной страждущей души нет иного выхода, кроме смерти. Настасья Филипповна любит Рогожина как самка, привлеченная запахом самца. Она любит Рогожина, но понимает, что этот мужлан недостоин ее. Только князь может спасти ее от окончательного падения, но его любовь слишком походит на сострадание и не может удовлетворить ее. Она горда. Она не приемлет милостыню из жалости. И из чувства противоречия она лелеет свое бесчестье – препятствие, которое мешает ей быть любимой так, как она сама хочет. «Вы… могли полюбить только один свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили, – говорит ей Аглая. – Будь у вас меньше позору или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее». Потребность смирения странно сочетается в Настасье Филипповне с безмерным тщеславием. Суть в том, что она жаждет смириться, но не желает быть усмиренной. И эта особенность свойственна всем созданиям Достоевского.
Вокруг этих трех протагонистов кишит живописная толпа паразитов, циников, падших.
Лебедев – подобострастный чиновник, сальный сводник, ростовщик, лжесвидетель, но зато он глубокомысленно толкует Апокалипсис и горько оплакивает участь графини Дюбарри. Он говорит Рогожину: «А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел».
Есть еще генерал Иволгин, «отставной и несчастный», самозабвенный врун, переставший отличать вымысел от реальности.
Есть также влиятельный генерал Епанчин, влюбленный вздыхатель Настасьи Филипповны, и еще один вздыхатель – Ганя, который подумывает жениться на ней, чтобы обеспечить себе карьеру: «Стоит эта „мука“ семидесяти пяти тысяч или не стоит?»
Есть красивая Аглая, которая и смеется над князем, и обожает его. Есть, наконец, особенно любопытная фигура Ипполита, больного чахоткой юноши; его дни сочтены и последнее его желание – прочесть публично свою исповедь.
Образом этого умирающего Достоевский ставит проблему высшей значимости последних мгновений жизни.
Душа Ипполита, как и душа его создателя, – арена борьбы двух начал: материи и духа.
Есть ли что-нибудь за стенами? Существует ли сила, способная победить законы Природы? Возможно ли чудо Воскресения или же все в мире отрегулировано по формуле «дважды два – четыре»? И Ипполит обращается к Христу, несущему свет Истины. Он вспоминает картину, виденную в доме Рогожина, на которой изображен Христос, только что снятый со креста. «На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики Его, Его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за Ним и стоявшие у креста, все веровавшие в Него и обожавшие Его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот Мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы Природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже Тот, Который побеждал и природу при жизни своей, Которому она подчинялась, Который воскликнул: „Талифа куми“, – и девица встала, „Лазарь, гряди вон“, – и вышел умерший?»
И действительно, тайна Христа бессильна опровергнуть законы Природы, победить принцип «дважды два – четыре». Чудотворного Человека схватили, как простого смертного, и вся мощь Его мысли не спасла Его ни от гвоздей, раздирающих Его скрюченные ладони, ни от копья, проломившего Его ребра, ни от плевков, стекающих по Его пресветлому Лику.
Так, Природа мерещится Ипполиту «в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо – такое Существо, Которое одно стоило всей Природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого Существа!».
Все философские системы и все религии не преодолеют законов материального мира и закона чисел. Говорят, что Христос воскрес, но самый Его позорный конец свидетельствует, что вера тщетна, – миром правит неумолимый закон – закон смерти.
Что ж! Раз дело обстоит так, раз существует только бездушная вечная сила – Первый Двигатель, который уничтожает без разбору добрых и злых, детей и стариков, тупых буржуа и чистых гениев, остается лишь склониться перед ним, чему пример подал сам Христос. Но признать владычество Первого Двигателя вовсе не значит обожать его. «Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?» – вопрошает Ипполит.
И если он заблуждается, если он богохульствует, ответствен ли он за свою ошибку? «Но если это так трудно и совершенно даже невозможно понять, то неужели я буду отвечать за то, что не в силах был осмыслить непостижимое?.. Мы слишком унижаем Провидение, приписывая ему наши понятия».
Эта безнадежная диалектика есть диалектика подпольного человека: «Молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого».
Атаку логики на веру не отразить рассуждениями. Вера не рождается из цепочки умозаключений, как решение какой-нибудь арифметической задачи: веру обретают не разумом, а чувством. И несколько дней спустя, когда Ипполит спрашивает князя, как ему лучше всего умереть, Мышкин отвечает замечательными словами: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!» Пусть тот, кому недоступно нерассуждающее счастье, счастье вопреки доводам рассудка, идет своей дорогой и оставит других с миром в душе. Математически точная формула «дважды два – четыре» враждебна религиозному чувству и не возбудит его в сердце неверующего. Таков урок, который выводится из великолепного эпизода с исповедью Ипполита.
Это многостраничное, сумбурное, судорожное повествование словно бы вырывается у мечущегося в кошмарном сне автора. На каждой странице невероятное обрастает «жизненными деталями», на каждой странице чувствуется, что автор, захваченный своей мыслью, напрягает все силы, чтобы не потерять под ногами почву.
«…то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного, – пишет Достоевский Страхову. – Я не за роман, а за идею мою стою».
Критика была сбита с толку этой непостижимой книгой, не поддававшейся никакой классификации. Одни обойдут ее молчанием, другие вознегодуют:
«Боже мой, чего не придумал Достоевский в этом романе, который в действительности есть худший из всех им опубликованных… Я вижу в этом произведении литературную компиляцию, содержащую толпу характеров и абсурдных событий и лишенную всякой художественной заботы. Есть в произведениях Достоевского целые страницы, которые непонятны».
Таково мнение критика Буренина.
Глава XI «Вечный муж». Работа над «Бесами». Война
«Я чувствую, что сравнительно с „Преступлением и наказанием“ эффект „Идиота“ в публике слабее, – пишет Достоевский Стахову. – И потому все мое самолюбие теперь поднято: мне хочется произвести опять эффект».
И, закончив редактирование «Идиота», он берется за работу над повестью «Вечный муж».
За роман «Идиот» Достоевский должен был получить 7000 рублей, но эта сумма сильно сократилась из-за выданных ему авансов. Часть денег ушла на оплату процентов по закладным на вещи, оставленные в петербургском ломбарде, часть выдана на расходы пасынку Федора Михайловича, а также семье брата Михаила. Остатка едва хватило на жизнь Достоевских во Флоренции.
В начале 1869 года Анна Григорьевна убедилась, что снова беременна. Предстояли новые денежные затруднения, но Достоевский вне себя от радости, он ликует, окружает Анну Григорьевну суетливыми заботами, вызывающими у нее улыбку. Он верит, что родится девочка, – они назовут ее Любовью. Он прячет от жены том «Войны и мира», где Толстой рассказывает об агонии княгини Волконской, умирающей от родов.
«Через три недели у меня будет дитя, – пишет он Страхову. – Жду с волнением, и страхом, и с надеждою, и с робостию».
Опасаясь, что жене придется рожать в стране, где никто ее не знает и где врачи не смогут ее понять, он решает уехать из Флоренции и переехать в Прагу, город по преимуществу славянский, в 1867 году там как раз проходит славянский конгресс.
Путь их лежит через Венецию, где Достоевский осматривает Собор Святого Марка и Дворец Дожей, через Болонью, где он любуется «Святой Сесилией» Рафаэля, через Триест и Вену. В Праге Достоевским не удается найти ни квартиры, ни даже свободной комнаты, и они возвращаются в Дрезден, – город, который им хорошо знаком.
Они приезжают в Дрезден в августе, а в сентябре Анна Григорьевна рожает девочку.
«…три дня тому назад, – сообщает он Майкову, – родилась у меня дочь, ЛЮБОВЬ. Все обошлось превосходно, ребенок большой, здоровый и красавица».
Все так, но квартира не оплачена, доктор, акушерка, поставщики ждут, чтобы с ними рассчитались, а в семейной кассе всего-навсего десять талеров.
Достоевский пишет редактору-издателю «Зари», прося задаток за будущий роман. Но деньги задерживаются. Каждый день Достоевский ходит в банк и робко заглядывает в окошечко кассира, и каждый раз служащий банка выпроваживает его. Персонал банка смеется над ним.
«Да разве я могу писать в эту минуту? Я хожу и рву на себе волосы, а по ночам не могу заснуть! Я все думаю и бешусь! Я жду! О Боже мой! Ей-богу, ей-богу, я не могу описать все подробности моей нужды: мне стыдно их описывать!.. И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии без напряжения, без угару и указывают на Тургенева, Гончарова! Пусть посмотрят, в каком положении я работаю!»
Наконец он получает 100 рублей, они мгновенно расходятся, и в декабре у Достоевского нет даже пяти талеров, чтобы отослать в «Зарю» готовую рукопись.
«…не имею и не могу достать денег для отправки рукописи в редакцию, рукопись толстая, и спросят 5 талеров… На рукопись надо 5 талеров, но и нам тоже надо. Ух, трудно».
«Заря» соглашается на новый аванс, и «Вечный муж», аккуратно упакованный и тщательно перевязанный, отправляется из Дрездена в Россию.
Этот роман производит впечатление пародии, написанной Достоевским на самого себя. В жизни каждого писателя наступает момент, когда он пробует подражать самому себе, – писать «в своей собственной манере».
Однажды записному «обольстителю» Вельчанинову наносит визит некий господин с крепом на шляпе, уже некоторое время преследовавший его: он бродил вокруг дома и повсюду неотступно следовал за ним. Вельчанинов узнал Трусоцкого, жену которого соблазнил лет десять назад.
«А впрочем, я даже и не намерен был заходить-с, – говорит Трусоцкий, – и если уж так вышло, то – нечаянно-с…
– Как нечаянно! да я вас из окна видел, как вы на цыпочках через улицу перебегали!»
Жена Трусоцкого умерла. Она оставила ему дочь, маленькую Лизу, родившуюся через восемь месяцев после «отъезда» Вельчанинова. Девочка вскоре умирает, и ее смерть как будто бы ничуть не трогает Трусоцкого.
Вельчанинов убежден, что жизненное назначение Трусоцкого – быть «вечным мужем».
«Таков человек рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись, немедленно обратиться в придаточное своей жены».
Между мужчинами завязываются приятельские отношения, странные, сотканные из ненависти и жалости. Между ними происходят отвратительные сцены: они осыпают друг друга попреками, обвинениями, каются, прощают друг друга, обнимаясь и заливаясь слезами, и Вельчанинов не смеет уклониться от поцелуев, потому что сознает свою вину. Трусоцкий доводит эту извращенную нравственную пытку до того, что везет своего приятеля на дачу и знакомит с семьей своей невесты. Перед Надей, семнадцатилетней гимназисткой, Вельчанинов разыгрывает роль отъявленного соблазнителя. Трусоцкий со своего рода удовлетворением, к которому примешивается бешенство, наблюдает, как начинается предательство женщины, однажды им уже пережитое. Вернувшись в Петербург, Вельчанинов заболевает, и Трусоцкий заботливо выхаживает его.
Он бежит на кухню, разжигает в печке огонь, тормошит пулусонную служанку. А Вельчанинов, взволнованный до глубины души, бормочет:
«Вы, вы… вы – лучше меня! Я понимаю все, все… благодарю».
Он засыпает – и внезапно просыпается от тревожного предчувствия. Вскакивает с постели, протягивает в темноте руки и вдруг что-то ужасно острое «вонзается в его ладонь и пальцы левой руки». Трусоцкий стоит, наклонившись над ним, держа в руках бритву. Вельчанинову удается повалить и связать своего противника.
Два года спустя на станции он встретит замечательно хорошенькую молодую женщину, она тащит за собой молоденького офицерика, сильно хмельного, который кричит и вырывается. Их окружают громко хохочущие зеваки. Вот-вот разразится скандал. Вельчанинов вмешивается и наводит порядок. Молодая женщина рассыпается в благодарностях и жалуется, что ее муж куда-то делся: «потому что он вечно, когда надо тут быть, куда-то и скроется». И вот муж появляется – это Трусоцкий.
Соперники обмениваются ничего не значащими словами. Затем Вельчанинов протягивает руку «вечному мужу», но тот не берет руки и даже отдергивает свою.
«– А Лиза-то-с? – пролепетал он быстрым шепотом, – и вдруг запрыгали его губы, щеки и подбородок, и слезы хлынули из глаз».
Поезд трогается. Трусоцкий вскакивает в вагон. Вельчанинов остается на перроне один и долго стоит, озадаченный, расстроенный…
Стиль этой краткой, живо написанной и тщательно отделанной повести, совершенно не похож на сумбурный и гениальный стиль «Идиота». Тем не менее в «Вечном муже» содержатся в сжатой форме все главные темы Достоевского. Он не развивает их по ходу интриги. Скорее это ряд заметок, из которых автор не делает немедленных выводов. В «Вечном муже» Достоевский выполнил свою обычную задачу лишь наполовину. Он наметил пути для размышлений, но не провел по ним читателя, предоставив читателю самому отыскивать дорогу. Эта книга, такая, какой она написана, – великолепный сгусток искусства Достоевского. А сцена неудавшегося убийства достойна занять место среди самых великих сцен, созданных Достоевским.
Закончив, выправив и отослав рукопись «Вечного мужа», Достоевский вынашивает новый замысел: написать роман «Житие великого грешника» – грандиозную художественную композицию, которая будет состоять из пяти отдельных, но связанных между собой повестей, и цель которой – доказать «существование Божие». Прототипом главного героя станет святитель Тихон Задонский. Во второй части действие будет происходить в стенах монастыря, и Федор Михайлович хочет приступить к работе только по возвращении в Россию. Впоследствии свои записи и наброски он использует для создания образа старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» и некоторых персонажей в романе «Подросток».
«Эта идея – все, для чего я жил. Между тем, с другой стороны, чтобы писать этот роман – мне надо быть в России… Мне надобно не только видеть (видел много), но и пожить в монастыре», – пишет он С. А. Ивановой в декабре 1869 года.
И еще:
«Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой, в продолжении жизни, то атеист, то верующий, то фанатик, то сектатор, то опять атеист… хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем».
Пока же он разрабатывает новую тему – тему о социальной революции. Брат Анны Григорьевны приехал погостить к Достоевским в Дрезден во время летних каникул. Молодой Сниткин – слушатель Петровской земледельческой академии – хорошо осведомлен о нигилистических настроениях университетского студенчества. Его рассказы увлекали, но и очень огорчали Достоевского, а к студенту Иванову он чувствовал искреннюю симпатию. Сниткин говорил о нем с восхищением, «как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения».
Иванов, отступник от дела революции, казнен главой тайного общества «Комитет народной расправы» Нечаевым и четырьмя его презренными сообщниками.
Известие об этом подлом убийстве потрясло Достоевского. Его ненависть к новым идеям с каждым днем разгоралась. Глупость и претенциозность университетской молодежи вызывали у него омерзение. Он решил нанести ей мощный удар, опираясь на документы и материалы, публиковавшиеся в прессе, и на рассказы Сниткина. Он приступает к составлению плана обвинительного памфлета – романа «Бесы».
«То, что пишу, – вещь тенденционная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники что ретроград!) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь». (Письмо от 6 апреля 1870).
«Одним из числа крупнейших происшествий будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. (Письмо от 20 октября 1870).
„Хочу высказаться вполне открыто и не заигрывая с молодым поколением“. (Письмо от 27 декабря 1870).
Однако работа идет туго. План сочинения не складывается. Главные герои выглядят бледными по сравнению с второстепенными персонажами.
Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку».
Записная книжка испещряется заметками, чередующимися с рисунками пером, расчетами, вариантами:
«Затем Нечаев действительно уезжает, но возвращается и убивает Шатова».
«Ставрогин если верует, то не верит, что он верует. Если же не верует, то не верит, что он не верует».
Нередко наброски сцен предваряются заголовками «Текущее», «Капитальное», «Важное», «Драгоценные замечания», «Вариант замечательный».
«Верите ли, – пишет Достоевский, – я знаю наверное, что будь у меня обеспечено два-три года для этого романа, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой 100 лет спустя говорили бы!»
Он придает этому памфлету значение большее, чем другим своим произведениям. Он дорожит им потому, что, сочиняя его, он себя компрометирует, потому, что идет на риск: или он потеряет часть своих читателей, или приобретет мировую аудиторию. Послав первые страницы в «Русский вестник», он настаивает на соблюдении всех своих указаний:
«Покорнейше прошу многоуважаемую редакцию пересмотреть французские фразы в романе. Мне кажется, что нет ошибок, но я могу ошибаться».
И также:
«У меня в одном месте есть выражение: „Мы надевали лавровые венки на вшивые головы“. Ради Бога, умоляю: не вычеркивайте слово вшивые».
После полуночи, когда весь дом засыпает, Достоевский, сидя перед листом бумаги с чашкой холодного чая, освобождается от своей исступленной страсти. Он пишет, точно вступает в драку, дерется, кусается. Он дает самое великое сражение в своей карьере. Достанет ли у него сил довести это сражение до победного конца?
После долгого спокойного периода возобновляются припадки эпилепсии. Он жалуется одному из друзей, что сидит один, с тяжелой головой, разбитый, неспособный работать, рядом горит свеча, денег нет и не на что купить лекарство.
Он ведет точный счет припадкам:
«Сильный припадок»… «припадок довольно сильный»… «Припадок в 6 часов утра… Особенно по вечерам, при свечах, беспредметная ипохондрическая грусть и как бы красный кровавый оттенок (не цвет) на всем».
«В три часа пополуночи припадок чрезвычайной силы, в сенях, наяву. Я упал и разбил себе лоб. Ничего не помня и не сознавая, в совершенной целости принес, однако же, в комнату зажженную свечу и запер окно, и потом уже догадался, что у меня был припадок. Разбудил Аню и сказал ей, она очень плакала, увидав мое лицо… Я стал ее уговаривать и со мной опять сделался припадок… Когда очнулся, ужасно болела голова, долго не мог правильно говорить; Аня ночевала со мной. (Мистический страх в сильнейшей степени)».
Чтобы рассеяться, он бежит в Гомбург. Там он проигрывает все привезенные с собой деньги, в отеле переносит припадок и при падении сильно ударяется затылком: «… с неделю не проходила шишка».
В Дрезден он возвращается точно побитая собака.
17 июля 1870 года Достоевский заносит в записную книжку: «Бьюсь с 1-й частью романа и отчаиваюсь. Объявлена война. Аня очень истощена. Люба нервная и беспокойная».
Немецкие войска вступают во Францию, весь Дрезден охвачен волнением. Все транспортные средства реквизированы военными властями. Почта не работает. Из Берлина не приходят газеты.
«Что-то война? Не помешала бы очень? Избави Боже!»
«На Рейн с обеих сторон сошлось тысяч по триста… Курсы падают. Все дорожает. Ни те ни другие не выдержат долго войны. А между тем собираются долго драться. Что-то будет! Вероятно, завтра или послезавтра последует решительная встреча».
7 августа он вносит в записную книжку лаконичные фразы: «Роман решительно бракуется (ужасно!). Французы разбиты 6-го числа. Теперь совокупляются впереди Меца и, кажется, потерялись и не знают, как двинуться: теряют время».
О его франкофильских настроениях во время войны свидетельствуют его письма:
«Хороша школа, которая грабит и мучает, как Аттилова орда (Да и не больше ли?)…
Всего больше горячатся и гордятся профессора, доктора, студенты, но народ – не очень. Совсем даже нет. Но профессора гордятся. Lese-Bibliothek[64] каждый вечер встречаю их. Один седой как лунь и влиятельный ученый громко кричал третьего дня „Paris muss bombardiert sein!“[65]. Вот результат их науки. Если не науки – так глупости».
Позже он напишет: «Нет, непрочно мечом составленное! И после этого кричат: „Юная Германия!“ Напротив – изживший свои силы народ, ибо после такого духа, после такой науки – ввериться идее меча, крови, насилья и даже не подозревать, что есть дух и торжество духа, а смеяться над этим с капральскою грубостью! Нет, это мертвый народ и без будущности».
Провозглашение Парижской коммуны вызывает у него возмущение против социалистов:
«Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, чуть до дела (48 год, 49 – теперь), – выказывает унизительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное… Они рубят головы – почему? Единственно потому, что это всего легче. Сказать что-нибудь несравненно труднее… Пожар Парижа есть чудовищность: „Не удалось, так погибай мир, ибо коммуна выше счастья мира и Франции“».
«…на Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого».
Таким образом, политические события разжигают великий гнев Достоевского против французских социалистов. Заграница кажется ему тюрьмой, откуда ему никогда не выбраться. Провести еще год в Германии – какая невыносимая пытка! Ему кажется, что он забывает свою родину, она не согревает больше его творческий дар, не питает его, – он пропащий человек, как все те, кто оторван от родной земли.
Уже из Флоренции он писал: «Тургенев за границей выдохся и талант потерял весь, об чем даже газета „Голос“ заметила. Я не боюсь онемечиться, потому что ненавижу всех немцев, но мне Россия нужна: без России последние силенки и талантишка потеряю. Я это чувствую, живьем чувствую». И в Дрездене жалобы продолжаются: «…неужели Вы думаете, что я сам не тоскую и не стремлюсь в Россию?»
«…действительно, я отстану – не от века, не от знания, что у нас делается, – но от живой струи жизни отстану».
«Поскорее бы только в Россию! Конец с проклятой заграницей и с фантазиями!»
Где взять денег на путешествие? Пытаются потребовать их от Стелловского, который выпускает отдельной книгой «Преступление и наказание», – мошенник отказывает. Тогда Майков обращается в Литературный фонд с просьбой одолжить Достоевскому 100 рублей, чтобы он мог вернуться на родину. Комитет категорически отказывает.
«Если б нигилист просил, не ответили бы так», – пишет Достоевский.
В довершение несчастий Анна Григорьевна снова беременна.
29 июля Достоевский заносит в записную книжку: «Слаба, расстроены нервы, мало спит? Неужели беременна?»
«Боюсь, боюсь, – пишет он также. – А за дальнейшее просто в отчаянии, справлюсь ли».
Анна Григорьевна, чтобы его успокоить, советует ему поехать в Висбаден и попытать счастья в рулетке. Он уезжает. И старая комедия возобновляется.
Достоевский переступает порог зала, где идет игра в рулетку. Следит за ходом игры, начинает осторожно делать ставки, потом рискует, выигрывает, снова выигрывает и уже готов уйти с выигранными 18 талерами. Но тут бессмысленный азарт игрока толкает его вновь попытать удачи. Он возвращается к зеленому ковру. И проигрыши неумолимо следуют один за другим. К девяти часам вечера он спустил всю свою наличность. Он оглядывает прямоугольник зеленого сукна, сверкающие огнями люстры, мертвенные лица, окружающие игорный стол, – и бежит из игорного дома как безумный. Он проклинает себя, стыдится себя, мучится мыслями о жене, о маленькой дочке, которые ждут его.
«…я до того страдал, что тотчас побежал к священнику… Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он пастырь Божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди».
Он блуждает по спящему городу весь в поту, потеряв шляпу, кружит в поисках дороги по темным улицам. Наконец он оказывается возле храма. Он думает, что это русская церковь. Он хочет войти и вдруг видит – это синагога.
«Меня как холодной водой облило. Прибежал домой; теперь полночь, сижу и пишу тебе… пришли мне 30 (тридцать) талеров. Я так сделаю, что хватит, буду экономить… Аня, я лежу у твоих ног, и целую их… Не думай, что я сумасшедший. Аня, ангел-хранитель мой! Надо мной великое дело свершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет… Теперь же все кончено! Это был ВПОЛНЕ последний раз! Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой, я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. А стало быть, дело лучше и спорее пойдет, и Бог благословит!»
Это обещание, столь часто повторявшееся, отныне не пустое слово. Достоевский сдержит его – никогда больше он не вернется к рулетке.
Анна Григорьевна вспоминает:
«…это был действительно последний, раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в свои поездки за границу… Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город… его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта „фантазия“ Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наважденьем или болезнью, от которой он внезапно и навсегда исцелился».
Как, чем объяснить этот резкий переворот, внезапно происшедший в душе Достоевского? Ни его письма, ни дневник его жены, ни воспоминания друзей не дают объяснения причин этого переворота. Чему он позволил победить себя: убеждениям ли разума или велениям сердца?
Эпизод с синагогой представляется мне очень важным, мне кажется, ему не придают того значения, которое он заслуживает. Достоевский только что крупно проигрался. В душевном смятении, сознавая свое новое падение, он видит только одно средство спасения – православную церковь. И в самой этой церкви ему отказано. Он думал, что бежит к Спасителю, а попал к тем, кто Его распял. Нет никакого сомнения, что такому болезненному, мнительному, суеверному, нервному человеку, каким был Достоевский, одного воспоминания об этом приключении достаточно, чтобы больше не поддаваться самым изощренным искушениям и навсегда излечиться.
Федор Михайлович возвращается в Дрезден, усмиренный этим последним испытанием, и принимается за работу. Одно его беспокоит: успеть бы вернуться в Россию до родов жены.
Редакция «Русского вестника», уже приславшая ему аванс «на праздник», обещала новый аванс в 1000 рублей в июне.
Федор Михайлович пишет Каткову и умоляет его поторопиться с присылкой этой помощи. Он обращается также к Майкову с просьбой возобновить переговоры со Стелловским. Он будет спасен. Он спасет семью своей работой. Все эти Толстые, Тургеневы, Гончаровы получают солидные гонорары. Почему ему платят меньше? Неужели они настолько талантливее его?
«А знаете, – пишет он Страхову, – ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним». Новое слово скажет он, Достоевский! Он поразит весь мир! Но, во имя неба, дайте ему спокойно работать у себя на родине!
Деньги из «Русского вестника» получены в конце июня 1871 года. Тотчас же выкупается заложенная одежда, выплачиваются долги и начинаются сборы к великому переезду.
За два дня до отъезда Достоевский передает жене несколько свертков бумаги большого формата и просит их сжечь. Он знает, что на русской границе их вещи обязательно обыщут. Он не хочет, чтобы его бумаги попали в руки властей, как это произошло в 1849 году во время ареста. Анна Григорьевна, огорченная, опечаленная, разжигает камин и наклоняется к пламени. Вскоре от рукописей «Идиота», «Вечного мужа» и первой версии «Бесов» остается горстка черного пепла, в которой, вспыхивая, догорают последние искры.
Вечером 17 июля Федор Михайлович и его семья покидают Дрезден и берут путь в Петербург.
На границе перерыли весь их багаж. Чиновник раздраженно и тщательно изучал их вещи. Достоевский и его жена нервничают, стоя над своими развороченными чемоданами. Еще небольшая задержка – и они опоздают на поезд.
«Мамочка, дай булочку», – хнычет дочка Люба.
Чиновник пожимает плечами и разрешает скитальцам подняться в вагон. Поезд трогается.
И вот уже за мутными стеклами окон мелькают русская земля, русское небо, по которому подгоняемые ветром плывут редкие облака.
Узкая тропинка вьется по насыпи, исчезает в траве и приводит к крытой соломой избе. На краю дороги стоит крестьянка и машет красным лоскутом. Голова ее покрыта грязным платком. В руке лукошко из бересты. На ногах лапти. Она что-то кричит, смеется и исчезает в дыму мчащегося поезда. Россия все ближе. Это действительно Россия! Россия не ожесточенных интеллигентов, оголтелых революционеров – всех этих «бесов», а Россия земли, труда и веры. Та Россия, которая спасет ту, другую.
Достоевский взволнован. Он бросает взгляд на жену и дочку. Они измучены дорогой и спят, прижавшись друг к другу.
Мимо проплывает деревня с церковью, покрытой зеленой крышей. Жарко. В купе воняет прогорклым маслом, потом, углем. Федор Михайлович ничего не замечает, он весь во власти впечатления, что он вторично возвращается с каторги, вторично возрождается к новой жизни. Не будет ли у него снова, как тогда, после возвращения из Сибири, чувства, что он проспал годы и пробудился посреди чуждого ему мира?.. Нет, нет, он не оторвался от русской жизни. Он остался русским. Его книги подтверждают это, подтвердят это. Ведь «Бесы» не что иное, как защита России от демонов, – от тех демонов, о которых говорит святой Лука:
«Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло».
Глава XII «Бесы»
«Преступление и наказание» – история одного человека, который в поисках свободы преступает нравственный закон и приходит к произволу и убийству. «Бесы» – авантюра целого народа, который низвергает социальный порядок и, надеясь спастись, губит себя.
Убийство для индивида то же, что революция для коллектива.
Цель Раскольникова – доказать себе, что он не вошь, аморальным деянием купить право на свободу действий и в известном смысле самому стать богом. Цель демагогов, призывающих к бунту, – внушить толпе сознание сверхчеловеков, резней добыть независимость и основать религию масс вместо веры в Бога. И как отступник Раскольников утрачивает всякую свободу на следующий же день после своего нравственного падения и делается рабом навязчивой идеи, так и целый народ, взбунтовавшись, по окончании своего испытания не приобретает ничего, кроме унизительного рабства и душевной опустошенности.
Ибо для Достоевского вечное искушение принципом «все позволено» может быть и личным и коллективным. Оба эти эксперимента сходны во всех своих мельчайших поворотах, и оба заканчиваются провалом в никуда. Не может быть свободы без веры в Бога. Тот, кто ищет свободу без Бога, погубит свою душу. Социализм есть вопрос религиозный и как таковой и должен быть трактован.
В самом деле, цель социализма, русского социализма, не только в том, чтобы обеспечить достаток рабочему классу и устроить земную жизнь человека, его цель – свести к этим сиюминутным благам всю человеческую жизнь. Социализм не этап в судьбе человечества – он всеобщая религия человечества. Он – последнее слово о судьбах человечества. Он не дублирует христианство – он его замещает. Нет Бога, нет бессмертия души, нет искупления – нет счастья, кроме счастья материального, осязаемого, доступного каждому.
«Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы».
Такое счастье уготовано человеку от рождения до смерти в мире, превращенном в муравейник. Индивидуальные качества личности, сокровенный мир ее души, душевные восторги, духовные порывы – все поглощается трясиной бессознательного и ничтожного. Государство печется о пропитании, логове и мелких повседневных радостях этого жалкого стада. И человек полагает, что он счастлив.
Но человек нуждается не в одном счастье, и хлеб насущный не единственная его пища. Человек жаждет, чтобы каждое мгновение его жизни озаряла вера в высшую радость, возвышенную и дивную, от которой он не будет отлучен. Он жаждет нечто такого, чего не добыть ни работой, ни хитростью: он жаждет несоизмеримого, непроницаемого, необъятного.
«Весь закон бытия человеческого, – говорит Степан Трофимович в последней главе „Бесов“, – лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии».
Конечно, в те годы, когда Достоевский писал «Бесов», нигилизм не приобрел еще того значения и не оформился в то определенное направление, которое придал ему в своей книге автор. В 70-х годах XIX века современники Достоевского не знали столь законченного типа революционера, как Ставрогины, Кирилловы, Шатовы, Шигалевы, Верховенские.
В «Бесах» надо всем доминирует устрашающий силуэт Верховенского. Достоевский создавал этот образ, используя документальные материалы о Нечаеве и свои личные впечатления о заговорщике Спешневе. Об этом последнем он даже как-то сказал: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».
И действительно, Верховенский – настоящий Мефистофель. «Выговор у него удивительно ясен… Сначала это вам и нравится, – пишет автор, – но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов». Он то угодлив, то нагл. Он никогда не действует под влиянием увлечения словом или поступком. Нет, он рассчитывает, прикидывает и потом с холодной злобой забрасывает сеть. В небольшом провинциальном городке, где он организовал нигилистический кружок, он притворяется, будто тушуется перед красавцем Ставрогиным, но на самом деле заговорщики подчиняются только ему.
В группе революционеров его ненавидят и боятся. Его идея революции наводит страх: «Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают… учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наши».
«Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ».
А потом? Потом Верховенский, вдохновляясь системой устройства мира, разработанной одним из членов его комитета, Шигалевым, намерен установить всеобщее равенство между людьми.
«Первым делом, – говорит он, – понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!.. их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями – вот щигалевщина!»
Целенаправленное удушение свободомыслия уничтожит духовное достоинство личности, убьет в человеке дух поиска и превратит его в пешку, точно такую же, как другие пешки.
«Самая главная сила – цемент, все связующий, – это стыд собственного мнения».
Элементарный человек боится не походить на своего соседа, самостоятельно мыслить, боится одиночества, боится принять на себя нравственную ответственность. Рабство распылит эту ответственность на множество равных голов, а нивелировка уничтожит индивидуальные различия. Сама мораль станет безличной. Вся жизнь станет развертываться за чертой добра и зла.
А для того чтобы окончательно превратить человека в искусственного монстра, его оградят от всего, что пробудило бы в нем мечту об утраченной благодати, оградят от любви, от семьи:
«Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».
Время от времени, чтобы стадо не заскучало, устраивают небольшую, быстро подавляемую, местную смуту. Этим порабощенным народом правит тираническое большинство: «У рабов должны быть правители».
Таким образом, революция, свергнув власть одной автократии, неизбежно ведет к установлению власти другой автократии.
«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».
Единственный принцип, который погибнет в этой схватке, будет принцип религиозный. Мир сменит одного земного властителя на другого и навсегда забудет о Боге. Кто же станет новым властелином?
«Затуманится Русь, – говорит Верховенский Ставрогину, – заплачет земля по старым богам… Ну-с, тут-то мы и пустим… Кого? Ивана-Царевича».
Иван-Царевич – это Ставрогин. Это Ставрогину Верховенский приносит в дар вселенную. Он предлагает окружить легендами его личность, чтобы его сила и красота покорили толпу.
«И застонет стоном земля: „Новый правый закон идет“, и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное».
«Неистовство!» – отвечает Ставрогин.
Но разве вся русская история не соткана из неистовств?
В действительности, Верховенского влечет к Ставрогину своего рода сатанинская любовь, уничижительное благоговение. Вспомним сцену, где он бежит за ним, хватает его за рукав, а тот едва отвечает ему: «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк…» И он вдруг целует у него руку. Апостол обезлички испытывает, несмотря на весь свой нигилизм, потребность верить в кого-то, кто выше его. Бунтовщик ищет хозяина. Циник благоговеет перед тем, кто его презирает: «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом!»
В высшей степени любопытна эта тайная потребность атеиста в самоуничижении и молитве. Поистине, жизнь без любви невозможна, если даже Верховенский нуждается в ней. Неважно, что чувство, которое он питает к Ставрогину, нелепо, низко, постыдно в его человеческом проявлении. Важно, что Верховенский признал необходимость склониться перед кем-то более великим, чем он сам, и одного этого достаточно, чтобы осудить всю его социальную систему.
Что же до бога Верховенского, до Ивана-Царевича, то его образ сначала показался непонятным, потому что издатель Катков отказался опубликовать капитальную главу «Бесов», названную «Исповедь Ставрогина». Полвека прошло, прежде чем увидела свет глава, скрывавшая тайну этого персонажа.
Как и Раскольников, Ставрогин – «разрушитель стен». Раскольников освободился от предписаний старой морали. Он пострадал во имя иллюзорной свободы. Он с фанатическим пылом боролся с самим собой и с верой в Бога. Он был прощен. Он вновь обрел Христа, ибо, сам того не ведая, он искал Христа.
Но Ставрогин ничего не ищет. Раскольников если верует, то верит, что он верует. И если не верует, то верит, что не верует. «Ставрогин если верует, то не верит, что он верует. Если же не верует, то не верит, что он не верует». Раскольников страстен в своем отрицании. Ставрогин привычен к отрицанию. Он не дорожит своими убеждениями – он их не выстрадал. Неведомо как они сложились в нем, и для него очевидно, что Бога нет, любая мораль относительна, «все позволено», а сам он судить себя не станет.
Но если нас не тревожит наше безразличие к утрате духовных ценностей, если в нашей душе угасла борьба веры с неверием, то как нам тогда любить, ненавидеть, надеяться, чем нам вообще жить? Если нам не останется ничего, кроме нашего своеволия, то во имя чего нам обуздывать его? Бесстрастный отступник Ставрогин дал иссякнуть в своей душе всем горячим источникам живой жизни. Он сам не знает толком, зачем явился в этот мир, он и не пытается это понять. Он живет по привычке. Он влачит день за днем, и скука незаметно подтачивает его душевные силы. Скука рождается из неверия. Что делать, говорить, чтó стоит труда быть сделанным, сказанным, если все – только для самого себя? Ставрогин ищет средства развеять свою хандру и не брезгует никаким развлечением, ни в одном не находя удовлетворения. Все, что могло бы нарушить его бесстрастие, он принимает с пугающей благодарностью. Он получает пощечину, но и не помышляет ответить тем же, желая насладиться новым ощущением бешенства и уничижения: «Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить». Он крадет с бесстыдством, которое сам находит упоительным, и дерется на дуэли, чтобы испытать безмерную ярость и безмерный стыд. Он вынуждает наказать девочку за кражу, которую она не совершала, потом насилует ее и не мешает ей покончить с собой. Он видит, как она вошла в чулан, смотрит на часы и, выждав двадцать минут, подходит к двери и глядит в щелку: «Наконец я разглядел, что было надо…» Девочка повесилась.
«Тогда в первый раз в жизни, сидя за чаем и что-то болтая с ними, строго сформулировал про себя, что не знаю и не чувствую зла и добра и что не только потерял ощущение, но нет зла и добра, а один предрассудок…»
И он добавляет: «Мне и вообще тогда очень скучно было жить, до одури».
Скука душит его, и Ставрогин мечется, как больной в постели, в поисках «самого удобного положения».
Сначала он ищет это положение в своей личной жизни – в безобразном самоотречении. Он женится на плюгавой и скудоумной хромоножке: «Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы». Он женится не в припадке безумия, не по пьяному пари. Нет, он женится хладнокровно, цинично, чтобы посмотреть… Но и чудовищный комизм этой свадьбы не удовлетворяет его. Он быстро пресыщается ощущением позора и ищет нового преступления, чтобы растревожить свое спокойствие. Двоеженство? Он подумывает об этом, но потом оставляет эту мысль. Призрак погибшей девочки является ему во сне. Однако беспокойство, которое вызывают у него эти ставшие обыденными видения, не излечивают его от скуки. Сама тоска его делается скучной.
Тогда он ввязывается в социальную борьбу. Увы! И среди бунтовщиков он тоже не находит себе места, потому что ни во что не верит. «О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее сами!» – взывает к нему Верховенский. Ставрогин не исповедует ни христианскую религию, ни религию русского социализма. Создание земного рая по образцу Шигалева нисколько не прельщает его, а обещание стать однажды Иваном-Царевичем вызывает усмешку. К чему все это? Массовые убийства, возведение улья рабочих-рабов на развалинах цивилизации, установление еще одной диктатуры над стадом глупцов не вылечат его от скуки. Одно лишь раскаяние принесло бы ему облегчение. Раскаяние, то есть смирение и покаяние. Если бы он обнародовал свою исповедь, безбоязненно встретил насмешки и оскорбления, если бы он принял страдание, тогда для него блеснул бы луч надежды. Раскольников был спасен, когда признал себя виновным и пожелал прощения. Само желание прощения уже есть небесная награда.
Но в момент, когда в Ставрогине как будто пробуждаются угрызения совести, страшное безразличие вновь завладевает им.
Верховенский окружил Ставрогина кучкой экзальтированных и ничтожных революционеров. Заговорщики убеждены, что их кружок – один в сети таких же обществ, опутавших Россию. Верховенский внушает им, что он послан от Центрального комитета. Он беспрерывно говорит о секретных сообщениях, о приказах сверху, о налаживании связей. Он возбуждает в участниках заговора взаимные подозрения. Он сеет среди них страх предательства. Он властвует над ними, потому что они не доверяют друг другу.
После скандала, организованного стараниями Верховенского, после пожара и убийства, члены группы пугаются содеянного: «Куда это нас заведет?» Чтобы прибрать их к рукам, Верховенский внушает им, что один из них, Шатов, донесет на них и его нужно убить. На деле же Верховенский рассчитывает, что коллективное убийство сцементирует кровью единство этих трусов, что совместное преступление свяжет их друг с другом страхом и ненавистью.
Жертвой Верховенский выбрал Шатова. «Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки». Когда-то он был убежденным либералом, но отрекся от заблуждений юности и не скрывает своего несогласия с Верховенским. Однако резкая перемена убеждений привела его к такому разброду в мыслях, что он больше не знает, чему и кому верить, как распорядиться своей жизнью. Он несчастен, одинок и поэтому не решается порвать с кружком Верховенского, хотя и проклинает его.
«Кого же я бросил? Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвичины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая середина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз девяносто третьего года… А главное, везде мерзавцы, мерзавцы, мерзавцы!»
Для Шатова, как и для Достоевского, социализм и атеизм нераздельны. Социализм атеистичен: социализм строит свой мир по законам науки. А народы формируются и живут по иным, необъяснимым законам. История любого народа сводится к исканию Бога или, точнее, к исканию своего собственного Бога.
«Цель всего движения народного, – говорит Шатов, – …есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного… Чем сильнее народ, тем особливее его Бог… Если великий народ не верует, что в нем одном истина… если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ».
Каждый народ, по Шатову, имеет своего Бога. Но в таком случае существует лишь один истинный Бог, и, следовательно, все народы, кроме одного, заблуждаются. Какой же это единственный народ «богоносец»? Русский народ, отвечает Шатов. Русский народ потому, что это единственный народ христианского мира, не испорченный цивилизацией, единственный простодушный народ, единственный народ-дитя на земле.
Таким образом, Шатов-Достоевский наделяет мессианской ролью русский народ. Как древнееврейский народ считал себя избранным Богом, так и Достоевский считает русский народ мессией – грядущим спасителем мира. Согласно догматам христианства, признание Христа исключало появление другого мессии и возвело в ранг «избранной расы» все человечество как целое. Достоевский же упорно сохраняет только за русским народом привилегию быть особо любимым Богом. Мессианское христианское сознание для него национально, а не универсально.
В этой позиции видели «деиудеизацию христианства». Такая критика не совсем оправдана. Достоевский не отрицает, что все народы приобщены к Божьей истине. Он не допускает лишь узко этнического откровения, которое содержится в иудаизме. Он считает, что за прошедшие века все нации по очереди показали себя недостойными мессианства и одна Россия осталась на пути к Богу, потому что не была затронута прогрессом. Таким образом, не одной России дана была мессианская роль, но она одна ее сохранила.
Как бы там ни было, идея народа-богоносца опасна, ибо она внушает народу веру в себя самого как в Бога. Именно в эту ошибку впадает Шатов.
«– Веруете вы сами в Бога или нет?» – спрашивает его Ставрогин. И Шатов лепечет:
«– Я верую в Россию, я верую в ее православие…
– А в Бога? В Бога? – настаивает Ставрогин.
– Я… я буду веровать в Бога». (Подчеркнуто мной. – А.Т.)
Достоевский, как и Шатов, идет к Богу через народ. Но тогда как для Достоевского народ – этап на этом пути, для Шатова народ – конечная цель.
В его сознании элементы народной веры и веры христианской так перепутались, что он уже не может их разграничить. В Шатове воплощены ошибки русских религиозных сект, которые примешивали язычество крестьян к евангельскому культу Христа. Он – прототип тех ересиархов, которые в экзальтации веры объявляют православие присущим одной России, отягчают веру странной обрядностью, иными, чем библейские, тайнами и под предлогом сохранения веры удушают ее. Источник тоски Шатова как раз в том, что в предписаниях этой варварской религии он больше не находит Христа. Он не догадывается, насколько проще и щедрее истинная вера! Счастье близко, но он ищет его ощупью, как слепой.
Он отдает себе в этом отчет, когда его жена, когда-то изменившая ему со Ставрогиным, возвращается к нему, чтобы родить. Он принимает ее со смешанным чувством робости и восторга. Он окружает ее заботами, удивляющими его самого. И когда ребенок рождается, когда на его глазах происходит чудо появления новой жизни, незнакомое ему доселе ликование охватывает все его существо.
«Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая», – заключает он.
«Эк напорол! Просто дальнейшее развитие организма», – заявляет акушерка, зараженная идеями социализма.
Но Шатов ее уже не слушает: он видел чудо, он уверовал и отныне будет верить всегда. Впервые за много лет он чувствует себя счастливым.
В ту же ночь по приказу революционной группы его вызывают из дому и заманивают в лес, где его убивают Верховенский и его пособники.
Тем временем Ставрогин бежит из города. Желая отвести от него подозрения, Верховенский решает вину за преступление свалить на другого члена кружка – Кириллова.
Кириллов – эпилептик, тронувшийся в уме, который поклялся покончить с собой, чтобы доказать себе свою независимость. Раз он решил умереть, он должен подписать признание в убийстве Шатова. Кириллов соглашается на обман.
Кириллов, несомненно, одна из самых интересных фигур в мире Достоевского. Он атеист, как и Ставрогин, но в отличие от Ставрогина, он вносит в отрицание тот же пыл, который иные вносят в веру. От его безумной логики голова идет кругом:
«Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие».
Иными словами: какова крайняя степень непокорности, доступная человеку? Она – в отрицании самого своего существования. Если во власти человека своей собственной волей положить конец своим дням, то это потому, что он свободен, что он сам – Бог.
«Если Бога нет, то я сам – Бог», и Кириллов добавляет поразительную фразу: «Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя».
Итак, ход мысли Кириллова возвращает нас к диалектике подпольного человека. Человек выдумывает идола и обносит его стеной веры, ограждая себя от свободы, которой боится. Из страха перед независимостью он отдается во власть своего собственного творения и поклоняется ему. Но он, Кириллов, восторжествует над тем, что привычно другим людям. И Кириллов вновь поднимает старую тему Распятия, которая занимала и Ипполита: «…если законы природы не пожалели и Этого… стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке».
Если существование Бога в установившейся форме абсурдно и человек, не желая того, сам есть Бог, то его долг – продемонстрировать человечеству эту новую истину. Самоубийство Кириллова, не мотивированное никакой внешней причиной, есть утверждение безграничной свободы, приобретя которую человек станет властелином вселенной.
«Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать». «Я начну… и дверь отворю».
После его самопожертвования люди наконец поймут, разрушат стену христианской морали и в свою очередь станут богами.
«Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек».
Любопытно отметить, что атеист Кириллов исповедует ту самую доктрину, которую отвергает. Он убивает себя во имя спасения людей, как когда-то за любовь к человеку был распят Христос. По сути, Кириллов весь во власти образа Христа. Он жаждет в свою очередь взойти на крест, пострадать за других, своей кровью оплатить счастье других. И восторженная любовь к ближнему делает из этого атеиста фигуру почти христианскую. Я говорю почти, ибо Кириллов признает Христа, не признавая Бога. И тут уместно вспомнить странные слова из письма, которое Достоевский написал из Сибири госпоже Фонвизиной: «…если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной».
Так, Достоевский разрывается между православным мессианством Шатова и атеистическим христианством Кириллова. Но в обеих позициях образ Христа остается неприкосновенным. Христос с Богом или Христос без Бога? Эта проблема, всю жизнь мучившая Достоевского, мучает и его героев. Кириллов, чтобы «разрешить ее», пускает себе пулю в лоб…
Самоубийством заканчивается и жизнь распутника. Ставрогин, как будто бы приблизившийся к порогу раскаяния, сам себя осуждает на позорную смерть. «Я пробовал везде мою силу… – пишет он в предсмертной записке, – я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам».
Другие персонажи книги кажутся бледными на фоне этих вдохновенно созданных образов. Однако следует выделить отца Верховенского Степана Трофимовича – некую разновидность интеллигента-неудачника, нытика, идеалиста и краснобая, скопированного с профессора Грановского, одного из основателей русского либерализма. Рядом с ним пышным цветом цветет портрет «великого писателя» Кармазинова.
В образе Кармазинова Достоевский создал ядовитую карикатуру на Тургенева. Кармазинов, как и Тургенев, – «русский европеец», и Достоевский вкладывает в его уста подлинные слова Тургенева: «Я сделался немцем и вменяю это себе в честь». Или еще:
«Что до меня, то я… сижу вот уже седьмой год в Карльсруэ. И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карльсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества».
Для усиления сходства между Кармазиновым и Тургеневым Достоевский наделяет Кармазинова чертами внешнего облика Тургенева: «с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его». А также похожим голосом: «у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный». Наконец, он заставляет его публично читать свое последнее произведение под названием «Merci», текст которого пародирует некоторые страницы повести, которую Тургенев предполагал опубликовать в журнале братьев Достоевских[66].
Тургенев узнает себя в этом шарже и жалуется в письме к друзьям:
«Д-ский позволил себе нечто худшее, чем пародию; он представил меня, под видом К(армазинова), тайно сочувствующим Нечаевской партии. Странно только то, что он выбрал для пародии единственную повесть, помещенную мною в издаваемом некогда им журнале, повесть, за которую он осыпал меня благодарственными и похвальными письмами».
Впрочем, не было нужды в этом кощунстве, чтобы возбудить против Достоевского негодование «западников». Публикация «Бесов» вызвала бурную реакцию со стороны левой прессы и левых читателей. Эту безумную атаку на либеральные идеи они восприняли как кощунственную, варварскую, нечестную, нарушающую общепринятые эстетические нормы. Достойно сожаления, что бывший каторжанин так легко перешел в лагерь противников. Достойно презрения, что экс-заговорщик так очернил заговорщиков.
«Последний роман г. Достоевского, – заявляет критик Никитин[67] в статье о романе „Бесы“, – доказывает самым бесспорным образом то, что было, впрочем, очевидно и по первому его роману, „Бедным людям“, – отсутствие в авторе всякой творческой фантазии».
И добавляет: «В „Бесах“ окончательно обнаруживается творческое банкротство автора „Бедных людей“».
А в журнале «Сияние» можно было прочесть такие строки: «Если у вас достанет терпения дочитать до конца роман одного из наших некогда очень известных писателей, то, кроме возмущения, вы испытаете также жалость и даже печаль. Вам будет больно видеть падение автора, несомненно очень талантливого, и падение человека… Да, хочешь не хочешь приходится признать, что после „Преступления и наказания“ мы потеряли прежнего Достоевского… Сейчас критика может относиться к нему лишь с равнодушием, жалостью или презрением».
А редактор журнала «Русский мир», считавший, что «Бесы» – «одно из самых прекрасных и талантливых произведений художественной литературы последних лет», подвергся нападкам и осмеянию со стороны либеральной прессы.
А Страхов пишет Достоевскому о «Бесах» прекрасное письмо, которое стоит процитировать:
«…по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен…Но очевидно же… Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее. Например, „Игрок“, „Вечный муж“ производят самое ясное впечатление, а все, что Вы вложили в „Идиота“, пропало даром… Ловкий француз или немец, имей он десятую доля Вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы».
Достоевский смиренно признает недостатки своего романа:
«Множество отдельных романов и повестей, – отвечает он Страхову, – разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии».
(«Так сила поэтического порыва всегда, например, у V. Hugo[68] сильнее средств исполнения. Даже у Пушкина замечаются следы этой двойственности.) И тем я гублю себя».
Действительно, «Бесы» – фрагмент эпопеи «Житие великого грешника», о которой шла речь выше и которая так и не была написана.
В записные книжки этих лет занесены имена живых людей, игравших нередко второстепенную роль в жизни Достоевского, или названия книг, или воспоминания о событиях юности. Автобиографический характер подготовительных записей к «Житию великого грешника» побудил некоторых исследователей творчества Достоевского задаться вопросом: не совершил ли сам Достоевский какой-то «великий грех».
Устная традиция утверждает, что Достоевский как-то признался Тургеневу, что совершил самый тяжкий из всех грехов.
«– Зачем вы мне это говорите? – спросил Тургенев.
– Чтобы показать, до какой степени я вас презираю!»
А Страхов в 188З году в письме к Толстому говорит о своем друге Достоевском, восторженную биографию которого сам же написал:
«…он был зол, завистлив, развратен… Заметьте, что при животном сладострастии у него не было никакого чувства женской красоты и прелести. Лица, наиболее на него похожие, это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов и Ставрогин».
Страхов повторяет всем, кому не лень слушать, что Достоевский изнасиловал маленькую девочку. Его обвинение поддерживают Венгеров и Висковатов:
«Висковатов, – пишет Тургенев, – стал мне рассказывать, как он похвалялся, что… в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка».
Что же до Булгакова, то он отвечал на этот вопрос только: «Может быть, это и клевета».
Нет никаких документальных свидетельств, позволяющих принять ту или иную сторону в этой дрязге, но эротическая одержимость Достоевского питает, конечно, эти подозрения.
Начиная с «Неточки Незвановой» его неотвязно преследует мысль о детской сексуальности.
«Ну, теперь что хочешь со мной, то и делай! Тирань меня, щипли меня! Пожалуйста, ущипни меня! Голубчик мой, ущипни!»
«…мы обе в каком-то исступлении… поминутно целуемся, плачем, хохочем как безумные». (Речь идет о двух девочках, едва достигших половой зрелости.)
И Лиза в «Братьях Карамазовых» в шестнадцать лет также истерична, как девочки-подростки. Иван презрительно говорит о ней:
«– Шестнадцати лет еще нет, кажется, и уж предлагается?
– Как предлагается? – воскликнул Алеша.
– Известно, как развратные женщины предлагаются».
В «Преступлении и наказании» Свидригайлов изнасиловал глухонемую девочку пятнадцати, даже четырнадцати лет. «Раз она найдена была на чердаке удавившеюся». В ночь ее самоубийства Свидригайлов видит во сне погубленного им ребенка. Такой же сон приснится Ставрогину в «Бесах», ибо и он тоже надругался над девочкой, и его жертва, как и жертва Свидригайлова, повесилась.
Не была ли эта тема, перешедшая из одной книги в другую с интервалом в пять лет, внушена каким-нибудь глубоким душевным потрясением, каким-нибудь мучительным личным воспоминанием?
Ведь Достоевский до того забылся, что рассказал эту историю в чопорном салоне мадам Корвин-Круковской, и его не остановило присутствие двух юных барышень!
Маленькая Соня, которой тогда было четырнадцать лет, описала этот эпизод в своих воспоминаниях: Достоевский рассказывает сцены из задуманного им романа. Герой романа однажды поутру просыпается в самом благодушном настроении, но вдруг какое-то тяжелое неясное чувство начинает беспокоить его – чувство вины за какой-то давний непростительный проступок. И тогда, пишет Соня: «Вспомнил он, как однажды после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку».
Был ли действительно Достоевский извращен в той же степени, что и Свидригайлов, и Ставрогин, или же речь идет всего лишь о подавленной робкой попытке? «Не себя он описывает, – замечает Андре Жид в своем дневнике, – но он мог бы стать тем, кого он описывает, если бы он не оставался самим собой».
Почему бы не допустить, что Достоевский вожделел к ребенку и что этого воображаемого тяжкого греха оказалось достаточно, чтобы отравить ему жизнь? Изнасилование, которое он мог бы совершить, он воскрешает в галлюцинации. Он взваливает этот грех на себя, обвиняет себя, смакует это обвинение и извлекает из него утонченное наслаждение. Он наслаждается циническим самоуничижением перед другим. И перед кем! Перед Тургеневым, которого ненавидит и презирает больше всех на свете!
«…я очень хорошо понимаю, – пишет Достоевский в „Записках из подполья“, – как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие».
Вот в этой фразе, представляется нам, – ключ к разгадке сексуальной проблемы Достоевского.
Часть IV
Глава I «Подросток»
8 июля 1871 года Достоевские приехали в Петербург. Когда они проезжали мимо собора Святой Троицы, где были обвенчаны, Достоевский обернулся к жене со словами:
«– Что ж, Анечка, ведь мы счастливо прожили эти четыре года за границей… Что-то даст нам петербургская жизнь? Все пред нами в тумане».
После уплаты долгов и путевых расходов у Достоевских оставалось всего несколько рублей. Кроме того, вся посуда и кухонная утварь, хранившаяся у одной старой девы, пропали после ее смерти. Шубы, сданные в залог, из-за неуплаты процентов были проданы. Всю библиотеку Достоевского распродал его пасынок Павел, вечно нуждавшийся в деньгах.
В первые же дни после возвращения Достоевских многочисленные родственники навещают Федора Михайловича. Поток гостей неиссякаем и нет конца поцелуям, бессвязной болтовне, обмену новостями. Пасынок Павел женился, его жена очаровательна. Старший сын Эмилии Федоровны, вдовы Михаила, известный пианист, второй сын – служащий банка, дочь – стенографистка…
Непрерывные визиты утомляют Анну Григорьевну. «Я почувствовала себя дурно накануне, – рассказывает она. – Федор Михайлович весь день и всю ночь молился о благополучном исходе». 16 июля она произвела на свет мальчика, которого в честь отца назвали Федором.
В конце июля Достоевский поехал в Москву для переговоров с редакцией «Русского вестника». В Петербурге семья поселилась в квартире на Серпуховской улице. Достоевский надеялся обрести здесь хотя бы относительный покой и продолжить работу. Увы! Какая-то газета оповестила публику, что после долгого пребывания за границей известный писатель Достоевский возвратился в Россию.
Кредиторы только этого и ждали. Некий Гинтерштейн, самый настойчивый из кредиторов, даже пригрозил Федору Михайловичу долговой тюрьмой.
«– Вот вы талантливый русский литератор, – говорил он, – а я только маленький немецкий купец, и я хочу вам показать, что могу известного русского литератора упрятать в долговую тюрьму. Будьте уверены, что я это сделаю».
Тут Анна Григорьевна встала на защиту мужа. Она заявила этому ужасному Гинтерштейну, что Федор Михайлович согласен на заключение в долговой тюрьме: он останется там до истечения срока долга и будет спокойно писать в камере. «… сверх того, – добавила она, – вы принуждены будете платить „кормовые“». Немец струсил и согласился пойти на уступки.
С этого дня Анна Григорьевна взяла на себя переговоры и расчеты с кредиторами Достоевского.
«Какие удивительные типы перебывали у меня за это время! – вспоминает она. – То были главным образом перекупщики векселей – чиновничьи вдовы, хозяйки меблированных комнат, отставные офицеры, ходатаи низшего разряда. Все они купили векселя за гроши, а получить желали полностью. Грозили мне и описью и долговым, но я уже знала, как с ними говорить. Доводы мои были те же самые, как и при переговорах с Гинтерштейном».
В молодой женщине открывается талант первоклассного коммерсанта. Ее муж болен, он мечтателен и доверчив, и Анна Григорьевна вступает в ежедневную борьбу за его интересы с рвением современного импресарио. Она сама справляется с повседневными заботами. Проверяет счета. Регулирует расходы. Муж ничего не предпринимает без ее совета и участия. В 1873 году она задумывает выпустить отдельными томами романы «Идиот» и «Бесы». Покупает бумагу. Ведет переговоры с типографом. Правит корректуру. Принимает посыльных от книготорговцев и дает им отпор, если они требуют уступки более 20 %.
«– Цена за десять экземпляров – тридцать пять рублей, уступка двадцать процентов, с вас следует двадцать восемь рублей.
– Что так мало? А нельзя ли тридцать процентов? – сказал посыльный.
– Нельзя.
– Ну, хоть двадцать пять процентов?
– Право, нельзя, – сказала я, в душе сильно беспокоясь: а что, если он уйдет и я упущу первого покупателя?
– Если нельзя, так получите. – И он подал мне деньги.
Я была так довольна, что дала даже ему тридцать копеек на извозчика».
Дела идут превосходно. К концу года Анна Григорьевна продала три тысячи экземпляров. Остальные пятьсот разошлись в ближайший год.
Тем временем в конце 1874 года князь Мещерский, владелец еженедельника «Гражданин», предложил Достоевскому место главного редактора с жалованьем 3000 рублей в год. Провал «Бесов» разжег в Достоевском желание вступить в смертельную схватку с либеральными идеями. Он уже с некоторого времени и сам подумывал об издании журнала под названием «Дневник писателя», в котором мог бы немедленно отзываться на животрепещущие темы дня. Предложение князя Мещерского позволяло ему осуществить свою мечту, правда, в другой форме. Вместо собственного журнала в его распоряжении будет крупный раздел хроники «Дневник писателя» в еженедельнике, пользующемся солидной репутацией. Он согласился. Главное управление по делам печати утвердило назначение Федора Михайловича на посту редактора-издателя «Гражданина», но с оговоркой, что «не принимает на себя ответственности за будущую деятельность этого лица в звании редактора».
Редколлегия «Гражданина» состояла из писателей крайне правого направления. В нее входили А.И. Майков, Т.И. Филиппов, Н.Н. Страхов и Е.А. Белов. Дух журнала – четко консервативный и антиевропейский, и под руководством Достоевского этот дух должен был еще более укрепиться.
В первое время Федор Михайлович верил, что руководство «Гражданином» не отвлечет его от работы над собственными книгами. Но очень скоро ему пришлось ради журналистики полностью пожертвовать творчеством романиста. Новые обязанности поглощали все его время. Он вел переговоры с авторами, читал и правил рукописи (главным образом, статьи самого князя Мещерского), держал корректуру, отвечал на письма, следил за политическими событиями и, сверх того, вел свою рубрику «Дневник писателя».
В отношениях с владельцем газеты князем Мещерским Достоевский выказал себя тонким дипломатом, что удивительно для человека с таким раздражительным характером. Князь Мещерский имел претензию считать себя писателем, и Достоевскому приходилось чуть ли не полностью переписывать статьи, которые присылал ему патрон.
Он извинялся за это с изворотливостью опытного придворного:
«Любезнейших князь, Ваш ответ „С<анкт>-П<етербургским> ведомостям“ очень мило и дельно написан, но резок, заносчив (хочет ссоры) и – может быть, тон не тот… А потому и посылаю вам мой ответ. Тут включено кой-что из Вашего. Но я мог наделать ошибок; а потому посмотрите, пожалуйста».
Все-таки однажды Федору Михайловичу пришлось самому отвечать за незначительную оплошность, допущенную знатным публицистом «Гражданина».
Князь Мещерский прислал Достоевскому заметку, где приводились слова императора, произнесенные на встрече с киргизскими депутатами. Федор Михайлович не знал, что запрещалось воспроизводить устные высказывания государя и членов императорского дома без предварительного разрешения министра императорского двора. Он напечатал статью без соблюдения необходимых формальностей. За этот промах его приговорили к 25 рублям штрафа и двум суткам ареста, – сущий пустяк для того, кто в 1849 году провел несколько месяцев в Алексеевском равелине! Достоевский весело отбыл свое наказание на гауптвахте на Сенной площади. Жена принесла ему чистое белье и еду. Друзья навестили его на следующее утро. Он даже воспользовался своим заключением, чтобы без помех перечитать «Отверженные».
«– Вот и хорошо, что меня засадили, – весело говорил он, – а то разве у меня нашлось бы когда-нибудь время, чтобы возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великого произведения».
В «Дневнике писателя», который через три года станет самостоятельным периодическим изданием, Достоевский открывает новую форму публицистики. В «Дневнике писателя» дебаты по вопросам международной политики переплетаются с интимной исповедью, мировые проблемы и мелкие заботы текущего дня – с произведениями художественной фантазии романиста. Это живая беседа с читателем о том о сем, с перескакиванием с пятого на десятое. Именно беседа, потому что Достоевский ежеминутно нападает на своего невидимого собеседника, вырывает у него возражения, подхватывает на лету его мысль и тут же, кипя негодованием, опровергает ее. Его репортажи написаны в разговорном, беспорядочном, многословном стиле, но порой он поднимается в них до библейского красноречия. Тут, на страницах «Дневника», он весь перед нами – бурлящий мыслями, захлебывающийся словами, спорящий с самим собой, топающий в гневе ногами, пророчествующий, ошибающийся, впадающий от этого в раздражение и с детской обидчивостью упорствующий в своей ошибке.
Достоевский занимал пост редактора «Гражданина» уже в течение года, когда Николай Алексеевич Некрасов нанес ему визит. Некрасов, этот живущий в роскоши поэт униженных, этот благоденствующий защитник прóклятых, был другом юности Достоевского, потом – его литературным врагом. Они не встречались много лет. Но теперь Некрасову срочно нужен для «Отечественных записок» роман, подписанный громким именем. Вот он и решил предать забвению старые распри и заручиться сотрудничеством Достоевского. Некрасов предложил 250 рублей за лист, тогда как Катков платил только 150 рублей. Достоевский, очень польщенный этим предложением, посоветовался с женой и, по ее совету, согласился представить роман в следующем году.
Одно затруднение останавливало Достоевского. «Отечественные записки» – левый журнал, большинство его сотрудников – враги Достоевского. Федор Михайлович опасался, как бы они не потребовали от него изменений в романе в духе их направления.
«Теперь Некрасов, – пишет он жене, – вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления… Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки».
Чтобы целиком посвятить себя работе над книгой, Достоевский решает сложить с себя обязанности главного редактора «Гражданина». Он даже снимает загородный дом в Старой Руссе, маленьком водном курорте Новгородской губернии, где в 1872 году проводил лето.
«В этом доме все было небольшого размера, – пишет Любовь Достоевская, – низкие и тесные комнатки были заставлены старой ампирной мебелью, зеленоватые зеркала отражали искаженные лица тех, кто отваживался в них взглянуть. Наклеенные на полотно бумажные свитки, служившие картинами, являли нашим изумленным детским глазам уродливых китаянок с аршинными ногтями и втиснутыми в детскую обувь ногами. Крытая веранда с разноцветными стеклами была нашей единственной радостью, а маленький китайский биллиард со стеклянными шарами и колокольчиками развлекал нас в долгие дождливые дни, столь частые летом на севере. За домом был сад со смешными маленькими клумбами, засаженными цветами».
По обыкновению Достоевский работает по ночам, ложится в пять часов утра, встает в одиннадцать и зовет детей, которые радостно к нему прибегают и взахлеб рассказывают об утренних происшествиях. После обеда в кабинете он диктует Анне Григорьевне то, что написал ночью. Закончив диктовку, он спрашивает:
«– Ну, что ты скажешь, Анечка?
– Скажу, что прекрасно!» – отвечает она.
Случается, после чтения какого-нибудь особенно трогательного эпизода или пассажа молодая женщина заливается слезами, и для Федора Михайловича нет награды дороже, чем ее слезы. Иногда он возражает: «Боже мой, неужели это производит такое тяжелое впечатление? Как я жалею! Как я жалею!»
Книга, которую пишет Федор Михайлович, уединившись с семьей в Старой Руссе, – пространное повествование, составленное из набросков, извлеченных из ящиков письменного стола, и заметок, оставшихся в записных книжках, приправленное романтическим соусом. Это дурно скомпонованная история вмещает в себя десяток разных романов. Создается впечатление, что автор слепляет друг с другом обрывки неизданных рассказов, фрагменты статей, заготовки для других замыслов. Целое разрозненно, скороспело и – гениально.
Как все великие романы Достоевского, «Подросток» – история борьбы за свободу личности. Раскольников убивает, доказывая себе, что свободен, Идиот обретает свободу в безумии, Бесы добывают ее через революцию. Герой «Подростка» хочет купить свободу за деньги: богатство вроде ротшильдова – самый верный залог могущества и независимости.
«…моя идея – это стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд».
Так выражается юный Аркадий Долгорукий, незаконный сын помещика Версилова и крепостной. Он не знает ни своего отца, ни своей матери. Его, в некотором роде сироту, отдают в пансион к невежественному и жестокому французу Тушару. Этот пансион – аристократическое заведение, где воспитываются «князья и сенаторские дети», и Тушар требует за незаконнорожденного дополнительную плату. В доплате ему отказано, и он вымещает неудачу на своем воспитаннике. «Твое место не здесь, – говорит он ему, – а там», и указывает ему крошечную комнатку. «Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения и все равно что лакей!» Он его бьет и не мешает другим воспитанникам издеваться над ним, но маленький Аркадий не возмущается, а пытается обезоружить Тушара угодничеством и послушанием. «…бил он меня каких-нибудь месяца два. Я, помню, все хотел его чем-то обезоружить, бросался целовать его руки и целовал их и все плакал, плакал». Аркадий лелеет свое унижение. «А, вы меня унижаете? Что ж! Я сам унижу себя еще больше. Смотрите, удивляйтесь, восхищайтесь! Тушар бил меня и хотел доказать, что я лакей, а не сын сенатора, и я тотчас вошел в кожу лакея. Вы хотели, чтобы я был лакеем? Что ж! Вот я и стал лакеем, подлым, и я и есть подлец…»
Есть своеобразная гордость в последней степени унижения: приемля оскорбление, удивляют самого оскорбителя, – безграничная трусость так же редка, как и высшее мужество. Источник обеих этих крайностей в поведении один и тот же: потребность разыграть сцену. Обычно люди не презирают себя, но и не гордятся собой.
«…с зарождением правильного сознания, я стал не любить людей, – признается Долгорукий, – я никак не могу всего высказать даже близким людям, то есть и мог бы, да не хочу, почему-то удерживаюсь;…я недоверчив, угрюм и несообщителен… Я часто желаю выйти из общества. Я, может быть, и буду делать добро людям, но часто не вижу ни малейшей причины им делать добро, и совсем люди не так прекрасны, чтобы об них так заботиться».
Однажды, поддавшись порыву, он похвалил своего друга Васина: «И что же? В тот же вечер я уже почувствовал, что уже гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхвалив его, я тем самым принизил перед ним себя». И также: «С самых низших классов гимназии, чуть кто-нибудь из товарищей опережал меня или в науках, или в острых ответах, или в физической силе, я тотчас переставал с ним водиться и говорить».
Этот лакей хочет быть господином, или, скорее, он хочет быть вместе и тем и другим, – господином под маской лакея.
Чем больше он страдал в течение дня, тем сладостнее были мечты о будущем, когда он станет счастлив и могуществен. Он ищет страдания не ради самого страдания, а потому, что оно делает мечту о счастье дороже и прекраснее. Страдание для него, как и для всех персонажей Достоевского, не цель, а средство: страдание все покупает, страдание все оплачивает. По сути, это единственная монета, которую Достоевский пускает в оборот и для героев романов, и для самого себя. Как он умеет торговаться, набивать цену, лукавить, когда нужно за страдание добыть высшее блаженство для себя или своих героев! Он, как те барышники, которые с решительным видом выходят из лавки, но тотчас туда возвращаются, которые досадуют, возмущаются, притворяются, что уступают, но прекрасно знают в глубине души, что сладили выгодную сделку. Он, этот «палач денег», вечно беззаботный, неисправимый расточитель, выказывает себя заправским негоциантом, когда расчет идет не на монеты в десять сантимов, а на «ливры плоти».
Маленький Аркадий уже знает: богатство тем ценнее, чем труднее досталось: «я… ложась спать и закрываясь одеялом, начинал уже один, в самом полном уединении, без ходящих кругом людей и без единого от них звука, пересоздавать жизнь на иной лад».
У Аркадия есть своя идея. Но какая идея может быть у оскорбленного и униженного? Он хочет возвыситься над людьми, разрушить все стены, перешагнуть через предрассудки, он хочет внушать страх, преклонение, хочет заставить себе повиноваться, так же, как сам он боится, преклоняется, повинуется. Какое средство позволит ему осуществить подобный проект? Ему стоило лишь оглянуться вокруг и убедиться, как велика в обществе роль богатства. Только богатый человек может делать все, что пожелает. Только богатый может купить и людей, и их совесть, он даже может купить себе отпущение грехов. Мораль человека определяется размером его состояния, а за пределами некоей цифры морали не существует вовсе. Раскольников намерен сокрушить нормы морали телом своей жертвы, Аркадий – грудой золота. Преступление и деньги для них всего лишь средства вознестись над людьми. Попытка Раскольникова трагична, попытка Долгорукого смешна, но цель у них одна, и крах ждет обоих. Они ринулись в похождения сверхчеловека, но были остановлены на полпути своей человеческой природой и незримым присутствием Бога.
Послушаем Долгорукого: «Но почем кто знает, как бы я употребил мое богатство? Чем безнравственно и чем низко то, что из множества жидовских, вредных и грязных рук эти миллионы стекутся в руки трезвого и твердого схимника, зорко всматривающегося в мир?»
А что читаем в «Преступлении и наказании»?
«…ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами употребить их на мои первые годы… на первые шаги после университета». И далее: «Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги… убей ее и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу». Не правда ли, одна и та же песня?
На самом же деле цель Раскольникова и Долгорукого не всеобщее благо человечества и тем более не собственное благополучие. Их цель – подняться на вершину могущества, но не ради материальных выгод, которые оно бы им принесло. Они жаждут могущества ради самого могущества.
«Не для того, чтобы матери помочь, я убил – вздор! – говорит Раскольников. – Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества… мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек?»
«Мне не нужно денег, или лучше, мне не деньги нужны, – говорит Подросток, – даже и не могущество; мне нужно лишь то, что приобретается могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества: это уединенное и спокойное сознание силы!»
Да, высшая степень наслаждения – смирение на груде золота. Какое удовольствие затеряться в толпе, если имеешь все права на великолепие, выдавать себя за бедняка, если сейфы набиты банкнотами! Опять мы возвращаемся к подпольному человеку с его нечистым удовлетворением, которым он втайне наслаждается.
«Будь только у меня могущество, – рассуждает Подросток, – мне и не понадобится оно вовсе; уверяю, что сам, по своей воле, займу везде последнее место. Будь я Ротшильд, я бы ходил в стареньком пальто и с зонтиком. Какое мне дело, что меня толкают на улице, что я принужден перебегать вприпрыжку по грязи, чтобы меня не раздавили извозчики. Сознание, что это я сам Ротшильд, даже веселило бы меня в ту минуту».
И еще: «О, пусть обижает меня этот нахал генерал, на станции, где мы оба ждем лошадей; если б знал он, кто я, он побежал бы сам их запрягать и выскочил бы сажать меня в скромный тарантас!»
Пресытившись могуществом, Подросток намеревается раздать все свои деньги, ибо, говорит он: «Одно сознание о том, что в руках моих были миллионы и я бросил их в грязь, как вран, кормило бы меня в моей пустыне».
Как Раскольникову не нужны украденные деньги, так и Долгорукому не нужны деньги выигранные. Оба стремятся только к «уединенному и спокойному сознанию силы».
Но Раскольников ищет уединенное и спокойное сознание силы в гордыне, а Долгорукий – в смирении. Раскольников ради власти убивает, крадет, рискует оказаться в Сибири. Долгорукий выбирает способ осторожный, но и бесславный: скопить деньги. «…деньги, – размышляет Подросток, – это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество». Но как разбогатеть? Он изучает свое окружение. Все стремятся к деньгам, к богатству, и все готовы на все, чтобы их добыть. Продать себя? И Анна Андреевна с легким сердцем продает себя. Подделать чек или акцию? И Стебельков их подделывает. Прибегнуть к шантажу? Ламберт и Тришатов не отступают перед этим. Но Подросток не из породы хищников. Он смиренен, и его честность – всего лишь страх. Он не станет рисковать и пускаться ради денег в опасные аферы: он скопит их копейка за копейкой. Он будет сидеть на хлебе и воде и через месяц убедится, что его попытка удалась, разве что полуголодным режимом он расстроил себе желудок. Второе испытание, которому подвергает себя маленький Аркадий, – сокращение наполовину карманных расходов. Через два года он скопит семьдесят рублей и придет к выводу, что упорство муравья надежнее подготовит будущее, о котором он мечтает.
Увы! Человек состоит не из одной целенаправленной воли. Как Раскольников, собираясь стать сверхчеловеком, вдруг сознает, что он «сволочь как другие», так и Аркадий отступает от своей цели под влиянием простых земных чувств. Не новая идея побеждает великую идею Раскольникова и Подростка, а сама жизнь. И не диалектика, подрывающая идею, заставляет их отступиться, а то лучшее, что восстает против «великой идеи» в их собственной душе.
Первое поражение Аркадий терпит при встрече с Риночкой. В Москве в доме Николая Семеновича, у которого живет Аркадий, находят подкинутого младенца. Девочку хотят отдать в приют, но Долгорукий вмешивается, нанимает кормилицу и берет на себя все расходы. Половина его сбережений истрачена, но Риночка вскоре умирает.
«Из истории с Риночкой выходило, что никакая „идея“ не в силах увлечь (по крайней мере меня) до того, чтоб я не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для „идеи“».
За этим первым сбоем в реализации «идеи» последовали и другие, менее достойные.
«Почему бы не развлечься и не рассеяться? Жизнь длинна и идея всегда будет со мной: я не могу ее оставить, я только не буду ею заниматься».
И «идея» ждет.
Подросток растрачивает заработанные в городе деньги на пустые развлечения: на пари, игру, костюмы, экипажи. Он пускается в интриги, связывается с разными негодяями, наконец, примиряется с крахом своей мечты, которой когда-то упивался в уединении своего «подполья». Будущий Ротшильд отказывается от роли сверхчеловека. Его отступничество не так патетично, как отступничество Раскольникова, – оно не оплачено такими же страданиями, хотя причина его – те же моральные сомнения.
Рядом с Аркадием, с этим сломленным существом, Достоевский ставит крупную пугающую фигуру Версилова, отца Аркадия Долгорукого. Версилов в какой-то степени вбирает в себя все типы персонажей Достоевского. Это характер, не разгаданный и самим автором и остающийся загадочным для читателя.
Версилов, как большинство героев Достоевского, раздваивается в любви. Он любит Екатерину Ивановну любовью-страстью, а мать Аркадия любовью-жалостью. Он чувствен. Он «бабий пророк». Но обе его любви безнадежны, ибо Версилов не способен выйти из своей замкнутости, отвлечья от себя, забыть о себе ради другого. Но ни чувственность, ни жалость не сближают людей. Истинная любовь – это не чувственность и не жалость, – они лишь составные части любви. Любовь прежде всего самоотречение, забвение себя, ибо за жалостью кроется превосходство одного человека над другим, а за чувственностью – абсолютный эгоизм. Для распутника соединение с женщиной всего лишь повод для наслаждения. Он поглощен своими собственными ощущениями; удовлетворяя свое сластолюбие, он доходит до предела отчуждения, доступного человеку.
В этом отчуждении человек теряет себя и раздваивается: «…сердце полно слов, которых не умею высказать, – признается Версилов. – Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь… Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу».
Своеволие ведет к распаду личности, к появлению двойника, демона, кривляющегося «Голядкина», от которого путь один – к безумию.
Версилов – фразер, растрачивающий себя в речах о роли России, о благе всего человечества, о любви к Богу: «Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее… Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность».
Он говорит, говорит, а по сути, не верит ни во что. «Версилов… не мог иметь ровно никакой твердой цели… а был под влиянием какого-то вихря чувств. Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе», – так считает Подросток. Сам он, однако, не достигает «твердой цели».
Аркадий отказывается от своей идеи и пишет исповедь: «Старая жизнь отошла совсем, а новая едва начинается».
И невольно вспоминается финал «Преступления и наказания»: «…но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь».
Критика благожелательно встречает последнее произведение Достоевского.
«Чтение этого романа, – пишет один обозреватель, – неизбежно заставляет вас размышлять, размышлять, размышлять».
Некрасов, рассказывает Достоевский, всю ночь читал книгу.
«…а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы себе этого… И какая, батюшка, у вас свежесть… Такой свежести в наши лета уже не бывает, и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе[69] лишь повторение того, что и прежде у него читал, только в прежнем лучше».
А его давний враг Тургенев доверительно пишет Салтыкову: «…я заглянул было в этот хаос; боже, что за кислятина и больничная вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологическое ковыряние!!»
Однако это не помешает тому же самому Тургеневу два года спустя обратиться к Достоевскому в таких выражениях: «…г-н Эмиль Дюран получил от редакции „Revue des deux Mondes[70]“ поручение составить монографии… о выдающихся представителях русской словесности… Вы, конечно, стоите в этом случае на первом плане».
В эти годы, наполненные напряженным трудом, Федор Михайлович живет в Старой Руссе в кругу семьи. Он расстается с женой и детьми только на время поездок к издателям в Москву или Петербург, или на воды в Эмс, где лечит катар горла.
Он счастлив. Он обожает своих малышей: «Детки… поселились в гостиной, наставили стульев и играют… Детишки кушали телятину, молоко, сухари и ездили кататься; потом пошли снег отгребать».
Или: «Я видел во сне, что Федя влез на стул и упал со стула и расшибся, ради Бога, не давай им влезать на стулья, а няньку заставь быть внимательнее».
Он влюблен в свою жену, так же как в первые годы брака. Письма к ней он подписывает «Твой вечный муж» – так же как называется его книга. Он пишет ей: «…мечтаю о тебе и целую тебя день и ночь беспрерывно» или «я покрываю все тельце твое тысячами самых страстных поцелуев».
«…или не видишь меня во сне, или видишь кого другого… Становлюсь перед тобой на колени и целую каждую из твоих ножек бесконечно».
Или так: «Анька, идол мой, милая, честная моя… не забудь меня. А что идол мой, бог мой – так это так. Обожаю каждый атом твоего тела и твоей души и целую всю тебя, всю, потому что это мое, мое!»
С трогательной нежностью он заботится о туалетах Анны Григорьевны: «Кстати, Штакеншнейдеры мне положительно сказали, что фай в Париже уже не считается модной материей и что теперь им пренебрегают, говорят, что он ломок, дает складку и в складке вытирается, а что модная материя из черных теперь другая и называется драп и что на нее все накинулись и все берут. Они мне показывали этот драп: очень похожий на фай, но более на прежний пудесуа глясе».
В 1875 году он едет в Петербург держать корректуру «Подростка». Встречается с Некрасовым, который очень хвалит его последнюю книгу, и со Страховым и Майковым, которые обдают его холодом. «Нет, Аня, это скверный семинарист и больше ничего, – пишет он о первом, – он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением „Эпохи“, и прибежал только после успеха „Преступления и наказания“».
Поездка в Эмс для поправления здоровья тяготит Достоевского.
«Так хотелось бы тебя видеть и поцеловать. А я здесь скучаю смертельно, мучительски».
Он пьет воду микроскопическими дозами. Слушает музыку в парке. Читает: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу по комнате, чуть не плача».
Как раз в это время «Русский вестник» печатает краткое сообщение: «Мы слышали, что наш известный писатель Ф.М. Достоевский серьезно захворал». Анна Григорьевна, крайне встревоженная, телеграфирует в Эмс. Достоевский ее успокаивает: «Ох, беда быть великим человеком!» – пишет он ей. Он ускорил свой отъезд и с удовольствием вернулся в Старую Руссу. И вот он снова в этом маленьком городке на водах, с его бревенчатыми домами, огромным парком и казино, где развлекаются праздные курортники. Он играет с детьми, совершает долгие прогулки по берегу реки, окружает неловкими заботами Анну Григорьевну, которая ждет ребенка.
Через месяц, 10 августа 1875 года, на свет появляется мальчик, которому дают имя Алексей.
«Маленький Алексей казался крепким и здоровым ребенком, но у него был странный овальный, почти угловатый лоб», – пишет его сестра Любовь.
После рождения Алексея Достоевские покидают Старую Руссу и переезжают в Петербург: Федор Михайлович, закончив роман «Подросток», возвращается к своей давней мечте – издавать «Дневник писателя».
К началу октября он подготавливает первый выпуск «Дневника» как самостоятельного периодического издания. Он собирается сам, от начала до конца, готовить и составлять его. 22 декабря он подает в Главное управление по делам печати прошение о разрешении издавать «Дневник», который «будет выходить ежемесячными выпусками» и будет представлять, пишет он, «отчет о всех действительно выжитых впечатлениях моих, как русского писателя, отчет о всем виденном, слышанном и прочитанном». Издание «Дневника» разрешено, «но с тем, чтобы сочинение это выходило не иначе как с дозволения предварительной цензуры».
Первая книжка «Дневника» выйдет в свет в январе 1876 года и откроет новую фазу в жизни Достоевского.
Глава II «Дневник писателя»
Статьи, написанные для «Дневника писателя», – прямое продолжение статей, публиковавшихся Достоевским в еженедельнике князя Мещерского «Гражданин». По словам Достоевского, собранные вместе, они составят «совершенный дневник в полном смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее меня заинтересовало лично».
Он затрудняется найти правильный тон, в котором следует вести диалог с читателем: «Верите ли Вы, например, тому, – пишет он, уже выпустив три номера, – что я еще не успел уяснить себе форму „Дневника“, да и не знаю, налажу ли это когда-нибудь… Например: у меня 10–15 тем, когда сажусь писать (не меньше); но темы, которые я излюбил больше, я поневоле откладываю: места займут много, жару много возьмут… и вот пишешь не то, что хотел. С другой стороны, я слишком наивно думал, что это будет настоящий дневник. Настоящий дневник почти невозможен, а только показной для публики».
Этот «показной» журнал, журнал для публики, содержит тем не менее главные мысли Достоевского.
Федор Михайлович продолжает развивать в своем журнале «доктрину территорий». Он нападает на западников за то, что они намереваются превратить Россию в филиал Европы. Он нападает на славянофилов за то, что они загипнотизированы образом допетровской Руси, не желая замечать, как грубо он разукрашен разного рода фальшивыми легендами.
Неужели нельзя найти для России путь развития, отличный от «европейского прогресса»? Неужели для нее существует единственный – и абсурдный выбор – между поклонением Западу и поклонением собственному прошлому? Неужели у нее нет особого самобытного пути развития, на который она могла бы вступить уже сегодня?
Да! И этот путь ей укажет народ. Народ спасет Россию, потому что мужики простодушны, необразованны, потому что они сохранили в неприкосновенности веру в Христову правду. Самая их отсталость защищает их от европейской заразы.
«Говорят, – пишет Достоевский, – русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит Его в своем сердце искони».
Народ не нуждается в учении о вере, чтобы верить. Вера не вывод из логических умозаключений, а предрасположенность самого естества. Вера не вытекает из цепочки доказательств – она выливается из сердца. Она, если можно так выразиться, идет «из самого нутра». В русском есть потребность страдания, и эта готовность к страданию сближает его с Христом, и он любит Христа – до страдания.
«Страданием своим русский народ как бы наслаждается», – пишет Достоевский. И еще: «Я думаю, самая главная, самая коренная душевная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем».
Русский человек сознает свою греховность. Он ненавидит себя. Презирает себя. В нем нет «наивно-торжественного довольства собою». И за то, что он отказывается «от морального комфорта», за то, что он «доходит до краю», именно за то, что он не мирится со своим несовершенством, не успокаивается на нем, а стоит потерянным посреди вселенной – за все это он любим Богом.
И даже пьянство, вороватость, цинизм, убогость, скотство, лживость русского человека не должны отпугивать. Вся эта скверна вытекает из его способности к самобичеванию и самоочищению, которые и спасут его для вечной жизни. Пороки его все равно что судорожные прыжки раненого зверя – они проявление его жизненной силы и залог грядущего выздоровления. «Себя и нас спасет, – пишет Достоевский, – ибо опять-таки – свет и спасение воссияют снизу».
Этот вывод, быстро опровергнутый революционерами, – прямо противоположен революции. Ибо истинная сила русского народа – в православии и монархии, – только такую формулу национального единства признавал Достоевский.
Царь – эманация народа, всенародная, всеединяющая сила, воплощение всей его идеи, надежд и верований, средоточие всего народного существа. А православие до такой степени отвечает духу народа, что Христос превращается в своего рода национального Бога. «…кто не понимает православия – тот никогда и ничего не поймет в народе».
Так, русский Христос Шатова, пройдя через «Бесов», переходит в «Дневник»: «Я верую в Россию, я верую в ее православие». Нельзя верить в одно и отвергать другое.
Мессианская роль русского народа не ограничивается, впрочем, границами России. Русский народ спасет не одну Россию, – он спасет весь мир. Почему? Да потому, что только русский народ наделен даром всеобщей симпатии, без которого не удается ни одна мессианская операция. «Русская душа… – пишет Достоевский, – гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви»… Французы, немцы, англичане «не могут воплотить в себе… гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа». Русские обладают гибкостью души, способностью «полнейшего перевоплощения в гении чужих наций». «Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия». Истинный русский не довольствуется этническим счастьем, ограниченным его родной землей. Он мечтает о всемирном счастье – о счастье всего человечества. «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное». И близок час, когда мужик Марей вступит своей тяжелой поступью в мировую историю.
И уже на глазах Европы, инертной, утратившей Бога, духовно погубленной прогрессом, Россия преображается. Отменено крепостное право. Учрежден суд присяжных. И обе эти реформы – свидетельство уважения к народному сознанию. Набирает силу женское движение, и это тоже знак обновления.
«А в заключение мне хочется прибавить еще одно слово о русской женщине. Я сказал уже, что в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления… Подъем в запросах ее был высокий, откровенный и безбоязненный».
Турецкая война доводит до экзальтации патриотический угар Достоевского: «Да, Золотой Рог и Константинополь – все это будет наше». Впадая в экстаз, он, случается, оправдывает и пролитие крови: «…война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте». И далее: «…что святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия?» «Спросите народ, спросите солдата: для чего они подымаются, для чего идут и чего желают в начавшейся войне, – и все скажут вам, как един человек, что идут, чтоб Христу послужить и освободить угнетенных братьев».
По сути, он рассматривает эту экспедицию как подтверждение своей мысли о мессианской роли русского народа. Русский народ идет сражаться с врагами Христа. А те, кто оказывает ему сопротивление, не понимают, что он несет им светлую радость Христовой правды.
А резня сражений, а груды убитых? Достоевскому до этого нет дела. Позабыл ли он фразу, сказанную в одном из писем о войне 1870 года: «Нет, непрочно мечом составленное»?
Он мог бы по примеру Раскольникова ответить, что убил не «живое существо», а «принципы». А для торжества великой идеи – идеи всемирного единения человечества во имя Христово – любые средства праведны.
В этом оправдании пролития крови именем Христовым кроется софизм, который чреват опасностью. Христос пролил свою кровь во имя нашего спасения. Но вправе ли мы проливать не свою, а чужую кровь во имя веры в Христа? «…да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже сама цивилизация, если, для сохранения ее, необходимо сдирать с людей кожу», – восклицал также Достоевский. Стоит ли вспоминать о христианстве, если для сохранения христианской веры и ее торжества на всей земле придется живьем сдирать с людей кожу?
Ответ Достоевского уклончив: «Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так». Он слишком ослеплен своим видением будущего русского народа, чтобы какие-либо метафизические споры могли его переубедить: «Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости Белого Царя!»
Это – для Азии! А Европа? Так что ж! Европа тоже будет спасена. «…в Европе – все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков».
Германия – «мертвый народ и без будущности»… «Уничтожатся французы (или сами себя погубят), Франция провалится»… Евреи полны «самомнения и высокомерия»… Англичане «рассудочные лавочники».
«Европа – кладбище. Дорогие там лежат покойники… И русский Христос воскресит легион этих Лазарей». Да, Европа ненавидит Россию: «Всех славян вообще Европа готова заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях». Нужно воспользоваться своей силой и донести до Европы новое слово, которое ее спасет.
Но разве католицизм уже не претворил в жизнь идею всемирного единения во Христе? Нет! Католицизм утратил свое христианское, духовное начало. Римское папство провозгласило, что христианство без всемирного владычества над землями и народами «удержаться на свете не может». Подобная позиция – государственная, а не духовная – привела бы к установлению «на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой будет уже не римский император, а папа». Идеал православия иной – сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уже вытекающее из этого духовного соединения – «правильное государственное и социальное единение». Вообще-то католическая церковь осуществляет две эти фазы, но – в обратном порядке. И пока что этого упрека достаточно Достоевскому, чтобы питать его обличения.
От него ускользает, что, провозглашая пришествие русского Христа, он отдаляется от христианской доктрины больше, чем те самые католики, которых он осуждает. Он не осознает, что умаляет роль Христа, признавая за ним лишь этническое могущество. Тут он разделяет «безумие» Шатова. Именно тут он пользуется аргументами, вложенными в уста его персонажа.
Конечно, для Христа избранный народ – все человечество в целом. Но все человечество забыло слово Божие, хранит его только русский народ. И русскому народу предназначено явить миру образ Христа во всей Его чистоте. Одна Россия способна возглавить духовно-нравственное единение всех народов для возвеличения славы Божией. И настанет третье царство – царство всепримирения, братство людей в его единении со славянским миром.
Таким образом у Достоевского политика и религия переплетаются и дополняют друг друга. Он горячится и не видит обе стороны проблемы. Он ополчается на Европу, этот новый Вавилон, ополчается на науку, на пацифизм, на демократию… Он впадает в транс. Видит. Предвидит. Он захлебывается в словах, увлекающих его за пределы его собственной мысли.
По сути, если «Бесы» книга пророческая, то «Дневник писателя» – нагромождение предвосхищений, предсказаний, предвидений, из которых пока что сбылись лишь немногие.
«Дневник писателя» не только политический, социальный и религиозный манифест. Он содержит также множество статей, в которых Достоевский живо откликается на злобу дня, будь то судебный процесс над преступником, посещение Воспитательного дома или поэма Некрасова.
Он делится воспоминаниями о детстве, он рассказывает о писателях, которых когда-то знал и которые ушли один за другим, оставив его в одиночестве: смерть почти примирила его с Белинским, с Некрасовым…
Кроме того, он помещает в «Дневнике» рассказы: мрачный гротеск «Бобок» – разговор на кладбище оживших покойников и два фантастических рассказа «Сон смешного человека» и «Кроткая».
Смешному человеку снится, будто он прилетел на неведомую планету. Природа там роскошна и ласкова, а люди добры, веселы, естественны и безгрешны. Пришелец развращает их. Он обучает их скорби, стыду, приобщает к преступлению, он открывает им законы науки. Рай превращается в ад. И когда смешной человек хочет вернуть «детей солнца» к состоянию прежнего счастья, они смеются над ним и называют его юродивым.
Новелла «Кроткая» – длинный монолог владельца ссудной кассы, молчаливого и злого человека, который женится на шестнадцатилетней девушке и относится к ней свысока, всячески стараясь доказать свое моральное превосходство. Доведенная до отчаяния молодая женщина однажды ночью приближается к кровати, где спит ее муж, держа в руках револьвер. Он видит ее, но притворяется крепко спящим. Она прижимает дуло к его виску. Он не шевелится. Ждет, чувствуя, какая жестокая борьба разрывает душу его убийцы.
«Но вы зададите опять вопрос: зачем же ее не спас от злодейства?.. я погибал, я сам погибал, так кого ж бы я мог спасти?»
Наконец он открывает глаза. Ее уже нет в комнате. С этого момента, рассуждает он, она поняла, что я не трус, и она сама, по собственной воле, вернется ко мне. Но ее душевные и физические силы исчерпаны. «А я думала, что вы меня оставите так», – вырывается у нее, то есть они отдалятся друг от друга и навсегда останутся чужими. Когда муж признается, что безумно любит ее, Кроткая пугается: она не может ответить на его любовь. Отчаявшаяся, надломленная, она выбрасывается из окна, прижимая к груди образ Богоматери. «Косность! О, природа! Люди на земле одни – вот беда! – заключает Достоевский. – „Есть ли в поле жив человек?“ – кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается».
В двух этих рассказах раскрываются сходные проблемы. Их герой – «житель Петербурга», беспокойный, озлобленный и гордый, – губит счастье других и свое собственное счастье, потому что отказывается принимать жизнь такой, какой она перед ним предстает. А нужно быть проще. Быть как дитя. Любить. Таковы вечные заповеди, которые Достоевский защищает на протяжении всего своего творчества.
И мало-помалу читатели начинают откликаться на слова писателя. Успех «Дневника писателя» превосходит все ожидания.
В первый год издания журнал насчитывает две тысячи подписчиков и столько же расходится в розничной продаже. На следующий год число подписчиков возрастает до трех тысяч, а число покупателей до четырех. Некоторые выпуски переиздаются два, три, пять раз. С каждым месяцем возрастает нравственный авторитет Достоевского. Федор Михайлович становится для разных групп образованной молодежи своего рода «костоправом ума» – духовным наставником, пророком. Со всех концов России почта приносит ему потоки признаний в личных тайнах, противоречивости чувств, в религиозных сомнениях…
«Я получил сотни писем изо всех концов России и научился многому, чего прежде не знал. Никогда и предположить не мог я прежде, что в нашем обществе такое множество лиц, сочувствующих вполне всему тому, во что и я верю».
Достоевский завален работой, у него очень мало свободного времени, но он отвечал на все письма, он даже выполнял все поручения. Одна девушка пишет ему, что не любит своего жениха, что хочет учиться, получить специальность. Тотчас он обещает ей протекцию влиятельной особы. «Быть женою купца Вам с Вашим настроением и взглядом, конечно, невозможно… Ни из какой цели нельзя уродовать свою жизнь. Если не любите, то и не выходите. Если хотите, напишите мне еще».
А другой корреспондентке он отвечает: «…не любя ни за что нельзя выйти. Но, однако, поразмыслите: может быть, это один из тех людей, которого можно полюбить потом? Вот мой совет… У матери Вашей выпросите время для размышления (ничего отнюдь не обещая). Но к человеку этому присмотритесь, узнаете об нем все короче».
Одна студентка жалуется, что провалилась на экзамене, и он не колеблясь утешает ее: «Я очень сожалею об неудаче экзамена из географии, но это такие пустяки, по-моему, что отнюдь уже не надо было так преувеличивать дела. А Вы написали мне совсем отчаянное письмо».
Он шлет взволнованное напутствие девушке, уезжающей в Сибирь как сестра милосердия; вместе с молодой матерью радуется ее семейному счастью.
А одному корреспонденту, еврею, он заявляет: «Теперь же Вам скажу, что я вовсе не враг евреев и никогда им не был. Но уже 40-вековое, как Вы говорите, их существование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную силу, которая не могла, в продолжении всей истории, не формулироваться в разные status in statu»[71].
Студентам Московского университета он отвечает длинным посланием, полным симпатии: «Вы спрашиваете, господа: „насколько вы сами, студенты, виноваты?“ Вот мой ответ: по-моему, вы не виноваты. Вы лишь дети этого же „общества“, которое вы теперь оставляете и которое есть „ложь со всех сторон“. Но, отрываясь от него и оставляя его, наш студент уходит не к народу, а куда-то за границу, в „европеизм“… А между тем в народе все наше спасение».
Возрастающее влияние Достоевского выражается не только в томах корреспонденции. Расширяется круг его светских знакомств. Его повсюду приглашают, и он принимает большую часть приглашений. Его жена, обремененная счетоводством и рассылкой журнала, почти никогда не сопровождает его. За несколько лет эта еще молодая женщина утратила всякое кокетство, всякое честолюбие. Она сама признается, что надеется нравиться мужу только своей «душой». Она не следит за собой, носит чиненые-перечиненые платья, белье из грубой ткани. Он старается – очень неловко вернуть ей вкус к туалетам.
«Знаешь, Аня, – говорил он, – на ней было прелестное платье; фасон самый простой: справа приподнято и собрано, сзади спущено до полу, но не волочится, слева вот только забыл, кажется, тоже приподнято. Сшей себе такое, увидишь, как оно будет хорошо».
И еще: «Ты сама не знаешь, какая прелесть твои глаза, твоя улыбка и твое иногда одушевление в разговоре. Вся вина в том, что ты мало бываешь на людях… когда ты чуть-чуть принарядишься для выезда и капельку оденешься, то ты не поверишь, как ты вдруг делаешься безмерно моложе на вид и хороша удивительно!»
Но она не отзывается на его намеки. Он так успешно вовлекал ее в вымышленный мир своих произведений, что ей не удается надолго закрепиться в мире реальном. Она не обладает гибкостью Достоевского, который с легкостью перемещается из мира реального в мир, выдуманный им самим, никогда не порывая окончательно ни с тем, ни с другим.
В салонах Достоевский, как и в недавнем прошлом, держится то обходительно, то раздраженно, то по-отечески, то благодушно, то злобно.
«Меня всегда поражало в нем, – замечает Е.А. Штакеннейдер, – что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость. Лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог… минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда… И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала не что именно, но что-то злое воспоследует. Иногда ему удавалось победить себя, проглотить желчь, но тогда обыкновенно он делался сумрачным, умолкал, был не в духе».
В самом деле, в глазах света дурной характер Достоевского оправдывается его гением. Дурной характер – своего рода карикатурная черта, неотрывная от образа гения. Дурной характер вовсе не вредит ему, наоборот, он ему служит, сближает его с читателями.
В 1878 году бывший каторжник получил из Академии наук письмо следующего содержания: «Императорская Академия наук, желая выразить свое уважение к литературным трудам вашим, избрала вас, милостивый государь, в свои члены-корреспонденты по Отделению Русского языка и Словесности». А воспитатель великих князей Сергея и Павла, действующий от имени императора, хочет познакомить с известным писателем своих воспитанников, чтобы Федор Михайлович повлиял благотворно своими беседами на юных великих князей.
Таким образом Достоевский наслаждается окончательно завоеванной славой. Ему удалось выплатить почти все долги. В его распоряжении благодаря брату жены загородный дом в Старой Руссе. «Дневник писателя» приносит постоянный доход.
Чего ему еще желать?
Любовь Достоевская оставила нам очаровательную картинку жизни своего отца в этот период.
Федор Михайлович спал в своем кабинете на диване. На стене над диваном висела фотокопия «Сикстинской мадонны» Рафаэля, и первое, что видел Достоевский просыпаясь, был кроткий лик Мадонны. Он вставал, умывался, «используя много воды, мыла и одеколона». Затем он полностью одевался – он считал недостойным мужчины ходить в халате и домашних туфлях. «С самого утра он был в сапогах, при галстуке и красивой белой рубашке с накрахмаленным воротником». Он тщательно чистил свою одежду. «Пятна мешают мне, – жаловался он. – Я не могу работать, если они есть».
Закончив туалет, Федор Михайлович шел в столовую пить чай. Он выпивал два стакана чая, а третий уносил с собой к себе в кабинет. На его письменном столе царил идеальный порядок: коробка с папиросами, письма, книги, газеты – все должно было находиться на своем месте. Вскоре в кабинет приходила Анна Григорьевна. Она устраивалась за маленьким столиком, приготовив тетрадь, карандаши, ластик. Достоевский диктовал ей страницы, написанные ночью. Анна Григорьевна их стенографировала и потом переписывала. Достоевский исправлял написанное.
Затем следовали завтрак, прогулка, покупка лакомств для детей, обед, чай, а потом Достоевский снова уходил в кабинет и работал. Эта размеренная и плодотворная жизнь очень нравилась ему. Ничто не могло, казалось, отравить ее сладость. Но предначертано было, чтобы судьба преследовала Достоевского до последних дней жизни.
16 мая 1878 года у его трехлетнего сына Алеши произошел приступ эпилепсии. Припадок длился три часа десять минут, и ребенок умер, не приходя в сознание. Эта смерть сразила Достоевского – он считал себя ее виновником, ведь ребенок погиб от болезни, унаследованной от отца. Новая утрата укрепляет его убеждение о всеобщей ответственности и всеобщей вине. Невиновность – пустое слово.
«Каждый за всех и за все виноват».
В день похорон семья садится в коляску, и маленький белый гробик стоит между родителями. «Дорогой много плакали, – пишет Любовь Достоевская, – гладили маленький белый гробик, усыпанный цветами, и вспоминали все любимые выражения дорогого малютки». А на кладбище трава уже проросла между могилами, деревья были в цвету, пели птицы. «Слезы катились по щекам отца, – продолжает Любовь, – он поддерживал рыдающую жену. Она не могла оторвать взор от маленького гробика, медленно исчезавшего под землей».
Это последнее посланное ему испытание Достоевский превозмог, как и другие. Его излечит работа, спасет книга. Это будут «Братья Карамазовы».
Глава III Генезис «Братьев Карамазовых»
В декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский предупреждает читателей о прекращении на некоторое время издания «Дневника», он пишет: «…я… займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания „Дневника“ неприметно и невольно». Новая книга, на которую он намекает, будет, как и «Подросток», частью обширного, оставшегося незавершенным цикла, названного «Житие великого грешника». В новом романе Достоевский будет трактовать вопрос о существовании Бога: «…вопрос… тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь».
Федор Михайлович сознает, что его литературное творчество еще не завершено: он чувствует необходимость в последней исповеди, – пришло время на нее отважиться. Это будет его «самое последнее слово». Он собирается с мыслями. Накапливает заметки, материалы, наблюдения. Ему нужно три года, чтобы благополучно довести до конца свое начинание.
«…я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети», – пишет он 16 марта 1878 года.
На первую страницу записной книжки с черновыми набросками к «Братьям Карамазовым» он занесет заметки:
«Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер?
Справиться о детской работе на фабриках.
О гимназиях, быть в гимназии.
В детском приюте».
Тем временем Достоевский познакомился с молодым блестящим профессором Владимиром Соловьевым (сыном историка). В Петербурге он слушал его лекции и нашел, что между ним и молодым философом существует несомненное духовное родство. Разве Соловьев не выбрал для диссертации тему «Кризис западной философии»? Разве не нападал он на самую суть европейского позитивизма? Разве не провозгласил приход нового – метафизического познания? К тому же облик молодого человека великолепно соответствует его речам. Его одухотворенная красота покоряет самых солидных его оппонентов. Лицо Соловьева, уверяет Достоевский, напоминает ему картину «Голова молодого Христа» Аннибале Карраччи.
Возвышенная дружба завязывается вскоре между молодым ученым и знаменитым писателем, и в этом удивительном союзе учеником выглядит не молодой философ, а старый писатель.
Действительно, во время своих бесконечных бесед с Соловьевым Достоевский формулирует, упорядочивает, проясняет собственную идеологическую позицию. Его молодой собеседник помогает ему облечь в отвлеченные формулировки тот хаос из философских идей, в котором он бьется столько лет.
По проблемам доктрины православия Достоевский близок к прокурору Священного синода Константину Победоносцеву.
Его также интересует «Философия общего дела» философа Н.Ф. Федорова. Читает он и тексты святителя Тихона Задонского, епископа XVIII века. Еще в 1870 году он сообщал Майкову: «…хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского».
После смерти маленького Алексея Анна Григорьевна уговаривает мужа поехать с Соловьевым в Оптину пустынь. Она надеется, что эта поездка отвлечет Федора Михайловича от горестных мыслей. Тем более что Достоевский давно мечтает посетить монастырь Оптиной пустыни, куда удалялись поочередно Гоголь, Леонтьев и Лев Толстой.
Достоевский уступает настояниям жены, и после короткого пребывания в Москве двое друзей садятся в поезд и едут до станции Сергиево. Там они пересаживаются в повозку и 120 верст трясутся по ухабистым дорогам. Через два дня приезжают в Оптину пустынь. Монахи встречают их сердечно, а знаменитый старец Амвросий, чудотворец и прозорливец, удостаивает Федора Михайловича двумя беседами наедине. Во время этих бесед в сознании Достоевского окончательно складывается образ совершенного христианина – отца Зосимы в романе «Братья Карамазовы».
Интересно отметить, что в 1877 году, за год до посещения Оптиной пустыни, Достоевский предпринял поездку в Даровое – в страну своего детства. Он вновь посетил строевой лес, глубокий овраг, деревню Чермашню. Он беседовал со стариками крестьянами, всматривался в их грязные морщинистые лица, узнавая в них краснощеких мальчишек с льняными волосами, с которыми еще так недавно они вместе играли и смеялись. Он мысленно перебирал свои воспоминания. Он напоил свое вдохновение из животворного источника. Он был готов.
Однако работа над этим романом, растянувшаяся на три года, потребовала от него больше труда, чем другие произведения. Достоевский не хочет портить книгу, которая должна увенчать все его творчество. Но он опасается, не ослабел ли с возрастом его творческий дар. Не отразилась ли болезнь на памяти, не изменило ли ему воображение. Боится умереть раньше, чем выскажется до конца: «…давно уже заметил, что чем дальше идут годы, тем тяжелее мне становится работа».
Или:
«Я все… думаю о моей смерти сам… и о том, что оставлю тебя и детей», – пишет он жене и продолжает: «Теперь у меня на шее „Карамазовы“, надо кончить хорошо, ювелирски отделать, а вещь эта трудная и рискованная, много сил унесет. Но вещь также и роковая: она должна установить имя мое, иначе не будет никаких надежд».
Глава IV «Братья Карамазовы»
Семья Карамазовых живет в небольшом провинциальном городке. Старик Карамазов, циничный и развратный шут, прожигает свою жизнь в бессмысленном разгуле. От первой жены у него есть сын Димитрий; его нрав необуздан, но он способен как на благородные порывы, так и на отвлеченные рассуждения. От второй жены, истеричной кликуши, у него есть сын Иван, – ум беспокойный, дух мятущийся и разрушительный, герой и мученик отрицания всего и вся. Алешу как будто не коснулось наследственное проклятие Карамазовых. Он одарен мужественной добротой, противопоставленной «асексуальной» доброте Идиота. Он воплощает позитивный принцип книги; он – светлячок, вокруг которого, точно черные мухи, вьются остальные персонажи. Есть и четвертый брат – омерзительный Смердяков, сын старика Карамазова и немой полоумной девушки, которую он из бравады изнасиловал однажды вечером. Этот побочный и больной эпилепсией ребенок – лакей в доме своего отца. Он бесстрастен, надменен, хитер. Он восхищается Иваном, а Иван содрогается, узнавая в нем карикатуру на самого себя.
Между отцом и четырьмя его сыновьями одна женщина – Грушенька. Они соперничают друг с другом из-за нее. Тем временем Смердяков, считая, что выполняет тайное желание Ивана, убивает старика Карамазова. Но в убийстве обвиняют Дмитрия, приговаривают к каторжным работам и ссылают в Сибирь. Такова эта история.
Двигают ее две проблемы: искушение грехом и вера в Бога – Грушенька и Христос.
Между двумя этими полюсами мечутся все персонажи книги. Одни, как старик Карамазов, одержимы только чувственностью, другие, как старец Зосима, – только верой. Между двумя этими крайностями, искусно смягчая краски, автор располагает души других исполнителей. Смердяков, Дмитрий, Иван, Алеша – разные обличья одного и того же с разных сторон освещаемого индивида, который постепенно освобождается от животного начала и преображается в «нового человека». Эти четыре брата – одно и то же существо, превращения которого зависят не от места в пространстве, а от расположения во времени. «Все одни и те же ступеньки, – говорит Алеша Дмитрию. – Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. Я так смотрю на это дело, но это все одно и то же, совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю».
На этой «тринадцатой ступеньке» находится и желанная женщина – Грушенька. Ее содержит старый торговец, вытащивший ее из нищеты. Один из ее родственников говорит о ней: «Я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке». «Скверного поведения женщина», – говорит и старик Карамазов, но добавляет, что она, быть может, «святее» всех монахов монастыря. Другие персонажи вторят им: «Эта женщина – зверь», «Это ангел». А Дмитрий восклицает: «Тигр и есть!.. Понимаю царицу наглости… инфернальница! Это царица всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете!» Алешу более всего поражает в ее лице «детское, простодушное выражение». Кто же прав? Все, ибо Грушенька заслуживает всех этих оценок. Грушенька – невинная девушка, потаскуха, животное, святая, – соединяет в себе всю сложность и противоречивость женской натуры. Женщина – это безумие во плоти. Женщины томятся от ожидания, отчаиваются, удовлетворив свою страсть, сгорают от желания отдаться и упрекают вас за то, что вы ими овладели. Они жестоки из удовольствия стать потом нежными и нежны из удовольствия стать позже жестокими. Они целомудренны в пороке, невинны в сладострастии. Они лгут мужчинам, лгут Богу, лгут самим себе. Они не вовлечены в жизнь – они в жизнь играют. Они стоят перед жизнью, как перед зеркалом, и примеривают к себе разные роли. Они меняют выражение лица и манеру поведения, чтобы убедиться в реальности своего бытия. Мужчина доказывает себе свою собственную реальность через постоянство. Женщина самоутверждается через вечную изменчивость. Мужчина хочет быть цельным, женщина – многоликой. Мужчина чувствует себя тем сильнее, чем полнее сознает свои достоинства и недостатки. Женщина чувствует себя тем сильнее, чем полнее в ней неосознанность своей сути. Мужчина – организованный мир. Женщина – незавершенная вселенная. В ней все неожиданно и все ненадежно. Нужно или бежать от нее, или отказаться от власти над ней.
Красота Грушеньки околдовала старого Карамазова. Этот старик – пьяница, скупец, лжец и развратник, – возможно, написанный самыми черными красками портрет отца Достоевского. «Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален», – пишет Достоевский о своем персонаже. «Мне всегда казалось, – замечает Любовь Достоевская, – что Достоевский, создавая образ старика Карамазова, думал о своем отце».
Для прекрасной Грушеньки старик Карамазов всего лишь брызгающий слюной шут. Он завещает ей причитающуюся Дмитрию часть наследства и каждый вечер ждет ее прихода. Он бродит по комнатам, одурев от желания. Он ждет. Ждет. Но Грушенька не уступает ему, как не уступает и влюбленному в нее Дмитрию. Она смеется и над отцом, и над сыном. Идут дни, и взаимная ненависть мужчин растет. Они «…друг за другом теперь и следят, – пишет Достоевский, – с ножами за сапогом».
Идея, владевшая Раскольниковым, лишила его независимости. Женщина, завладевшая Дмитрием и его отцом, превратила их в рабов своих желаний. «Красота – это страшная и ужасная вещь!» – заявляет Дмитрий. Да, потому что власть красоты над мужчинами равна, а подчас и сильнее, чем власть мысли. Эротическое безумие Карамазовых сродни политическому безумию Бесов. В обоих случаях жажда земного удовлетворения своих вожделений доводит людей до скотского состояния. В обоих случаях пренебрежение нравственными законами ведет к разврату и убийству.
«А Митьку, – говорит отец, – я раздавлю, как таракана». И Дмитрий говорит об отце: «Я ведь не знаю, не знаю… Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь».
Он шпионит за отцом в страхе, что Грушенька, польстившись на деньги, придет к старику. В одну из ночей слуга Григорий застает Дмитрия в саду. Дмитрий ударяет его медным пестиком по голове и обращается в бегство. Он находит Грушеньку на постоялом дворе: «Началась почти оргия, пир на весь мир». Вино, песни, пляски… Охмелевшая Грушенька признается Дмитрию, что любит его и хочет выйти за него замуж.
«Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный, надо, чтоб это честно… впредь будет честно… и чтоб и мы были честные и мы были добрые, не звери, а добрые… Увези меня, увези далеко, слышишь… Я здесь не хочу, а чтоб далеко, далеко…»
Создается впечатление, что приближение катастрофы возбуждает до пароксизма чувства этих сластолюбцев. Предвидение ужасной судьбы доводит их ликование до экстаза. Они веселятся, потому что догадываются: скоро у них не будет на это права. Верно ведь, что у Достоевского все радости, – если это не радости чисто духовные, радости «края ночи», «конца книги», – кажутся нам удивительно непрочными. Даже в тот момент, когда мы являемся свидетелями нисшедшего на героев блаженства, это блаженство причиняет нам страдание, ибо мы знаем, что это блаженство обреченных. С изощренностью палача Достоевский возделывает счастье своих жертв перед тем, как предать их казни. Он не поражает измученную или больную плоть. Он выбирает день самый благополучный, день, озаренный надеждой, и наносит последний удар. Так, Дмитрия приходят арестовать, когда его любовное исступление в разгаре. Его обвиняют в убийстве отца. Напрасно он протестует перед следственной комиссией: все улики против него.
На самом деле отца Дмитрия убил подлый лакей, незаконнорожденный Смердяков. Этот паяц играет в романе столь дорогую Достоевскому инфернальную роль двойника. Как мучительно для порядочного человека встретить на своем пути существо, воплощающее все то низкое, скрытое, подавленное, глупое, трусливое, что скопилось на дне его души… Вы спокойны, вы в согласии с самим собой. И вдруг перед вами возникает индивид, душа которого сформирована из того, что вы в себе осуждаете. Индивид, который есть ваша скверна, свалка – ваше внутреннее зло. В этом больном рте ваши самые прекрасные слова превращаются в пошлые глупости, в этой узкой голове ваши самые прекрасные мысли обращаются против вас.
Так, Иван Карамазов держит на поводке свою собственную обезьяну. И ненавидит ее. А тот восхищается этой ненавистью. Одного ненависть унижает, а другой наслаждается этим унижением. Чтобы угодить Ивану, которого женитьба отца лишила бы причитающейся ему доли наследства, Смердяков убивает старика. Он убивает не потому, что Иван прямо просил его об этом. Он убивает из убеждения, что угадал тайные помыслы своего барина.
Смутная надежда, затаившаяся в сердце Ивана, вдруг становится чудовищным деянием, и это деяние ужасает его. Из-за Смердякова, совершившего на деле то, что его хозяин совершал в помыслах, Иван виновен уже не в мечте, а в поступке. Смердяков – это слияние мысли и действия. Смердяков – возмездие за духовную безответственность. Смердяков – кара мыслителя, освободившего себя от нравственного закона.
«…Вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего, – говорит ему Смердяков. – Чтоб убить – это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели». Иван сам себя допрашивает, сам себя убеждает, путается в мыслях: «Да, я этого тогда ждал, это правда! Я хотел, я именно хотел убийства». А потом: «Хотел ли я убийства, хотел ли?» Ожидание отцеубийства, сама мысль о нем делают Ивана виновным. «Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был», – твердит ему Смердяков. И лакей объясняет своему учителю, как созревало его, Смердякова, решение.
По сути, он убил потому, что ничто не удерживало его от убийства. Из речей интеллектуала Ивана Смердяков вывел заключение, что в этом мире «все позволено». Нет Бога. Нет ада. «…ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил».
Смердяков, отрекшись от общечеловеческой морали, переступив стену, путает свободу и произвол. Он убивает. И этим актом соединяет во зле Ивана Карамазова, утверждающего, что «все позволено», и Дмитрия Карамазова, восклицающего: «Зачем живет такой человек?»
Иван, невиновный перед законом, установленным людьми, судит себя сам. Отвернувшись от Бога, он оказывается лицом к лицу со Смердяковым. Вместо сверхчеловека он обнаруживает обезьяну. Вместо ведущей к свету лестницы – мрачную бездну. Вместо высшего разума – безумие. Этот умный, образованный, одухотворенный человек подвержен галлюцинациям. Он раздваивается. Он видит дьявола. И этот дьявол – он сам. «Ты – я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю… Только все скверные мои мысли берешь, а главное – глупые. Ты глуп и пошл».
Иван Карамазов – это сам Достоевский, которого «Бог всю жизнь мучил». Опровержения и богохульства Ивана – опровержения и богохульства самого Достоевского в часы сомнений. «Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я», – замечает писатель. И когда Иван Карамазов вопрошает: «Стоит ли высшая гармония слезинки хотя бы одного только замученного ребенка?», разве не сам Достоевский говорит его устами?
В сущности, весьма вероятно, что в глазах Достоевского Иван Карамазов играет ту же роль, что Смердяков в глазах Ивана Карамазова. Для Федора Михайловича Иван – воплощение той части его «я», которая ему ненавистна. Иван – то, от чего автор сам желал бы очиститься. Иван – высшая кара для его создателя.
Над этими прóклятыми существами возвышаются две светлые фигуры – Алеша и старец Зосима. Алеша, младший из братьев Карамазовых, – послушник в тихом, окруженном высокими белыми стенами монастыре. Однако он вовсе не мистик в полном смысле этого слова. «Алеша, – пишет Достоевский, – был вовсе не фанатик, и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец».
Итак, это уравновешенный, укорененный в реальности юноша. Он верит в Бога спокойно, честно и здорово. Он, конечно, верит в чудеса, но чудеса его не смущают. Чудеса не основа его веры, а ее венец. «В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры».
Таким образом, Алеша «реалист», полноценный человек. Природа его доброты не ангелическая, она не предполагает, как у Мышкина, полного неведения зла. Алеше известно зло. Он понимает пороки братьев и отца, он не чужд грешникам, которые его окружают. Он от мира сего. Его заслуга – в умении преодолеть искушения и побороть соблазны.
К тому же и старец Зосима завещает ему: «Мыслю о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь – что важнее всего».
Не с друга ли юности Шидловского писал Достоевский прекрасный лик Алеши? Или с философа Соловьева, обликом походившего на Христа? Несомненно, и с того, и с другого.
Несомненно также, что он наделил старца Зосиму чертами святителя Тихона Задонского и преподобного Амвросия, подвижника из Оптиной пустыни.
«Старец, – пишет Достоевский, – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу, в свою волю». Это всемогущий духовный наставник, которому вы с полным самоотрешением отдаете свою волю. В монастыре он властвует над душами монахов и послушников, принимая обязательные для всех исповеди. Над народом он властвует благодаря безмерности своего ясновидения и мудрости и кротости своих поучений.
«Про старца Зосиму, – пишет Достоевский, – говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших его совета и врачебного слова, до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришел, чего тому нужно и даже какого рода мучение терзает его совесть».
Старец Зосима, как и его духовный сын Алеша, прежде всего человек, а потом уже святой. Он жил в миру, где был военным. Он решил стать священником не от отчаяния, не по велению рассудка, а от любви. Доктрина Зосимы – доктрина любви и радости. «…Необыкновенно поражало и то, – пишет Достоевский, – что старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в обхождении». Старец согласен со словами своего юного собрата: «…жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать этого…», и еще: «…всякий из нас пред всеми во всем виноват».
Всеобщая симпатия объединяет людей, но и мерзость каждого заражает остальных. Зло не довольствуется преступником и его конкретной жертвой – оно расползается, как масляное пятно. Те, кто желает зла, не совершая его, поражены им. И те, кто угадывает эти желания, не осуждая их, тоже им затронуты. И даже те, кто ничего не ведает о свершившемся, есть его тайные сообщники.
Мы все виновны, все грешны, мы все несчастны. Мы крадем вместе с вором, которого не знаем в лицо, убиваем вместе с отцеубийцей, о котором читаем в газетах, насилуем вместе со сладострастником, проклинаем вместе с богохульником… Каждый из нас вносит свою лепту в мировой грех. И однако все мы будем спасены. «Да и свершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь, – учит Зосима. – Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит… А будешь любить, то ты уже Божья… Любовью все покупается, все спасается».
Не к распорядку суровой жизни, не к монашескому отречению, не к слезливой жалости призывает Зосима верующих. Он требует от них немногого: признания своей греховности и любви к ближнему. Засчитывается не результат, а усилие, которым он достигнут. Когда гордец склоняет голову, он ближе к Богу, чем упавший на колени лакей: гордец должен переломить себя, прежде чем поднесет Богу знак человеческого смирения, тогда как лакей бьет поклоны по привычке, не понимая смысла действия, которое совершает. «Сделайте, что можете, и сочтется вам… то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается… Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не продвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, – в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего».
Зосима и Алеша освещены мягким рассеянным светом. Они любят, а этого достаточно, чтобы завоевать доверие простых людей и детей. (Вся глава X посвящена дружбе Алеши с мальчиками городка.)
Однако интеллектуалы нападают на эту ясную философию. Иван Карамазов противопоставляет спокойной вере своего брата дьявольскую аргументацию Великого инквизитора. «Легенда о Великом инквизиторе», в том виде, в каком Иван рассказывает ее Алеше, – кульминация романа «Братья Карамазовы» и, вероятно, философская кульминация всего творчества Достоевского. В ней итог его исканий. В ней ответы на поставленные им вопросы. В ней – последнее слово Достоевского.
В Севилье во времена инквизиции Христос является народу. Его сразу узнают, окружают, молят о чуде. И Иисус совершает чудеса, которые от него ждут. Тогда Великий инквизитор, девяностолетний старец с иссохшим лицом и впалыми глазами, велит стражникам схватить Спасителя.
Ночью Великий инквизитор приходит в тюрьму, куда по его приказанию брошен Христос. «Зачем же Ты пришел нам мешать? – обращается он к нему. – Ибо Ты пришел нам мешать».
И старик произносит обвинительную речь против Христа. По сути, Великий инквизитор не верит ни в Бога, ни в человека. Он не верит в Бога, раз он отказывается признать Богочеловека: «Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде». Он не верит в человека, раз утверждает, что христианская доктрина превосходит моральные силы человечества.
Великий инквизитор отклоняет соединение человеческой свободы с божественной свободой. «Хочу сделать вас свободными», – сказал Христос. Но, даровав человеку свободу выбора между добром и злом, Иисус возложил на человека ответственность за этот выбор и тем обрек его на муки совести. Он сохранил ему весь арсенал страдания: угрызения совести, искушения грехом и злом, надежда на спасение безысходно запутываются в его душе. Нет свободы без страдания, путь свободы есть крестный путь страдания. В основе своей христианство – религия страдания.
Таким образом, человек поставлен перед дилеммой: свобода со страданием или счастье без свободы. Что же он выберет?
Великий инквизитор сделал свой выбор. Христос, считает он, переоценил силы человеческого существа, навязав ему испытание свободой. Человек слишком слаб для свободного самосознания: «Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла?» Главная цель человека – быть счастливым. Создать его земное счастье – задача церкви. Церковь больше любит человека, чем Христос, возложивший слишком тяжкое бремя на душу человека.
«Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал». Эта религия хлеба небесного, такая, как она выражена в Евангелии, по силам лишь немногим избранным. Она – аристократична. Но аристократическая религия невозможна – религия предназначена для всех людей. Нужно, следовательно, чтобы она предложила образ жизни, приемлемый для них. Она должна нести утешение глупцам, трусам, порочным больным. Она должна быть понятна самому последнему из смертных. Она должна быть «вульгарна». Взамен свободы духа, тягостных сомнений, душевных мук Великий инквизитор предлагает человеку мир, созданный по законам эвклидовой геометрии, – Великий инквизитор разделяет теорию Шигалева. Он берет на себя попечение о людских нуждах. Он защищает голодных и немощных. Он обещает им не хлеб небесный, а хлеб земной. «Ты обещал им хлеб небесный, но… может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным?.. Нет, нам дóроги и слабые».
Религия хлеба земного – это атеистический социализм «Бесов».
Великий инквизитор провозглашает царство посредственного счастья взамен великих порывов духа: «…мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы… Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны…»
Во имя свободы духа Христос в пустыне отверг первое искушение – искушение «хлебом земным». По мнению Великого инквизитора, это была его первая ошибка.
Вторая ошибка в том, что он возжелал свободно дарованной ему любви человека. Но людям не дано верить по свободному влечению сердца – их нужно заставить поверить. Божественное откровение недоступно их пониманию: в нем слишком много неясностей, недомолвок, намеков: «…Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людям». Человек хочет быть порабощенным, повергнутым в трепет, хочет, чтобы в нем беспрерывно поддерживали потребность обожать. А Христос позволил распять себя, как вора, истекал кровью на кресте, умирал на глазах плачущих женщин. Желая, чтобы любовь человека родилась не из чуда, Он отдалил человека от себя, Он его потерял. «Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко».
Так, второе искушение, искушение авторитетом, дополнилось искушением чудом.
Христос отверг эти три искушения – Великий инквизитор их принимает. Он исправляет подвиг Христа: он основывает его на хлебе земном, на авторитете и чуде! «И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки».
Христианство перестает быть религией элиты и становится религией всех. Из любви к человеку Церковь предает Бога. Она пользуется именем Христа для укрепления порядка не духовного, а социального, – она устанавливает «христианский коммунизм». Она формулирует твердые догматы, доступные обывателю предписания, она обещает отпущение грехов, прощение, вечную жизнь – и держит в руках свою жалкую паству. Она завлекает прихожан внешними знаками присутствия Бога – обрядами, праздниками, исповедью. Она низводит сверхъестественное таинство до уровня картинок для причащающихся. Она обставляет его звоном колоколов, запахом ладана, изображениями Бога в скульптуре и живописи. Она призывает на помощь все искусства, воздействует на все чувства, лишь бы околдовать людей. Она разменивает Бога, Она предлагает и сбывает его как товар. И Ее тройная ложь, Ее тройное богохульство преподносятся столь успешно, что никому не приходит в голову изобличить ее. Церковь отрицает Христа, но проповедует Его учение. Она – последнее прибежище атеизма. И люди скорее сожгли бы Христа, чем перестали верить в простые догматы, которые измыслил для них Великий инквизитор. «Они станут… прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке». «Ибо если бы кто всех более заслужил наш костер, то это Ты, – объявляет инквизитор Христу. – Завтра сожгу Тебя».
Вместо ответа Христос приближается к старику и целует его в бескровные уста. Тот вздрагивает, идет к двери, отворяет ее и говорит Ему: «Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!»
Пленник уходит.
Любопытно отметить, что обличение отрыва Церкви от религии исходит от атеиста Ивана. То есть он бунтует не против Христа, а против Церкви и тем самым невольно защищает от атеизма истинную веру. Он лучше любого верующего схватывает высшую красоту морали Христа: призыв к бескорыстной любви.
По мнению Достоевского, в использовании слова Христова в имперских целях виновна одна католическая теократия. Но в том же преступлении можно обвинить и византийское Православие. По существу, любая церковная организация заслуживает упрека в цезаризме. Вся история церкви – это борьба с искушением свободой духа, как несообразной натуре человека. И однако главная тайна Христа есть тайна свободы. Тайна Распятия подтверждает совершенную независимость выбора, предоставленную человеку. Торжествующая божественная истина привела бы к единению душ человеческих в безбожии. Божественная истина – распятая, униженная, растерзанная, гноящаяся, оплеванная – не навязывает человеку веру в нее. Человек верит не из-за «этого», а несмотря на «это». Акт веры перед этим мертвецом, таким же, как все мертвецы, есть акт свободы. Именно к такой вере – свободной, необъяснимой рассудком, не обоснованной логикой, – и призывает нас Достоевский.
Как же все-таки решает проблему Бога Иван Карамазов? Иван не принимает деистское объяснение мира. Он вызывает в памяти все человеческие страдания и не оправдывает обязательность земных мук их вознаграждением в вечной жизни: «Зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше». Церковь предлагает слишком упрощенные доводы: принцип «ничто не дается даром». Нужно нечто иное, но – что?
«…если я даже этого не могу понять, то где ж мне про Бога понять».
Таким образом, этот атеист восстает не против Бога, а против непостижимости природы Божьего существа. Желать верить в Бога – значит уже не быть атеистом. Оскорблять Бога – значит уже верить в Него. Неистовое отрицание Ивана направлено против церковного бога – административного, обыденного, искусственного бога Великого инквизитора. Иван не допускает, чтобы ему навязывали Бога, сведенного до уровня человеческого ума, выведенного человеком из системы силлогизмов, – Бога, приведенного в мир людьми. Ведь Бог «не от мира сего». Бог – тайна, ожидание, надежда. Церковь слишком конкретизирует надежду и тем убивает ее.
Но, приблизившись к порогу истинной веры, Иван Карамазов отступает. Он восхищается тем, что мысль о необходимости Бога зародилась в слабосильном человеческом уме. Бог ли создал человека или человек создал Бога? Иван об этом «положил не думать». Перед лицом царящего в мире зла, перед лицом Бога, который даже не помышляет о том, чтобы внести свет Истины в свое творение, Иван «возвращает свой билет на вход»: «…я-то этого не принимаю и не хочу принять!» «И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее». И он отвергает Бога из любви к человечеству, как и Великий инквизитор из сочиненной им Легенды.
Отвернувшись от Бога, Иван приходит к сатанизму. Иван Карамазов – одно из воплощений дьявола, он сам – дьявол. В кошмарной ночной галлюцинации ему является черт, и этот черт – он сам. Черт веровал в Бога, но веру потерял.
«Я был при том, – говорит он Ивану, – когда умершее на кресте Слово восходило на небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника… я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: „Осанна!“… И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях».
Явление черта и беседа с ним помогают Ивану до конца уяснить подлинные причины своего собственного безверия: Иван Карамазов борется с терзающей его верой в Бога из желания помериться силами с Богом, обойтись без Бога, заменить Бога. Здесь Достоевский снова возвращается к столь дорогой ему теме – теме сверхчеловека: «Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человекобог». Однако Ивану не по себе и в атмосфере атеизма. Он «по-женски» швыряет в черта стакан. Он изгоняет его – того, кто живет внутри его самого. Ибо как отрицать существование Бога, если о вере в Него страстно и скорбно тоскует душа?
«Поднимите глаза ваши к Богу, – говорят одни; смотрите на Того, с Кем вы так схожи и Кто вас создал, чтобы вы поклонялись Ему. Вы можете стать подобны Ему; мудрость вас с Ним уравняет, если вы захотите ей следовать…
Кем же станет человек? С кем он сравняется – с Богом или с животными?»[72]
«Есть и во аде, – говорит отец Зосима, – пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное». Иван один из тех, кто добровольно выбирает ад. Иван болен Богом. Станет ли этот недуг для него смертельным?
Алеша смотрит на брата с ужасом, но и с жалостью. Потом подходит и целует его в губы, как Христос целует Великого инквизитора.
Это единственный ответ, который христианин может предложить атеисту. Ибо по логике христианства верующий может противопоставить неверию только любовь. Вера не поддается объяснениям и не подчиняется приказам. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье», – говаривал Идиот неверующему Ипполиту.
«Бог победит! – думает Алеша о брате. – Или восстанет в свете правды, или… погибнет в ненависти!»
И он молится за своего брата, ибо во всем мире не найти для его спасения иного средства кроме молитвы.
Это необъятное произведение – итог не только нравственно-философских, но и художественных исканий автора. Ни в одном романе реальное не сплетено так тесно с фантастическим, как в «Братьях Карамазовых». Обстановка? Она его не заботит. Облик персонажей? Где-то мимоходом сказано, что у старика Карамазова были длинные и мясистые мешочки «под маленькими его глазками, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми», и большой кадык, придававший ему «какой-то отвратительно сладострастный вид». Что до Алеши, то он был «средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный». Это все. Через десяток страниц уже забываешь эти наскоро набросанные портреты, жертвуешь лицами, обликом – всем физическим существованием персонажей ради воплощенной в них идеи. Страсть, с которой герои проводят свою идею в жизнь, пожрет их плоть. И картины беспощадных схваток этих идей развертывает перед нами Достоевский.
Мы переселяемся в мир, где не едят, не пьют, не спят, где в несколько часов втиснуто множество событий, где сердца героев полны вещими предчувствиями, где день смешивается с ночью и где каждый говорит не столько для того, чтобы убедить других, сколько для того, чтобы убедить самого себя.
Повсюду хаос и повсюду беспокойство. Но изнуряют эти существа не болезни и терзает их не страх – их мучит Бог. Автор предусмотрительно избавил их от мелких повседневных забот и оставил нагими перед тайной Бога. Их деятельная жизнь – это тайная жизнь человеческой души – нашей души. Они – это мы сами, но увиденные изнутри. При таком способе ви́дения – своего рода «внутренней киносъемке» – оператору ближе всего таящиеся во мгле подсознания нравственные муки, а то, что зримо при свете дня – обстановка, наружность, одежды, – от него удалено. Объектив камеры сфокусирован на наш внутренний мир, и мир внешний представляется расплывчатым, как в сновидении. И когда нам показывают отпечаток, запечатлевший нас самих, мы не узнаем на нем самих себя, так же как не узнаем себя на рентгенограмме.
Выбор этой оптики «подпольного человека» объясняется горячей симпатией автора к своим созданиям. Как будто какой-то приступ вроде припадка эпилепсии бросает его в самую сердцевину сокрытой в нас тайны, чтобы он помог нам ее разгадать. Одним рывком он погружается в бездонные глубины человеческой души. И глаза его быстро привыкают к царящему там мраку. Он все видит, все понимает. И так же как во сне целая человеческая жизнь может промелькнуть за несколько секунд, так и вся духовная жизнь со всеми ее исканиями, срывами, надеждами предстает перед ним словно при ослепительной вспышке пронзающей тьму молнии. И когда он выныривает на поверхность, волоча за собой свою добычу, – то, что подспудно таится в нашей натуре, – когда пытается подчинить законам искусства эту невероятную историю, происходящую вне пространства и времени, не управляемую законами причинности и противоречий, вот тогда и начинаются смертельные муки художника. Он хочет бессознательное сделать приемлемым для обыденного сознания, бессознательное превратить в сознательное. Он хочет пробудить в людях интерес к тому, каковы они на самом деле.
Разрываясь между фантастическим и реальным, Достоевский тщится втиснуть в жесткие рамки логики материю, ускользающую от его наблюдения, – безнадежная затея!
Неправдоподобия кишат в романе. Множество событий и череда катастроф, происходящих в «Братьях Карамазовых», спрессованы в несколько дней. Персонажи, встретившись, чтобы, по «русскому обычаю», поспорить о Боге, произносят многостраничные монологи. Косноязычный лакей Смердяков бросает отточенные реплики. Мужлан Дмитрий восклицает: «Нет, широк человек, я бы сузил». Герои, как всегда у Достоевского, – кем бы они ни были – наделены провидческим знанием: Зосима объявляет Алеше, что Дмитрию уготована трагическая участь. Алеша, прощаясь с отцом, целует его в плечо, ибо предчувствует его грядущую гибель. Иван уезжает в Чермашню, ибо знает: готовится убийство…
Галлюцинация, сновидение, преступление – расхожая монета в мире Достоевского. Чтобы обосновать поступки своих героев, Достоевский простодушно ссылается на наследственность или болезнь. Он как бы предуведомляет нас: «Ведь эти существа не такие как мы… Ведь они неуравновешенны!» Он вводит в заблуждение читателя, уверяя его в идентичности своих созданий. И, стремясь добиться «безусловной достоверности», нагромождает массу вещественных деталей. Убийство старика Карамазова описано с дотошностью профессионального криминалиста. О предварительном следствии и ходе судебного процесса рассказано с точностью завсегдатая судебных заседаний.
«Не думаю, чтоб я сделал какие-нибудь технические ошибки в рассказе: советовался предварительно с двумя прокурорами еще в Петербурге», – говорит Достоевский.
Достоевский не хочет делать выбор – он не выбирает между революцией и самодержавием, между реальным и фантастическим. Он курсирует между двумя берегами, не приставая ни к одному. Он совмещает несовместимое. Он потратил сорок лет труда, чтобы заставить публику признать свое гибридное искусство. Что за важность! «Братьями Карамазовыми» он выиграл партию!
Глава V Пушкинский праздник
«Братья Карамазовы» возносят до апогея славу Достоевского. Им восхищаются не меньше, чем Тургеневым и Толстым. Ему верят больше, чем Тургеневу или Толстому.
Немало испытаний выпало на его долю: безрадостная юность, несправедливый приговор, каторга, болезнь, игра, долги, лишения, работа на заказ – через все это он прошел, все преодолел. Он перешагнул через все свои несчастья, как через бездну, и вышел на открытую, раскинувшуюся перед ним равнину обросший волосами, покрытый кровоточащими ранами и – спасенный. Но он стар. Он неизлечимо болен. Само его душевное спокойствие предвещает близкую смерть. Уже семь лет он страдает от эмфиземы легких – последствия катара дыхательных путей, и целебные воды Эмса не излечивают ее. Болезнь, поначалу казавшаяся ему неопасной, теперь тревожит его, и в письмах он говорит о ней с притворным пренебрежением:
«…у меня какая-то часть легкого сошла со своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом – все следствие эмфиземы».
«Я здесь все мечтаю об утройстве будущего и о том, как бы купить имение. Поверишь ли, чуть не помешался на этом. За деток и за судьбу их трепещу».
«Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего».
Плата за его колоссальный труд ушла на расчеты с ордой кредиторов. А ему нужны деньги, и нужны быстро, как можно быстрее. Его жена открывает книжную торговлю, которая сразу же начинает приносить значительный доход. Что до него, то он подумывает продолжать «Дневник писателя» и написать вторую часть «Братьев Карамазовых» – историю Алеши, олицетворяющего новую Россию.
Алеша, молодой русский нового поколения, будет, таким образом, противопоставлен Дмитрию, олицетворяющему старую Россию. И молодой русский найдет спасение в миру, как ему и предрекал старец Зосима. Беседуя с графом Мельхиором де Вогюэ о России, Достоевский излагает свои мысли о русском народе: русский народ обладает одновременно гением всех народов и своим собственным гением. Поэтому русский народ способен понять любой народ, тогда как его не понимает никто.
Эта национальная гордость оценена наверху. Вскоре в ответ на прошение Достоевского министр внутренних дел прекращает тайный полицейский надзор, установленный за писателем после его возвращения с каторги.
24 декабря 1877 года Достоевский заносит в записную книжку:
«I. Написать русского Кандида.
II. Написать книгу об Иисусе Христе.
III. Написать свои воспоминания.
IV. Написать поэму Сороковины. (Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издания „Дневника“, т. е. minimum на 10 лет, а мне теперь 56 лет)».
В мае 1880 года Общество любителей русской словесности прислало Федору Михайловичу приглашение на открытие памятника Пушкину с просьбой выступить с речью на торжествах в Москве.
Всю свою жизнь Достоевский называл Пушкина, как и Гоголя, своим учителем. Разве не Германн из «Пиковой дамы» вдохновил его на создание образа Раскольникова? Разве не «Бесы» Пушкина дали название и эпиграф к роману «Бесы» Достоевского? И разве не монолог из «Скупого рыцаря» пробудил у Долгорукого, героя романа «Подросток», жажду золота и безграничного могущества?
Достоевский нежно и ревниво благоговел перед Пушкиным. Он опасался коварных или трусливых нападок других ораторов на своего кумира. Западники чествовали в Пушкине великого европейца. Славянофилы не осмеливались признать в нем великого русского. Все ждут окончательного слова о поэте, которое примирило бы обе партии. И Достоевский чувствовал, что именно ему предназначено произнести эти пророческие слова.
Поездка Федора Михайловича из Старой Руссы в Москву беспокоила его жену. Федор Михайлович утомлен. Эмфизема, по заключению докторов, прогрессировала с ужасающей быстротой, угрожая самой жизни Федора Михайловича. Двоюродный брат Анны Григорьевны доктор М.Н. Сниткин объяснил ей, что «мелкие сосуды легких до того стали тонки и хрупки, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения».
Достоевский предпочел бы поехать в Москву вместе с женой, но расходы на дорогу превышали финансовые возможности семьи. Анна Григорьевна проводила мужа, взяв с него обещание непременно писать ей каждый день и сообщать о своем здоровье.
Достоевский прибыл в Москву, и его с почестями встретили славянофилы. Интеллектуальный мир с лихорадочным нетерпением ждал открытия этих Генеральных штатов от литературы, назначенного на 26 мая – день рождения Пушкина. Незадолго до этого неожиданно скончалась императрица[73], на две недели объявили глубокий траур и торжество отложили. Достоевский, которого работа и семейные заботы призывали в Старую Руссу, рвется уехать, но друзья объясняют ему, что его отъезд будет воспринят как бегство с поля битвы: «…скажут, что у меня не хватило настолько гражданского чувства, чтоб пренебречь своими делами для такой высшей цели», – пишет он жене.
Его присутствие в Москве необходимо еще и потому, что представляется возможность публично выступить против идеи «европейской России», с которой он боролся тридцать лет: «и…враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет), – пишет он также, – решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Серг<еевич> Аксаков… но Иван Аксаков и устарел, и приелся в Москве. Меня же Москва не слыхала и не видела, но мною только и интересуется».
Итак, он остается. Но хватит ли ему денег на оплату гостиницы? Его успокаивают: все расходы по его пребыванию в Москве взяла на себя Городская Дума.
Достоевский пугается: «А я-то два раза уже был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь как на даровом-то хлебе важничает».
По последним сообщениям из Петербурга стало известно, что открытие памятника Пушкину перенесено на начало июня. В ожидании торжеств делегаты, съехавшиеся на праздник, усердно наносят друг другу визиты, устраивают обеды, готовят свои речи. Достоевского повсюду принимают, чествуют, дают в его честь обеды. Он не без удивления убеждается, как велика его известность.
«Говорилось о моем „великом“ значении как художника „всемирно отзывчивого“, как публициста и как русского человека», – пишет он.
Он простодушно восхищается роскошью салонов, в которые его наперебой приглашают, и разнообразием и обилием яств, которыми его потчуют:
«Обед был устроен чрезвычайно роскошно. Занята целая зала (что стоило немало денег)… Утонченность обеда до того дошла, что после обеда, за кофеем и ликером, явились две сотни великолепных и дорогих сигар. Не по-петербургски устраивают. Сказано было мне… 6 речей, иные очень длинные».
Однако по мере приближения торжественного дня волнение в литературных кругах нарастает. Антагонизм славянофилов и западников обостряется с каждым днем. Катков, глава правого лагеря, виновный в том, что не объявил читателям своей газеты «Московские ведомости» о предстоящей церемонии, на праздник не приглашен. Горячие поклонники Тургенева готовят триумф своему вождю: вербуют многочисленную клаку, расчетливо раздавая приглашения. «Боюсь, что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся», – пишет Достоевский жене.
5 июня[74] празднества в честь Пушкина открываются торжественной панихидой в церкви Страстного монастыря. После окончания службы Достоевский подходит к мадам Сувориной и обращается к ней с просьбой: «Если я умру, вы будете на моих похоронах и будете за меня так молиться, как вы молились за Пушкина!.. Вы обещаете?»
На следующий день делегация русских писателей возлагает венок к подножию памятника поэту. Затем все отправляются в университет на торжественный акт, открывая который ректор объявляет, что Тургенев избран почетным членом Московского университета. Студенты восторженно приветствуют старого романиста, признавая его «прямым и достойным наследником Пушкина».
«И так как Тургенев был на празднике самым видным представителем западничества, – пишет Страхов, – то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль и победа на предстоявшем умственном турнире».
За церемонией в университете следует обед, дававшийся Городской Думой в залах Дворянского собрания. В тостах и речах славят Пушкина, но никто из ораторов не берет на себя смелости определить значение поэта для русской нации. В тот же день вечером на литературном празднике в Дворянском собрании Достоевский читает сцену монаха Пимена из «Бориса Годунова», и дружные аплодисменты покрывают последние строки, заглушая его голос.
«Но Тургенева, – пишет он жене, – который прескверно прочел, вызывали больше меня».
В антракте дамы бросаются к Федору Михайловичу с восклицаниями: «Вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли „Карамазовых“».
На следующий день, 7 июня, состоялось первое публичное заседание Общества любителей российской словесности, также проходившее в залах Дворянского собрания.
Тургенев читает свою речь перед аудиторией, заранее приготовившейся с энтузиазмом встречать все, что он скажет. Да и как не восхищаться этим медлительным гигантом с белоснежной бородой, с добрым и утомленным лицом? Его манеры величавы. Его речь превосходна, продуманна, отшлифована, но автор избегает касаться трудных вопросов, на которые все ждут ответа. Был ли Пушкин национальным поэтом, высшим проявлением русского гения? Заслуживает ли он названия национально-всемирного поэта? «…название национально-всемирного поэта, – заявляет Тургенев, – мы не решаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаем его отнять у него». Он заканчивает панегириком Некрасову, поэту бунтующих.
Этот искусный маневр выводит Достоевского из себя. Он приходит в бешенство, слыша бурные овации, которыми встречена речь его соперника. Ибо и сегодня, как и в давние времена, Тургенев его злейший личный враг. Похоже, чествование Пушкина превратится в дуэль идей и закончится поединком двух противников – глашатаев этих идей. И ставка в этом сражении – Пушкин. Тургенев, пишет Достоевский, «унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта». И добавляет, имея в виду почитателей своего соперника: «Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм».
Вечер приносит ему утешение: на литературном обеде он кратко излагает свою концепцию Пушкина, вызвавшую в публике взрыв восторга. Настоящий реванш он надеется взять на следующий день.
Второе публичное заседание Общества назначено на 8 июня.
Перед Федором Михайловичем должен выступить с речью Аксаков, но из-за внезапного изменения программы первое слово предоставляется Достоевскому.
Зал переполнен. Нечем дышать. Сейчас, когда первое впечатление ослабело, большинство тех, кто слышал накануне речь Тургенева, признало, что Тургенев высказался несколько скептически по отношению к поэту. Что-то скажет Достоевский? Сможет ли он объяснить подлинное значение Пушкина?
Минуты текут. Сцена пуста. Но вот появляется Достоевский. Здесь, на огромной сцене, он один на один с толпой, встретившей его бурей рукоплесканий. Его лицо, землистое, страдальческое, изрезанное морщинами, склоняется в ответ на оглушившие его аплодисменты. Черный длинный сюртук, словно бранные доспехи, прикрывает его тщедушное сгорбленное тело. В крупных узловатых руках он вертит странички своего выступления. Он ждет. Овации не утихают, и он неловко протягивает вперед руки, призывая к тишине, кланяется, нервно теребит бородку.
«Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этими!» – напишет он потом жене.
Публика наконец успокаивается. Достоевский начинает свою речь каким-то глуховатым, как будто надтреснутым голосом, которой мало-помалу крепнет, звучит все громче и громче и вот уже гремит на весь зал.
Откуда этот хилый, истерзанный болезнью старик черпает жизненную энергию, чтобы с такой силой выкрикивать слова с высоты трибуны? Какая удивительная мощь сотрясает это изможденное тело, зажигает взор, вдохновляет речь? Он не уклоняется, как Тургенев, от главной проблемы, связанной с именем Пушкина.
Что такое Пушкин? Пушкин – олицетворение национального духа, русского характера с его великой способностью совершенного перевоплощения в гении чужих наций. Пушкин – сама Россия с ее всемирной отзывчивостью и всечеловечностью. Даже у Шекспира итальянцы – те же англичане. Иное Пушкин. Разве он не испанец в «Дон Гуане», не англичанин в «Пире во время чумы», не германец в «Сценах из Фауста», не араб в «Подражании Корану», не русский в «Борисе Годунове»? Да, их всех он вместил в своей душе. И он был каждым из них и умел быть каждым из них потому, что он – русский.
Достоевский возвращается к теме, которую десятки раз развивал в своих романах и в «Дневнике писателя»: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».
Все старые народы Европы дороги молодому русскому народу. И молодой русский народ спасет их, потому что благодаря своей замечательной наивности остается последним прибежищем Христа. «Почему же нам не вместить последнего слова Его?»
Захватывающая сила этой речи не столько в приводимых автором аргументах, сколько в страстной искренности чувств, переполнявших оратора. Он пишет больше для того, чтобы высказаться, чем для того, чтобы быть прочитанным. И теперь Достоевский высказывается до конца. Его речь то и дело прерывается взрывами аплодисментов.
Он говорит о Татьяне, как об идеале русской женщины, – и дамы отвечают восторженными выкриками.
Он призывает вместе с Пушкиным:
Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве.И мужчины склоняют головы, словно звучат слова клятвы.
Достоевский упоен воздействием своего слова: его понимают, признают, им восхищаются, все эти незнакомые, взволнованные, с просветленными лицами люди видят в нем своего избранника. Он царит над ними. «…все от „Карамазовых“», – напишет он жене.
Наконец он произносит заключительную фразу: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».
Он умолкает. Он смертельно бледен. По морщинистому лицу струится пот. От усталости потухли и ввалились глаза. И вдруг на это обессиленное тело обрушиваются из зала крики, истерические вопли, восхищенные возгласы. Женщины, мужчины встают, бьют в ладоши, кричат, рыдают. Враги обнимаются и клянутся друг другу стать лучше и забыть былые обиды. Молодежь скандирует: «Пророк! Пророк!» За отсутствием стражей порядка слушатели ринулись к нему на эстраду. Взволнованного ошеломленного Достоевского окружает бушующая, словно волны моря, людская толпа, мелькают руки, лица, одежды. Перед ним падают на колени. Целуют его руки. «Вы гений, вы более чем гений!» Вызовы продолжаются полчаса.
Наконец Комитет объявляет перерыв в заседании. Но публика прорывается за кулисы. Студенты с восторженными возгласами обступают его. Один молодой человек, сотрясаясь от рыданий, без чувства падает к ногам Федора Михайловича. Тургенев, обливаясь слезами, обнимает своего противника. Аксаков что-то радостно бормочет. Юрьев громко, покрывая шум зала, объявляет, что Общество любителей российской словесности единогласно избрало Достоевского своим почетным членом.
Достоевский, изнемогающий от волнения и усталости, улыбается, плачет, пожимает руки, которые тянутся к нему со всех сторон. Он едва держится на ногах. Голова немного кружится от запахов и жара толпы. Только огромное нервное напряжение поддерживает его.
Заседание возобновляется после часового перерыва. Аксаков выходит на сцену и объявляет, что не станет читать свою речь. «Я не могу говорить после речи Федора Михайловича Достоевского, – говорит он, – все, что я написал, есть только слабая вариация на некоторые темы этой гениальной речи».
Эти слова вызывают гром рукоплесканий. Он продолжает: «Я считаю речь Федора Михайловича Достоевского событием в нашей литературе… истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать!»
Аксаков хочет покинуть сцену, но публика не отпускает его и требует прочесть речь.
Тем временем дамы тайком устраивают складчину и бегут в ближайшую цветочную лавку. В конце заседания публика вызывает Достоевского. Когда он выходит на сцену, более сотни дам взбирается на эстраду и увенчивают его огромным венком с надписью «За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!»
В порыве воодушевления весь зал встает и исступленно аплодирует. Машут платками. Размахивают шляпами. На глаза Достоевского навертываются слезы.
Теперь благодаря ему нет больше славянофилов, нет больше западников – есть одни только русские. Народ, еще недавно разъединенный, объединяется во всеобщем братстве, охваченный любовью, гордый самим собой. Его слова, его вера спасли весь народ.
«Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру».
В тот же день на заключительном литературном вечере Достоевский, собрав все свои силы, с тем же накалом читает «Пророк» Пушкина. И вот он снова на сцене невзрачный, немощный, ссутулившийся, со впалой грудью.
И вторично чудо вдохновения нисходит на него. Набирает силу, крепнет его глуховатый, скрипучий, режущий голос – незабываемый голос. «Правая рука, судорожно вытянутая вниз, – пишет Страхов, – очевидно удерживалась от напрашивающегося жеста; голос был усиливаем до крика». Когда он выкрикивает последнее четверостишие
Восстань, пророк, И виждь, и внемли, Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей,зал взрывается неистовой овацией. Для них, для этих впивающих его слова незнакомцев, он, Достоевский, – истинный Пророк.
Он возвращается к себе в полном изнеможении, с тяжелой головой, с воспаленными глазами. Он ложится, пытается заснуть. Но почти физическое ощущение счастья не дает ему успокоиться. Он встает, одевается, берет лавровый венок, который возложили на него днем, и велит извозчику везти его к памятнику Пушкину.
Теплая ясная ночь, ни дуновения ветерка. Улицы тихи и пусты. Доехав до Страстной площади, Достоевский выходит из пролетки и подходит к монументу. Статуя на высоком гранитном постаменте высится над ним – чернеющее в ночи безмолвное бронзовое изваяние. Федор Михайлович всматривается в бронзовый лик, в опущенные, прикрытые веками мертвые глаза. Потом с трудом поднимает венок и прислоняет его к постаменту памятника.
Мгновение он, стоя перед своим учителем, собирается с мыслями. Мысленно он измеряет путь, пройденный с того трагического дня, когда, еще ребенком, узнал о смерти отца, до этой минуты, когда он, старый, измученный, стоит перед памятником Пушкину и приближается к концу своего жизненного пути.
Перед его внутренним взором проносятся маленькие комнатки в цветных обоях Мариинской больницы, липовые аллеи Дарового, длинные коридоры Инженерного училища, берлога Петрашевского, мрачные казематы Петропавловки и три столба, врытые в снег перед стоящими строем жандармами. Ветер. Снег. Холод. Сибирь… Семипалатинск… Бегство в Змиев в карете Врангеля… Издевательский смех Полины. И рулетка, которая крутится, крутится… Анна Григорьевна в слезах. Неприметный могильный холмик на безымянном кладбище в чужой стране… Города, лица, глаза… лампа, освещающая рабочий стол… злобное лицо ростовщика… Мчащийся с грохотом поезд и, наконец, бледное небо России, которая все ближе, ближе… И вот он уже вдыхает ее воздух… Россия, которая признает его. Ему слышится как будто гул морского прилива, этот гул нарастает, приближается, – из глубин неведомых толп к нему доносятся, усиливаясь, выкрики: «Вы гений, вы более чем гений!» Он столько боролся! Он столько выстрадал! И так поздно познал высшее счастье творца – счастье быть понятым. Достанет ли у него времени, чтобы насладиться этим счастьем?
Он выпрямляется. Луна тусклым светом освещает крыши домов, мостовые безлюдных улиц. Мир и покой нисходят в его душу. Достоевский поворачивается спиной к памятнику и возвращается к пролетке, которая ждет его на углу площади.
Глава VI Конец
10 июня 1880 года Федор Михайлович покидает Москву как триумфатор. Короткое пребывание в этом городе измотало его больше, чем целый год работы, но он полон веры в себя, он умиротворен, – он счастлив как никогда. Впрочем, он трезво оценивает последствия происшедшего чуда. Вернувшись в Старую Руссу, он пишет своему другу графине Толстой, тетке писателя: «Не беспокойтесь, скоро услышу: „смех толпы холодной“. Мне это не простят в разных литературных закоулках и направлениях».
И действительно, когда поостыл первый энтузиазм, его враги тотчас опомнились. Можно подумать, они мстили оратору за то, что его вдохновенная речь так их всколыхнула.
Салтыков пишет Островскому: «По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу».
Появляются уклончивые, полные недомолвок статьи. Обозреватель журнала «Дело» пишет, что речь Достоевского действовала больше на нервы, чем на ум. А также: «Героем и финалом этого сумбура явился г. Достоевский. Он уже не в первый раз садится не в свои сани, принимая на себя роль публициста… Особенной славы г. Достоевский, конечно, не стяжал, да и не мог стяжать, потому что для роли публициста у него недостает ни знаний, ни развития, ни политического образования, ни даже простого общественного такта».
А в «Вестнике Европы» читаем: «Действительно, экой абсурд вся эта тирада!» и дальше: «…желательно, чтобы в будущих рассуждениях г. Достоевского не были забываемы элементарные исторические факты и не был совершенно отвергаем здравый смысл».
Достоевский до такой степени потрясен резким поворотом в общественном мнении, что переносит один за другим два припадка эпилепсии и в течение двух недель ничего не предпринимает. 26 августа он пишет О.Ф. Миллеру: «За мое же слово в Москве видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство-мошенничество или подлог в каком-нибудь банке».
Он решает ответить своему главному оппоненту профессору А.Д. Градовскому, статья которого «Мечта и действительность» опубликована в газете «Голос». Ответ Достоевского и его Пушкинская речь появились в августовском выпуске «Дневника писателя», единственном за 1880 год.
Успех этого единственного выпуска беспрецедентен. Шесть тысяч книжек расходятся за несколько дней. Готовится второе издание, к осени и оно будет полностью раскуплено.
Поклонение читателей, так высоко оценивших его труд, несколько успокаивает Достоевского. Он принимается за окончание «Братьев Карамазовых», четвертая часть которых еще не написана.
«С 15 июня по 1 октября я написал до 20 печатных листов романа и издал „Дневник писателя“ в 3 печат<ных> листа», – пишет он.
И в ноябре отсылает «Эпилог» «Братьев Карамазовых» в редакцию «Русского вестника» со словами: «Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два – знаменательная для меня минута».
В начале зимы, переехав в Петербург, он возобновляет встречи с друзьями и несколько раз выступает на литературных вечерах.
«Литературный фонд давал сегодня литературное утро, в такой зале, где трудно читать и где чтецов не во всех концах слышно, – рассказывает Штакеншнейдер, – а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он, едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная».
Действительно, любовь публики, кажется, для Достоевского лучшее лекарство. Он считает, что может обойтись без поездки на воды в Эме и продолжить работу. Множество проектов роятся в его голове. Он предполагает возобновить «Дневник писателя», издавать его в течение двух лет, а затем написать вторую часть «Братьев Карамазовых».
«Мне же с Вами позвольте не прощаться, – пишет он секретарю редакции „Русского вестника“. – Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать».
В январе 1881 года Достоевский работает над первым выпуском «Дневника писателя» за 1881 год. Он чувствует себя хорошо. Посещает друзей. Даже соглашается выступить в роли схимника в трагедии «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого в домашнем спектакле, намеченном на февраль. Соглашается также прочесть стихотворения Пушкина на литературном вечере 29 января – в день кончины Пушкина. Однако за четыре дня до того собрания небольшое происшествие возбуждает в нем тревогу.
В ночь с 25 на 26 января, когда он работает в своем кабинете, его вставка с пером падает на пол и закатывается под этажерку. Достоевский встает и пытается передвинуть тяжелую этажерку, но при первом же усилии чувствует, что его рот наполняется теплой жидкостью. Он вытирает губы и видит – это кровь. Однако кровотечение незначительно, он не придает ему значения и даже не будит жену.
На следующий день он чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет к обеду сестру Веру, недавно приехавшую в Петербург. Он настраивается на общие воспоминания, хочет поговорить об их детстве в Москве и Даровом. И действительно, обед начинается весело. Достоевский увлеченно рассказывает о детских играх в Мариинской больнице, о лихорадочных приготовлениях к отъезду на каникулы, о литературных спорах с Михаилом. Он шутит и первый смеется своим шуткам.
Но «тетя Вера» не разделяет его веселья. В Петербург ее послали сестры обсудить с братом вопрос о наследстве. Речь идет о земельном имуществе – рязанском имении, оставленном теткой А.Ф. Куманиной, из-за которого перессорилась вся родня.
У Веры срочное дело – уговорить брата отказаться от своей доли наследства в пользу сестер. И она прерывает Достоевского и заговаривает о наследстве. Поглощенная своим поручением, она распаляется, не слушает возражений, упрекает Достоевского в «жестокости» по отношению к сестрам и в конце концов разражается слезами.
Достоевский, разнервничавшись, встает из-за стола, не закончив обеда, и уходит в кабинет, а Анна Григорьевна провожает Веру до двери.
Достоевский сидит за письменным столом, обхватив голову руками. Он еще слышит, как женщины прощаются, перешептываясь в передней. Огромное отвращение, страшная усталость наваливаются на него: этот испорченный семейный обед, эти слезы, упреки из-за каких-то нескольких грошей!..
Вдруг он ощущает на руках теплую влагу. Подносит руки к глазам – они в крови. Он проводит пальцами по губам, по бороде – пальцы становятся липкими от крови. Он вскрикивает. Прибегает Анна Григорьевна и видит: он стоит неподвижно, лицо его смертельно бледно, подбородок и борода запачканы кровью.
«Доктора, скорее!»
Кровотечение прекращается до прихода врача. Достоевский моет руки, лицо, зовет детей и вместе с ними рассматривает юмористические картинки в только что присланном журнале.
Врач наконец приезжает и застает спокойного, улыбающегося человека, который просит его просто прослушать легкие. Но когда доктор начинает выстукивать грудь, кровотечение возобновляется.
Оно такое сильное, что Достоевский теряет сознание. Когда он приходит в себя, его первые слова обращены к жене:
«Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!»
После исповеди и причастия состояние больного как будто улучшается. Он благословляет детей и жену; потом его укладывают в кабинете на диван, и он засыпает. Анна Григорьевна и доктор фон Бретцель всю ночь бодрствуют у постели больного.
Тем временем послали за профессором Кошлаковым и доктором Пфейфером. Сравнительно небольшое количество вытекшей крови успокаивает врачей. «Он выздоровеет», – обещают они. Следующий день не приносит ухудшений. Достоевский просыпается бодрым, просит дать ему корректуру «Дневника писателя» и обсуждает с женой правку.
Весть о его тяжелой болезни быстро разнеслась по городу. Друзья навещают его. Колокольчик над входной дверью трещит не переставая и его приходится подвязать, чтобы звон не утомлял Федора Михайловича.
Анна Григорьевна просит жильцов верхнего этажа не ходить по квартире в башмаках, так как эта вечная ходьба беспокоит больного.
Достоевский съедает немного икры и выпивает стакан молока.
«Я думаю о детях, какими они будут, когда вырастут», – шепчет он.
В ночь с 27 на 28 января он будит жену. Только свет ночника освещает комнату. Анна Григорьевна рассказывает:
«– Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? – спросила я, наклонившись к нему.
– Знаешь, Аня, – сказал Федор Михайлович полушепотом, – я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь осознал ясно, что я сегодня умру.
– Голубчик мой, зачем ты это думаешь? – говорила я в страшном беспокойстве, – ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет, очевидно, образовалась „пробка“, как говорил Кошлаков. Ради Бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя!
– Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!»
Часто, когда Достоевский колебался принять какое-нибудь решение, он наугад открывал Евангелие, подаренное ему на каторге, с которым никогда не расставался, и читал первые попавшиеся на глаза строки. И теперь он поступает также: берет книгу в черном кожаном переплете и протягивает жене:
– «Читай.
– Евангелие от Матфея, глава III, строфа II, – говорит Анна Григорьевна и читает: „Иоанн не удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду“.
Федор Михайлович улыбается:
– Ты слышишь – „не удерживай“, значит, я умру».
Анна Григорьевна не может удержаться от слез. Федор Михайлович ласково ее утешает. Потом он засыпает, не выпуская руки жены из своей.
В одиннадцать часов утра он внезапно просыпается, приподнимается на подушке, кровотечение возобновляется.
«Бедная… дорогая… с чем я тебя оставляю… бедная, как тебе тяжело будет жить!»
Он зовет детей и дает последние наставления:
«Храните беззаветную веру в Господа и никогда не отчаивайтесь в Его прощении. Я очень вас люблю, но моя любовь ничто в сравнении с бесконечной любовью Господа ко всем людям, созданным Им».
Он обнимает детей, благословляет их и передает свое Евангелие девятилетнему сыну Феде.
Между тем силы Достоевского быстро тают. Ближе к вечеру он начинает задыхаться, приподнимается на диване и струйка крови течет по его губам и окрашивает рубашку. Анна Григорьевна дает ему кусочки льда, но кровотечение не останавливается. Снова посылают за доктором. Достоевский невнятно бормочет какие-то бессвязные слова, и жена записывает их на клочке бумаги:
«Как я вас разоряю… Вычеркни, что найдешь возможным… Что сказано обо мне?.. Конец, конец, зальет»…
Он теряет сознание и падает на подушки. Жена и дети стоят на коленях у изголовья и плачут. Друзья, родственники, собравшиеся в гостиной, ждут известий о состоянии больного. Телеграммы с выражением соболезнования уже поступают отовсюду.
В семь часов вечера в кабинет впускают посетителей. В комнате темно. Теплится лампада, и ее свет нарушает мрак и безмолвие темной, точно пещера, комнаты. Достоевский, полностью одетый, лежит на диване, голова его покоится на подушке. Видно только его белое, как лист бумаги, лицо. На подбородке выступает рыжеватое несмытое пятно крови. Веки судорожно сжаты.
Какое-то бульканье слышится в горле. Дыхание со слабым свистом вырывается из раскрытых губ, прерывается, свистящее, стесненное. Он пытается что-то сказать, но уже никто не может разобрать его слов.
Доктор приезжает в восемь часов вечера, но может только уловить последние биения сердца умирающего. Федор Михайлович испускает последний вздох в 8 часов 36 минут, не приходя в сознание.
Тело обмывают, облачают в свежую рубашку и кладут на стол, ожидая, когда будет готов гроб. Покойного покрывают до пояса золотым покровом, принесенным из соседней церкви. Вокруг стола ставят высокие зажженные свечи.
В сложенные на груди руки вложена икона. В углу перед образом теплится лампада. Воздух пропитан запахом ладана, воска, одеколона. Возле мертвого сидит художник и набрасывает портрет усопшего.
Религиозные церемонии сменяют одна другую. Прибывают депутации из разных учреждений со священником своей церкви и хором певчих и просят позволения отслужить панихиду у гроба Достоевского. Приходит депутация студентов, приходит депутация от Морского корпуса. Их священник служит панихиду, хор морского корпуса сопровождает ее своим пением.
Душно. Воздух такой спертый, что от людского дыхания временами гаснут окружающие гроб свечи. Погребальные венки, увитые лентами, букеты живых цветов покрывают гроб и заполняют комнату. Почитатели целуют руки покойного и просят детей дать им на память об отце цветок или листочек.
Анна Григорьевна как тень бродит по комнатам. Ей невыносимо видеть этот нескончаемый поток посторонних людей вокруг ее мужа. Входят по парадной лестнице, уходят по черной. Вереница посетителей обходит гроб, расходится. Кто они, все эти незнакомые люди? Почему их не прогоняют? Анне Григорьевне кажется, что все эти люди отдаляют ее от Федора Михайловича. Он уже не тот человек, которого она так любила, – вспыльчивый, сентиментальный, смешной, больной, нежный. Он больше не принадлежит ей. Его у нее отобрали. Он принадлежит толпе.
Скромная квартира Достоевского наполняется публикой, здесь чиновник – представитель Министерства внутренних дел, великий князь Дмитрий Константинович, ученые, собратья-писатели, плачущие светские дамы.
Гофмейстер Н.С. Абаза передает Анне Григорьевне письмо с извещением, что император назначает вдове и детям великого писателя пожизненную ежегодную пенсию в размере двух тысяч рублей. Эта новость так обрадовала Анну Григорьевну, что она бежит в кабинет мужа, чтобы поделиться с ним доброй вестью. «…только войдя в комнату, где лежало его тело, вспомнила, что его уже нет на свете, и горько заплакала», – пишет она.
Тем временем монахи Александро-Невской лавры предлагают Анне Григорьевне выбрать любое место на кладбище лавры для вечного успокоения ее мужа. Они просят принять это место безвозмездно, они также безвозмездно отслужат панихиду по покойному, «ревностно стоявшего за православную веру».
Анне Григорьевне вспоминается далекий день, когда она шутила с Достоевским о том, где бы ей хотелось его похоронить. «Лучше я похороню тебя в Александро-Невской лавре», – сказала она тогда весело. «Я думал, там хоронят только генералов от инфантерии и кавалерии», – отвечает он шутливо. – «А ты разве не генерал от литературы?»
Вынос тела происходит в субботу, 31 января. С самого раннего утра огромная толпа заполняет обе улицы, на углу которых находится дом. Траурная повозка стояла наготове, но почитатели Достоевского поднимают гроб и несут на руках через весь Петербург до самых ворот лавры.
Тридцать тысяч человек следуют за бренными останками Достоевского. Семьдесят две депутации несут венки с траурными лентами, укрепленными на высоких шестах. Пятнадцать сборных хоров певчих поют литию. Два ряда гирлянд из еловых ветвей и живых цветов, каждая длиной в шестьдесят метров, – их несут на высоко поднятых руках, отделяют траурный кортеж от сопровождающей его толпы.
После двухчасового шествия начало колонны приближается к вратам лавры. Гроб устанавливают в храме Святого Духа.
На следующий день 1 февраля 1881 года толпа друзей и любопытных заполняет Александро-Невскую лавру. Полиции приходится закрыть ворота. Самой Анне Григорьевне с трудом удается войти в церковь: «Я ответила, что я вдова покойного, а это его дочь. Тут много вдов Достоевского прошли и одни, и с детьми, – получила я в ответ».
Наконец Анна Григорьевна занимает свое место, и заупокойная служба начинается. Гроб, возвышавшийся посреди храма, убран множеством венков и живых цветов. Совершает отпевание архиерей, а также присутствуют ректор Петербургской Духовной академии протоиерей Янышев и наместник лавры архимандрит Симеон. Перед отпеванием Янышев произносит превосходную речь, восхваляя достоинства Достоевского как христианина.
После отпевания поклонники таланта Федора Михайловича снова поднимают гроб и выносят его из церкви.
Кладбище покрыто снегом. Сгибаются под тяжестью белого груза ветви деревьев. Мороз сковал землю.
Любопытные облепили памятники, взобрались на деревья, повисли на решетках. При приближении скорбного кортежа все обнажают головы.
Могила, предназначенная Достоевскому, находится рядом с могилой Жуковского. Перед отверстой могилой произносят речи писатели А.И. Пальм, П. Гайдебуров, О.Ф. Миллер, В. Соловьев: «…он верил… в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением, – говорит Соловьев. – Соединенные любовью к нему, постараемся, чтобы такая любовь соединила нас друг с другом. Тогда только воздадим мы достойное духовному вождю русского народа за его великие труды и великие страдания».
Незнакомые люди забрасывают гроб цветами. Могила слишком тесна и не может вместить целые охапки листвы и лепестков. Один почитатель украдкой срывает несколько лавровых веточек и прячет их под пальто. Холодно. Сгущаются сумерки. В четыре часа Анна Григорьевна, измученная усталостью и голодом, покидает кладбище. Между крестами еще бродят, пряча замерзшие лица в воротники пальто, какие-то черные фигуры, так похожие на тех безликих персонажей, которыми населил Достоевский свои книги.
Вскоре уходят и они. Запирают ворота. А там, вдали, в конце аллеи загорается фонарь сторожа.
Тогда и начинается настоящая жизнь Федора Михайловича Достоевского, жизнь вне времени и пространства, – жизнь в сердцах тех, кто полюбил его.
После смерти
После похорон Достоевского Анна Григорьевна с детьми каждый день приходила на кладбище, а дома ее, замерзшую, уставшую от слез, уже ждали посторонние посетители, от которых она не чаяла как отделаться. Там был болтливый дьякон, проникновенно славивший Федора Михайловича, как доброго христианина, уходивший только после того, как ему совали золотую монету. Была там сумасшедшая старуха, предлагавшая оставить миллион детям знаменитого писателя, если Анна Григорьевна поможет ей выпутаться из дела о наследстве. Была там и скромного вида особа с кротким лицом и вкрадчивыми манерами, уговаривавшая молодую вдову вступить во второй брак, ибо она «произвела очень сильное впечатление на очень приличного молодого человека». Были там и издатели, добивавшиеся права на издание полного собрания сочинений Достоевского. Был и профессор Вагнер из Петербургского университета, известный спирит, просивший у Анны Григорьевны позволения вызвать дух ее мужа. Она ему категорически отказала, но в ту же ночь увидела Федора Михайловича во сне:
«Проснувшись, я спрашивала себя, чего же я испугалась и какое у него было лицо». В этот момент дочка, лежавшая рядом, привстав на постели, сказала, что она тоже видела его во сне и «у него печальное и темное лицо».
Назойливые посетители, повседневные дела, постоянные поминовения держат Анну Григорьевну в состоянии крайнего нервного напряжения. Моментами ей кажется, что она сходит с ума. То ей чудится, что муж не умер и каждый день водит ее как на прогулку на кладбище на могилу какого-то незнакомого человека, то будто Федор Михайлович в своем кабинете. Она слышит, как он шелестит бумагой, тяжелыми шагами ходит от письменного стола к этажерке… Что же до людей, которые выражают ей свои соболезнования, то это всего лишь врачи-психиатры, которым поручено держать ее некоторое время взаперти.
1 марта 1881 года, вернувшись с кладбища, Анна Григорьевна застала у себя старого генерала, который был знаком с Достоевским. Он собирался завязать с ней разговор, но тут в комнату ворвалась горничная с криком: «Император убит!» Анна Григорьевна забилась в истерике, а старик генерал без чувств упал в кресло.
«Если бы мой муж и выздоровел, – говорит Анна Григорьевна, – то ненадолго: его убило бы известие о покушении 1 марта на Царя-Освободителя крестьян, которого он обожал».
Смерть Достоевского подхлестнула поклонение публики автору «Карамазовых». За несколько дней склады книжной лавки опустели. Издатели из Петербурга и из провинции наперебой добивались у Анны Григорьевны разрешения на переиздание «Записок из Мертвого дома» и «Дневника писателя». Она всем отказывала и, по совету опекуна детей прокурора Святейшего Синода Победоносцева, сама предприняла издание полного собрания сочинений мужа. Это собрание должно было открываться биографией писателя и сборником воспоминаний о нем, редакция которых поручена Миллеру и Страхову. Успех был огромный, прибыль исчислялась 75 тысячами рублей. Второе издание (в шести томах) появилось в 1886 году. Наконец в 1893 году издатель журнала «Нива» приобрел за 75 тысяч рублей право публиковать романы Достоевского в форме бесплатного приложения к журналу. Число подписчиков «Нивы» сразу подскочило с 70 000 до 190 000, но в течение нескольких лет нечего было и думать о новом собрании сочинений Достоевского.
В 1883 году среди почитателей Достоевского открыли подписку на создание памятника великому писателю. Проект, победивший на конкурсе, представлял собой увенчанную крестом скалу, а у ее подножия бюст Достоевского. Анна Григорьевна сочла проект неудачным, слишком громоздким, но Комитет его одобрил.
Две тысячи рублей, оставшиеся после сооружения памятника, были обращены в ценные бумаги, доход от них предназначался на учреждение и содержание школы имени Достоевского. Школу построили в Старой Руссе, и отец Иоанн Румянцев, друг Достоевского, стал ее директором. В 1887 году великий князь Владимир Александрович взял школу под свое просвещенное покровительство.
В редкие минуты досуга, остававшиеся после хлопот по изданию произведений Достоевского, организации школы и литературных встреч, Анна Григорьевна разбирала и приводила в порядок архив Достоевского. Письма друзей, корректуры перемешивались с лентами погребальных венков. Однажды вечером у своей гимназической подруги она встретила Сизова, хранителя исторического музея в Москве, и попросила у него помещение, чтобы устроить там комнату памяти Достоевского. Через неделю молодой вдове сообщили, что ей отведена башня в здании музея. Анна Григорьевна заказала в Петербурге специальную мебель из мореного дуба, одна только перевозка которой в Москву обошлась в 1300 рублей. И с 1886 года она один за другим посылала в музей ящики с книгами, портретами, рукописями.
Отныне смысл ее жизни заключается в том, чтобы увековечить память мужа. «Я не живу в двадцатом веке, – признавалась она в 1916 году Гроссману, – я осталась в 70-х годах девятнадцатого. Мои люди – это друзья моего мужа, мое общество – это круг ушедших людей, близких Достоевскому. С ними я и живу…»
Да, Анна Григорьевна добровольно отказалась от всякой личной жизни и всецело посвятила себя созданию культа Достоевского. Она была намерена поддерживать Федора Михайловича и после его смерти, как она поддерживала его при жизни. Она намеревалась бороться за него, одерживать победы в этой борьбе, подготовляя его бессмертие – его прочную непреходящую славу. Прежде она давала отпор кредиторам, теперь она дает отпор клеветникам и бесчестным биографам.
В 1898 году некая австрийка мадам Гофман[75], автор нескольких этюдов о Достоевском, через австрийского посланника добилась разрешения ознакомиться с секретными материалами процесса Петрашевского, хранившимися в архивах III Отделения, и снять копии с заинтересовавших ее бумаг. Ей было дозволено работать с этими документами только в присутствии Анны Григорьевны – ей одной принадлежало право снимать с них копии. Анне Григорьевне пришлось раз пять приходить в канцелярию III Отделения, чтобы переписать весь текст показаний Достоевского. В последний день она пришла вместе с мадам Гофман. Выйдя в швейцарскую, Анна Григорьевна доверила рукопись австрийской гостье на время, пока она наденет пальто. Когда она попросила вернуть ей сверток, мадам Гофман заявила, что не отдаст рукопись и в тот же вечер через одного австрийского чиновника отправит ее в Вену своему издателю. Анна Григорьевна возразила, что недопустимо публиковать показания ее мужа в переводе в немецкой газете раньше, чем они будут опубликованы в России. Но «австриячка» вцепилась в добычу обеими руками, прижав к себе сверток, и громко заспорила. Эта гротескная борьба двух женщин за бумаги покойного прекратилась только тогда, когда Анна Григорьевна пригрозила позвать городового: тот тут же арестует ее за кражу. Испугавшись скандала, мадам Гофман отдала рукопись. Анна Григорьевна за несколько часов переписала текст и в тот же вечер передала под расписку экземпляр копии своей «сопернице». Однако благодаря известности мадам Гофман немецкий перевод свидетельских показаний Достоевского появился в венской газете раньше, чем русские журналы решились опубликовать оригинал.
А.Г. Достоевская не любила биографов и сочинителей «мемуаров». Бесчисленное множество таких «воспоминаний», опубликованных после смерти Достоевского и написанных теми, кто едва был с ним знаком, выводили из себя Анну Григорьевну, убежденную, что только она одна и знала его по-настоящему. А издатели, однокашники, литературные друзья, товарищи по Сибири создавали в своих писаниях ложный образ Достоевского.
«Каждый раз, когда я узнаю, что кто-то опубликовал воспоминания о моем муже, – с горечью говорила Анна Григорьевна, – мое сердце сжимается, и я думаю: снова какие-нибудь преувеличения, домыслы, а то и обыкновенная ложь. И я редко ошибаюсь. И я всегда поражаюсь тону, ставшему уже общепринятым в воспоминаниях о Достоевском. Все вспоминатели, точно сговорившись, изображают его человеком мрачным, тяжелым в общении, чрезмерно гордым и страдавшим манией величия».
Озабоченная тем, чтобы оставить потомкам благородный образ своего мужа, Анна Григорьевна протестует, опровергая утверждения, искажающие, как ей представлялось, образ Достоевского. Он был неразговорчив? Так потому, что он только что поднялся по лестнице и не мог отдышаться. У него был угрюмый вид? Так потому, что он был болен.
Но какое значение имеют все эти безобидные замечания о покойном по сравнению с ужасными обвинениями, которые возвел на него его первый биограф Страхов?
В 1883 году Страхов согласился написать – за очень высокую плату – воспоминания о Достоевском. 26 ноября этого же года он послал Толстому письмо, пропитанное ненавистью к знаменитому покойнику. Письмо было опубликовано в 1913 году в октябрьском номере журнала «Современный мир», но Анна Григорьевна узнала об этом только год спустя; разбирая вырезки из газет и журналов, посвященные Достоевскому, она нашла и прочитала это письмо:
«Напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя тема у меня богатейшая… Вы, верно, уже получили теперь Биографию[76] Достоевского – прошу Вашего внимания и снисхождения – скажите, как Вы ее находите. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с поднимавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен… Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что… в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка… Лица, наиболее на него похожие, – это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов в „Преступлении и наказании“ и Ставрогин в „Бесах“… я мог записать и рассказать и эту сторону в Достоевском, много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет».
Вот ответ Толстого: «Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, – за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву… Ведь Тургенев и переживет Достоевского – и не за художественность, а за то, что без заминки».
12 декабря 1883 года Страхов отвечает Толстому:
«И Ваше определение Достоевского хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю – ничто, в точном смысле этого слова: так мне представляется его душа».
Годом раньше (6 октября 1882 года) Тургенев писал Салтыкову по поводу Достоевского:
«Прочел я также статью Михайловского о Достоевском. Он верно подметил основную черту его творчества. Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было схожее явление – а именно пресловутый Маркиз де Сад… И как подумаешь, что по этом нашем де Саде все российские архиереи совершали панихиды и даже предики читали о вселюбви этого всечеловека! Поистине в странное живем мы время!»
Этот взрыв завистливой клеветы вокруг имени Достоевского до глубины души возмущает Анну Григорьевну. Особенное негодование вызывает у нее письмо Страхова. «У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения, – заявила она Гроссману. – Какая неслыханная клевета!.. Если бы Страхов был жив, я, несмотря на мои преклонные годы, немедленно отправилась бы к нему и ударила бы его по лицу за эту низость».
Ведь Страхов на протяжении десяти лет был сотрудником Достоевского, его доверенным лицом, его протеже, его другом, наконец! Почему же он не отказался писать эту биографию, если работа над ней вызывала у него такое отвращение? Как он мог обвинять Федора Михайловича в эгоизме, если ему было прекрасно известно, что всю свою жизнь Федор Михайлович лишал себя самого необходимого, лишь бы что-то послать, как-то поддержать семью своего покойного брата? Как у него повернулся язык назвать писателя злым, когда он приходил на помощь всем своим корреспондентам, которые к нему обращались за ней, более того, он, чтобы помочь чужой беде, обращался за поддержкой к таким влиятельным лицам, как Победоносцев и Вышнеградский? Что же до сцены в бане, то это – истинное происшествие: кто-то рассказывал о нем Достоевскому, и он хотел использовать этот эпизод в «Бесах». Но друзья отсоветовали ему из опасения, что читательницы не простили бы Достоевскому, защитнику «женского вопроса», если бы он вывел в романе гувернантку – поставщицу детей для развратника. Причина же в том, что Страхов, в сущности, всего лишь второстепенный литератор, завистливый, мелочный, хитрый, интриган и приживальщик. Федор Михайлович хорошо его раскусил, поскольку еще в 1875 году писал о нем: «Нет, Аня, это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением „Эпохи“, и прибежал только после успеха „Преступления и наказания“.
Однако Анна Григорьевна[77], защищая своего мужа от нападок и клеветы, теряет чувство меры. Она до крайности упрощает личность Достоевского. Мы видели выше, что значит „нравственность“ в понимании Достоевского. Достоевский был способен на великую доброту и одновременно на мелкую злобу, на великое самопожертвование и мелкий эгоизм, на великие чувства и мелкие пороки. Он был олицетворением укрощенного зла. Если он и не запятнал себя садистскими преступлениями, которые совершали его герои, то он наверняка мечтал их совершить. Мысли о них неотступно преследовали его. Они его искушали. И он освобождался, он излечивался от них, описывая их в романах. Если он смог стать столь великим, то потому, что вмещал в себе не только все слабости, но и всю красоту человека. Он был универсальным человеком и не благодаря своему уму, а благодаря своему сердцу, благодаря плоти. Он не мог исчерпать себя ни в „бесе“ Ставрогине, ни в „святом“ Мышкине» – он был и тем и другим одновременно, и полностью отдавал себе в этом отчет. И эта двойственность пронизывает все его творчество, он балансирует между миром плоти – миром сладострастия и миром духа – миром отречения. Он колеблется в выборе между существующим миропорядком и непостижимостью иных миров. Он воплощает отрицание самого понятия «выбор». И не стоит удивляться, если этот христианский пацифист превозносит Восточную войну, если этот визионер-эпилептик насыщает свои книги реалистическими деталями. Достоевский раздваивается, как и его герои. И как только он предлагает решение какой-нибудь «проблемы жизни», мы можем быть уверены, что сам он это решение не приемлет. Достоевский в своем творчестве не дает ответов – он ставит вопросы, и мы, прочитав Достоевского, уже не те, кем были до этого.
Нам представлялось, что мы прочно вросли в существующий тысячелетиями мир, что привычные нам с детства законы науки, предписания морали, общественные нормы неизменны и святы. И вот уже зашаталась обжитая декорация, и земля разверзлась под нашими ногами. Пропасть окружает нас со всех сторон… Достоевский вырывает нас из сладостного сна, и мы просыпаемся на краю бездны. Куда исчезли наши иллюзии, наши проверенные временем истины, казавшиеся такими надежными? Где оказались мы сами? Да и кто мы сами? У нас отняли наши понятия, которые философы, не скупясь, внушали человеку со дня зарождения жизни на земле. А что нам предложили взамен? Ничего, почти ничего, скажут одни. Все, возразят другие. Достоевский ввел в роман понятие метафизической неразрешимости. Он обогатил нас, но не даровал нам ни мира, ни покоя – он вселил в нас неутихающую тревогу. Он не навязал нам какую-то новую догму – он призвал нас к бесконечному терпению. Он не раскрыл нам причин ожидания – он привил нам вкус к ожиданию. «Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том».
И вот вдали, как будто выступая из тумана, появляется и устремляется к нам целая толпа странных созданий, силуэты их фигур размыты, черты расплывчаты, но вера и надежда озаряют их просветленные лики. Раскольников, Мышкин, Рогожин, Ставрогин, Версилов, братья Карамазовы… И вот уже они – эти преступники, эти безвинные, эти развратники среди нас, серьезные и сосредоточенные. И мы узнаем в них самих себя. И знаем: отныне они будут сопровождать нас до последних дней нашей жизни, вместе с нами задыхаясь от сжигающих нас желаний, вместе с нами томясь духовной жаждой и подталкивая нас в спину каждый раз, когда нам покажется, будто мы достигли цели.
«Не останавливайся на пути к наивысшему!» – писал Гёте.
Достоевский потому и велик, что никогда не останавливался.
Примечания
1
Архив, издававшийся Комиссией для разбора древних актов. (Том XVIII). – Прим. автора.
(обратно)2
Имя Андрей стало традиционным в семье Достоевских. – Здесь и далее примечания переводчика. Примечания автора оговариваются.
(обратно)3
Подробнее об этом см.: Коган Г. Загадки в родословной Ф. М. Достоевского. – Вопросы литературы, 2002, № 5, с. 376.
(обратно)4
Мелодрама французских драматургов Ж. Габриэля и К. Рошфора.
(обратно)5
Эпическая поэма Вольтера (1728 г.).
(обратно)6
Стол, стола (лат.).
(обратно)7
Я люблю, ты любишь, он любит (лат.).
(обратно)8
Романы английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832).
(обратно)9
Баллада Жуковского (1818 г.); баллада Пушкина (1822 г.).
(обратно)10
Стихотворение минского гимназиста А. Керсновского «На смерть Пушкина».
(обратно)11
Герой поэмы «Шильонский узник» (1816 г.) английского поэта Д.Г. Байрона.
(обратно)12
Автором статьи о Гюго, которая в переводе Н. Полевого опубликована в журнале «Сын отечества» в мае-апреле 1838 года, был не Низар, а французский критик Гюстав Планш.
(обратно)13
«Ифигению» (фр.).
(обратно)14
«Федра» (фр.).
(обратно)15
«Сида» (фр.).
(обратно)16
Гранде (фр.).
(обратно)17
Я сказал (лат.).
(обратно)18
«Евгении Гранде» (фр.).
(обратно)19
Навязчивая идея (фр.).
(обратно)20
Дон Карлос и маркиз Поза – герои драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787 г.).
(обратно)21
Герои одноименных романов М. Н. Загоскина.
(обратно)22
Герой романа английского писателя С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1747–1748), обольститель женщин; его имя стало нарицательным.
(обратно)23
Один из героев «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака.
(обратно)24
«Я ваш клакер-пропагандист» (фр.).
(обратно)25
Позже Анненков изменил текст воспоминаний, впервые опубликованных в 1880 г. в «Вестнике Европы». В отдельном издании книги он исключил фразу «Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе», заменив ее словами «автор… потребовал».
(обратно)26
Споры (фр.).
(обратно)27
Шедевр (фр.).
(обратно)28
Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневник. М., 1993, с. 294. Перевод Е. В. Баевской.
(обратно)29
Люсьен де Рюбампре (фр.) – персонаж «Человеческой комедии» французского писателя О. де Бальзака.
(обратно)30
Согласно специальному циркуляру, чиновникам, состоявшим на государственной службе, запрещалось иметь длинные волосы, усы и бороду.
(обратно)31
Первые 34 строки стихотворения «Деревня» (1819 г.) опубликованы в 1826 г. под названием «Уединение» (но заключительная строфа в него не входила).
(обратно)32
«Север» (фр.).
(обратно)33
Примечание к словам майора «…я – Божьей милостью майор».
(обратно)34
Кьеркегор (Киркегор) Серен (1813–1855) – датский теолог, философ, писатель, предшественник экзистенциализма.
(обратно)35
Осанна (греч.) – молитвенный возглас, славословие. Петь осанну (восклицать) – выражать кому-нибудь полную преданность, покорность, превозносить кого-нибудь.
(обратно)36
Инкогнито (лат.) – скрытно, тайно, не называя своего имени.
(обратно)37
Жиль Блазом и архиепископом Гренадским (фр.) – персонажи романа «Похождения Жиль Блаза из Сантильяны» (1715–1735 гг.) французского писателя А.Р. Лесажа.
(обратно)38
Имеется в виду роман И.А. Гончарова «Обломов».
(обратно)39
Ласенер Пьер Франсуа (1803–1836) – французский преступник, в начале 1830-х годов из идейных соображений убивший целую семью.
(обратно)40
Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) – итальянский авантюрист, автор знаменитых «Мемуаров» (1791–1798).
(обратно)41
Поваляться на траве (фр.).
(обратно)42
Моя козочка (фр.).
(обратно)43
Птичка (фр.).
(обратно)44
В 1868 г. Суслова открыла школу-пансион для девочек в селе Иванове Владимирской губернии.
(обратно)45
«Быстрей, быстрей!» (фр.).
(обратно)46
Каменная стена у Достоевского – аллегорическое обозначение препятствий, возникающих на пути человека: законов природы, нравственных законов, исторической закономерности и др.
(обратно)47
Бодлер Ш. Указ. соч. с. 269.
(обратно)48
Жаклар Шарль Виктор (1843–1903) – французский журналист, деятель Парижской коммуны. После бегства из тюрьмы жил в России.
(обратно)49
Имеется в виду преступление студента А.М. Данилова, 12 января 1866 г. убившего и ограбившего ростовщика и его служанку.
(обратно)50
Достоевский повредил один глаз во время припадка, зрачок был расширен.
(обратно)51
Тридцать шесть (фр.).
(обратно)52
Ноль (фр.).
(обратно)53
«Пойдем со мной!» (фр.)
(обратно)54
Статья «Мое знакомство с Белинским» предназначалась для альманаха «Чаша». Альманах не состоялся, статья утрачена.
(обратно)55
Улица (фр.).
(обратно)56
Видите, месье, вы идите совсем прямо и, когда пройдете мимо этого величественного и изящного фонтана, вы пойдете и т. д. (фр.).
(обратно)57
Величественный и элегантный фонтан (фр.).
(обратно)58
Рококо (фр.).
(обратно)59
«О, эти русские, эти русские!» (фр.)
(обратно)60
«Мальчик, не правда ли?» (фр.)
(обратно)61
«Девочка, очаровательная девочка!» (фр.)
(обратно)62
«О, эти русские, эти русские!» (фр.)
(обратно)63
Речь идет о вышедшей в 1863 г. в Вюрцбурге на французском языке книге Поля Гримма «Тайны царского двора». (При Николае I.)
(обратно)64
Библиотека-читальня (нем.).
(обратно)65
«Париж должен быть бомбардирован!» (нем.)
(обратно)66
Имеется в виду повесть Тургенева «Призраки», опубликованная в № 1–2 журнала «Эпоха» за 1864 г.
(обратно)67
Псевдоним П.Н. Ткачева. Статья «Больные люди» опубликована в 1873 г. за подписью П.Н.
(обратно)68
В. Гюго (фр.).
(обратно)69
Речь идет о романе «Анна Каренина».
(обратно)70
«Обозрение двух миров» (фр.).
(обратно)71
Государство в государстве (лат.).
(обратно)72
Паскаль Б. Мысли. М., 1995, с. 196. Перевод Ю. Гинсбург.
(обратно)73
Мария Александровна, жена Александра II.
(обратно)74
«Пушкинские торжества» открылись 5 июня 1880 г. публичным заседанием Комитета по сооружению памятника Пушкину. Само открытие памятника, которому предшествовала служба в Страстном монастыре, состоялось 6 июня.
(обратно)75
Гофман Нина– автор первой на немецком языке биографии Достоевского и переводчица его произведений на немецкий язык.
(обратно)76
«Биография» была составлена по просьбе Анны Григорьевны О.Ф. Миллером и Н.Н. Страховым и вошла в том I Полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского. СПб, 1883.
(обратно)77
Революция 1917 года разорила Анну Григорьевну. Она бежала в Крым. Отчаявшаяся, нищая, голодная, она скончалась 9 июня 1918 года. Ее сын Федор умер в Москве в 1921 году, дочь Любовь – в Италии в 1926 году. – Примечание автора.
(обратно)
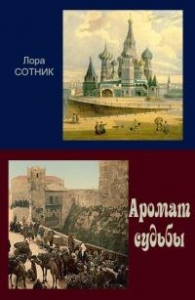





Комментарии к книге «Федор Достоевский», Анри Труайя
Всего 0 комментариев