Теодор Кириллович Гладков Николай Григорьевич Зайцев И я ему не могу не верить…
Длинной шеренгой тянутся раскрытые заговоры и восстания. Зоркий глаз ВЧК проникал всюду. ВЧК была орудием диктатуры трудящихся. Пролетариат выделил для работы в органах ЧК лучших сынов своих. И неудивительно, что враги наши бешено ненавидели ЧК и чекистов.
Ф. Э. ДзержинскийПрощай, Кашин!
Человек появился на свет… Каким он станет, когда вырастет? Как будут развиваться его природные способности? Во зло или на благо другим людям? Ведь такие качества, как доброта, душевность, честность, трудолюбие, стремление посвятить себя служению своему народу, по наследству, как цвет волос и глаз, не передаются. Они воспитываются, вырабатываются в ребенке под влиянием окружающих его в детстве взрослых, в первую очередь — родителей. Потом — учителей и старших товарищей. Политические взгляды, убеждения подростка, затем юноши формируются под сложным воздействием многих жизненных факторов, в том числе и круга чтения. На каком-то этапе процесса взросления все возрастающую роль будет играть уже и самовоспитание…
Сложные вопросы. Над ними бьются лучшие педагоги уже не одного поколения. И все сходятся в одном: начало начал — материнская любовь. Но не слепая, а то светлое самоотверженное чувство, когда мать печется не только о физическом благополучии своего чада, но и о его нравственном здоровье.
Артур рос хорошим ребенком прежде всего потому, что первым его воспитателем и наставником была хорошая мать, человек высоких моральных критериев и требовательной доброты, Августа Августовна Фраучи. Ее благотворное влияние определило навсегда и строй мыслей, и характер поступков мальчика. Жить без фальши… Этому он учился с детства. Этому принципу следовал до конца дней своих.
Сестра Артузова Вера Христиановна вспоминает: «Зерно» образа человека закладывается еще в детстве. В этом отношении мой брат Артур не исключение.
В нашей семье главным авторитетом была мама. Мы никогда не видели ее усталой, хотя и несла она самую тяжелую ношу. Ее красивое лицо, залитое румянцем деревенского загара, всегда было приветливым к нам, детям, всегда мы видели на нем ласковое, любящее выражение. Если отец, молчаливый и вечно чем-то озабоченный, не часто находил каждому из нас теплое слово, то мать, наоборот, источала и снисходительность, и доброту. Ее серые проницательные глаза чутко ловили наши взгляды, безошибочно читали и наши мысли, и настроение. Душевная чуткость мамы была обворожительной. Она умела управлять нами напористо и в то же время деликатно. Эта деликатность в обращении входила в нашу плоть и кровь.
Артур нередко пропадал в деревенской мальчишечьей компании и, бывало, приходил домой с расквашенным носом. Мама не проявляла к нему никакой видимой жалости, только говорила:
— Ты бы постоял за себя… Ты же мужчина.
Этих слов было достаточно, чтобы уязвить самолюбие Артура. Впоследствии он стал очень сильным подростком и, по-моему, до конца жизни мускулы его оставались железными.
Когда Артур сделался постарше, мать руководила его чтением. Тут она предстала перед ним и нами как мечтательница. Она не представляла свою жизнь без книги и называла ее своею второй землей. Ее романтичность и упорство, постоянство характера и выдержка сослужили нам, и в первую очередь Артуру, хорошую службу.
Артур был любимцем матери. Это можно было определить сразу по тому, как она смотрела на него своими удивительно живыми глазами…
Артур закончил новгородскую гимназию с золотой медалью. Мама ликовала. Впоследствии все мы нашли место в жизни — я стала литературным работником, младший брат Виктор — профессором медицины.
В годы реакции у нас скрывались большевики Подвойский, Кедров, Ангарский, его брат Клестов. Это были лучшие собеседники матери. Она их понимала, разделяла их взгляды на современную жизнь. Нет-нет наша мама и вплетала в разговор слова о будущем Артура: кем он станет?
— Непременно борцом, а это главное, — уверяли ее наши гости. — Лишь на этой дороге не испытаешь кризиса в жизни.
— Да-да, — соглашалась мама, — хотелось бы верить. Способный мальчик…
— Способности и характер испытываются в упорном труде без расчета на награду. Золотой рубль не должен означать больше, чем правда и истина…
— Таков наш труд, — соглашалась мама.
— Так должно быть и у Артура…»
* * *
— Н-но! Трогай! В путь! — И, залихватски гикнув на лошадей, Христиан Фраучи вскочил на телегу.
Артур, вихрастый мальчуган лет двенадцати с ярко-синими глазами, утонув в сене, задумчиво жевал стебелек вики и с грустью смотрел на провожавших его ребят. Они остаются в деревне, а он едет куда-то в неизвестную даль.
Семья Христиана Фраучи покидала обжитую усадьбу Юрино, перебиралась на новое место. Их будет много, таких переездов, в юной жизни Артура: усадьбы Ждани, Устиново, Михайловское, Путятино, Петровское, село Давыдково… Христиан Петрович часто перебирался из одной усадьбы в другую. Все зависело от того, в какой степени владелец или управляющий нуждались в услугах лучшего в губернии мастера-сыровара, выходца из Швейцарии, страны, славящейся, как известно, этим замечательным продуктом — сыром издавна.
Вот так и вышло, что все дети Фраучи, швейцарца итальянского происхождения, появились на свет в русских деревнях, да и выросли русскими людьми. Сын Артур родился в деревне Устиново 4 февраля 1891 года.
Христиан, управляя лошадьми, то и дело поглядывал за детьми: не растрясло ли их? Девочки ерзали в телеге. Проселочная дорога, известно, колдобина на колдобине.
Наконец лошади благополучно довезли телегу со всем добром семьи Фраучи — несколькими баулами — по разбитой конскими копытами, размытой дождями дороге до Кашина.
Дети с любопытством озирались по сторонам. После Юрина захолустный Кашин казался им настоящим большим городом. Заметив их интерес к окружающему, Августа Августовна стала увлеченно рассказывать о центре всей губернии — древней Твери. У матери Артура было всего четыре класса образования. В свое время она жила в Вологде, где младшие сестры учились в гимназии, а она, как старшая, опекала их. В Вологде жило тогда много ссыльных революционеров. Сестры водили с ними знакомство, приносили домой полученные от них книги, в том числе по истории России. Эти книги, естественно, не прошли мимо внимания Августы, от природы пытливой и любознательной. К тому же она обладала отличной памятью и живым воображением. Вот и теперь с искренним увлечением она рассказывала маленьким слушателям о правлении на Твери брата Александра Невского — Ярослава Ярославовича, о том, как посадские мужики убили за жестокость и бесчинства татарского хана Щелкана, о более поздних временах, когда творил в городе знаменитый зодчий Казаков, сочинял басни «дедушка» Крылов, переводил «Илиаду» Гнедич, читал первые главы своей «Истории государства Российского» Карамзин, жил и работал великий писатель Салтыков-Щедрин. Говорила Августа Августовна и о славном путешествии в далекую и таинственную Индию тверского гостя Афанасия Никитина…
Дети слушали внимательно. Заключительные слова материнского рассказа глубоко запали в душу Артура:
— Тверская земля — твоя родина, и ты должен хорошо знать историю своего края. Не может быть по-настоящему свободным человек, у которого нет родной земли. Историю делают люди. Твои великие земляки для тебя — живой пример.
Артур уже знал, что в Жданях отец будет заниматься не только сыроварением: Христиан Петрович арендовал здесь и участок земли, чтобы самому его обрабатывать с помощью подрастающих детей. Летом, конечно, потому что зимой мальчику предстояло учиться в новгородской гимназии. Артур знал также, что на новом месте ему предстоят новые встречи с дядей Мишей и дядей Колей. Для Артура они были невероятно интересными, всегда желанными взрослыми друзьями их дома и семьи, людьми загадочными и притягательными. Они привозили с собой необычные книги (особо Артуру запомнилось дарвиновское «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» в чтении дяди Миши), говорили с мальчуганом, как с равным, о серьезных вещах. Позднее Артур понял, что дядя Миша и дядя Коля были профессиональными революционерами, членами большевистской партии. Он также узнал и то, что Михаил Кедров и Николай Подвойский и их некоторые друзья-большевики приезжали в усадьбу не только для того, чтобы навестить семью Фраучи, но и укрыться на время от недреманного ока царской охранки.
Так уж вышло, что далекий от политики Христиан Фраучи и русские революционеры Михаил Кедров и Николай Подвойский стали свояками. Они женились на родных сестрах — соответственно Августе, Ольге и Нине Дидрикиль. Это была большая и дружная семья, в которой за несколько поколений причудливо перемешалась эстонская, латышская, русская и даже шотландская кровь. Ольга и Нина были политическими единомышленницами своих мужей. Занималась активной революционной деятельностью и четвертая сестра, Мария, — долгое время она работала вместе с Вячеславом Менжинским. Дядя Миша Кедров был чрезвычайно одаренным человеком, которого хватало на все: он учился на юриста, одновременно слушал лекции в Лазаревском институте восточных языков, впоследствии, не прерывая ни на день революционную деятельность, получил и высшее медицинское образование. Кроме того, он был превосходным пианистом, давал концерты, сбор с которых шел в фонд помощи политэмигрантам-большевикам. С горящими глазами Артур слушал рассказы Кедрова о том, как тот с товарищами вел в Москве подкоп под баню Таганской тюрьмы, чтобы освободить своего друга, революционера-большевика Николая Баумана, как с дружинниками захватил на Волге пароход со взрывчаткой или как обманул жандармов и, имея разрешение на приобретение в «целях самообороны» одного револьвера, скупил для боевых рабочих дружин всю наличность оружейных магазинов Биткова и Зимина в Москве.
По мере того как Артур рос, темы разговоров с Михаилом Кедровым становились все серьезнее. Высокообразованный марксист раскрывал перед юношей уже не только романтическую сторону революции, а глубокие экономические и социальные корни движения пролетариата за свое освобождение от гнета царизма и капитала.
Во время очередного приезда Кедрова в Ждани Артур рассказал о своих успехах в математике, отечественной истории и языках. Сознался, что не ладится у него с законом божьим, не идет на ум, и все тут.
— Новой России нужны будут образованные люди, — сказал Кедров, — много образованных людей, неумехи и полузнайки нам не нужны. Закон божий не только гимназический предмет, с этой точки зрения он, точно, тебе не нужен. Но знать религию необходимо для каждого революционера. Религиозный дурман — один из серьезнейших противников нашего марксистского, материалистического мировоззрения. А противника всегда нужно изучать, иначе его не победишь. Вот и подходи к закону божьему с этой меркой…
На этот раз Кедров недолго гостил в Жданях. Дела требовали его присутствия в Петербурге. Осенью 1906 года на небольшое наследство, оставшееся после смерти отца, он приобрел в столице типографию и открыл на ее базе легальное издательство «Зерно». Однако, поскольку над самим Кедровым висела давняя угроза ареста и суда и он должен был перейти на нелегальное положение, фиктивным владельцем издательства был оформлен литератор Веселовский.
По поручению ЦК партии большевиков Михаил Кедров при участии Николая Подвойского и Михаила Ольминского развернул издание марксистской литературы. «Зерно» выпустило сборник «Карл Маркс» (к 90-летию со дня рождения основоположника научного коммунизма) со статьей В. И. Ленина «Марксизм и ревизионизм», а затем приступило к первому изданию собрания сочинений Владимира Ильича в трех томах под названием «За 12 лет».
Прощаясь с Кедровым, Артур стал горячо просить дядю Мишу взять его с собой для помощи в делах.
— Что ж, — ответил Кедров, — хорошие помощники мне нужны. Только имей в виду, наша работа — занятие для людей не робкого десятка. Полиция и охранка с нас глаз не сводят, малейшая ошибка и — тюрьма.
— Не бойся, дядя Миша, — горячо заверил Кедрова Артур, — я не оплошаю.
— Что ж, раз так, то приезжай. Но предупреждаю еще раз — тебя ждут многие препятствия и опасности. Впрочем, преодоление препятствий уже само по себе есть осуществление свободы. Так сказал один очень умный человек.
Очередные летние каникулы Артур Фраучи провел в Петербурге. Одетый в щеголеватую гимназическую форму, он раскатывал на извозчике по данным ему дядей Мишей адресам и развозил пакеты с литературой, которую получал в доме № 110 по Невскому проспекту, где размещалось издательство и книжный склад. Ни у городовых, ни у дворников — соглядатаев полиции молодой «барич»-гимназист никаких подозрений не вызывал. Так Артур приобрел первые навыки конспирации.
Вполне естественно, что Артур не только распространял нелегальную литературу, но и читал ее с жадным интересом. Этому способствовали и частые беседы с Кедровым, который не уставал наставлять своего юного соратника:
— Люди перестанут мыслить, когда перестанут читать…
Эти слова заставляли задуматься. К сожалению, знакомство с марксизмом оказалось не слишком продолжительным: оно было прервано разгромом царскими властями издательства «Зерно» и арестом «дяди Миши» — Кедрова.
Серьезным политическим самообразованием Артур Фраучи занялся, уже став студентом Петербургского политехнического института. Процесс этот был далеко не простым и безболезненным.
Российская интеллигенция (следовательно, весьма значительная и активная ее часть — студенчество) после поражения революции 1905 года и начавшейся реакции так и не вышла еще из кризиса духа, идейных шатаний и разброда. В «образованном обществе» читали переводные сочинения философов-идеалистов, реакционных политических мыслителей — подражателей Ницше, стихи поэтов-декадентов, многие увлекались столоверчением и прочей мистикой, масонством и тому подобным.
Было от чего пойти кругом голове любознательного юноши, очутившегося в Петрограде после окончания провинциальной гимназии. И нет ничего удивительного в том, что новомодные идеи и веяния на какое-то время задели и Артура Фраучи. К счастью, у него была светлая голова, и кратковременные увлечения чуждыми ему, в сущности, идеями, бытовавшими в студенческой среде, не сбили молодого человека с истинного пути. Артур Фраучи в конце концов примкнул к нелегальным кружкам марксистского направления. Большую роль в этом — окончательном на всю жизнь — выборе сыграло новое прочтение марксистских книг авторов-большевиков, особенно ленинских философских работ, с которыми его впервые познакомил еще М. С. Кедров.
…Получив диплом инженера-металлурга, Артур Фраучи не задержался в Петрограде — он уехал на Урал, чтобы стать сотрудником известного во всем техническом мире «Металлургического бюро» профессора Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло. Лучшей школы для молодого инженера и придумать было нельзя. Здесь, в лаборатории Громоподобного (так называли профессора за глаза его коллеги), генерировались самые прогрессивные технические идеи. Достаточно сказать, что бюро Грум-Гржимайло разработало для отечественной металлургии около ста пятидесяти типов различных печей и иного оборудования!
Сослуживцы сулили Артуру Фраучи блестящую карьеру на инженерном поприще, о том же недвусмысленно и не раз говорил и сам Громоподобный. Но в далеком Петрограде началась Февральская революция, народ сбросил трёхсотлетнюю корону с обветшалого дома Романовых — царизм пал. Вернулись из ссылок, тюрем, эмиграции многие большевики. Получив письмо от дяди Миши, призывавшего его принять участие в революционной работе в Питере, Артур Фраучи хотя и с сожалением, но без колебаний оставил работу по профессии и немедленно выехал в столицу.
Уже после Октябрьской революции Михаил Сергеевич Кедров скажет однажды об Артуре:
— Судьба подарила мне друга славного, преданного, мягкого в словах и великого в помощи, не терпящего отдаления, широкого по милости, верного догадкой. Словом, у меня есть настоящий политический сын.
В свою очередь Артузов оставит такое искреннее признание: «Как и многие юноши из интеллигентных семей, я долго метался, пока не нашел себя и ту единственную правду земли, без которой не может жить честный человек. Она, эта правда, заключается в том, чтобы люди, которые трудятся, были сыты и свободны… Не знаю, что было бы со мной, если бы не дядя Миша. Большевиком я стал исключительно под влиянием незаурядной личности Михаила Сергеевича Кедрова».
В том же 1917 году Артур Фраучи организационно оформил свою принадлежность к партии большевиков, идеи и позиции которой он разделял с юношеских лет.
«Молодой декан»
Вскоре после победы Октября Советская власть вынуждена была приступить к созданию на основе добровольческих отрядов Красной гвардии армии принципиально нового типа — армии социалистического государства. Старая русская армия, обескровленная, измотанная империалистической войной, была не в состоянии обеспечить защиту завоеваний революции. Голодные, разутые, обозленные долгим кровопролитием солдаты рвались по домам. Необходимо было в кратчайшие сроки и максимально организованно провести демобилизацию. В то же время требовалось удержать — и только убеждением! — в армии наиболее преданных революции солдат и офицеров, которые в будущем могли бы составить ядро, костяк новых, уже советских, вооруженных сил.
Это было делом неимоверно трудным. Глава Советского правительства В. И. Ленин поручил его наркому по демобилизации армии и флота (сокращенно ведомство называлось Демоб) М. С. Кедрову.
К работе в Демобе Кедров привлек и Артура Фраучи. В распоряжении ведомства оказались огромные технические ресурсы, дорогостоящее военное имущество, автомастерские и т. п. Разобраться во всем этом хозяйстве, оказавшемся безнадзорным, мог только человек с инженерным образованием. Артур Фраучи подходил для этого, как никто другой, тем более что владел немецким, английским и французским языками. Это тоже имело важное значение, так как значительная часть техники была иностранного производства. Фраучи стал работать в отделе Демоба, который занимался материально-техническим снабжением армии, а также проблемами мобилизации и использования солдат, обладавших техническими знаниями Так продолжалось несколько недель. А затем Артуру пришлось на время покинуть Москву…
Весной 1918 года сложная и опасная обстановка стала складываться в северных районах республики, особенно в Архангельске и Мурманске. Советскому правительству было совершенно очевидно, что именно здесь следует в первую очередь ожидать интервенции со стороны бывших союзников России. Аппетиты Антанты подогревались при виде скопившихся огромных материальных ценностей. Только в Архангельском порту на ходилось свыше 700 тысяч артиллерийских снарядов, 80 тысяч пудов взрывчатых веществ, множество прочих боеприпасов, вооружения, угля, столь необходимых молодой Красной Армии.
Для обследования положения в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской и Иваново-Вознесенской губерниях, принятия надлежащих мер и в первую очередь разгрузки Архангельского порта Совнарком решил послать на Север специальную «Советскую ревизию народного комиссара М. С. Кедрова» с широкими полномочиями В «Ревизию» М. С. Кедрова входило 40 сотрудников и для охраны команда латышских стрелков из 33 человек. Секретарем «Ревизии» стал Артур Фраучи.
* * *
Трубы английского крейсера «Аттентив», стоявшего на архангельском рейде, вдруг густо задымили. Темная завеса заволокла небо, придавила свинцовое море. Меньшевики и эсеры, захватившие власть в городе, не на шутку всполошились: «Неужели уходит?» Срочно был послан гонец к представителю генерала Пуля. Тот хладнокровно заверил: «Генерал проводит очередную проверку боевой готовности».
Пуль, осознавая недолговечность непопулярной в народе меньшевистско-эсеровской власти, зря времени не терял: держал экипаж на «товсь», с тем чтобы в нужный момент овладеть положением. На планшетах офицеров были нанесены координаты стратегических пунктов города. Орудия крейсера в любую минуту могли обрушить на них залповый огонь. Разведывательные группы проводили промеры глубины у берегов на случай, если придется высаживать десант.
После генеральского заверения жизнь в Архангельске пошла своим чередом: городская дума заседала, купцы и судовладельцы, хозяева фабрик и лесопилок, как и в прежние времена, раскатывали в дорогих пролетках, швыряли в ресторанах «моржовки», обеспеченные английскими фунтами. У складов меж тем стояли часовые в иностранной форме. Официально английские, французские и американские солдаты находились здесь с весны якобы для защиты от немцев боеприпасов и военного снаряжения. На деле они были форпостом будущей интервенции.
Тем временем реакционно настроенные офицеры, поняв, что в главных пролетарских центрах им на успех рассчитывать не приходится, тайно переправлялись из Петрограда, Москвы, других крупных городов России на Дон, в Сибирь, а также в Архангельск и Мурманск, где бывшие союзники — Англия, Франция, а затем и Америка — располагали реальной военной силой. Офицерам тайно помогали некоторые военспецы, засевшие в московских и других штабах, в частности в Военконтроле — так теперь называлась бывшая военная разведка. И потекли бывшие подпоручики, штабс-капитаны, полковники на окраины России, чтобы начать оттуда поход против Советской власти. Потекли уже не на свой страх и риск, а с подлинными документами, к которым не придерешься, с полученными законно подъемными.
Именно такое положение застал нарком Кедров в Архангельске. Сотрудники его «Ревизии» делали все, чтобы укрепить органы Советской власти в городе и губернии, ликвидировать контрреволюционные гнезда, создать надежные подразделения и части Красной Армии.
Очень скоро Кедров понял, что враги республики используют Военконтроль в своих антинародных целях. Он незамедлительно отдал приказ, чтобы красноармейские патрули повсеместно задерживали всех офицеров, которые направлялись в Архангельск из Москвы, Петрограда и Вологды. Очень скоро таких набралось несколько десятков. У всех были, как и ожидал нарком, документы, выданные Военконтролем Вологды. Офицеров обыскали. Почти у каждого были найдены кармане две пуговицы — черная и белая Даже для непосвященных в таинства конспирации стало ясно, что пуговицы служили опознавательными знаками. Установили, что все офицеры с пуговицами шли к белогвардейскому генералу Овчинникову. Так было выявлено и доказано, что вологодский Военконтроль, да и не только вологодский, засорен врагами. Об этом Кедров доложил Ленину.
Артур Фраучи в «истории с пуговицами» оказал Михаилу Сергеевичу весьма существенную помощь. Успокаиваться, однако, не приходилось. Каждый день приносил новые тревоги, все более и более серьезные.
…Английский консул Дуглас Юнг прислал Кедрову письмо, не оставляющее никаких сомнений, касающихся захватнических намерений своего правительства. Ознакомившись с ним, Кедров бросил в сердцах лощеную, с британским золотым львом, бумагу на стол. Гневно сказал:
— Разве все это уже не оплачено русской кровью?
Артур взял письмо, быстро пробежал глазами: «…я нахожу своим долгом во избежание всяких недоразумений в будущем через посредство ваше ясно и категорически объявить местным фактическим властям мнение британского правительства относительно собственности груза, находящегося в Архангельске. Британское правительство считает весь ввезенный в Архангельск груз исключительно собственностью союзников, а не России».
— Что скажешь на это? — спросил Кедров Артура.
— Категоричное письмо. И наш ответ тоже должен быть категоричным.
Артур хорошо знал дядю Мишу. Он был уверен, что своим наглым письмом английский консул не только не запугает Кедрова, а, наоборот, подтолкнет его к самым решительным шагам. Так оно и вышло. Какую-то минуту нарком сосредоточенно обдумывал что-то молча, потом твердо заявил:
— Разгружать порт и немедленно вывозить склады в глубь России!
— И я того же мнения, — живо откликнулся Артур.
Кедров развернул карту, стал рассуждать:
— Реки вскрылись от льда, часть грузов направим речным путем в Котлас, остальное — по железной дороге в Вологду. С чего начнем?
— С угля.
— Почему? А цветные металлы? Ценности?
Фраучи покачал головой:
— Без ценностей Советская власть просуществует. А без угля все станет.
— Пожалуй, резон в этом есть. Вот и займись в первую очередь вывозом угля и боеприпасов.
С этого дня Артур с головой окунулся в организацию эвакуации грузов. В короткий срок из Архангельска было вывезено до 40 миллионов пудов угля. С боеприпасами обстояло сложнее — они охранялись куда строже, нежели топливо. Однако Артуру все же удалось под прикрытием надежных воинских команд с помощью железнодорожников, портовиков, речников проникнуть на склады, перегрузить часть снарядов в пароходы и вагоны, следующие в глубь страны. Часовые союзников не рискнули оказать вооруженное сопротивление.
Англичане хорошо понимали значение Архангельска и Мурмана и готовили их захват. О близком наступлении интервентов В. И. Ленин предупреждал VII съезд партии: Англия или Франция захотят у нас отнять Архангельск. Кедров на сей счет получил ориентировку наркоминдела Чичерина: «Есть известия, что можно опасаться английской экспедиции на Мурман и Архангельск». Через неделю от него была получена новая телеграмма: быть готовым к отпору. Задачи «Ревизии» Кедрова отныне расширялись. Выполняя указания правительства, М. С. Кедров направил британской, французской и американской миссиям предупреждение:
«…Объявляю, что ввиду известного международного и политического положения прибытие иностранного военного судна, в особенности с вооруженной командой, в Архангельск, где в настоящее время сосредоточено огромное количество военного и взрывчатого материала, будет рассматриваться как начало активных действий, которые могут иметь самые тяжелые последствия.
Народный комиссар Михаил Кедров. Секретарь Ар. Фраучи».Воздержавшись на какое-то время от прямых военных столкновений с советскими частями, англичане тем не менее вовсю занимались шпионажем. Чтобы расстроить планы врага, необходимо было нанести удар по разведке интервентов. По поручению Кедрова Фраучи занялся делом английского шпиона Масспарта. Его и серба Илича задержали на берегу моря. В вещах нашли карту, на которой была обозначена тропа от Соловской бухты на Исакогорку. Что она означала? Артур пришел к выводу, что тропа, явно уже разведанная шпионами, не что иное, как предполагаемый маршрут десанта. Значит, англичане изучали возможность пройти на Исакогорку по суше, минуя Архангельск.
Заинтересовал Артура и такой факт. В бухте появилось незнакомое судно. Оказалось, что это морской буксир «Митрофан». Для выяснения, чем он занимается, был послан ледокол «Горислав». На гудки «Горислава» буксир не ответил. Тогда выстрелили из пушки. Это подействовало. «Митрофан» застопорил ход. На буксире оказались десять английских военных моряков под командованием офицера с крейсера «Аттентив». Несомненно, это была разведка.
Шпионов Масспарта и Илича посадили в архангельскую тюрьму. Им было разрешено получать продовольственные передачи, которые, конечно, тщательно проверялись. И вот однажды в куске мыла, предназначенного для арестованных шпионов, были обнаружены деньги и записка: «Друзья! Мною приняты меры для освобождения вас из тюрьмы. Когда вы выйдете на свободу, в свою очередь помогите и мне выбраться отсюда… Я хочу служить в английских войсках». Выяснилось, что письмо написал… командир 1-го советского полка Иванов. Предатель, конечно, был немедленно обезврежен.
Все эти факты говорили о том, что англичане готовят захват Архангельска.
— Функции «Ревизии» заканчиваются, мой друг, — сказал по этому поводу Кедров Артуру, — теперь наша работа приобретает уже чисто военный характер.
Вероятно, именно в эти дни Артур получил ту фамилию, под которой он вошел в историю советских органов государственной безопасности. Рядовые красноармейцы, вместе с которыми ему пришлось очищать город от шпионов и контрреволюционеров, плохо запоминали и произносили его необычную фамилию — Фраучи. И как-то незаметно, словно само собой, его стали называть Артузовым, сделав из его имени вполне по-русски звучащую фамилию.
При поступлении в том же 1918 году на работу в ВЧК с согласия своего руководителя М. С. Кедрова Артур Христианович взял эту фамилию официально.
В июле 1918 года Кедров выехал в Москву, чтобы доложить Ленину обстановку на Севере и получить от него необходимые указания. Владимир Ильич с пониманием выслушал Михаила Сергеевича. По распоряжению Ленина было выделено военное снаряжение и вооружение для вновь формируемых и уже существующих на Севере частей. Кедров снова отправился в Архангельск. Но в городе уже начался контрреволюционный мятеж. Поезд Кедрова остановился в 4 километрах от Архангельска на станции Тундра.
Интервенты и белогвардейцы наступали. Малочисленные отряды красных отходили к Обозерской. Поддерживаемые иностранным самолетами, части противника продвигались вдоль железной дороги. Через несколько дней они вплотную подошли к Обозерской.
Кедров был напряжен до предела. Через несколько часов, может быть утром, интервенты и белогвардейцы ворвутся в Обозерскую. А здесь сосредоточены грузы. Противника надо задержать хотя бы на сутки, чтобы успеть эвакуировать людей и имущество, вагоны с углем и ценностями. Кедров понимал, что тридцать три латышских стрелка готовы стоять насмерть, чтобы не пропустить интервентов. Но лавину горсткой храбрецов не остановить.
Кедров ходил по штабному вагону, обдумывая положение. Изредка поглядывал в окно. Возле пакгауза работали высокие светловолосые бойцы — латыши. Погрузкой руководил Артузов. Работы были организованы хорошо, по-инженерному, и дело велось споро.
В конце концов Михаил Сергеевич нашел единственное решение: необходимо уничтожить железнодорожный мост на пути интервентов. И лучше всех с этим справится Артур. Правда, нет под рукой взрывчатки, но Артузов — инженер, должен придумать, как это сделать, имея под рукой артиллерийские снаряды.
Михаил Сергеевич вызвал в вагон Артузова.
— Я выбрал тебя, — как можно спокойнее сказал Кедров Артуру, когда тот вошел в вагон. — Возьмешь несколько бойцов, паровоз с платформой и доберешься до моста. Уничтожь его и возвращайся в Обозерскую. Таков мой приказ. Я не вижу иного средства сдержать наступление противника.
На лице Артура Кедров не прочитал никаких иных чувств, кроме полного понимания и готовности выполнить боевое задание. Ничего не надо было добавлять — об отсутствии взрывчатки Артур и сам знал. Потому он и задал один-единственный вопрос:
— Когда выступать?
Кедров вынул из кармана часы на никелированной цепочке, щелкнул крышкой, прикинул время и с сожалением ответил:
— Немедленно. Через час может быть же поздно. Я полагаю, смысл приказа тебе ясен. Откровенно говоря, я не представляю, как ты обойдешься без взрывчатки. Можно ли использовать снаряды?
Артур в раздумье покачал головой.
— Без взрывчатки, конечно, трудно. Но есть другой способ: мост деревянный, а в пакгаузе я приметил керосин. Я просто сожгу мост. Ни пешие, ни конные не пройдут. Восстановят, конечно, быстро, но день провозятся.
— Тогда — действуй, молодой декан! — И Кедров крепко обнял Артура.
И вот уже на полных парах локомотив с командой на платформе мчит к мосту. В голове Артура и сопровождающих его бойцов одна мысль — не опоздать! Только бы разъезды противника уже не перешли этот проклятый мост, они могут разобрать пути, и команда окажется отрезанной от своих. Это не помешает ей выполнить задание, но будет означать верную гибель. Впереди темным пятном на сером фоне показался мост.
— Зажечь факелы! — приказал Артур. Вспыхнули в руках бойцов желто-алые огни. Это было сигналом и машинисту: он сбавил ход и стал осторожно подгонять платформу к мосту.
— Поливай! — отдал Артузов новую команду, и в тот же миг с той стороны ударили ружейные выстрелы. Вражеский разъезд! Но теперь он не страшен, мимо платформы по узкому настилу кавалеристам не прорваться. Роли заранее распределены: часть бойцов открыла заградительный огонь по противнику, остальные поливали керосином доски настила и бревна опор. И вот уже затрещал змейки пламени, разбегаясь по всему сооружению, запахло дымом и гарью, потом все загудело, и ввысь взметнулись длинные языки набиравшего силу огня. Мост пылал!
— Всем на платформу! — подал команду Артур.
Отстреливаясь из драгунок, бойцы отбегали от охваченного бушующим пламенем моста и прыгали на платформу. Последним вскочил на нее Артузов. Издавая пронзительные победные гудки, старенький паровозик мчал подрывную команду к Обозерской…
Артузов не мог, конечно, тогда предвидеть, что в ближайшие месяцы ему придется уничтожить еще два моста — уже во вражеском тылу. Теперь же он задумался вдруг, почему Кедров, прощаясь, назвал его молодым деканом? Потом вспомнил, что слово это в старину, кроме общепризнанного, имело еще и другое значение: служитель или борец за веру.
Сразу стало ясно, какой смысл вложил Кедров в прощальную фразу: он должен был отправиться на задание с верой в победу.
Так начались боевые действия на Северном фронте. Был образован штаб фронта, в котором Артур Фраучи-Артузов стал начальником инженерного отдела.
В обязанности Артузова и сотрудников его отдела входили инженерное обеспечение войск, организация диверсий во вражеском тылу и т. п. Может быть, поэтому Артузову пришлось заниматься и контрразведывательными делами. Постепенно именно эта работа стала для него самой интересной, а затем и главной.
В боевом девятнадцатом…
Осень 1919 года для Республики Советов выдалась не менее, а, может быть, более тяжкой, нежели предыдущая. В августе — сентябре грозно нацелилась на Петроград белогвардейская армия Юденича. С юга неудержимо рвались к Москве и достигли уже опасной близости полки Деникина.
То был враг зримый. Но существовал ещё и невидимый, хотя и достаточно ощутимый: и в Москве, и в Петрограде активно действовали в подполье контрреволюционные заговорщики. Со штабами Юденича, Деникина, Колчака они поддерживали тайную связь, снабжали их шпионской информацией.
В 1918 году ВЧК разгромила многие контрреволюционные организации, но самая разветвленная и опасная из них — белогвардейско-кадетский «Национальный центр» уцелела, хотя и понесла серьезные потери. Операция ВЧК по его ликвидации началась летом 1919 года в районе Петрограда. Она потребовала мобилизации всех сил чекистского аппарата, привлечения воинских подразделений и вооруженных рабочих отрядов. Главным руководителем операции был Ф. Э. Дзержинский. Вместе с другими чекистами принял в ней участие и А.X. Артузов. Для него она стала серьезной школой и политической, и профессиональной. Но как он оказался в ВЧК?
Все началось с того, что для укрепления Военконтроля Реввоенсовета республики с Северного фронта был отозван М. С. Кедров. Он возглавил эту организацию, выполнявшую в Красной Армии роль контрразведки. Вместе с ним прибыл в Москву и Артузов. Его назначили начальником бюро Военконтроля в Московском военном округе, а затем начальником так называемой «активной части» всего Военконтроля. Немалое число сотрудников этой организации было враждебно настроено к Советской власти. После основательной чистки ее аппарата решением ЦК РКП(б) от 19 декабря 1918 года фронтовые чрезвычайные комиссии и органы Военного контроля были преобразованы в единый орган — Особый отдел. Тем самым борьба со шпионажем и контрреволюцией сосредоточилась в одних руках. В сложившейся обстановке невозможно было отделить шпионаж империалистических разведок от подрывной деятельности внутренней контрреволюции.
Первым руководителем Особого отдела ВЧК стал М. С. Кедров.[1] А.X. Артузов был назначен особоуполномоченным отдела.
* * *
Той же осенью 1919 года на ответственную работу — вначале членом Президиума, а затем заместителем председателя — окончательно пришел в ВЧК видный партиец Вячеслав Рудольфович Менжинский. С этим умнейшим, исключительно образованным человеком Артузову выпало счастье работать рука об руку долгие и славные годы…
Время было такое: все приходилось схватывать на лету, с полуслова понимать самые сложные вещи, смотреть, видеть, слышать, улавливать все стороны и нюансы возникающих проблем, мгновенно оценивать обстановку. А обстановка к осени 1919 года накалилась до предела.
— Феликс Эдмундович только что познакомил меня с телеграммой Роста, — обратился Менжинский к Артузову. — Черчилль объявил против нас крестовый поход. Феликс Эдмундович говорил, что действительно насчитал четырнадцать стран, которые по призыву сэра Уинстона — потомка Мальборо — двинутся против нас. Несомненно, поднимет голову и засевшая в Москве контрреволюция: офицерье, буржуазия, вся нечисть, вплоть до охотнорядцев. Они постараются изнутри поддержать поход Антанты. В этом сомневаться не приходится.
Время, уж точно, было трудное. Полчища генерала Деникина, наступая с юга, захватили Орел и угрожали Москве. На востоке вновь перешел в наступление Колчак. С трудом удалось отразить наступление на Питер войск Юденича, поддержанное «изнутри» мятежниками на Красной Горке. На западе угрожали белополяки.
Темные живые глаза Вячеслава Рудольфовича словно ощупывали Артузова, дескать, насколько полно осознает он всю остроту положения.
— Прекрасно понимаю вас, Вячеслав Рудольфович, — поспешил заверить Менжинского Артузов.
— Нам и сейчас далеко не легко, а дальше наверняка будет еще труднее, — чуть сдвигая густые брови, продолжил разговор Менжинский. — Вчера один сотрудник пожаловался мне: «Работаем, как каторжные». Признаться, я сразу даже не нашелся, что ему ответить. Но было бы непростительным малодушием от ответа уклониться. Тогда ему сказал: «Великий итальянский художник Микеланджело тоже работал, как каторжный, на бессмертие работал».
Артузову невольно захотелось прервать Вячеслава Рудольфовича дополняющим: «А мы?» Но Менжинский уже упредил вопрос:
— И мы работаем, как каторжные, и тоже во имя бессмертия, только не искусства, а нашего великого дела.
Закончил Менжинский разговор с Артузовым неожиданно — стихами:
Враг могуч и хитер! По местам, по местам! И настороже око и ухо; Бой повсюду пойдет, по земле, по морям, И в невидимой области духа.Артур Христианович почувствовал, что Менжинский при всей сложности и опасности обстановки настроен, однако, весьма оптимистично и этими стихами как бы определял программу действий Артузова. Вот только чьи эти стихи? Артузов никак не мог вспомнить, а спросить Менжинского не позволяло самолюбие. В студенческую пору не было сколь-либо заметного русского поэта, которого бы он не знал, не читал. Да и сейчас он ухитрялся приобретать выходящие поэтические сборники. В рабочем столе Артура Христиановича лежали книги: сочинения Владимира Маяковского, «Всяк Еремей про себя разумей» Демьяна Бедного, «Стихотворения о свободе» Пушкина, несколько томов Горького, изданных товариществом А.Ф. Маркса. Была здесь и прелюбопытнейшая книга профессора К.А. Тимирязева «Красное знамя» (притча ученого), которую Артузов приравнивал к поэтическим произведениям.
Артур Христианович быстро перебрал в памяти множество стихов. И память его не подвела. По стилю и мысли — вроде бы Майков. Да, Аполлона Майкова читал ему для ободрения Менжинский.
В последнее время вся работа особоуполномоченного ВЧК Артузова шла рука об руку с Вячеславом Рудольфовичем. Старый революционер, опытнейший конспиратор стал для молодого чекиста учителем, товарищем, а с годами и личным другом. Менжинский всегда был рад дать младшему коллеге дельный совет, умел тактично предостеречь от ошибки. Артур Христианович на всю жизнь запомнил его предостережение: игра со слабым противником ослабляет и нас. Возьмите шахматиста — он расслабляется, если не встречает достойного отпора. А сильный противник заставляет его искать новые ходы, новые комбинации. Не гордись успехом из-за случайных неудач противника. Уверенность в себе, а стало быть и настроение настоящей радости приходит тогда, и только тогда, когда разгаданы его замыслы, превзойдены его планы.
Артузов хорошо понимал, что разведка и контрразведка требуют большой гибкости, проницательности, мудрости. Здесь нет и быть не может навсегда заданных правил. Раз и навсегда принятые приемы неизбежно ведут к поражению. Понимал он и другое, уже ленинское положение: такой борьбы, в которой бы заранее известны были все шансы, на свете не бывает.
Шансы, шансы…
* * *
За окном немое ночное молчание. В такую пору обычно хорошо думается. Предельно отключен от дневной суеты. Предельно сосредоточен на определенной задаче. Предельно напряжена мысль.
Артузов сидел на откидывающемся кресле за просторным подковообразным столом, обтянутым зеленым сукном. Лет этому сооружению было преизрядно, сукно кое-где побито молью. Достался он ЧК от бывшего страхового общества «Якорь». Не одно поколение чиновников протерло за ним локти. Теперь он стал рабочим столом чекиста. Кстати, очень удобным: зеленое сукно не утомляло глаза, глубокие ящики вмещали множество деловых бумаг.
За этим необычным столом Артузов и обдумывал сейчас материалы, полученные от Вячеслава Рудольфовича. Речь шла о заговоре. В начале июля 1919 года на лужском направлении красноармейский разъезд в перестрелке убил лазутчика, явно пробиравшегося в стан Юденича. При нем нашли документы на имя офицера А. Никитенко. Раз сопротивлялся, значит, было ради чего. Тщательно обыскали убитого — в мундштуке папиросы обнаружили крохотный листочек. Из текста стало ясно: участники крупной контрреволюционной организации в Петрограде искали связь с белогвардейским командованием. Для чекистов этот листочек послужил своего рода ниточкой, ведущей к руководителям заговора. Были раскрыты отдельные его звенья. Но глубоко законспирированное ядро еще предстояло выявить.
Вскоре ВЧК получила новые данные о зреющем заговоре. 14 июля 1919 года при попытке уйти на финскую территорию были задержаны некие Самойлов и Боровой-Федоров. У них нашли письмо-донесение о дислокации частей 7-й армии, наличии на складах боеприпасов и действиях в Петрограде трех контрреволюционных организаций. Письмо-донесение подписал таинственный Вик. Кстати, и на листочке, найденном у Никитенко, стояла аналогичная подпись. И еще стало известно от задержанных, что письмо-донесение им вручил для передачи в штаб Юденича В. И. Штейнингер, владелец известной фирмы «Фосс и Штейнингер». Чекисты арестовали его — он и оказался Виком. При обыске у Вика нашли контрреволюционные воззвания, депеши из штаба Юденича. В начале августа последовали новые аресты — в руках петроградских чекистов оказались барон Штромберг, князья Андронников, Оболенский и другие. Все они входили в петроградское отделение «Национального центра». У них был найден отчет московского отделения «Национального центра». Но прямое свидетельство, что в Москве действует такая контрреволюционная организация, было получено чуть позже — в конце июля. В Вятской губернии милиция задержала подозрительного человека, в мешке у него обнаружили… миллион рублей. Задержанный оказался офицером разведотделения штаба Колчака Крашенинниковым. Деньги вез для московского отделения «Национального центра». (В общей сложности разными путями и в разное время для нужд «Национального центра» намечалось переправить 25 миллионов рублей.) Арестованный вместе с деньгами был препровожден в Москву. Из тюрьмы Крашенинников пытался передать на волю две записки, которые, естественно, были перехвачены. В одной из них он сообщал о себе: «Я спутник Василия Васильевича, арестован и нахожусь здесь…» Во второй просил заготовить ему документы на случай побега и сообщить: не арестован ли ННЩ?
Естественно, чекисты должны были выяснить, кто скрывается за этими инициалами. Из обширной информации, полученной от Менжинского, Артузов понял, что в Москве действует законспирированная контрреволюционная организация, чрезвычайно опасная. Его осенила догадка: только ли с Юденичем она связана? Не на связь ли с «Национальным центром» шел захваченный чекистами колчаковский курьер? У него нашли таинственные листочки, похоже, с зашифрованным текстом. Ими уже занимался старый специалист по шифрам. Удастся ли ему разгадать шифровку?
Артузов встал из-за стола и было направился к двери. Остановил его легкий стук.
— Войдите!
— Это — я, вот-с, расшифровал, — сияющий от радости специалист положил осторожно листок на стол, провел по нему ладонью, припечатывая к сукну, словно боясь, что бумажку сдует ветром. — Арабским шифром пользовались, товарищ начальник. Я в нем не особенно силен, но кое-что понял. Разрешите доложить.
— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, очень интересно. Говорите, арабским?
— Вот буква «лям», затем идет «алиф». Как я полагаю, они составляют отрицание «нет» или «не», скорее всего «не». Затем следует этническое имя, указывающее на место рождения, тут точно могу ответить — зашифрованный город. Подразумеваю Тулу. Общий смысл шифровки: «Не медлите с восстанием. Сигнал — падение Тулы».
— Сигнал — падение Тулы, — медленно повторил Артузов. Какое-то время он прикованно смотрел на лежащую перед ним бумажку, потом устало опустился в кресло. Туле угрожает не Колчак, а Деникин. Выходит, заговорщики в Москве по приказу, полученному через колчаковского курьера, должны были оказать своей подрывной деятельностью содействие Деникину. Но кому адресован этот приказ? Курьер, помнится, на допросе говорил, что зашифрованный листочек должен передать Коке. Арест помешал ему доставить приказ адресату, точнее, адресат должен был найти его сам в условленном месте. Теперь там — чекистская засада. Но пока от нее не поступило никаких известий. Адресат не объявлялся.
«Что же я сижу? — спохватился Артузов. — Надо немедленно сообщить об этом Вячеславу Рудольфовичу». Он быстро написал коротенькую справку о результатах дешифровки, изложил свои предположения. Пробежал глазами справку: вроде бы все сделал, что следовало. Эта удовлетворенность окончательно расслабила его. Сами собой стали закрываться веки. Вяло подумал: «Надо бы допросить анархиста-бомбиста, сидит уже несколько суток», а сонливость тяжелой гирей все сильнее и сильнее клонила голову к столу… И все же Артузов пересилил себя, энергично потер виски и встал из-за стола. Подошел к окну, раскрыл его и стал заниматься гимнастикой. Наступило какое-то облегчение. Затем снял гимнастерку, прошел в туалетную комнату, открыл кран с холодной водой (горячей все равно не было) и подставил под шумную струю рано начавшую седеть голову.
…Меж тем наступил полный рассвет. Можно было нести руководству справку и дешифровку. Секретарь Менжинского сидел в приемной за своим столом и клевал носом. Однако лишь только скрипнула дверь, он мгновенно пришел в себя.
— Доброе утро! Прошу немедленно передать Вячеславу Рудольфовичу.
Секретарь ответил на приветствие и молча положил бумаги в большую папку, на которой крупными буквами было написано: «К докладу». Он знал, что все документы от Артузова Менжинский читает незамедлительно.
Вернувшись в кабинет, Артузов сел за стол, вытащил дело об анархисте, стал перелистывать подшитые в нем бумаги. Прочитать сумел только первые строчки… Голова сама по себе опустилась на зеленое сукно. Артузов спал, и никакие пушки его теперь не могли бы разбудить…
— Артур Христианович, проснитесь…
Кто-то тормошил его за плечо. А сон все не отпускал. Наконец, после очередного мягкого, но настойчивого прикосновения он тряхнул головой, раскрыл глаза… Не сразу понял, что над ним склонился Менжинский. Его глаза смотрели всепонимающе и с сочувствием. Артур Христианович тут же встал, поправил гимнастерку и всем своим видом показал, что он уже снова «кудахошьшагающий».
— Простите, Вячеслав Рудольфович, мою слабость, не удержался. Так и царствие небесное мог проспать. Видно, чекистская работа не по мне, только и гожусь, что чугун лить.
Тут Артузов вспомнил свою гимназическую записную книжку, которую завел по совету матери. В ней было несколько разграфленных страниц. В соответствующие графы Артур заносил свои слабости: лень, безволие, плохо прожитый день. По мере того как тот или иной недостаток устранялся, Артур решительно вычеркивал его из книжки. Впору было снова завести подобный кондуит и вписать в него сегодняшнее расслабление. Артур уже предвидел, как может отреагировать на это Вячеслав Рудольфович — укоризненным взором.
— Ах, ты дева-страдалица, — с улыбкой, но вполне серьезно сказал Менжинский. — Сделал, что мог, а кто может — пусть сделает лучше, вот что я уловил в вашей тираде. Такое пристало латинистам, но мы с вами не латинисты, а чекисты. Нас жалобы в мир благолепия не приведут. Вам Советская власть особые полномочия дала, а вы — чугун лить… Загляните-ка, дорогой Артур Христианович, на досуге в переписку Толстого. Там есть очень хорошие слова: чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость…
Понизив тон, Вячеслав Рудольфович примирительно сказал:
— Есть дело. Я прочитал вашу справку. Заходите ко мне вместе с Павлуновским, обсудим кое-какие детали. Деникин до зимы торопится взять Москву. Уже и «Приказ № 1» и «Воззвание к населению Москвы» подготовил. По данным, которыми я располагаю, мятеж против Советской власти может разразиться в ближайшие недели. Мы должны упредить врага.
Вернувшись с совещания у Менжинского, Артузов представил заговор в виде крепко скрученного клубка, который коллективу чекистов, и ему в том числе, предстояло размотать по ниточкам. Воедино сплелись все силы контрреволюции; тут и остатки буржуазных партий, от монархистов и кадетов до меньшевиков и эсеров, и офицерское охвостье.
К Артузову стекались многие данные, относящиеся к «Национальному центру». Хотя они и были весьма разрозненными, но уже и по ним можно было представить масштабы и цели заговора и тех, кто стоял во главе его. Прежде всего это загадочный ННЩ.
На допросе, проведенном членом коллегии ВЧК В.А. Аванесовым, Крашенинников показал, что деньги он вез для нужд «Национального центра» и должен был передать неизвестному ему ННЩ и что в ближайшее время этому «Центру» от Колчака будут переправлены новые миллионы.
Таким образом, в руках ВЧК оказались три нити: дешифрованная инструкция Деникина о приблизительных сроках восстания, подтвержденная Крашенинниковым версия, что в Москве существует разветвленная контрреволюционная организация «Национальный центр», наконец, допущение, что один из ее руководителей — некий ННЩ.
В том месте, где курьер должен был передать деньги представителю «Национального центра», была устроена засада. Но никто за деньгами не пришел.
Обдумывая сообщение о бесплодности засады, Артузов подошел к окну, прижался лбом к стеклу. Приятная прохлада освежила лицо. Стало легче размышлять, думать. А думать он привык, сопоставляя факты, искал в них взаимосвязь. Всплыл в памяти недавно переданный ему разговор. Одна учительница пришла к Феликсу Эдмундовичу и поделилась с ним подозрениями, которые она с некоторых пор стала испытывать к своему директору, некоему Алферову Алексею Даниловичу. Слушая ее рассказ, Дзержинский, по обыкновению, смотрел в глаза собеседницы, пытаясь уловить все оттенки их выражения. Когда-то, в молодые годы он познакомился с книгой, в которой рассказывалось о методах чтения по лицам и уверовал, что глаза человека могут раскрыть его характер и намерения. Действительно, взглядом угрожают и устрашают, приказывают и запрещают, смешат и печалят, отказывают и дают. Для проверки истинности сведений, что директор — враг, Феликс Эдмундович спросил:
— Все, что вы рассказали, в высшей степени для нас интересно. За это вам спасибо. Но не личная ли неприязнь к Алферову привела вас к нам?
И тотчас глаза учительницы отреагировали на поставленный вопрос. Осуждающим взглядом она выразила свою печаль и огорчение — ей в чем-то не верят.
Дзержинский конечно же поверил учительнице и дал распоряжение понаблюдать за Алферовым. Вскоре поступили сведения, что директор школы ведет странный образ жизни, на его квартире собираются подозрительные люди, и штатские и военные. Он поддерживает связи с бывшим крупным деятелем партии кадетов и депутатом Государственной думы Николаем Николаевичем Щепкиным, лояльность которого к Советской власти весьма сомнительна.
В ходе размышлений о встрече Дзержинского с учительницей Артузову на ум пришла мысль сопоставить псевдоним Кока с именем Николай. С усмешкой вспомнил, что до революции в некоторых кругах употребляли пошловато-игривые сокращения: Александр — Алекс, Сергей — Серж, Николай — ну конечно же Ника или Кока. А ННЩ? Не начальные ли буквы имени, отчества и фамилии? Если так, то ННЩ, выходит, Николай Николаевич Щепкин?
Догадка подтвердилась: Крашенинников, после того как его записки, отправленные из тюрьмы через караульного, оказались в Особом отделе, признался, что он пытался наладить связь именно с Щепкиным. Последнему уже был ранее доставлен миллион рублей от Колчака другим курьером.
Руководить арестом Щепкина поручили заместителю начальника Особого отдела ВЧК И.П. Павлуновскому. Тем не менее Феликс Эдмундович решил лично участвовать в операции. В. И. Ленин, получив накануне доклад Павлуновского по делу «Национального центра», написал Дзержинскому: «…на эту операцию… надо обратить сугубое внимание. Быстро и энергично и, пошире надо захватить».
Арест Щепкина и обыск его квартиры были ключевыми моментами в разгроме «Национального центра», и это диктовало председателю ВЧК быть рядом с подчиненными, все видеть своими глазами, не дать ускользнуть из поля зрения ни одной детали, которая способствовала бы разоблачению врага. Щепкин, похоже, был главной фигурой в этой организации, и в его руках находились все нити заговора. А что означало для чекистов, привлеченных к операции, в том числе и для Артузова, когда Дзержинский рядом? Это спокойствие и уверенность в действиях. Но и огромная ответственность тоже…
Стояла глухая ночь. Безлюдна Трубная площадь. Где-то на пригорке тихо цокает подковами извозчичья лошадь. Группа людей в штатском, выйдя из автомобиля, быстро пересекает площадь, входит в переулок. Здесь бодрствует лишь дворник, охранявший, должно быть, еще с дореволюционных времен покой здешних домовладельцев и зажиточных обывателей.
На какой-то миг Артузов задержался у афишной тумбы на углу Трубной. Тумба была сплошь оклеена плакатами. От них нестерпимо пахло каким-то едким клеем. Ветер уже успел сделать свое черное дело — наполовину сорвал свеженаклеенный плакат и теперь лениво играл его шуршащим краем. Артузов разгладил бумагу и в желтом отсвете луны угадал обращение Московского Совета к жителям города. Разобрал тревожные слова: «Попытка генерала Мамонтова — агента Деникина — внести расстройство в тылу Красной Армии еще не ликвидирована… Тыл, и в первую очередь пролетариат Москвы, должен показать образец пролетарской дисциплины и революционного порядка…»
Меж тем дворник, попыхивая цигаркой, набитой, судя по едкому запаху, смесью махорки с тертым мхом, осторожно подошел к незнакомым людям, в которых своим долголетним опытом сразу признал власть.
— Не бойтесь, папаша, мы не разбойники. Чека, вот мандат.
Павлуновский расстегнул пальто, собираясь показать документ, чтобы успокоить дворника, но тот только замахал руками, когда увидел форменную гимнастерку и портупею, дескать, и так все ясно.
— Щепкин Николай Николаевич дома?
— А где ж ему быть в такую пору?
— До него есть дело. Пойдете с нами, будете понятым… Где он спит?
— В верхних покоях.
— У него кто-нибудь ночует?
— Не приметил, чтобы кто с вечера заходил к нему, — уклончиво ответил дворник.
Артузов знал, что Щепкин уже в летах и вряд ли способен оказать вооруженное сопротивление, однако некоторые меры предосторожности предпринять не мешает, мало ли кто может оказаться в доме кроме хозяина. Чекисты решили войти в дом через парадное, предварительно проинструктировав дворника.
После долгого, настойчивого стука за дверью послышались тихие шаги. Испуганный женский голос спросил:
— Кто будит в неурочный час?
— Это я, сторож Пафнутий, вот привел к барину господ… У них к нему дело важное…
— Сейчас открою, вот только за свечой сбегаю.
Через несколько минут вновь послышались осторожные шаркающие шаги. Видимо, в доме Пафнутию доверяли, потому что без лишних слов служанка откинула цепочку, сняла крюк и отомкнула ключом замок. Чекисты шагнули через высокий порожек в темный коридор и — прямо наверх. Кто-то рывком открыл зеркальную дверь спальни — никого… «Неужели успел скрыться?» Быстро к кабинету. Через дверную скважину мерцал свет от свечи. Артузов потянул за ручку, дверь оказалась запертой.
— Откройте. Именем закона…
За дверью раздался какой-то звук, потом свет исчез, видимо, хозяин взял свечу в руки. Послышался глухой голос:
— Обождите, господа, только халат надену.
Щепкин явно тянул время. А один ли он в кабинете? — засомневался Артузов. Об этом же подумал и опытный Павлуновский. И выругал себя: не догадался выставить пост у окон со двора, понадеялся, что с высокого второго этажа вряд ли человек рискнет выпрыгнуть. Исправляя ошибку, Иван Петрович торопливо бросил:
— К окнам снаружи!
Мигом кинулся на улицу оперативный работник Семен Гендин, выхватывая на ходу наган.
Дверь распахнулась. В проеме стоял пожилой человек со свечой в руке. На лице не заметно и тени беспокойства. Или чист душой, или — выдержка… Пока говорить рано.
— Входите, господа. Чем обязан ночному визиту?
— Гражданин Щепкин? — спросил Павлуновский.
— Да, я. Могу паспорт показать…
— Не нужно, верим.
Поставив свечу на придан — круглый столик на одной ножке, Щепкин все же направился к массивному орехового дерева бюро. Павлуновский остановил его:
— Считаю личность установленной. А теперь, извините, мы должны осмотреть квартиру.
— На предмет?
— Не храните ли оружия, не прячете ли подозрительных людей.
— Господь с вами… Я законов не нарушаю.
При свете свечи Артузов разглядел, как затряслась возмущенно бородка-клинышек. Однако Щепкин быстро взял себя в руки. Сцепил замком крупные, видать, еще сильные пальцы. Спокойно сказал:
— Извините, немного понервничал. Но, сами понимаете, время в Москве неспокойное, анархисты шастают по квартирам, а то и просто бандиты. Недозволенного, повторяю, в доме ничего нет.
Чекисты приступили к работе. Павлуновский подошел к окну. Тронул задвижку — не на запоре. Значит, не исключалось, что до прихода их кто-то выпрыгнул в окно. «Вот для чего Щепкин тянул время, кому-то уйти надо было», — и еще раз выругал себя за упущение.
— Кто ушел от вас через окно? — спросил Павлуновский хозяина.
— Никто, — с достоинством ответил Николай Николаевич. — Если вы по поводу отомкнутого шпингалета, то объяснение простое, самое что ни на есть житейское: проветривал кабинет, потому как спать в духоте не могу.
Артузов подошел к окну. В светлом пятне, отброшенном на землю освещенным окном, выделялись какие-то черные силуэты. Похоже, что это был Гендин и еще кто-то.
Обыск продолжался. Пока — ничего, что можно было бы хоть в малую вину поставить домовладельцу. И тут Гендин с наганом в руке ввел в кабинет незнакомого человека, перепачканного уличной грязью.
— Вот задержал, — доложил чекист.
— Кто такой? — спросил Павлуновский. Незнакомец исподлобья метнул взгляд на Щепкина, видимо, у него искал немого приказа — говорить или молчать.
— Документы!
— Могу предъявить, — и незнакомец вытащил помятую бумажку.
— Клишин, — прочитал вслух Павлуновский.
А тем временем Артузов расспрашивал домработницу, знает ли она задержанного? Девушка простодушно рассказала, что это племянник господина, недавно вернулся с фронта. Разоблачить деникинского курьера, прибывшего в Москву по подложным документам, было уже делом несложным.
— Обыск продолжать, все осмотреть самым тщательным образом, — распорядился Феликс Эдмундович, до сих пор не вмешивавшийся в действия оперработников, заметно сбавивших активность в обыске, раз ничего существенного не обнаружили. — Не для пустой забавы деникинец перешел линию фронта. Он должен что-то унести для деникинской разведки.
Из сказанного Феликсом Эдмундовичем вытекало: необходимо найти то, что должен был унести из дома Щепкина деникинский курьер. Настойчивое продолжение обыска — не расчет на случайность, нет. Щепкин — крупная фигура в лагере контрреволюции, к нему должна стекаться информация. В то же время он человек чрезвычайно осторожный, понимающий опасность и значение конспирации, растущую день ото дня силу молодого чекистского аппарата.
Сидевший молча в углу кабинета Щепкин довольно быстро оценил смысл решения Дзержинского и сразу как-то встрепенулся, ехидно проронив:
— Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
— Гражданин Щепкин, в данном случае Чехов вам не помощник, — заметил Артузов, имея в виду, что Щепкин произнес тираду из чеховского рассказа «Письмо к ученому соседу». — Все может быть… и то, что мы ищем, обязательно найдем…
— Ну-ну, ищите, — скрестив руки перед грудью, Щепкин умиротворенно смежил глаза, показывая, что весь этот обыск — пустая затея.
Внимательно наблюдавший за поведением Щепкина, за его спокойной уверенностью, Артузов понял: обыск в квартире — действительно пустое дело. «То, что интересует нас, надежно спрятано, возможно, в другом месте…» Это стало ясно и Павлуновскому.
— Переходите к осмотру двора, — распорядился он.
Дзержинский в знак согласия кивнул головой.
И сразу Щепкин как-то вжался в мягкое кресло. «Что-то его не устраивает, — подумал Артузов. — Да, надо идти искать во двор». Первым делом в глаза бросилась разбросанная поленница дров. Однако разбросанной она казалась только на первый взгляд, а на самом деле подпирала стену сарая. Последовала команда разобрать дрова. Оперработники дружно принялись за дело. В один миг дрова были разобраны, обнаружилась стена сарая. Одна доска качнулась и — вот он, тайник. Из него извлекли консервную банку.
— Осмотрите ее, Артур Христианович, — попросил Павлуновский.
Все вернулись в кабинет. Увидев банку, Щепкин побледнел и опустил голову.
Банку вскрыли, внутри — тонко скрученные листочки, плотные картонки. Артузов: быстро просмотрел узенькие полоски бумаги, исписанные мелким почерком.
Один из листочков Артузов положил перед Дзержинским:
— Взгляните, Феликс Эдмундович. Дзержинский взял листок, и брови его гневно сдвинулись, обозначив у переносья глубокую, словно шрам, морщину.
— Что ж, товарищ Артузов, все ясно. Оформляйте протокол. Щепкина — арестовать.
Председатель ВЧК рывком запахнул шинель и, не взглянув на затрясшегося домовладельца, вышел из кабинета.
Артузов взял из рук Дзержинского листок — было от чего выйти из себя Феликсу Эдмундовичу: в его присутствии чекисты перехватили адресованное Деникину самое свежее, только что принятое постановление Реввоенсовета республики о сосредоточении фронтовых резервов в районе Тулы. Постановление было секретно напечатано накануне, а уже нынешней ночью оказалось в квартире Щепкина! Через день-два этот документ уже бы изучали деникинские штабисты, а там не заставила бы себя ждать и большая беда. Чего только не было в жестянке: изложение плана действий Красной Армии в районе Саратова, список ее номерных дивизий на 15 августа, подробное описание Тульского укрепрайона, сведения об артиллерии одной из армий, о фронтовых базовых складах. И записка с таким текстом: «Начальнику Штаба любого отряда прифронтовой полосы. Прошу в срочном порядке протелеграфировать это донесение в штаб верховного разведывательного отделения… полковнику Хартулари». (Экспертиза впоследствии подтвердила, что депеши были написаны Щепкиным.)
Так вот каков он, Кока, ННЩ, Николай Николаевич Щепкин. Значит, действительно в своих руках он держал все нити деникинского шпионажа в Москве. В том числе и ту, что вела к невыявленному пока предателю, засевшему в Реввоенсовете и снабжавшему через Коку деникинский штаб надежной информацией.
Артур Христианович все аккуратно уложил обратно в банку. Опустил ее в карман пальто. Павлуновский бросил сухо:
— Гражданин Щепкин, вы арестованы.
Щепкина увели. В руках чекистов оказалась, как они и предполагали, важная персона с разветвленными связями. Эти связи еще предстояло раскрыть. Последующее следствие установило, что Кока не только активный организатор кадетского в своей основе «Национального центра». Энергичный, несмотря на преклонные годы, Щепкин настойчиво сколачивал, и довольно успешно, все контрреволюционные силы, уцелевшие в Москве. После Октября буржуазные и мелкобуржуазные партии переживали острейший кризис. У них не было твердого руководства, среди рядовых членов шло брожение. Из обломков этих партий в марте — апреле 1919 года был образован и так называемый «Тактический центр» для координации всех действий, направленных на борьбу с Советской властью. Кроме «Национального центра» в Москве существовали две крупные контрреволюционные организации: «Союз возрождения России» и «Совет общественных деятелей». Они-то и объединились в «Тактическом центре». Программа «Тактического центра» носила компромиссный характер. Но все входящие в него организации стремились к тому, чтобы на данном этапе в России установить единоличную власть военного диктатора для наведения в стране «порядка» и разрешения всех экономических и социальных проблем на основе восстановления священного права частной собственности.
В «Тактический центр» входили: от «Союза возрождения России» — бывший редактор журнала «Голос минувшего» профессор С. П. Мельгунов, от «Союза общественных деятелей» — бывшие товарищи (заместители) министра внутренних дел Д. М. Щепкин и С. М. Леонтьев, от «Национального центра» — Н. Н. Щепкин, О. П. Герасимов и князь С. Е. Трубецкой.
При «Тактическом центре» была образована особая военная комиссия для связи с подпольными военными группами. Эти последние чекистам еще предстояло раскрыть, причем в кратчайшие сроки.
В вопросах внешней политики программа «Тактического центра» была проста: не допускать никаких соглашений иностранных держав с РСФСР, просить Антанту оказать материальную и вооруженную помощь белым армиям.
А в одном из писем, изъятых у Щепкина, говорилось: «Передайте Колчаку через Стокгольм: Москвин прибыл в Москву с первой партией груза (имеется в виду колчаковский агент, доставивший ННЩ первую денежную посылку. — Авт.), остальных нет. Без денег работать трудно. Оружие и патроны дороги. Политические группы, кроме части меньшевиков и почти всех эсеров, работают в полном согласии. Часть эсеров с нами. Живем в страшной тревоге, начались бои у Деникина, опасаемся его слабости и повторения истории с Колчаком… Настроение у населения в Москве вполне благоприятное… Ваши лозунги должны быть: «Долой гражданскую войну!», «Долой коммунистов!», «Свободная торговля и частная собственность». О Советах умалчивайте… В Петрограде наши гнезда разорены, связь потеряна».
Чекисты надеялись, что в ходе следствия у Щепкина удастся узнать нечто большее о замыслах и членах «Национального центра». Но у Коки сдали нервы. На одном из допросов, чувствуя, что ему придется держать суровый ответ, он с силой ударился головой об угол печки, после чего уже был не в состоянии выговорить что-либо вразумительное. Но основные связи Щепкина были все же нащупаны. Как явствовало из писем, «Национальный центр» (а именно он выполнял в тройственной упряжке роль коренника) действовал совместно с внешними контрреволюционными силами. Надо было искать и внешние связи.
…Во время обычной облавы на Мальцевском рынке в Петрограде милиционеры задержали девочку лет пятнадцати. Девчонка попыталась выбросить револьвер. Естественно, милицию заинтересовало, откуда у нее оружие и для чего? Задержанная оказалась девицей не слишком умной, но весьма экзальтированной. Жоржетта, так ее звали, выложила следователю целый ворох всяких несуразиц. Начала она с того, что револьвер нашла, а закончила тем, что позаимствовала его у папы, чтобы отомстить некоему Полю, или Павлу Павловичу, за то, что он не отвечает ей взаимностью.
Вся эта чепуха не произвела на чекистов никакого впечатления, кроме… ссылки на папу. Папой Жоржетты оказался бывший французский гражданин, преподаватель французского языка в средней школе некто Илья Романович Кюрц. Было установлено, что в прошлом Кюрц служил агентом в царской разведке. Однако еще при старом режиме его по весьма основательному подозрению в «двойной игре» от серьезных и секретных дел отстранили.
Сомнительные связи Кюрца вынудили чекистов принять решение тщательно осмотреть его квартиру. При обыске в тайнике был обнаружен архив со шпионскими донесениями и адресами явок. На допросе Кюрц сознался, что он принимал активное участие в белогвардейском заговоре, целью которого было поднять мятеж в Питере накануне вторжения в город войск генерала Юденича, к тому же Кюрц работал на офицера английской разведки Поля Дюкса (имевшего несколько кличек — Павел Павлович, Шеф). Где находится Дюкс в настоящий момент, Кюрц не знал, но назвал одну из конспиративных квартир, которой пользовался матерый английский шпион, заброшенный в Россию еще задолго до революции. (Позднее было установлено, что Дюкс после ареста Щепкина покинул Петроград — перешел Финский залив на лыжах.)
В качестве хозяйки квартиры Дюкса Кюрц назвал Надежду Владимировну Петровскую. В июне 1919 года она привлекалась чекистами по делу Штейнингера. Однако тогда доказать ее активное участие в контрреволюционном заговоре не удалось. К тому же не верилось, чтобы Петровская, в свое время оказывавшая содействие петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», перешла на сторону контрреволюции.
Что же касается кадрового английского разведчика Дюкса, скрывавшегося в своих донесениях под псевдонимом ST-25, то его ЧК выявила еще в июне 1919 года. Почти в течение года Дюкс орудовал в Петрограде, снабжая шпионскими сведениями английского генерального консула в Гельсингфорсе Люме. Он поддерживал связь с «Национальным центром» и главой петроградских заговорщиков, бывшим полковником царской армии, а ныне начальником штаба 7-й армии В. Люндеквистом.
Когда Юденич начал новое наступление на Петроград, Дюкс весьма надеялся на помощь контрреволюционных сил, действовавших в тылу оборонявшей город 7-й армии. Эти силы снабжали его шпионской информацией вплоть до поставки карт с дислокацией советских войск. Но, не ограничиваясь этим, контрреволюционеры готовились к активным боевым действиям. С выходом частей Юденича к Петрограду они планировали поднять восстание в городе. Сигналом к выступлению должен был послужить взрыв бомбы, сброшенной с аэроплана на Знаменскую площадь.
Безусловно, перед чекистами встала задача обезвредить опаснейший контрреволюционный заговор в красном Питере. Операцию по ликвидации контрреволюционного заговора возглавил выехавший из Москвы в Петроград Ф. Э. Дзержинский. Забегая вперед, отметим, что контрреволюционные силы здесь оказались значительными. По материалам допросов арестованных контрреволюционных руководителей Люндеквиста и Берга, занимавшего должность начальника воздушного дивизиона, а также Кюрца, на квартире которого собирались заговорщики, чекисты выявили и арестовали более трехсот человек.
Итак, из Петрограда разными путями переправлялись шпионские сведения и планы действий контрреволюции. Один из путей проходил через советско-финскую границу. Здесь в очередной перестрелке пограничный патруль убил нарушителя. В каблуке сапога убитого была найдена свинцовая ампула, в которой находились два Донесения. Одно от ST-25, сообщавшего Люме об оборонительных сооружениях красных войск на Карельском перешейке и минных заграждениях на подступах к Кронштадту, другое — за подписью Мисс. В нем говорилось: «Важное лицо жз высокопоставленного командного состава Красной Армии, с которым я знакома, предлагает помочь в нашем патриотическом предприятии». В записке также излагался план мятежа в Петрограде и делался запрос, на каком участке целесообразнее сосредоточить силы заговорщиков».
Так чекисты напали на след Мисс. Но они еще не знали, кто скрывается за этим именем. Вскоре, однако, тайное стало явным.
На допросе Жоржетта Кюрц, терзаемая муками ревности в своей несчастной любви, винила некую Марию Ивановну, которую еще называли Мисс. По ее словам, Мария Ивановна была намного старше Поля и уж тем более ее, Шоржетты. Чекисты пришли к выводу, что описание внешности Марии Ивановны, данное Жоржеттой, точно совпадает с внешним обликом Надежды Владимировны Петровской.
На первом же допросе под действием неопровержимых улик Петровская во всем созналась. Да, это она Мария Ивановна, Мисс. «Я женщина слабая и поддалась чарам Поля» — так, рыдая, объясняла Надежда Владимировна свое падение. Петровская ничего не скрывала, даже согласилась оказать чекистам любую помощь. Она вспоминала дома и квартиры в Москве, которые посещала вместе с Дюксом…
В Москве Петровскую допрашивал уже Артузов. Ее привезли на Лубянку. Она теперь не закатывала истерик, понимая, что рассчитывать на какое-то снисхождение можно лишь чистосердечным признанием, оказанием помощи следствию.
— Поль возил меня к Сергею Михайловичу, а потом на Чистые пруды, на переговоры с членами какой-то организации, — заявила она Артузову.
— Адрес Сергея Михайловича?
— Убейте, не помню. Это было вечером, кругом темно. Дом, в который мы зашли, не запомнила. Второй дом тоже не помню…
Артузов по-своему понял значение слов «не помню»: «Хитрит, увиливает или хочет ввести нас в заблуждение?». Он продолжал свои беседы с Петровской, выясняя все новые и новые стороны ее жизни. Эта уже не первой молодости женщина имела сына, который тоже работал в штабе 7-й армии. Он снабдил Дюкса поддельным удостоверением на имя работника штаба Александра Банкау. Похоже, Петровская действительно питала сакие-то чувства к Дюксу и, возможно, была оскорблена его мужским непостоянством и бегством без предупреждения и прощания. И все же главное, что их связывало, — это политическая борьба против Советской власти. У Петровской было время подумать, как вести себя на следствии. Однажды (это было же в феврале 1920 года) Петровская сама предложила Артузову:
— Хорошо бы съездить на Чистые пруды, возможно, я бы нашла тот дом, в котором мы были с Полем. А хозяина я запомнила, если встречу — узнаю сразу, зовут его Николай Петрович или Николай Николаевич. У него есть премиленькая собачка — белый шпиц.
— Раз есть собачка, то он должен ее прогуливать по бульвару, — предположил Артузов.
Предложение Петровской было заманчивым, но и рискованным: она могла пройти мимо владельца собачки, «не узнав его», и тот бы сразу все понял. Однако Артузов почувствовал, что появился хоть и маленький, но шанс, зацепка, и был доволен, что в ходе допросов Петровской проявил достаточную выдержку и такт, чтобы не восстановить против следствия склонную к истеричности женщину. Он решил рискнуть…
В тот же вечер, примерно во время, когда владельцы собак выгуливают своих питомцев, Петровскую на автомобиле привезли на Чистые пруды. Они медленно ехали вдоль бульвара, оглядывая гулявших. На втором круге Петровская тронула плечо шофера:
— Остановите! Вот он! Видите, прогуливается с собачкой?
Владельца белого шпица задержали. Им оказался член коллегии Главтопа профессор Николай Николаевич Виноградский. На первом допросе он категорически отрицал свою связь с Дюксом, возмущался: мол-де задерживают и допрашивают советского работника. Чекистам было над чем задуматься. Может, Петровская с целью выиграть время и пустить следствие по ложному пути решила скомпрометировать крупного советского работника? В этом случае надо немедленно освободить Виноградского и принести ему извинения.
— Может быть, вы ошиблись и это не он? — в который раз спрашивал Артузов Петровскую.
— Он, — настаивала Петровская. — У меня хорошая память на лица, я не могла ошибиться. Помнится, показав Полю какие-то бумаги, он засунул их за картину, которая висит в его кабинете. Загляните туда, возможно, они все еще там.
Никаких бумаг за картиной не оказалось. Однако там нашли пустой конверт. На нем было написано: «Сергею Михайловичу». И все встало на свои места. Петровская говорила правду, она уже называла и раньше это имя и отчество.
— Посмотрите на этот конверт и назовите фамилию адресата, — предложил Артузов Виноградскому. Николай Николаевич вздрогнул, лицо его побелело. Он понял, что изобличен, и… назвал фамилию одного из руководителей «Совета общественных деятелей» и «Тактического центра» — Леонтьева. Затем Виноградский сознался, что был связан с резидентом английской разведки Дюксом.
На очередном допросе арестованный уже без утайки рассказал о «Записке» с подробной характеристикой различных сторон государственной и общественной жизни советской республики, составленной «Центром» для информации стран Антанты, а также о встречах руководителей организации с приезжавшим нелегально в Москву начальником деникинской разведки полковником В. Д. Хартулари и с другими белогвардейскими эмиссарами.
Так Артузов получил возможность лишний раз убедиться в том, что не существует сколь-либо крупной контрреволюционной организации, которая не была бы связана со спецслужбой того или иного империалистического государства.
…Однако вернемся к сентябрьским дням 1919 года. Щепкин арестован, но Алферов еще оставался на свободе.
…Минула еще одна бессонная ночь. Артур Христианович вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, послушать зазывной шум центральной части города, а заодно подумать о том деле, которое поручено ему партией. Нет, его работа не ремесло, скорее, это искусство, и искусство трудное, приходится иметь дело с людьми очень разными, следовательно, нужно быть тонким психологом. Этому его учат и этого от него требуют его руководители: Дзержинский, Менжинский, дядя Миша Кедров, ныне член коллегии ВЧК. Все трое придавали огромное значение самостоятельности работников, их инициативе и решительности, но при условии соблюдения правила, сформулированного Феликсом Эдмундовичем: «Делайте по-своему, но вы ответственны за результат».
Артузов полностью разделял это положение применительно к себе и к своим подчиненным. Вот и сейчас, несмотря на очевидный первый успех, Артузов не забывал, что в Москве все еще действует военная заговорщическая организация. О ней на допросе рассказал окружной инспектор Всевобуча П. М. Мартынов, арестованный чекистами в числе прочих на квартире Щепкина. Чекисты уже знали, что существует «Штаб Добровольческой армии Московского района». Предстояло выяснить, кто руководитель этого штаба? Время торопило чекистов. До назначенного срока вооруженного мятежа оставались считанные дни. Тула, правда, не была взята Деникиным, но положение продолжало оставаться серьезным.
Возможно, другие люди на месте руководителей ВЧК стали бы себя успокаивать предположением, что заговорщики, напуганные арестом Щепкина, откажутся от своих замыслов и постараются исчезнуть или на время затихнуть, но Дзержинский, обсудивший с Менжинским обстановку в Москве, исходил из обратного: провал гражданского лидера лишь подтолкнет накаленных ожиданием офицеров на решительные действия. Даже обреченные на гибель, они могут наделать много бед. Захват столицы, пусть даже на какие-то часы, дал бы в руки Деникину сильнейшие политические и военные козыри. Надо было во что бы то ни стало упредить врагов.
Арест Щепкина действительно всполошил остальных руководителей «Национального центра», особенно военных из «Штаба Добровольческой армии Московского района». Они срочно собрались на Малой Дмитровке, 4, в квартире Алферова, которую чекисты не успели взять под постоянное наблюдение, хотя о ней знали из показаний Крашенинникова («на всякий случай мне дали адрес Алферова, содержателя и директора гимназии») и из сообщения учительницы Ф. Э. Дзержинскому, которой показалось подозрительным поведение директора школы. Чтобы усыпить бдительность соседей, Алферовы распустили слух, будто у них тезоименитство и, возможно, к ним заглянут на чашку чая друзья, ответственные советские работники. Соответствующим образом был сервирован и стол. И вот первый «гость». Условный стук — и в приемную вошел начальник артиллерийских курсов Миллер, одетый в кожанку с маузером на боку. В этой квартире он был своим человеком. Миллер быстро разделся и прошел в комнату. Поклонившись хозяйке и выпив с ее разрешения рюмочку коньяку, он стал ожидать прихода остальных «гостей».
Снова и снова повторялся условный стук в дверь. Уже пришли бывший полковник генштаба Талыпин, казначей «Центра» Тихомиров, начальник военных курсов «Маскировка» Николай Сучков, другие лица. Ждали главного стратега организации, а пока осуждали Щепкина, так «глупо» (хотя никто не знал, как именно) попавшего в руки Чека, а главное — погубившего миллион, который находился у него на хранении и предназначался на военные нужды.
— Деньги — дело наживное, — успокаивал всех Миллер, — англичане помогут. Получим через Петроград.
— Держи карман шире, — резонно возразил Тихомиров, — в Петрограде крупные провалы. Английские денежки, если таковые и посланы, в любой момент могут оказаться у большевиков.
— Да, господа, не радуют, к сожалению, вести из Петрограда, — подтвердил опасения Тихомирова Алферов. — Деньги, конечно, наше слабое место. Но пока не в деньгах дело. Первый же наш успех откроет нам кредиты, думаю, не ограниченные какими-либо условиями. Сейчас гораздо важнее выработать план быстрых и энергичных действий, которые бы привели нас к конечной и желанной цели. Для этого необходимо объединение наших сил. Я уверен, что сегодня мы выработаем и утвердим такой план.
— Браво, Алексей Данилович, — кто-то тихонько постучал вилкой о стол. — Гордого сердца и мудрого ума вы человек.
И опять послышался условный стук. Все замерли в ожидании. Это он — главный стратег заговора В. В. Ступин, бывший подполковник и штаб-офицер для поручений при главнокомандующем армиями Северного фронта, ныне занимающий куда менее заметную должность — начальника 6-го уставного отделения Всеглавштаба Красной Армии.
Лишь немногие, самые доверенные лица, знали, что именно В. В. Ступин вместе с бывшим генералом Н. Н. Стоговым стоит во главе «Штаба Добровольческой армии Московского района». И уж совсем единицам было известно, что нынешний начальник Ступина — руководитель оперативного отдела Всеглавштаба бывший генерал С. А. Кузнецов — и есть тот человек, который снабжал Деникина и Колчака секретнейшими документами Реввоенсовета республики.
— Прошу прощения, господа, опоздал по уважительным причинам, — раздеваясь, принес извинения собравшимся Ступин. Пригладив редеющие на макушке волосы, он облюбовал свободное место, хорошо освещенное лампой.
— Господа, если вы не возражаете, я обрисую вкратце создавшуюся обстановку, — начал Алферов общий разговор. — Небезызвестный нам ННЩ арестован. И он может…
— Он уже ничего не может, — прервал хозяина квартиры Ступин. — Невменяем. Поступил благородно — лишил себя рассудка… ННЩ уже никому не нужен, ни нам, ни большевикам.
— Спасибо за существенное уточнение, — поблагодарил Ступина Алферов. — Это меняет дело.
— Вряд ли намного, — снова прервал Ступин хозяина квартиры. — Чека напала на след организации, а это означает, что не избежать новых арестов.
— Какой же выход из положения? — спросил Алферов.
— Выход один — форсировать подготовку восстания. Я кое-чему научился на службе у большевиков.
Мысли Ступина были по душе каждому, сидевшему за этим столом. И Алферов, и Миллер, и Сучков, и прочие видели в бывшем подполковнике опору организации, ее надежду. Это чувство передалось самому Ступину, и он с еще большим жаром принялся излагать военный план:
— Обстановка вынуждает нас выступить без промедления. Запомните: срок выступления 21–22 сентября. К этому времени войска генерала Деникина подойдут достаточно близко к Москве.
Голос Ступина набирал силу, он уже не боялся, что его могут услышать соседи. Собравшиеся смотрели на него зачарованно, мысленно представляя себе самого генерала Деникина, въезжающего на белом коне в первопрестольную под колокольный перезвон московских сорока сороков…
Ступин вынул из кармана френча сложенную карту, разложил перед собой.
— Господа, мне было поручено разработать план захвата Москвы. Я вам его доложу. Доложу без уточняющих деталей, поверьте на слово — план разработан на основе выношенного опыта, с учетом требований тактики и стратегического замысла генерала Деникина. Реввоенсовет и Чека конечно же будут отвлечены главным — не сдать Москву. Все, кто способен держать оружие, уйдут на фронт. Понятно, что в такой момент легче всего завладеть столицей.
Обведя присутствующих близорукими глазами, Ступин замолчал. Он ждал, что последуют вопросы о точном времени начала мятежа. Но всем все было предельно ясно. Офицеры молчаливо одобрили план выступления.
— Начать предлагаю в 18.00, — сказал Ступин.
— Почему в восемнадцать? — засомневался кто-то, — ведь недаром говорится, что утро вечера мудренее…
— Только в восемнадцать, — настаивал на своем Ступин. — Ночь должна быть нашей союзницей. Выступление планирую начать одновременно в городе и за городом. Восстания в Вешняках, Волоколамске и Кунцеве должны сыграть роль вспомогательную, они отвлекут силы красных из столицы. Москву я разделил на два боевых сектора. Сходящимися ударами сил двух секторов мы должны разгромить разрозненное сопротивление красных войск, укрепиться на линии Садового кольца и повести оттуда наступление на центр города. Первоочередная цель — захват почты, телеграфа, правительственных зданий. Затем последует штурм Кремля. Конечная цель — арест Ленина и комиссаров.
Центр восточного сектора — Лефортово. Его силами командует Василий Александрович Миллер. Западный сектор входит в подчинение полковника Талыпина. Сергей Иванович в первую очередь должен позаботиться о захвате радиостанции на Ходынке, чтобы возвестить всему миру о падении Советской власти в Москве.
Ядро наших сил, господа, это восемьсот кадровых офицеров, кроме того, мы можем рассчитывать на некоторые войсковые части и курсантов. Оружие имеется в достаточном количестве, оно хранится в трех военных школах, находящихся под нашим влиянием, а также в тайниках, разбросанных по всему городу.
У меня все, господа.
Вопросов больше не последовало. Алферов поднялся со стула и на правах хозяина провозгласил тост:
— За удачу, за полное осуществление этого плана, за доблестного подполковника Ступина, его автора!
Гости Алферова по одному покидали квартиру, уверенные в своей удаче. Они не могли знать, что параллельно в Чека вырабатывался контрплан, основные идеи которого были предложены Ф. Э. Дзержинским.
Упреждающий удар
Еще 12 сентября Щепкин признал на допросе, что найденные у него записи продиктованы им и предназначены для отправки в штаб Деникина. Но он отрицал связь с какой-либо военной группой. Однако из тех же документов явствовало, что такая связь существовала. И это вскоре было доказано. Чекисты из засады в доме Щепкина задержали А. А. Волкова — профессора института путей сообщения, оказавшегося дешифровщиком указаний, поступавших из штаба Деникина, П. М. Мартынова — бывшего офицера, инспектора Всевобуча, Г. В. Шварца — деникинского курьера.
На допросе Мартынов подтвердил, что «Национальный центр» непосредственно связан с заговорщической военно-офицерской организацией, так называемым «Штабом Добровольческой армии Московского района», которая считает себя частью Добровольческой армии Деникина и, естественно, построена по принципу военному. Участники заговора разбиты на подразделения, есть и разведка. В организации поддерживается воинская дисциплина и порядок. Мартынов дал и такое весьма ценное показание: вооруженное выступление в Москве намечено на вторую половину сентября. Больше он ничего не знал.
Кто возглавляет «Штаб Добровольческой армии Московского района»? Каковы его силы? Из каких источников Деникин получает информацию о Красной Армии? Все это предстояло выяснить Особому отделу ВЧК, с тем, чтобы предупредить, а точнее, упредить выступление контрреволюционных сил и разгромить их.
В одну из тревожных сентябрьских ночей 1919 года Феликс Эдмундович вызвал к себе Менжинского, Павлуновского, Артузова и других руководящих работников ВЧК.
— Здравствуйте, товарищи! Садитесь!
— Вот взгляните…
На столе лежал листок, испещренный цифрами, — плод раздумий Феликса Эдмундовича. Менжинский и Артузов быстро пробежали глазами записи, обратив внимание на итог: один к десяти.
— Надеюсь, вы поняли смысл этого соотношения?
— Как не понять, Феликс Эдмундович, — утвердительно ответил Менжинский. — Мы тоже занимались подобными расчетами и пришли примерно к тем же цифрам. Сегодня в Москве наших сил мало — все, кто мог, ушли на деникинский фронт. Белогвардейцев в столице окопалось раз в десять больше, чем бойцов в гарнизоне. Они, безусловно, выжидают удобный момент, чтобы выступить против Советской власти. Такой момент, по нашему мнению, и это совпадает с оперативными данными, наступит, когда Деникин подойдет к Туле.
— С вашей оценкой сложившейся ситуации вполне согласен, — убирая листок, проговорил Дзержинский и устало сел. Все эти дни председатель ВЧК спал лишь урывками — не позволяла обстановка. Посерело от переутомления лицо, черты его заострились, глаза лихорадочно блестели. Однако и в таком болезненном состоянии Дзержинский не позволял себе расслабиться, выглядел, как всегда, подтянутым и собранным.
Лаконично и четко Феликс Эдмундович сообщил о последнем разговоре с Владимиром Ильичей, дал конкретные указания о нанесении удара по окопавшемуся контрреволюционному сброду в Москве.
— Удар по «Национальному центру», «Штабу Добровольческой армии Московского района», другим организациям и военным группам заговорщиков должен быть нанесен одновременно, — излагая суть оперативного плана, говорил Феликс Эдмундович. — Разрозненные аресты лишь заставят противника законспирироваться еще глубже или преждевременно выступить. И то и другое нам никаких выгод не сулит. Удар к тому же должен быть не ответным, а упреждающим…
Этот план, отвечающий сложившейся обстановке и учитывающий реальное соотношение сил, был принят к руководству.
* * *
Да, действительно, в Москве надежных, верных войск в ту пору было мало. Они ушли на фронт, на какое-то время стабилизировавшийся в районе Курска. Главной военной силой ВЧК были дислоцированные в Кремле пулеметные курсы, сформированные из бывших унтер-офицеров.
Опорные пункты контрреволюции — военные школы «Выстрел» (пехотная), «Маскировка» и артиллерийская. В одной только «Маскировке» окопалось несколько десятков контрреволюционно настроенных офицеров.
Перед ВЧК встала нелегкая задача — обезвредить белогвардейских офицеров, не допустить их выступления в поддержку Деникина. Для этого по замыслу Дзержинского необходимо было в первую очередь выявить руководящее ядро белогвардейцев и нанести по нему удар.
Перед чекистами — непосредственными исполнителями плана председателя ВЧК — встал вопрос: с чего начать? В создавшейся обстановке промедление смерти подобно. Офицеры могли выступить со дня на день. Срочно были приняты некоторые меры для их нейтрализации. Руководители операции, конечно, понимали, что этим офицерского мятежа не предотвратишь, в лучшем случае — можно лишь ослабить. Их неотступно преследовала мысль: «Надо найти честных людей и опереться на них. Только так можно добраться до белогвардейской верхушки».
С ликвидацией подпольного руководящего штаба Ф. Э. Дзержинский справедливо связывал успех всей операции.
И действительно, такие люди, конечно, были. ВЧК всегда держала курс на поддержку своей деятельности народом, всеми честными людьми, в том числе и лояльно настроенными военными специалистами, бывшими офицерами старой русской армии. И на этот раз руководство ВЧК не мыслило проведение операции без помощи преданных Советской власти людей. У ВЧК уже обозначились кое-какие подходы к офицерской среде. Но пока они только обозначились, достаточным оперативным материалом чекисты еще не располагали. И все же в их руках вскоре оказалась важнейшая нить, которая привела к одному из главных руководителей белогвардейского заговора.
…Артузову позвонили из комендатуры:
— Военный, наймется, доктор, хочет непременно увидеть товарища Дзержинского. Приходит второй раз. Пускать или не пускать?
Сердце екнуло от предчувствия…
— Я выйду, разберусь. Задержите доктора до моего прихода.
Через несколько минут Артузов уже беседовал в своем кабинете с молодым еще человеком в хорошо подогнанной военной форме, с отличной выправкой кадрового офицера.
Артузов представился и спросил:
— Что вас, уважаемый доктор, привело к нам? — он уже знал, что неожиданный посетитель действительно военврач, в настоящее время — начальник медсанслужбы окружной артиллерийской школы.
Вздохнув, доктор просто ответил:
— Совесть…
— Слушаю вас…
— Мне бы хотелось встретиться с товарищем Дзержинским.
— Это вполне возможно. Но мне нужно знать, по какому делу вы добиваетесь такой встречи? Феликс Эдмундович чрезвычайно занятой человек, хотя и старается никому не отказать в разговоре. Может быть, я смогу быть вам полезным?
— Видите ли, я оказался в двусмысленном положении… С одной стороны, я врач окружной артиллерийской школы и должен в интересах этого учреждения не выносить, как говорится, сор из избы… С другой стороны… Словом, дело в том, что по слабости характера я позволил втянуть себя в сомнительную офицерскую организацию, выступающую против Советов.
— Вот как? — удивленно вскинул брови Артур Христианович. — И что же это за организация, каково ее политическое кредо?
Видимо, признание нелегко давалось сидящему перед Артузовым военному.
— Организация офицерская… — с усилием выдавил он наконец, — действует в нашей артиллерийской и других школах… Совесть не позволяет мне молчать. Я не раз слушал Ленина и во многом с ним солидарен…
Артузов усмехнулся по поводу такой искренней политической наивности, заметил мягко:
— Раз вы с Лениным солидарны, значит, и с нами должны быть солидарны. ВЧК-то создан Лениным и является орудием диктатуры пролетариата. И вы должны нам помочь ликвидировать эту организацию, раз она выступает против Советской власти. Кто ее возглавляет?
Доктор замялся:
— Я пришел к вам, как на исповедь, а вы толкаете меня на это самое… на фискальство.
Артузов понимал собеседника: подобные взгляды были типичны для определенной части интеллигентов в то тревожное время, и, конечно, столкнуть с них доктора будет нелегко. Утешало одно: он, Артузов, имеет дело с безусловно честным человеком, хотя и склонным к идейным шатаниям и разделяющим предрассудки своего окружения, но искренне симпатизирующим Советской власти. В конце концов, сообщение об организации в артиллерийской школе — уже конкретный факт, опираясь на который можно работать.
— Так я пойду, — неожиданно заторопился доктор.
Артузову необходимо было задержать его хотя бы на несколько минут. Может, он еще скажет что-нибудь важное?
— Вы же хотели встретиться с товарищем Дзержинским?
— Я предвижу, что он мне посоветует. Я так и поступлю, выйду из организации.
«Господи, — подумал Артузов, — святая простота! Он полагает, что его благородные коллеги-офицеры так и позволят ему добровольно уйти от них. Его же убьют!»
— В таком случае я вас не задерживаю и лишь хочу от имени ВЧК поблагодарить за то, что вы пришли к нам. Ваш приход я рассматриваю как доверие к ВЧК со стороны интеллигентного человека. И еще вот что… От себя лично позволю дать совет: не стоит рассказывать сослуживцам о визите к нам и распространяться о своем выходе из организации.
В глазах доктора мелькнула растерянность, похоже, он понял обоснованность предупреждения. Артузов не был назойлив. Уговаривать доктора не стал, понимая, что тот больше ничего не расскажет. И все же Артур Христианович надеялся, что разбуженная совесть доктора, возникший в душе внутренний конфликт заставят его сделать последующий, более решительный шаг к установлению истины. А пока спасибо ему и за то, что сообщил о конкретной контрреволюционной организации.
Доктор какое-то время нерешительно топтался на месте, потом надел фуражку и было собрался выйти из кабинета. Но не вышел, остановился в задумчивости. «Терзается, — подумал Артузов, — что-то еще хочет сказать».
— Я вам все-таки советую встретиться с товарищем Дзержинским, — сказал он, рассчитывая, что с председателем ВЧК посетитель будет говорить более откровенно.
Феликс Эдмундович принял доктора. В его кабинете военврач действительно разговорился, ругал некую личность:
— Играет в будущего диктатора Москвы, белая кость!
…Вроде бы невзначай и вне связи с контрреволюционной организацией военврач упомянул фамилии начальников двух окружных военных школ: артиллерийской — Миллера и «Маскировки» — Сучкова. Дзержинский сделал вид, что он так и не понял, проговорился доктор случайно или назвал фамилии намеренно, но в такой форме, чтобы не выглядеть перед ним доносчиком.
Дзержинский перевел разговор на какие-то пустяки, но при этом дал понять посетителю, что ценит его искренность и деликатность.
Доктор ушел удовлетворенный и обещал, что он еще как-нибудь зайдет, если это принесет пользу Советской власти.
В руках чекистов оказались уже вполне реальные данные: Миллер и Сучков. Начинать надо с Миллера. Как-никак в распоряжении начальника артиллерийской школы были не маскировочные средства, пускай и с многочисленной обслугой, а самые настоящие орудия с основательным запасом снарядов.
Не теряя времени, чекисты установили наблюдение за предателем. Они узнали, в частности, что недавно Миллер просил заместителя председателя Реввоенсовета республики Склянского выделить для школы еще одну батарею скорострельных орудий, а ему лично — мотоцикл с коляской. РВС его просьбу пока не рассматривал. Узнав об этом, Дзержинский подумал: «А что, если дать ему этот мотоцикл, разумеется с нашим водителем в придачу?»
Связались со Склянским, и тот отдал необходимое распоряжение. Вскоре перед начальником артиллерийской школы предстал красноармеец, облаченный в кожаные галифе, куртку и шлем с огромными очками. Такими же были и сверкающие, словно начищенные ваксой, перчатки с раструбами. Все это хромовое великолепие странно контрастировало с простецким, явно рязанского происхождения обликом водителя.
— По распоряжению Реввоенсовета красноармеец Кудеяр прибыл в ваше распоряжение! — отрапортовал он Миллеру.
Настоящая фамилия Кудеяра была Горячев, а должность — оперработник ВЧК.
Артузов уже знал, что Миллер — человек не очень большого ума, но непомерного честолюбия. Персональный мотоцикл — тогда большая редкость — для такого, как Миллер, — прежде всего дело престижа. А когда речь идет о личном престиже, тут уж не до бдительности. Все было настолько естественно, что не вызвало никаких подозрений у Миллера.
Горячев стал возить Миллера ж быстро вошел к нему в доверие. Ездил начальник артиллерийской школы много — по всей Москве и пригородам. А водитель был безотказен, не жаловался на усталость и переработку, был в меру услужлив. Он аккуратно возил своего пассажира и запоминал адреса, где ему приходилось бывать вместе с начальником школы, фамилии и лица людей, с которыми тот встречался. В предельно короткий срок у ВЧК накопилось множество данных о связях Миллера. Так, в частности, были определены кое-какие тайники с оружием, установлены личности отдельных командиров боевых групп.
Некоторые из ответственных работников ВЧК склонны были немедленно начать аресты наиболее активных офицеров, но Дзержинский утверждал иное: аресты одиночек мало что дадут, надо разгромить белогвардейцев одним мощным ударом, нанесенным в благоприятный момент.
К этому времени военврач артиллерийской школы активно и сознательно включился в чекистскую операцию, помог установить главных руководителей белогвардейской организации Ходынского, Замоскворецкого и других районов, а также и центрального штаба, находившегося в квартире Ступина.
Теперь Артузову нужно было выяснить, каковы конкретные планы и намерения штаба. Чтобы получить обстоятельные ответы на эти вопросы, необходимо было ознакомиться с содержанием штабных документов. Конечно, можно было найти пути для проникновения чекистов в сам штаб, но для этого требовалось время. И Артузов с разрешения Павлуновского решил «заглянуть» на квартиру Ступина сам.
На другой день Ступин сообщил своим друзьям:
— Кто-то побывал у меня дома, наверное, анархисты балуются. Вино искали, а его запас у меня давно иссяк. Слава богу, все документы целы. Им не бумага нужна была…
Из документов штаба чекисты узнали планы белогвардейцев во всех деталях. В их руках оказалось даже заранее подготовленное воззванию заговорщиков к населению с призывом не оказывать сопротивления деникинским войскам, арестовывать коммунистов.
ВЧК выявила все главные силы, которыми располагал штаб заговорщиков. Они сосредоточивались, как и предполагалось, в трех офицерских школах. Кроме того, изрядное количество офицеров осело в некоторых районах Москвы. Особый отдел разработал во всех деталях план бескровного захвата заговорщиков.
Артузов и его сотрудники хорошо изучили жизнь школ, распорядок дня (он пунктуально выполнялся). Один его пункт привлек внимание чекистов. Командиры и слушатели артиллерийской школы регулярно занимались гимнастикой. Вот и решено было использовать очередной выход всех курсантов на гимнастический урок для разоружения и ареста офицеров-заговорщиков. Артузов попросил комиссара школы очередное занятие по гимнастике под предлогом плохой погоды провести не во дворе, а в манеже. Ничего не подозревая, первыми вошли в помещение офицеры. Как обычно, сложили оружие, разделись, построились, но… урок не состоялся. У дверей манежа мгновенно были выставлены два пулемета. Кто-то вскрикнул в отчаянии, кто-то громко клял себя, что так глупо попался в руки ЧК. Но одно поняли все — сопротивление бесполезно.
В ходе следствия Артузов узнал много нового о планах штаба заговорщиков. С падением Тулы их артиллерия должна была обстрелять Кремль. Офицерской диверсионной группе из двадцати человек предписывалось взорвать железнодорожные мосты, чтобы не допустить подвоза красных войск к Москве. Другой группе офицеров поручалось вывести из строя связь РВС с фронтами и Кремля с ВЧК.
Следствие показало, что кое-кто из белогвардейских офицеров остался на свободе. В частности, на плане-схеме с зашифрованными обозначениями дислокации белогвардейских сил в Москве буквой «Ф» была помечена артиллерийская позиция. Что или кто за ней скрывается? Просмотрели поименный список комсостава округа. На букву «Ф» значился в числе прочих командиров некий Флейтер, имеющий в своем распоряжении артбатареи. Но причастен ли он к белогвардейской организации? Флейтер жил на Ходынке. На рассвете один из чекистов через окно пробрался в его квартиру и растормошил хозяина.
— Что, уже началось? — спросонья спросил Флейтер, видимо приняв чекиста за связного от Миллера. И тут же прислушался: где-то звонил колокол. Флейтер перекрестился, стал натягивать галифе, приговаривая:
— Ну, держитесь, господа большевички, сейчас мы вам всыплем по первое число.
Одевшись, Флейтер вытащил из-под матраса схему Москвы и Кремля. Тут же он и был арестован.
19 сентября арестовали и Миллера. Оказавшись в ВЧК, этот самовлюбленный и самонадеянный человек, мнивший себя одним из будущих правителей Москвы, мигом утратил всю свою былую спесь, повел себя как жалкий трус, думающий лишь о том, как спасти свою шкуру. Было неприятно смотреть, как юлил и изворачивался Миллер, пытаясь убедить Артузова, что стал жертвой следственной ошибки, что в действительности он лояльный и заслуженный военспец.
Менжинский и Артузов молча слушали его излияния. Наконец Вячеслав Рудольфович, которому, видно, надоел этот балаган, кивнул Артузову. Тот подошел к двери и приоткрыл ее. В следственную камеру Бутырской тюрьмы вошел Кудеяр. На сей раз Горячев был одет в свою настоящую форму. И Миллер все понял. Тут же он, даже не смутившись, заявил:
— Лучше быть пять минут трусом, чем мертвым героем. Дайте мне бумагу и карандаш, я сам напишу показания…
Заключительный допрос Миллера (уже в ноябре) провел Ф. Э. Дзержинский. Сохранилась его запись в протоколе: «Сегодня, 23.IX, Миллер мне рассказал, что в разговорах они строили планы, как захватить Ленина в качестве заложника против красного террора и для этой цели держать его в каком-нибудь имении вне Москвы. Ф. Дзержинский».
…Обыск в квартире Алферова проводили еще в ночь на 29 августа член коллегии ВЧК Варлаам Александрович Аванесов и сотрудник Особого отдела Федор Тимофеевич Фомин. Ночь на исходе, все осмотрено, но ничего компрометирующего не обнаружено. Но Аванесову не верилось, что Алферов, входивший в руководство «Национального центра», не хранил у себя никаких документов. Перед Аванесовым росла груда книг, старых газет и журналов, частных писем. Он их неторопливо и безрезультатно пролистывал. И тут вдруг в кармане старых брюк хозяина дома Фомин нашел его записную книжку. Аванесов перелистал и ее, встряхнул на весу, вдруг что-нибудь высыплется. Алферов и бровью не повел, опытный конспиратор, с выдержкой.
Аванесов стал изучать записи. Остановился на листке, где, похоже, Алферов вел учет своих должников.
— Виктор Иванович — 452 руб. 73 коп., Владимир Павлович — 453 руб. 23 коп., Сергей Петрович… — читал вслух Аванесов, искоса поглядывая на хозяина. Тот почему-то напрягся, изменился в лице. Варлаам Александрович понял — в этих записях кроется какая-то тайна, вряд ли сам Алферов ее откроет. К этому моменту чекисты обыск прекратили и ждали дальнейших распоряжений.
— Возобновить обыск, — после некоторого раздумья приказал Аванесов. «Подряд все смотрим, — подумал он, — а надо бы выборочно». И он взялся за тщательное и последовательное изучение тех предметов, которыми Алферов пользовался повседневно… Простукал коробочки на письменном столе, поднял покрывавшее его зеленое сукно, осмотрел папиросницу — ничего. Развинтил малахитовое пресс-папье и… вдруг из-под его тяжелой крышки выпали крохотные листки папиросной бумаги. Стал читать — бисерным почерком выведены какие-то имена и фамилии. Алферов заерзал на стуле.
Аванесову пришло в голову сравнить инициалы, выведенные на листках, с записями в книжке. Может быть, между ними есть какая-то связь? Некоторые инициалы совпали.
Наблюдая исподлобья за действиями Аванесова, Алферов не замедлил вмешаться:
— Это мои карточные должники. Задолжали за преферансом, очень азартно играют.
— Зачем же так далеко прятать список?
— Вы же мужчина, знаете, как жены относятся к деньгам и картам…
— Ну, ну… Все понимаю…
«Цифры, цифры долга, что они могут означать? Они мертвы, сухи. Может быть, их сделать еще суше? Отнять «руб.» и «коп.»? Слить воедино? Что получится?»
Раздался резкий телефонный звонок. Кто-то тревожил Алферова в столь ранний час. Аванесов снял трубку. Телефонистка извинилась — ошиблась номером. И тут Аванесов встретился взглядом с загоревшимися глазами Фомина. Догадка осенила их одновременно. Варлаам Александрович вернулся к аппарату, покрутил ручкой. Телефонистка тут же ответила.
— Барышня, соедините меня с номером 4-52-73. Попросите Виктора Ивановича.
— Ждите…
Через полминуты в трубке загудел чей-то заспанный бас:
— Я слушаю.
— Извините, Виктор Иванович, я сосед Алексея Даниловича, звоню по его просьбе. С ним плохо, сильный сердечный приступ. Не можете ли вы срочно приехать к нему? Он хочет вам что-то передать.
— Выезжаю, ждите…
Через полчаса таинственный Виктор Иванович оказался в руках чекистов. Так же были взяты Владимир Павлович, Сергей Петрович и многие другие члены «Национального центра».
Труднее оказалось поймать Ступина. Он постоянно менял места своего пребывания, то останавливаясь у кого-либо на даче, то на квартире. Задержали его в маленькой гостинице одного из подмосковных городков только 19 сентября.
Были арестованы и стоявшие за спиной Ступина бывшие генералы. 18 сентября 1919 года Ф. Э. Дзержинский доложил на объединенном заседании Политбюро и Оргбюро, в котором участвовал В. И. Ленин, о мероприятиях ВЧК по разгрому заговорщических организаций. 19–20 сентября ВЧК арестовала всех основных руководителей заговора. 21 сентября Ф. Э. Дзержинский доложил ЦК РКП (б) о ликвидации «подготовлявшегося в Москве восстания белогвардейцев».
23 сентября 1919 года в «Известиях ВЦИК» появилось сообщение и обращение ВЧК ко всем гражданам Советской России по поводу разгрома «Национального центра» и опубликован список 67 главных заговорщиков, приговоренных Военным трибуналом за измену и шпионаж к высшей мере наказания. А в общей сложности чекисты совместно с красноармейцами-коммунистами, при помощи рабочих московских заводов арестовали около 700 участников контрреволюционных организаций, главным образом бывших кадровых офицеров.
Три скоротечных дня. Да, столько длилась завершающая часть операции по ликвидации «Национального центра» и штаба «Добровольческой армии Московского района». Чем она была для Артузова? Скорее всего фундаментальной школой Дзержинского, чей революционный опыт, неповторимая проницательность, личный пример и весь духовный склад стали жизненной опорой многих чекистов, в том числе и Артузова. И не случайно спустя годы в своих лекциях перед молодыми чекистами Артур Христианович не переставал повторять, что гордится тем, что ему выпала радость близко знать такого человека, как Дзержинский, человека светлой ярости и молодого кипения.
Учреждение «Треста»
— Пока этот авантюрист жив, он не оставит нас в покое! — с досадой бросив карандаш на стол, сказал Менжинский Артузову.
Слова эти относились к Савинкову, а причиной, их вызвавшей, было только что полученное Вячеславом Рудольфовичем сообщение. В нем говорилось, что 13–16 июня 1921 года в варшавском отеле «Брюль» в обстановке строгой секретности под председательством Бориса Савинкова состоялся съезд новой шпионско-террористической организации «Народный союз защиты родины и свободы». На съезде присутствовали представители: польского генерального штаба — Сологуб, французской военной миссии — майор Пакейе, других иностранных спецслужб, а также известный петлюровский атаман генерал-хорунжий Юрко Тютюнник.
Английский писатель и разведчик Соммерст Моэм говорил, что не встречал другого человека, который внушал бы ему столь предостерегающее чувство самосохранения, как Борис Савинков.
Постоянным многолетним партнером Савинкова по смертельной борьбе против Республики Советов был другой авантюрист — английский шпион Сидней Джордж Рейли.
Действительно, у чекистов были все основания считать Бориса Савинкова опаснейшим врагом молодой Советской страны. У этого человека была бурная биография. Некогда видный деятель партии эсеров, известный террорист — организатор убийств царского министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Автор (под псевдонимом В. Ропшин) нашумевших книг «Конь вороной», «Конь бледный», «То, чего не было». Летом 1917 года — управляющий военным министерством в правительстве Керенского. После Октября — вдохновитель антисоветских заговоров и мятежей.
Савинков, которого природа наделила неистощимой энергией и неудержимой тягой к авантюрам (по меткой характеристике А. В. Луначарского, артист авантюры), не брезговал ничем, что могло принести вред Советской власти и большевистской партии.
После провала затеянной им в 1918 году кровавой авантюры в Ярославле и Рыбинске Савинков представляет в Европе интересы адмирала Колчака. Выколачивает для белых армий у союзников деньги, вооружение, боеприпасы, снаряжение. Организует «Белую народную армию» под командованием Булак-Балаховича, воевавшую в составе войск Пилсудского. Лично участвует в рейдах озверелых белогвардейских банд из-за кордона по советским приграничным районам. Снабжает информацией западные разведки и получает от них за это немалые деньги. Окопавшись в Варшаве, Савинков вовлекает в орбиту своих планов и деятельности самых лютых врагов Советской власти из всех кругов белой эмиграции, восстанавливает подпольные группы из уцелевших белогвардейцев, кулацко-эсеровских элементов на советской земле. В январе 1921 года он приступает к оживлению своего разгромленного «Союза защиты родины и свободы», присоединив к его названию слово «народный» (НСЗРС).
В состав руководства «Народного союза защиты родины и свободы» кроме Савинкова и его брата Виктора, бывшего казачьего есаула, вошли старый оруженосец «вождя» А. А. Дикгоф-Деренталь, литератор профессор Д. В. Философов, бывший штаб-ротмистр лейб-гвардии кирасирского полка Г. Е. Эльвенгрен, казачий полковник М. Н. Гнилорыбов и другие подобные им лица. Все враги Советов стекались под «внепартийные» знамена Савинкова — от монархистов и черносотенцев до «либералов» и «социалистов». Агенты Савинкова регулярно снабжали английскую, французскую и польскую разведки информацией о положении в Советском государстве и Красной Армии. Все задержанные агенты Савинкова на территории Советской России одновременно состояли на службе западных разведок.
С особым усердием савинковцы посылали своих эмиссаров в губернские, городские, уездные, даже в волостные комитеты «Союза» в западных областях Белоруссии и России, подкрепляя «идеологическую работу» бандитскими нападениями на советские учреждения, злодейскими убийствами партийных и советских работников, советских активистов и сочувствующих им рабочих и крестьян. Зверства савинковцев вызывали гнев народных масс.
В мае 1921 года чекисты вышли на след савинковской организации в этих районах (она получила название Западного областного комитета — ЗОК) и нанесли по ней сокрушительный удар, обезвредив сотни заговорщиков и шпионов. Разгромлены были и банды, прорвавшиеся сюда из-за кордона.
Захваченные документы вкупе с иными доказательствами преступной деятельности савинковцев позволили Советскому правительству потребовать от правительства Польши изгнания руководителей «Союза» из Варшавы. Савинков был вынужден перебраться в Париж.
Помимо борьбы с савинковским подпольем у чекистов хватало и других забот. Как раз в это время ВЧК приступила к осуществлению крупнейшей операции под кодовым названием «Трест». Она была рассчитана на активное противодействие зарубежным белоэмигрантским организациям, вынашивающим планы реставрации самодержавия в России. Основанием для проведения этой длительной крупномасштабной операции (она началась в ноябре 1921 года) послужило перехваченное письмо белогвардейца Артамонова, адресованное в крупный зарубежный антисоветский центр — так называемый «Высший монархический совет». Письмо пролило свет на намерения монархистов создать на территории Советской России свою организацию, причем важная роль отводилась в ней ответственному работнику Наркомпути А. А. Якушеву.
Якушев был арестован чекистами. На первых же допросах он признал бесперспективность борьбы монархистов против Советской власти и выразил желание включиться в активное противодействие тем, кто добивался реставрации царизма.
Руководство ВЧК приняло решение легендировать в Москве создание антисоветской организации под условным названием «Трест».
Еще в ходе операции ВЧК против «Союза» в Западном крае был арестован некий Опперпут (он же позднее Эдуард Оттович Стауниц), выходец из латышской деревни, дослужившийся в мировую войну до золотых погон. В НСЗРС его завербовал бывший гвардейский офицер Гельнер. Опперпуту предстояло стать одним из заметных действующих лиц в операции «Трест», которую начали вести чекисты под непосредственным руководством Дзержинского и Менжинского против белогвардейских эмигрантских организаций и против иностранных разведок…
* * *
Впоследствии Опперпут в своих воспоминаниях, изданных в Берлине (с ведома ГПУ, чтобы изобличить савинковцев и отрезать от них Опперпута), так описывал его вербовку савинковцами: «К началу октября 1920 г. я занимал в г. Смоленске должность пом. начштаба комвойсками внутренней службы Западного фронта. Раз на выходе после вечерних занятий из помещения штаба ко мне подошел молодой человек лет 27–30. Манеры и обращение выдавали бывшего офицера.
Видно было, что он поджидал меня у выхода, не желая по какой-то причине заходить в штаб. Он отрекомендовался Заржевским и подал мне записку от моего старого близкого знакомого по службе в Гомеле Гельнера, в которой тот просил удовлетворить просьбу подателя».
Заржевский, прощупывавший по заданию Гельнера настроение его бывшего сослуживца, охарактеризовал Опперпута как типичного оппозиционно настроенного к большевикам эсера.
…Странный это был человек. Еще молодой, боевой, физически крепкий и внешне привлекательный, он на свою беду был наделен непомерным тщеславием. Энергичный и изворотливый, он не обладал должной целеустремленной волей. Личная храбрость и склонность к авантюризму причудливо сочетались в нем с капризностью, непостоянством, быстрой сменой настроений. Твердых политических убеждений у Опперпута не было, поэтому без контрреволюционного воздействия извне он до поры до времени просто служил в Красной Армии. Пока не выплыл на его горизонте Гельнер. Заржевский, кстати, ошибался, когда уверял Гельнера в чуть ли не врожденном антибольшевизме Опперпут та: к моменту их встречи в Смоленске тот относился к правящей партии безразлично. Другого дела, кроме военного, он не знал, служить, кроме как в Красной Армии, было негде, вот он и служил.
Карьера в Красной Армии не соблазняла Опперпута, потому что не сулила ему никаких материальных благ, ни красивой, тем более шикарной жизни.
Опперпут занимал достаточно важный пост помощника начальника штаба войск внутренней охраны Западного фронта. Такой человек был настоящей находкой для НСЗРС. Одного не предвидели эмиссары «Союза»: двойственного, колеблющегося, противоречивого характера этого странного человека, которого могли использовать не только они, но и другие, более высокие мастера конспирации…
А пока что Опперпут вступил в НСЗРС и вскоре стал членом руководства савинковского подполья на советской территории. Подрывные возможности его значительно расширились с переводом на новую должность — начальника укрепрайона Минска.
Гельнер зря времени не терял: сумел образовать губернский комитет «Союза», ряд уездных комитетов. Он полагал, что при хорошо налаженной пропаганде, распространении соответствующих прокламаций может произойти дальнейшее расширение организации. О напечатании в большом количестве нелегальной литературы в Гомеле нечего было и думать. Оставалась Варшава. Но туда надо еще добраться. Кто может это сделать лучше других? Само собой разумеется, Опперпут. Гельнер убедил комитет послать в Польшу Опперпута, чтобы тем самым проверить его заодно и на серьезном задании.
Без особых трудностей Опперпут получил отпуск якобы для лечения старой окопной болезни — ревматизма и направился в местечко Кайданово. Ревком здесь только-только организовывался, охрана границы осуществлялась примитивно — отдельными постами на главных дорогах. Опытный военный, Опперпут легко перешел границу и приехал в Варшаву.
Каждого, кто нелегально прибывал из Советской России, польская контрразведка передавала савинковцам. Заключили в изолятор и Опперпута. Здесь его допрашивал какой-то казачий есаул в присутствии офицера французской военной миссии. Убедившись, что гость из-за кордона действительно активный работник НСЗРС, савинковские контрразведчики освободили Опперпута, отвезли его в гостиницу «Брюль», где он и предстал пред очи самого «вождя».
Савинков мгновенно оценил, какие возможности для подрывной работы в Советской России открываются перед его людьми, если правильно использовать служебное положение этого человека. И Борис Викторович постарался: обласкал Опперпута, уделил ему максимум своего внимания, снабдил инструкциями, дал деньги и 80 тысяч прокламаций. В последующие месяцы Опперпут еще четыре раза переходил границу, встречался с Савинковым, доставлял польской и французской разведкам сведения военного, политического и экономического характера.
Гомельская губчека довольно быстро узнала о распространении в городе контрреволюционных листовок, а также о подозрительных действиях некоторых военспецов. Было решено произвести обыски у командира запасного батальона Щербы, уездного военрука Максимова и военврача Моисеева. Поначалу обыскали комнату Максимова. Ничего компрометирующего не обнаружили. Чекистам впору было извиняться за причиненное беспокойство и уходить с пустыми руками. На всякий случай уполномоченный Гомельской губчека Владимир Павлович Алексеев решил осмотреть нетопленую печь. Ему показалось странным, что на улице холодно, а печь не топится, хотя дров на дворе достаточно. Алексеев разгреб старую золу в печи и… обнаружил жестяную банку. В ней была запрятана иностранная валюта. На простой вопрос: «Откуда?» — Максимов ничего вразумительного ответить не мог.
У военврача Моисеева чекисты нашли целое хранилище савинковской литературы, а у комбата Щербы — в щели между досками уборной — печать «Народного союза защиты родины и свободы».
Дальше цепочка потянулась к военному коменданту города бывшему офицеру Чибирю, военспецу Корсунскому, а от них к явочной квартире в Минске. В числе других заговорщиков здесь был арестован и Опперпут. Газета «Известия» 24 июля 1921 года по этому поводу писала:
«…Всероссийской Чрезвычайной комиссией раскрыта крупная боевая, террористическая организация Бориса Савинкова, раскинутая на территории всей Западной и Северо-Западной областей и имевшая ячейки на всей территории РСФСР. Центр раскрытой организации — Западный областной комитет так называемого «Народного союза защиты родины и свободы» во главе с представителем «Всероссийского комитета» по Западной области находился в городе Гомеле».
Держа в руках свежий номер «Известий», Артузов вошел в кабинет Менжинского.
— Вот, поставлена победная точка! Менжинский спокойно взглянул на газету и в глубоком раздумье откинулся на спинку дивана. Артузов уже знал: когда Вячеслав Рудольфович вот так откидывается, почти полулежит на диване, значит, снова мучают его невыносимые боли в поврежденном когда-то в автомобильной катастрофе позвоночнике. Бывали дни, когда Менжинский вообще работал в своем кабинете только лежа, вставал лишь в тех случаях, если должен был принять посетителя.
Глаза Менжинского потеплели, он протянул Артузову руку:
— Поздравляю, Артур Христианович. Верно — победа, и победа значительная. Но что касается победной точки, то ставить ее еще рано. Это нам только предстоит сделать.
— Вы имеете в виду Савинкова?
— Не только. Нам нужно пресечь контрреволюционную деятельность и белогвардейской монархической эмиграции. Вы слыхали про Бриарея? Это из греческой мифологии. У него было пятьдесят голов, сто рук и сто глаз. Мы должны уподобиться Бриарею, тогда наши глаза и руки дотянутся до Парижа, Берлина, Варшавы, Гельсингфорса. Все эти Врангели, кутеповы, бунаковы рано или поздно должны будут держать ответ перед нашим народом.
Менжинский говорил, не спуская пытливых глаз с Артузова, словно спрашивал: улавливает ли он, к чему все это говорится? Артузов прекрасно улавливал.
— Вы хотите сказать, Вячеслав Рудольфович, что существует драматический закон: нарастания действия и что нам следует поступать согласно этому закону, то есть идти дальше, внедряться в стан врагов?
— Вот именно, Артур Христианович. Подумайте, кого можно внедрить в монархическую среду.
Артузов думал не один день. Речь шла об очень серьезном: ключевых деятелях будущего «Треста» не из числа сотрудников ВЧК и привлеченных партийцев, работавших в различных советских учреждениях, но совсем других… «Главный руководитель» с согласия Дзержинского и Менжинского им уже был определен — Якушев. Для придания этой организации большей значимости в качестве начальника штаба ее военной части приглашен бывший царский генерал, закончивший в свое время академию Генерального штаба, Николай Михайлович Потапов, добровольно пришедший на службу в Красную Армию. Артузову показалось также целесообразным на роль своеобразного адъютанта Якушева подобрать офицера, действительно поварившегося в контрреволюционной среде, знающего правила конспирации, энергичного, способного ввести в заблуждение любого «гостя» из-за кордона. А то, что такие «гости» будут, он не сомневался. Артузов перебирал фамилии десятков людей, вовлеченных в той или иной степени в деятельность контрреволюционных организаций, но еще не погрязших с головой в преступлениях перед народом. Но как проникнуть в глубины души и сердца человека, еще вчера участвовавшего в тайном антисоветском заговоре? Как отличить искренне раскаивающегося от лицемера, спасающего свою жизнь? Наконец, как выделить, по каким критериям отобрать из нескольких возможных кандидатов того одного, кто наилучшим образом справится с новой ролью?
Отпали одна за другой многие фамилии. Круг сужался, пока в нем не осталась одна-единственная кандидатура: Опперпут. Бывший офицер, он знал монархически настроенную военную среду. К тому же использовать его для другой работы — против савинковцев — было никак нельзя, им было известно о его аресте в Гомеле.
Вячеслав Рудольфович Менжинский эту кандидатуру одобрил.
Обоснованность выбора, сделанного Артузовым, впоследствии не раз ставилась под сомнение, притом вполне резонно. И все же Артур Христианович об этом никогда не сожалел серьезно, даже тогда, когда Опперпут выкинул свой финальный неожиданный фортель. Было обидно и жалко этого запутавшегося человека, но объективность требовала признать, что свое дело он сделал — помог чекистам ввести в заблуждение зарубежных монархистов.
Чем руководствовался Артузов, когда обвел в достаточно длинном списке кружочком фамилию Опперпут? Немаловажными аргументами. Во-первых, Опперпут не имел никаких серьезных оснований по-настоящему глубоко ненавидеть Советскую власть. По происхождению он был крестьянин, и хотелось надеяться, что проснется же в нем когда-нибудь чувство классовой солидарности. Во-вторых, Опперпут хотя и допустил уже довольно серьезные нарушения законов, но кровавыми цепями к заговорщикам прикован еще не был, всерьез контрреволюционных политических воззрений савинковцев не разделял.
Аргументы «за» позволили Артузову если не отказаться от последних сомнений, то, во всяком случае, пойти на риск с достаточно обоснованной верой в успех. Опперпут обладал достаточным умом, ловкостью, настойчивостью, личной храбростью. Быстро ориентировался в сложной обстановке. Наконец, своими показаниями (как тогда казалось, продиктованными искренним раскаянием и желанием искупить вину) он существенно помог следствию и отрубил тем самым все чалки, связывавшие его с савинковцами, с прошлым.
Артузов предложил Опперпуту включиться в борьбу с монархическими антисоветскими организациями, и тот охотно принял это предложение. Опперпута поселили в Москве под видом скромного советского служащего Эдуарда Оттовича Стауница, демобилизованного из Красной Армии, и он стал выполнять задания Артузова.
Бывший союзник Савинкова оказался не из простачков. Он всегда к месту заявлял о своей лояльности и делал это в меру искренне. При каждой встрече с Артузовым или его главным помощником по «Тресту» Владимиром Андреевичем Стырне Опперпут проявлял готовность преданно служить порученному делу. Единственное, чего он просил, — не отказывать в доверии, ибо он все равно уже не волен распоряжаться своей судьбой. Артузов и Стырне понимали, что Опперпут непрерывно борется с самим собой, что ему нелегко выступить против своего бывшего лагеря, но раз этот человек все же изъявил желание сыграть отведенную ему роль, то ему следует доверять, хотя бы в пределах этой роли.
Но это доверие, как показали дальнейшие события, не было достаточно подкреплено действенным контролем. Артузов не учел полностью авантюристических склонностей и неустойчивого характера этой личности. Понял он это много позже, а пока что высказался об Опперпуте так:
— Опавший лист не возвращается на ветку…
…Итак, Артузов и Стырне успешно ввели Стауница в операцию «Трест». К этому времени чекисты уже наладили переписку с небезызвестным черносотенцем, бывшим членом Государственной думы монархистом Марковым-II. В эмиграции он издавал газету «Двуглавый орел». Газету эту с большой пользой для дела регулярно читал и Артузов и сотрудники КРО. Маркову дали понять, что в Москве существует сильная, активная и перспективная организация. Уже само ее название — «Монархическая организация Центральной России», или сокращенно МОЦР, — привело Маркова-II в восторг. Организация якобы объединяла бывших царских офицеров, крупных гражданских специалистов, привлеченных к работе в советском центральном аппарате, военспецов, занимающих видные посты в Красной Армии. Как явствовало из самого названия, в МОЦР входили только монархисты.
Программа МОЦР — отказ на современном этапе от интервенции и террора, длительное проникновение в советский аппарат, накапливание кадров для будущего государственного переворота.
Надо сказать, что информация, поступившая через настоящего монархиста Артамонова к Маркову-II, вовсе не была плодом чистой фантазии Артузова. Зерно истины она содержала. Действительно, к этому времени чекисты обнаружили малочисленную монархическую организацию, не представлявшую особой опасности. Образовали ее несколько престарелых бывших аристократов и царских сановников, ни на что, кроме злобной болтовни, в сущности, не способные. По-настоящему серьезных людей в ней почти не было. Косвенное отношение через знакомых к ней имел крупный специалист по водному транспорту, ответственный работник Наркомата путей сообщения, а в прошлом действительный статский советник, воспитанник, а затем и преподаватель Царскосельского лицея Александр Александрович Якушев.
На следствии Якушев произвел на Артузова, его ближайших сотрудников Стырне и Пиляра самое благоприятное впечатление. Это был искренний патриот России, умный, рассудительный и честный человек, чистосердечный даже в своих классовых и кастовых заблуждениях.
И сам Артур Христианович, и следователи ВЧК много часов беседовали с Якушевым, и он сумел многое понять и переоценить. Он увидел, какие ничтожные в моральном и нравственном отношении люди окружали его, убедиться, что любая борьба с Советской властью ооречена на гибель, потому что направлена против самого народа, и ничего, кроме лишних жертв, принести не может. Якушев добровольно написал заявление, в котором дал обещание отойти от политической деятельности в случае, если будет освобожден. Впрочем, сам он в такой исход не верил и заявление сделал не в корыстных целях, но в силу моральной потребности.
— Вы мне, конечно, не поверите… — с грустью сказал он Артузову при их очередной встрече в следственной комнате.
— Ну почему же не поверим? — возразил Артузов. — Мы считаем вас человеком принципиальным и честным, даже патриотом. Наши с вами разногласия носят идейный характер. Ваши монархические чувства — это классовая ограниченность. Нельзя же быть настолько слепым, чтобы не видеть, что монархия как государственный строй давно себя изжила, и не только в России, но и во всем мире. Что же касается вашего патриотизма, давайте будем честными до конца. Платоническая восторженность, равно как и пьяные рыдания в парижских ресторанах под романсы Плевицкой или Морфесси бывших гвардейских ротмистров, — это еще не любовь к России. Я знаю вашу биографию, вы всю жизнь работали, никогда не были царедворцем, и не можете не понимать: чтобы служить Родине, надо быть не просто лояльным, а подлинным ее гражданином, работать для ее блага не за страх, а за совесть…
Якушеву нечего было возразить. Слова Артузова о необходимости активного служения Родине глубоко запали в его сознание. В результате Александр Александрович Якушев после своего освобождения согласился выполнять задания ВЧК. Ему предстояло сыграть — и он ее блистательно, порой с риском для жизни, играл на протяжении пяти с лишним лет! — роль руководителя МОЦР в операции, условно названной «Трест».
…В Берлине собирался съезд монархистов со всей Европы. Поехал на съезд как «представитель» центральной «верноподданной» России и Якушев. Через Артамонова монархистам предварительно была передана политическая характеристика Якушева и внешние данные для его опознания. Так он вошел в монархическую среду.
Руководителя «Треста» встретили как подлинного героя, нелегально пробравшегося в Берлин. Держался Якушев не скромным просителем, почтительно внимающим бывшим сановникам и генералам, а человеком твердым и цену себе знающим. Он не побоялся бросить им горький упрек в отрыве от русской действительности, непонимании советских условий.
— Вам здесь легко, — говорил Александр Александрович, — вы вне опасности. Открыто митингуете, пользуетесь услугами генштабов. Вы бы хоть минутку побыли в нашей шкуре. Чека зверствует. Смотрим смерти в глаза и тем не менее боремся. Нам нужна действенная ваша помощь. А вы что даете? Деньги? Только инструкции и советы… Извините, господа, инструкциями большевиков не свалишь.
Якушева приняли Марков-II и сам Врангель. В ходе откровенной беседы они не раз повторяли: «Вы — наш». Якушев недоумевал, уловив в этих словах какой-то скрытый смысл.
— Кто-то еще претендует на нашу организацию? — наконец догадался он.
— Евразийцы, эти прыткие молокососы…
— Чего же они хотят? — вопрос был задан для уточнения. Якушеву и так было ясно, что молодые монархисты уже по причине своей молодости более энергичны, а потому и более опасны, нежели Врангели и Марковы.
— Видите ли, господин Якушев, — начал объяснять Марков, — это новое течение в нашем движении. Молодые люди уверяют, что мы присутствуем при гибели европейской культуры и что центр цивилизации отныне должен переместиться к Уралу, между Азией и Европой, то есть в Евразию. Они даже Советы — хотят сохранить, только без большевиков.
— Ну, Советы без большевиков — идея не новая, однако совершенно нереалистическая. Нет уж, господа, монархию с Советами не восстановишь. Нонсенс…
Из бесед с бароном Врангелем и Марковым-II Якушев узнал многое о планах и дальних замыслах монархистов, раздорах и течениях в их лагере, политическом облике руководителей, о прямой агентуре. В частности, ему стало известно о подготовке ряда террористических актов и диверсий на территории Советской России. В специальных боевых центрах шло натаскивание исполнителей из числа самых решительных, скорее даже оголтелых в своей звериной злобе офицеров. Врангель явно рассчитывал, что возглавляемая Якушевым организация поможет террористам и в нелегальном проникновении в Советскую Россию, и в совершении актов террора, и в сборе шпионских материалов, в первую очередь об обороноспособности страны. «И я имел наивность полагать этих убийц и шпионов идейными борцами за освобождение русского народа!» — с горечью думал Александр Александрович и все глубже осознавал, что теперь его святой долг перед Родиной — воспрепятствовать этим злодейским планам белой эмиграции.
Отныне Артузов был в курсе всех дел монархистов. Разумеется, не оставил он без внимания и евразийцев. Был подобран человек, который обозначил евразийское течение в Советской России. В ряды евразийцев с «помощью» второго отдела польского генштаба был внедрен под фамилией Денисов чекист (Александр Ланговой).
Денисов не раз и не два нелегально переходил границу. О его неуловимости в монархических кругах ходили настоящие легенды. Благополучно совершали «ходки» в оба конца и его питомцы из числа евразийцев. Популярность Денисова настолько возросла, что к нему за помощью и советом обратились руководящие деятели монархического движения. Денисов охотно взялся за организацию переправы. Агенты монархистов один за другим проникали нелегально за кордон и… попадались в руки чекистов. Когда число провалившихся переросло за пятьдесят, Марков-II не на шутку встревожился, упрекнул Денисова:
— Евразийцы не попадаются, а наши проваливаются. Почему?
На это Денисов ответил:
— Наши дисциплинированны, действуют с умом, в кабаках да трактирах не задерживаются, со шлюхами не путаются, с уголовниками не якшаются, а вы направляете дураков и олухов. Пусть-ка сперва потренируются в переходе польско-чехословацкой границы, может, после этого и поумнеют…
Польские, французские, английские разведчики не могли не обратить внимания на успехи евразийцев и стали искать с ними связей. В конце концов они договорились, что евразийцы будут поставлять им шпионские сведения о Советской России. ВЧК пришлось пойти им навстречу. У Артузова появилась мысль — создать специальное дезинформационное бюро. С этим предложением он и пришел к Менжинскому.
Вячеслав Рудольфович всегда был рад случаю повидаться с Артузовым. Они взаимно обогащали друг друга информацией, мыслями, а то и просто практиковались в свободные минуты в разговорном французском или немецком языке.
Менжинский внимательно выслушал доводы Артузова, все взвесил, потом одобрительно улыбнулся.
— Игра стоит свеч, эта идея мне по душе. Вот наш «Трест» и начинает наконец приносить дивиденды.
Дзержинский тоже одобрил эту инициативу, и по предложению ВЧК при Реввоенсовете республики такое бюро было создано. Оно готовило внешне очень достоверные данные о Красной Армии: сводки, доклады, донесения и т. п.
Всю эту продукцию Якушев переправлял белогвардейцам, предварительно договорившись с ними о цене за «шпионские» материалы и условиях перехода польской границы. Часть подобных сведений уходила иностранным спецслужбам через Денисова.
Главным потребителем информации были поляки, платили они щедро, подогревая обильной денежной мздой «усилия» Якушева и Денисова. Поляки, правда, в накладе не оставались — добытые сведения они с выгодой перепродавали английской и французской разведкам. Действительно, «Трест» давал дивиденды, которые позволили чекистам поставить его работу, говоря языком коммерческих дельцов, на полную самоокупаемость. Но главное — успешно продолжалась дезинформация противника.
Но вскоре до Якушева дошел тревожный сигнал. В польском генштабе нашлись трезвые головы, которые засомневались в точности получаемых разведданных. Сопоставив материалы советских газет со сведениями, полученными от Якушева, польские разведчики заметили «ножницы», явные несовпадения. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы доказать польскому генштабу, что советские газеты в одних случаях «приукрашивают» действительность, а в других — уменьшают, особенно мощь Красной Армии. «Неверующих» в генштабе от дел отстранили, и игра в дезинформацию успешно продолжалась для достижения основной цели, поставленной перед «Трестом», — расстроить планы империалистических кругов по организации новой интервенции против Советской страны.
Между тем в Европе продолжалась консолидация военной белоэмиграции крайне правого толка. Стоял во главе этих сил «черный барон» генерал П. Н. Врангель, который еще пользовался известным авторитетом и популярностью в военных кругах. Именно Врангелю было поручено возглавить «Российский общевоинский союз» — РОВС, самую сильную, многочисленную и организованную белоэмигрантскую армию. РОВС объединил все ранее существовавшие военные и военно-морские организации белоэмигрантов. Барон Врангель, несмотря на свой немалый удельный вес, руководил РОВСом больше номинально. Полновластным хозяином в «Союзе» был генерал Кутепов, человек исключительной воли, целенаправленности, организаторских способностей и жестокости. За последнюю его подчиненные называли генерала «Кутеп-паша». Идейная программа Кутепова исчерпывалась короткой фразой: «Нельзя ждать смерти большевизма, его надо уничтожать».
ОГПУ[2] установило, что РОВС, обосновавшийся в Париже, имел своих представителей во многих странах. Во Франции сидел генерал Шатилов, в Германии — генерал фон Лампе, в Праге — генерал Закржевский, в Польше — полковник Брандт, в Финляндии — генерал Добровольский. Даже в Персии и на Дальнем Востоке были представители РОВСа. Кутепов «ставил дело» с размахом, не случайно он даже организовал в Париже Высшие академические курсы во главе с генералом Головиным.
Под знамена РОВСа стекались десятки тысяч белогвардейских офицеров, живущих одной мечтой — вторжением в Советскую Россию. Фактически задачей РОВСа и было сколачивание новой белой армии. Тон в РОВСе задавали достаточно молодые и среднего возраста поручики и ротмистры, физически еще вполне крепкие (у каждого за плечами опыт мировой и гражданской войн), ничего не забывшие, но и ничему не научившиеся. Да и самому Кутепову лишь в 1922 году исполнилось сорок… Вся эта публика люто ненавидела Советскую власть, рвалась в бой, а пока большой войны не предвиделось, готова была принять участие в любой шпионской, диверсионной или террористической авантюре. В одном из документов «Союза» прямо говорилось: «РОВС с радостью пойдет на сотрудничество с государством, которое заинтересовано в свержении Советской власти…»
РОВС был организован по-военному, в основу всей его деятельности и жизни были положены воинская дисциплина и царский дисциплинарный устав. В нем была даже своя контрразведка — так называемая «внутренняя линия», которая, с одной стороны, должна была выявлять проникших в «Союз» чекистов, с другой — изобличать и ликвидировать всех колеблющихся, сомневающихся, пошатнувшихся в преданности «белой идее». Недаром правой рукой Врангеля по контрразведывательным делам был признанный мастер сыска, бывший директор царского департамента полиции генерал Климович.
Александру Александровичу Якушеву пришлось не раз пройти тщательную проверку, случалось, что жизнь его висела на волоске. Однако великолепная подготовка, которой руководил лично Артузов, к каждой командировке за рубеж или встрече с посланцами белогвардейцев на советской земле помогла ему безупречно сыграть свою роль в спектакле, который длился около шести лет! Два самых опасных человека за кордоном в монархической среде и военных кругах — Кутепов и Климович — полностью доверяли Якушеву, потому что полностью поверили в «Трест».
Повышению авторитета Якушева способствовало подключение к МОЦР в качестве «военного руководителя» организации бывшего генерал-лейтенанта старой армии Николая Михайловича Потапова. На самом деле Потапов, как и многие честные русские офицеры, верой и правдой служил своей обновленной Родине на ответственном посту в Главном штабе Красной Армии. Когда-то дядя Коля, Николай Ильич Подвойский, познакомил Артузова с Потаповым, которого хорошо знал и которому полностью доверял. Когда Артуру Христиановичу потребовался для «Треста» крупный военный специалист, известный в кругах старого генералитета, он вспомнил о Николае Михайловиче и обратился к нему за помощью. Потапов оказался очень полезным человеком. Он был умен, выдержан, находчив и умел, если требовалось, держаться с генеральской вальяжностью. Как и Якушев, он несколько раз выезжал за рубеж (иногда и вместе с Александром Александровичем) и каждый раз отлично справлялся с заданием.
Подзадориваемые активизацией действий Савинкова, руководители монархических кругов и РОВС все чаще и чаще стали засылать на территорию Советской России своих эмиссаров, диверсантов и террористов. Основную деятельность РОВСа «Трест» держал под своим контролем. Однако не исключалось, что единичную диверсию или политическое убийство белогвардейцы, самостоятельно проникшие в СССР из-за кордона, могут совершить сами. Этого Артузов допустить не мог. В Берлин и Париж пошли очередные донесения. В них Якушев убеждал Врангеля, Маркова-II и Кутепова, что террор себя не оправдывает, что если монархисты и дальше будут заниматься подобными акциями, то Чека быстро доберется до главных организаций МОЦР и разгромит их. Якушев сообщал, что перед угрозой разгрома он уже отдал приказ всем своим силам уйти в подполье. Александр Александрович убеждал своих корреспондентов, что нецелесообразно ставить под угрозу существование такой серьезной организации, как МОЦР. Нужно планомерно накапливать силы для перехода в будущем к решительным действиям, а не распыляться в неэффективных террористических актах.
В Париже доводам Якушева в конечном счете вняли. Вскоре от великого князя Николая Николаевича поступило распоряжение: во имя сохранения существующих организаций в России террор прекратить.
Наступил момент, когда благодаря «Тресту» чекисты были полностью в курсе всех основных контрреволюционных замыслов белогвардейско-монархической, а также кадетско-эсеровской заграничной и внутренней контрреволюции. «Трест» был также достаточно хорошо информирован и о том, куда и по каким каналам шли деньги «Российского торгово-промышленного и финансового союза» (Торгпром), который был создан в эмиграции крупнейшими денежными тузами старой России: Денисовым, Гукасовым, Лионозовым, Манташевым, Рябушинским, Нобелем и другими. Ради возвращения своей собственности в бывшей Российской империи господа из Торгпрома, имевшие немалые средства в европейских и американских банках, поддерживали деньгами и РОВС, и Савинкова.
Конечно, не только «Трест», весь центральный и местный аппарат ОГПУ вели напряженную борьбу с вражескими лазутчиками. И все-таки благодаря значительной помощи «Треста» в 1924 году только на территории одного Западного военного округа было задержано несколько десятков весьма крупных агентов империалистических разведок.
Доверие к детищу Менжинского и Артузова несколько пошатнулось лишь после захвата чекистами выведенных на советскую территорию Бориса Савинкова и Сиднея Джорджа Рейли.
Но все же Менжинский и Артузов предприняли попытку спасти «Трест», продлить на какое-то время его деятельность. И это им удалось…
— Я понимаю, Артур Христианович, что сделать это почти невозможно, — говорил Вячеслав Рудольфович, медленно прохаживаясь по своему кабинету. — Мы и так выжали из «Треста» максимум допустимого, а то и больше. Конечно, приходится учитывать состояние Якушева и сотрудников, с ним работающих. Они устали, операция длится уже четыре года, придумывать новые ходы, новые комбинации становится все труднее. Но попробовать стоит, каждый день существования «Треста» — это еще один день, прожитый нами спокойно…
Артузов машинально поправил свободно повязанный галстук под мягким воротом толстовки — кроме Менжинского он в ту пору был, должно быть, единственным сотрудником, который носил галстук, если, конечно, не был в форменной гимнастерке.
— Я уже думал об этом, Вячеслав Рудольфович.
— Ваши предложения?
— Имитация крупных диверсий отпадает. Если там всерьез заподозрили, что «Трест» целиком наша мистификация, то они конечно же могут предвидеть, что организовать эффектный взрыв с пожаром нам ничего не стоит. Полагаю, нам нужно свидетельство в пользу «Треста» авторитетного во всех отношениях эмигранта, чье слово не подвергнется и тени сомнения.
— Мысль превосходная, она мне тоже приходила в голову. Я даже хотел поделиться ею с вами, но вы меня опередили. Но у меня есть и серьезное опасение, почему я и не поспешил эту мысль высказать. А именно, боюсь, что после провала Савинкова и Рейли никто из крупных деятелей эмиграции не решится на «ходку» в СССР.
Артузов оживился:
— В том-то и дело, Вячеслав Рудольфович, что такой человек есть. Есть!
Менжинский остановился возле стола на полушаге:
— Кто?
— Шульгин!
— Шульгин? Василий Витальевич? Быть не может! Как говорят англичане, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Артузов рассмеялся.
— Тем не менее это так. Более того, он сам хочет приехать в СССР. Об этом Якушеву написал Климович, который, кстати, по-прежнему расположен к Александру Александровичу. Дело в том, что в период гражданской войны у Шульгина пропал без вести сын. Он еще в двадцать первом году пытался разыскать его, нанял каких-то контрабандистов и из Варны на парусной шхуне пересек Черное море. Высадился в Крыму, потерял половину экипажа, сына не нашел и ни с чем вернулся обратно. А теперь какая-то гадалка предсказала ему, что сын его жив, но находится в больнице. Шульгин, он тоже всегда благоволил к Якушеву, просил его через Климовича помочь в поездке в СССР, чтобы разыскать сына.
— Что ответил Якушев?
— Что гарантировать безопасность в нынешних условиях после серии провалов не может, но приехать приглашает.
— Правильно, а сына его искали?
— Везде, где только можно. Никаких сведений о нем обнаружить не удалось. Полагаю, что он или погиб во время войны, или живет под другим именем.
— Шульгин — это тот человек, который может помочь «Тресту» выжить.
Менжинский задумался, потом решительным жестом хлопнул слегка по столешнице.
— Приглашайте Шульгина, разработайте маршрут, только не нужно, чтобы все шло гладко, без сучка без задоринки. А то это может показаться подозрительным. И попрошу вас еще раз поискать сына Шульгина, подключите милицию, Наркомздрав, наведите справки у бывших сослуживцев, соседей, словом, сделайте все, что возможно. Если бы это удалось, более рьяного защитника для «Треста» не придумать.
И еще: хорошо бы, чтобы после своего путешествия Шульгин не ограничился устным восхвалением «Треста» в узком кругу руководителей эмиграции, но написал книгу. Он хороший журналист, я полагаю, такая книга принесла бы нам сегодня большую пользу…
Василий Витальевич Шульгин был видным деятелем царской России в последнее десятилетие. В прошлом богатый помещик Волынской губернии, депутат Государственной думы и издатель, он являлся в некотором роде фигурой исторической: вместе с А. И. Гучковым присутствовал при отречении Николая II от престола. Шульгин был убежденным монархистом, но не оголтелым, от других эмигрантов его отличала прежде всего трезвость взглядов.
В ночь на 23 декабря 1925 года Шульгин, отрастивший длинную седую бороду и одетый в долгополое пальто, что делало его, по собственным словам, похожим на старого раввина, перешел с помощью людей «Треста» границу. Он побывал в Киеве, с которым были связаны многие годы его жизни и политической деятельности, и в Москве. На подмосковной даче Шульгин встретился с двумя, можно сказать, постоянными представителями Кутепова при «Тресте», известными как супруги Красноштановы. Это были Мария Владиславовна Захарченко-Шульц и ее муж Георгий Николаевич Радкевич. В начале февраля 1926 года Шульгин, так ничего не узнав о судьбе своего сына, вернулся в Варшаву.
Путешествие Шульгина было умело обставлено в духе «опасности», рискованных «приключений», многозначительных встреч и т. п. Надо отдать должное Шульгину — он проявил себя смелым человеком, поскольку и понятия не имел, что все эти опасности лишь инсценировка.
Вернувшись за кордон, Шульгин заявил:
— Я убедился, что русский народ жив и не собирается умирать… Все, что было обещано «Трестом», выполнено, это хорошо организованный и точно функционирующий механизм.
Книгу, описывающую это путешествие, Шульгин назвал «Три столицы». Она содержит много выпадов против Советской власти, но в то же время объективно утверждает, что народ бывшей Российской империи вовсе не погибает в разорении и духовной деградации, не помышляет о реставрации царизма и в подавляющем большинстве полностью поддерживает Советскую власть. Со свойственной ему наблюдательностью Шульгин приметил и признаки восстановления страны после разрухи и определенного духовного развития, что привело его к оптимистическому выводу: «Когда я шел туда, у меня не было Родины. Сейчас она у меня есть». Интересно, что от этой своей оценки Шульгин не отказался и сорок с лишним лет спустя, когда во всех деталях узнал, как и кем было организовано его путешествие. Написав книгу, Шульгин побеспокоился о том, чтобы ее публикация не повредила «Тресту»: все имена и прочие реалии в ней были закамуфлированы, хотя мощь некой антисоветской организации выступала в рукописи достаточно зримо. Более того, Шульгин даже прислал в СССР «Тресту» свою рукопись на просмотр в сопровождении такого письма: «Отчет может вызвать шум. Не испугаются ли шума давшие согласие и не смогут ли они, ссылаясь на поднявшуюся шумиху, взять согласие обратно? Быть может, придется ознакомить их предварительно с отчетом и, так сказать, спросить, не считают ли они отчет непозволительной, с их точки зрения, сенсацией».
Вот так и получилось, что в марте 1926 года Артузов, явно довольный ходом событий, принес Дзержинскому и Менжинскому полный текст рукописи Шульгина на просмотр. Надо ли говорить, с каким живым интересом Феликс Эдмундович и Вячеслав Рудольфович ознакомились с «Тремя столицами» и сколько веселых минут при этом испытали… С некоторыми замечаниями рукопись была переправлена автору обратно за рубеж, где и издана. «Три столицы» стали сенсацией. Книга возымела на читателей двойное действие: восстановила в какой-то степени утраченные позиции «Треста» и внесла брожение в эмигрантские круги, поскольку кроме нападок на СССР содержала в достаточном количестве и полезную объективную информацию.
И все же если не дни, то месяцы «Треста» были уже сочтены. Свою задачу он выполнил, хотя мог просуществовать еще некоторое время, если бы не одно, как оказалось, непредвиденное обстоятельство. Недаром говорят в народе, что всякая радость таит в себе и некоторую печаль…
Обычно каждый день далеко за полночь сотрудники КРО собирались в самой большой комнате отдела, чтобы согреть душу чаем (уже не морковным, а настоящим), а заодно в неофициальной обстановке обменяться новостями. Сюда частенько заходил и Артузов, чтобы побыть вместе с товарищами, пошутить, услышать их мнение по какому-либо вопросу, выпить кружку горячего чая за дружеской беседой.
Однажды, взглянув на часы и убедившись, что настал час чаепития, Артузов сложил дела в сейф, взял свою кружку и направился в большую комнату. Тихо, чтобы не помешать, открыл дверь. Все были в сборе. Вместе со всеми он с удовольствием пил крепкий чай, бодрящий, освежающий. К Артузову подсел сотрудник:
— Артур Христианович, хотел бы с вами поделиться своими сомнениями. Терзают они меня…
— Я вас слушаю…
— Я о Стаунице. Среди нас он, но не с нами. Не нравится он мне в последнее время.
— Мне тоже…
— Не в антипатиях дело. Глаз да глаз нужен за ним. Может предать в любую минуту…
— Спасибо за совет. Об этом и я думаю…
Услышанное встревожило Артузова. Прогуливаясь по длинному гулкому коридору, Артур Христианович стал размышлять. Действительно, со Стауницем, занимавшим видное место в оперативных делах и комбинациях, творилось что-то неладное. Выходит, он, Артузов, чего-то не заметил, пропустил и тем самым допустил ошибку. Ему казалось, что Стауниц уже понимает всю остроту классовой борьбы и стряхнул с себя остатки старой идеологической трухи, которая засоряла в свое время его голову. А выходит, если прав товарищ, Стауниц сменил только одежду?
Артузов вызвал к себе Стауница на беседу. Эдуард Оттович пришел весь какой-то взвинченный и в та же время поблекший. Лицо его в последнее время осунулось, но глаза по-прежнему смотрели напряженно и остро. Попросил разрешения закурить. Курил с жадностью, делая глубокие затяжки, словно для него уже не существовал завтрашний день.
Артузов говорил мягко и доверительно, ведь никаких конкретных фактов против Стауница у него не было. Ответы были предельно четки:
— Я не какой-нибудь залетный лебедь… Результаты моей работы вам известны. Время требует своего слуги, и я верный слуга порученного мне дела. К тому же учтите, я обещал верно вам служить… Не отступлю от этого обещания…
Хотя Артузов и был внутренне насторожен, но у него не нашлось сил сразу же выразить недоверие Стауницу. Нелегко сомневаться в человеке, который действительно заявляет о себе делом. К тому же он верил, что весы, как в свое время наставлял его отец, не могут вечно колебаться, та или другая чаша должна перевесить. Раз к нам пришел, должен быть с нами. К ним ему хода нет. В таких рассуждениях и родилась снисходительность Артузова, подкрепленная чистосердечными, как ему казалось, заверениями Стауница в своей лояльности. Когда Стауница только привлекали к работе в ВЧК как знатока методов польской, савинковской и иных разведок, он бросил весьма емкую фразу: «Принимайте всего, какой я есть, или не принимайте вовсе». Дело тогда неотложно требовало принять Стауница со всеми его недостатками и идейной ущербностью.
Что оставалось Артузову сказать Стауницу в заключение беседы? Безо всяких дипломатических уверток он заявил прямо:
— Не верить в то, что вы только что произнесли, значило бы кровно обидеть вас. Но вы знаете и другое — легковерье мне тоже противно.
Стауниц не задержался с ответом:
— Вероломству чужд. Я знаю, что тащу за собой бремя прошлого. Но оно все облегчается и облегчается.
«То ли он действительно тяготится своим прошлым, то ли он законченный и ловкий мерзавец», — с досадой на самого себя подумал Артузов. Сколько колеблющихся людей пришло в революцию и приняло Советскую власть. Если вообще не верить людям, сам станешь слабее и уязвимее. Стауниц, конечно, совсем другое дело… Это не Якушев, чья преданность много раз проверена. Однако Артур Христианович полагал, что Стауницу — Опперпуту после его разоблачительных выступлений в зарубежной прессе, нескольких лет сотрудничества в «Тресте» обратного хода в прошлое нет.
Это оказалось просчетом Артузова, и не только его. Контроль за Опперпутом усилен не был, что и привело в конце концов к тяжелым последствиям.
Увы, время показало, что заверения Стауница в нынешнее время (в предыдущие годы он действительно работал вполне добросовестно) уже были спекулятивной фразой. Вращаясь в буржуазной и враждебной среде, он не выдержал, как выдержали Якушев и Потапов, ее постоянного идейного воздействия. Как листья на дереве в осеннюю пору, увядали его неокрепшие взгляды. Черную роль в судьбе Опперпута-Стауница сыграли и постоянные соглядатаи при «Тресте» от Бунакова и Кутепова — супруги Красноштановы, особенно она, Мария Владиславовна. Захарченко-Шульц была личностью сильной и неординарной. В германскую войну она добровольцем ушла на фронт, за безудержную, отчаянную храбрость была награждена Георгиевским крестом и произведена в офицеры. После революции оказалась в белой армии. Первый ее муж, офицер, погиб на гражданской войне. В эмиграции эта до фанатизма преданная монархической и «белой идее» женщина стала доверенным лицом генерала Кутепова, которого боготворила как единственного спасителя России. Своего гражданского мужа, также бывшего офицера, Георгия Николаевича Радкевича она полностью подчинила своему влиянию.
Мария Владиславовна была ярой приверженкой самых крайних, террористических методов борьбы с Советской властью. Находилась она чаще всего в Финляндии, где работала в тесном контакте с известным антисоветчиком и организатором диверсий Николаем Бунаковым. Захарченко-Шульц регулярно с помощью «Треста» проникала на советскую территорию и общалась здесь чаще всего именно с Опперпутом-Стауницем.
Постоянное общение с Захарченко-Шульц было не единственным фактором, размывавшим и без того не слишком прочные идейные и нравственные устои Стауница. Он стал заниматься темными финансовыми махинациями, в том числе валютными. Стауниц имел денег намного больше скромного чекистского жалованья: в руки ему плыли тысячи. Слабость Стауница к деньгам заметило эстонское посольство, с которым он имел тесные связи, поскольку снабжал эстонскую разведку информацией, подготовленной в ОГПУ. Посольство подогревало жадность Стауница. Резидент эстонской разведки кроме обговоренной платы за «услуги», контролируемые чекистами, стал понемногу ссужать его деньгами в «личном плане». Постепенно долг Эдуарда Оттовича возрос до 20 тысяч рублей — суммы по тем временам огромной. Стауницу всегда хотелось жить на «солнечной стороне». Он прикинул, что, оказавшись за границей, сможет получить большие деньги, если предоставит новым хозяевам те сведения о работе ВЧК — ОГПУ, которыми располагал. Алчность плюс идейное и моральное воздействие Захарченко-Шульц толкнули его на прямое предательство. Он только ждал и дождался в конце концов удобного случая для бегства.
Мария Владиславовна в очередной раз прибыла в Ленинград из Финляндии для краткосрочной встречи с руководителями «Треста». Стауниц был командирован в город на Неве, чтобы сообщить эмиссару Кутепова о деятельности «террористических» групп в Москве. Он должен был и отправить Захарченко обратно в Финляндию. «Переправщик» имел инструкцию доставить к границе только одну женщину, но Стауниц сказал ему, что должен помочь ей поднести чемодан. «Переправщик» поверил этому доводу и разрешил Стауницу подойти к «окну». Стауниц перебросил через проволоку чемодан, подтолкнул к ней Захарченко-Шульц и вдруг неожиданно перемахнул через преграду сам. Изумленный «переправщик», ничего в начале не поняв, крикнул:
— Куда же вы? Вернитесь, там уже чужая сторона!
Стауниц даже не удостоил его ответа и быстро скрылся в ельнике: он боялся получить пулю.
Ничего не поняла и Мария Владиславовна, она набросилась в ярости на Стауница:
— Что вы натворили? Кто вам разрешил сопровождать меня? Что все это значит?
— Всего лишь продолжение былого, — скрывая улыбку, произнес Стауниц. — Рывок на свободу. Начинаю приходить в себя…
— От чего?!
— От раздвоенности. Теперь я могу открыться вам, что работал на Чека.
На секунду Шульц потеряла дар речи. Потом взорвалась:
— Тебя расстрелять мало, мерзавец!
— Может быть, Мария Владиславовна, но из расстрела много выгоды не извлечешь. Я кое в чем буду очень полезен вашему Бунакову.
— Все равно, так и знай, что я буду настаивать на расстреле!
Эдуард Оттович только улыбался в ответ на ее угрозы…
Узнав об измене Опперпута-Стауница, Менжинский, назначенный после смерти 20 июля 1926 года Дзержинского председателем ОГПУ, вызвал Артузова и Я. К. Альского, начальника особого отдела для объяснений.
Провал? Безусловно. Оказавшись по ту сторону границы, Опперпут мог изрядно напакостить, не говоря уже о том, что многие «игры», которые вели чекисты, теперь нужно было срочно свертывать. С тяжелыми мыслями шел Артузов в кабинет Менжинского, удрученный всем случившимся. Войдя, вытянулся у двери по-военному, доложил строго официально, готовый в последующую минуту выслушать неприятные, но справедливые слова.
— Садитесь, Артур Христианович, — неожиданно мягко, с каким-то участием в голосе сказал Менжинский, сочувственно щуря близорукие глаза за стеклами пенсне. — Я понимаю ваше состояние. У вас сейчас острая потребность в доверии. Вам в нем не отказано. Но я хочу сказать другое. Бегство Опперпута для нас не трагедия, хотя приятного в этом факте мало. Всякая борьба наполнена драмой. Обстоятельства на сей раз оказались не на нашей стороне. Но, может быть, это даже к лучшему…
— К лучшему? — удивленно переспросил Артузов.
— Да, к лучшему, и вот почему. Во-первых, надо учиться принимать и поражения, в этом залог стойкости. Во-вторых, уже длительное время наша «игра» идет без сучка без задоринки. Уже это должно кое-кого насторожить. Опперпут попал в их руки. Он, конечно, кое-что приукрасит, преувеличит свою роль, будет всячески изобличать нас. Войдя во вкус, остановиться трудно. Наша задача — заронить у Кутепова, Бунакова, Маркова и их компании искру недоверия к Опперпуту. Словом, его следует скомпрометировать перед белоэмиграцией, а для этого необходимо найти веский довод. Я и пригласил вас к себе, чтобы вы подумали о таком доводе.
Артузов начал перебирать в памяти «наследство», которое оставил Опперпут после своего бегства, вспомнил о найденной записке, которую тот оставил жене: «Ты услышишь скоро обо мне как о международном авантюристе».
Этот человек с обликом шекспировского Калибана (так его отныне всегда называл про себя Артузов), нравственный урод и отщепенец, был еще и поразительным тщеславцем. Теперь его, видите ли, прельстила сомнительная слава международного проходимца от шпионажа. Однако, кажется, эта фраза из письма наталкивает на одну идею…
Артузов встал, с облегчением тряхнул пышной шевелюрой, в которой уже было изрядно седины.
— У вас есть вопросы ко мне, появились сомнения? — спросил Вячеслав Рудольфович. — Сомнения, конечно, могут быть, но только относительно методов достижения цели, но у вас не должно быть сомнений, даже малейших, в нашем успехе. Это очень важно. Наступайте!
— Уж больно изворотлив противник, Вячеслав Рудольфович…
— Вы хотите сказать, что такой может, как говорят на Востоке, сурьму с глаз украсть? Учтите, где больше риска, там и чести больше. И мы кое-что придумаем против противника — комбинацию и маневр, наметим план действия. И еще хочу вам заметить в связи с делом Опперпута; постоянно совершенствуйте механизм отбора в наши ряды. И всегда помните: чекист шагает в ногу с партией. А вы знаете, какое внимание партия уделяет работе с людьми. Сила танцовщика — в ногах, сила кузнеца — в руках. Наша сила — в доверии к нам нашей партии и нашего народа. Нам всегда простят отдельную ошибку, но никогда не простят огульной подозрительности ко всем и каждому лишь потому, что имеют место осечки, вроде дела Опперпута, и то лишь на его конечной стадии.
Ну а с «Трестом», разумеется, придется заканчивать. Он свои функции выполнил. Вы свободны, Артур Христианович…
Собранный и напряженный внутренне, готовый немедленно приступить к самым энергичным действиям, вышел Артузов из кабинета начальника и старшего товарища. Теперь главное — не медлить…
В первую очередь «Трест» сообщил полякам, что один из деятелей организации — Опперпут является провокатором. Одновременно буржуазные газеты сообщили о том, что Опперпут вводил центр РОВСа в заблуждение: не совершал, а только имитировал террористические и диверсионные акты и, боясь изобличения и провала, бежал за границу. Возможно, что он, этот авантюрист, будет выдавать себя за агента ОГПУ.
Это возымело должное действие и поколебало доверие эмигрантских кругов к Опперпуту. Вскоре в ОГПУ поступил очередной номер белоэмигрантской газеты «Руль». Она вопрошала: «С какими новыми заданиями приехал Опперпут?» Подобный же материал напечатала и другая газета — «Свобода». Значит, предпринятые Артузовым меры оказались действенными.
Опперпут ответил этим газетам через рижскую «Сегодня». Пытаясь оправдаться, он клялся, что всеми средствами готов доказать свою лояльность западной демократии, требовал проверить его в деле. Эдуард Оттович вызвался ни много ни мало как… взорвать здание ОГПУ!
Назвался груздем, полезай в кузов. Монархисты такую возможность Опперпуту предоставили — в значительной степени благодаря заступничеству Захарченко-Шульц. Она даже вызвалась быть ассистентом Опперпута в этой авантюре, а точнее — контролером.
Вместе с Марией Владиславовной и еще одним террористом, бывшим офицером Вознесенским, Опперпут перешел финско-советскую границу и приехал в Москву. Для диверсии он избрал общежитие чекистов, которое размещалось в бывшей гостинице «Бристоль» на Малой Лубянке, 3/6. Вместе с Захарченко-Шульц он разведал подступы к дому, выходящему в тихий переулок. Вход в гостиницу не охранялся. Ночью Опперпут, прикрываемый Захарченко-Шульц и Вознесенским, проник в здание и положил в коридоре, в непосредственной близости к жилым комнатам, мощный мелинитовый снаряд. На некотором расстоянии от него расставил зажигательные шашки. В бикфордов шнур также были вмонтированы небольшие мелинитовые шашки, с тем чтобы они по мере приближения огня к основному заряду взрывались и не давали тем самым возможности обезвредить его в случае обнаружения. Затем Опперпут обильно полил пол коридора керосином, чтобы сразу за взрывом последовал пожар. Когда все было готово, он чиркнул колесиком зажигалки и поднес колеблющееся пламя к концу шнура… Сам стремглав бросился бежать. На миг остановился во дворе и тут услышал взрыв первой шашки. Он снова побежал — по его расчетам вот-вот чудовищной силы взрыв должен был до основания разрушить все здание. В ближайшей подворотне, прижавшись к облупленной стене дома, вся трепеща от нервного напряжения, его ждала Шульц.
Взрыва так и не произошло…
Нет, не чудо — мужество чекистов предотвратило гибель десятков людей, не позволило свершиться белогвардейской провокации. Первая же взорвавшаяся шашка разбудила нескольких сотрудников, спавших в ближайшей комнате. Они выбежали в коридор, все мгновенно поняли и, рискуя собственной жизнью, оборвали шнур и обезвредили адскую машину.
Узнав о ночном происшествии, Артузов сразу догадался, чьих рук это дело: «Калибана!» Банки с иностранным клеймом выдали организаторов диверсии. Тотчас был отдан приказ об организации поимки диверсантов, а вскоре чекисты вышли на их след.
Террористы попытались уйти за кордон в районе западной границы. Неподалеку от деревни Алтуховка с помощью местных жителей чекисты окружили Опперпута. Он отказался сдаться и в перестрелке был убит. Захарченко-Шульц и Вознесенский шли к польской границе другим путем. Возле местечка Рудня на дороге из Витебска в Смоленск они остановили легковой автомобиль, принадлежащий штабу Белорусского военного округа. Угрожая оружием, потребовали от шофера, чтобы тот развернул машину и повез их к Витебску. Водители (их было двое) наотрез отказались. Одного из них — Сергея Гребенюка — террористы тут же убили, второго — Бориса Голенкова — ранили. Рядовые красноармейцы до конца выполнили свой долг и успели вывести автомобиль из строя. Убедившись, что воспользоваться машиной им не удастся, террористы скрылись в лесу. И снова местные крестьяне пришли на помощь чекистам. При участии добровольцев, изъявивших желание задержать убийц, была организована погоня. Преступники были настигнуты в районе станции Дретунь и убиты в завязавшейся перестрелке…
Так бесславно закончили свое существование Калибан — Опперпут, он же Стауниц, и его партнеры по преступной авантюре.
Смерть Опперпута и Захарченко-Шульц эхом отозвалась в эмигрантских кругах. Монархическое движение было скомпрометировано и заметно пошло на убыль.
Так завершилась деятельность «Треста». Чекисты приступили к осуществлению временно приостановленных действий против МОЦР. 14 апреля 1927 года почти одновременно в Москве и на периферии были арестованы все члены этой организации — настоящие контрреволюционеры и заговорщики.
Ошеломленный масштабом провалов, сам Врангель вынужден был признать: «Попались на удочку ГПУ почти все организации, огромное большинство политических деятелей чувствуют, что у них рыльце в пушку, что углубление вопроса обнаружит их глупую роль».
Разгром савинковщины
В информации из Парижа сообщалось, что даже после ликвидации в 1922 году почти всех ячеек «Союза» в СССР Савинков не отказался от намерения создать под своим командованием единый центр антибольшевистской борьбы.
У чекистов возникла идея «помочь» Савинкову создать такой центр, чтобы вывести его самого на советскую территорию и здесь окончательно обезвредить.
Идеи, замыслы, намерения контрразведчиков отлились в четкий и категоричный приказ после очередного приглашения Менжинского и Артузова к Дзержинскому.
Феликс Эдмундович поставил задачу: Савинкова необходимо арестовать на советской земле и предать открытому суду.
— Суду? — переспросил Артузов.
— Именно. Савинков персонифицированное воплощение всей обозленности, ненависти, преступлений нынешней контрреволюции. В лице Савинкова мы и будем ее судить. Пролетарское правосудие не руководствуется чувством мести, но кровавый облик савинковщины должен обязательно быть обнажен перед рабочими и крестьянами, да и перед общественным мнением на Западе убедительно и абсолютно. Я уже не касаюсь того политического эффекта, той реакции, которая последует в эмигрантских кругах в результате такого процесса.
— Это на суде, — с некоторым оттенком скептицизма в голосе протянул Менжинский.
— Ох, уж эти мне законники! — засмеялся Феликс Эдмундович, явно намекая на юридическое образование своего заместителя.
— Я не об этом, — невозмутимо отозвался Вячеслав Рудольфович, — я о задержании.
— А тут уж вам и карты в руки. Сколь мне помнится, вы лично знакомы с Борисом Савинковым, стало быть, его психология, характер, амбиция вам ведомы досконально.
— Ведомы, ведомы, Феликс Эдмундович, потому многие трудности и предвижу. Савинков не просто умен и опасен, в вопросах конспирации он и талантлив и опытен. — Менжинский встал, сделал несколько шагов по паркету, на секунду задумался, перенесясь мысленно в далекие девяностые годы. — С Савинковым и его братом я познакомился, будучи еще студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Потом и в ссылке встречались и в эмиграции. Дискутировать приходилось.
— Вы сказали — с братом, — полюбопытствовал Артузов, — это тот, что из юристов?
— Нет, что вы. Юристом был старший брат Александр, он погиб потом на царской каторге. Одаренный был человек, хотя путаник страшный.
Дзержинский постучал тихонько пальцами по столешнице, словно приглашая деликатно Менжинского вернуться из дня вчерашнего в день сегодняшний.
— Я предлагаю, — сказал он, употребив это слово как синоним другого — «приказываю», — такой план. Единственная наживка, на которую мы можем поймать Савинкова, — это предложение ему занять пост вождя солидной контрреволюционной организации, здесь якобы существующей. И которая ждет не дождется, когда он, вождь, лично прибудет в Россию, чтобы поднять всенародное восстание против коммунистов. Честолюбие, маниакальная убежденность в своей незаменимости — вот те струны характера Савинкова, на которых мы будем играть. Давайте же организуем, как финансовые воротилы говорят, дочернее предприятие. Назовем — тоже по-коммерчески — «Синдикат».
Кого из ваших работников будем внедрять, на кого опираться — готовьте предложения. Это касается и общей схемы всей разработки. Срока не назначаю, тут спешка недопустима, но дело прошу рассматривать как первоочередное…
Так было положено начало операции, вошедшей в анналы ВЧК — ОПТУ под криптонимом «Синдикат-2». Операции, в которой так ярко проявились все сильные стороны личности Артузова как чекиста и человека.
* * *
В каком соотношении внешность человека, манеры поведения, наконец, привычки соотносятся с глубинным содержанием его личности? Тут, как известно, единого мнения нет, потому возможны крайние точки зрения. Известны, к примеру, теории, прямо связывающие внешний облик с наклонностями, причем не вообще, а с конкретными. И наоборот, существует народное выражение, подкрепляемое жизненным опытом каждого из нас, что внешность обманчива. Как бы то ни было, развернутый портрет человека, отражающий и его внешний облик, и характер, и поведение как форму общения с людьми, всегда представляет интерес, особенно если это портрет человека выдающегося и сделан умным, наблюдательным и объективным (хотя и несколько пристрастным) современником. Более того, такое изображение не только интересно для потомков, но и ценно для истории.
Людей, лично, тем более близко знавших А. X. Артузова, сегодня остались единицы. Вот почему так дорого описание, которое дал своему начальнику и старшему товарищу Борис Игнатьевич Гудзь, работавший много лет под непосредственным руководством Артузова и встречавшийся с ним неоднократно во внеслужебной обстановке.
Приводимое ниже описание сделано Б. И. Гудзем специально для этой книги. Итак, каким запомнился ему Артузов?
«Артур Христианович был ниже среднего роста. Коренастый крепыш. Шея крепкая, короткая, бицепсы рук и икры ног были почти одинакового размера с шеей. Особенно это было заметно, когда он носил сапоги. Кисти рук небольшие, но очень сильные. Его необычайная физическая сила сочеталась с крепкими нервами. Голова крупная, широкий лоб. Темные пышные волосы, но уже в 23–24 года с заметной проседью. Скулы широкие. Носил коротко стриженные усы и бородку клинышком. Когда задумывался, теребил кончик бороды. Брови широкие, с надломом. Глаза большие, темно-серые, очень умные и выразительные. В романе Л. Никулина «Мертвая зыбь» Якушеву приписано высказывание, что Артузов в смокинге выглядел бы чуть ли не аристократом. Это не так, при невысоком росте Артузова, его широкоплечей фигуре штатское платье ему вообще не шло. А костюм военного образца, с брюками, заправленными в сапоги, шел. Когда я увидел впервые в 1918 году Кедрова и Артузова, одинаково одетых в черные косоворотки, подпоясанные солдатским ремнем, в брюках, заправленных в сапоги, оба с окладистой бородой, они произвели на меня впечатление народовольцев. Было в Артузове что-то от Желябова и Халтурина. Фигура плотная. Походка легкая и быстрая. Одевался просто и аккуратно. Часто носил (особенно в последние годы) военную форму.
За годы долгой совместной с ним работы я никогда не видел его в служебной обстановке с расстегнутым воротом гимнастерки. Но в домашней обстановке, особенно на грядках огорода (у него был дачный участок в Одинцове), его костюм был предельно прост, часто он ходил даже без рубашки. Дача, к слову, представляла для него интерес лишь как место, где он мог возиться на земле, он очень любил землю.
Из привычек еще помню, что он часто закладывал большой палец правой руки за борт кителя или обе руки засовывал под мышки, буквой «Ф», как раньше по старой азбуке говорили, «фертом». Работая, он часто расхаживал по кабинету, в эти минуты у него появлялась какая-то особая пружинящая походка, он словно скользил по паркету. Отдыхая, любил откинуться глубоко в кресле.
В разговоре у Артузова часто проскальзывали нотки юмора, иногда легкой и деликатной иронии, а то и сарказма.
У него. было гладкое, без морщин лицо. Видимо, потому, что он носил бороду и усы, а волосы были с сильной проседью, Артузов выглядел старше своего возраста лет на пять — восемь.
Характер у Артура Христиановича был ровный и, можно сказать, легкий. Конечно, иногда он бывал в плохом настроении, но никогда не переносил его на людей, соприкасавшихся с ним в эти моменты по работе. Артузов всегда был вежлив и корректен. Умел терпеливо, а большей частью доброжелательно выслушивать собеседника. Всегда смотрел собеседнику прямо в глаза, взгляд его выражал интерес и любопытство к собеседнику, рассказчиком, лектором он был исключительно интересным. Он обладал совершенно гладкой и правильной русской речью, с юмором.
Его лекции в Высшей пограншколе и на курсах ГПУ пользовались большой популярностью — это мнение мне приходилось слышать в разных уголках страны от чекистов, в свое время учившихся в Москве. Конечно, большое значение имело интересное и глубокое содержание его лекций. Они всегда отражали проведенные им дела. Говорил Артузов не только об успехах, но и о провалах.
Артузов с большой щепетильностью, доходящей до педантизма, относился к составлению и редактированию различных служебных документов, докладов, приказов, которые составлял сам, или к проектам, которые ему приносили подчиненные на подпись. Грамматику он знал безукоризненно, почерк у него был мелкий, не каллиграфический, но разборчивый. Языки знал с гимназии — французский, немецкий и английский, лучше — немецкий.
Артур Христианович любил спорт, скорее, физкультуру, физический труд. Ходил на лыжах, катался на фигурных коньках, даже выполнял элементы «школы», очень неплохо ездил верхом (в свое время он занимался в школе верховой езды), хорошо стрелял из пистолета, управлял автомобилем.
Отличительной чертой Артура Христиановича была исключительная скромность, даже иногда (в обществе неслужебном) какая-то стеснительность. Любил петь. У него был сильный драматический тенор, с этаким металлическим оттенком. Он часто пел дома, в кругу близких друзей, рассказывали, что даже выступал как-то в клубе на вечере. Иногда пел и дуэтом. Артузов любил театр, живопись, литературу, особенно поэзию. В юности он и сам писал стихи, большей частью сатирические.
Артузов был очень внимательным к людям, чутким. С большим уважением относился к родителям, ближе был к матери — Августе Августовне. Был хорошим товарищем. В отношениях с товарищами по работе у него было много общего с В. Р. Менжинским. Ф. Э. Дзержинский был для него очень большим авторитетом, но по характеру он сам был чем-то схож именно с Менжинским, в частности мягкостью. Очень уважал Артузов и М. С. Кедрова. Михаил Сергеевич сыграл решающую роль в жизни Артузова в смысле идейной и политической ориентации, об этом он сам писал.
У Артузова было трое детей — сын Камилл и две дочери. Относился он к ним как старший товарищ, просто и уважительно, так же вел себя и с детьми своих товарищей. Свою дачу он шутливо называл «Лиденоры» — в честь дочерей Лиды и Норы.
Артузов умел слушать людей, это свойство никогда не присуще людям, внутренне равнодушным к другим, самоуверенным, чванливым. Он умел располагать к искренней, откровенной беседе. Даже в сугубо официальной обстановке, например когда отдавал приказы или распоряжения, не терпел никакой казенщины и формализма».
* * *
Все последующие дни Артузов занимался разработкой новой операции. С Менжинским встречался каждый вечер — высказывал свои соображения, отстаивал их от критического штурма Вячеслава Рудольфовича. Так отшлифовывалась и принималась каждая деталь. От каких-то внешне эффектных и заманчивых комбинаций и ходов пришлось отказаться, вместо них всплывали новые варианты, подчас совершенно неожиданные.
Одну остроумную ловушку Менжинский отверг, к огорчению Артузова, по несколько странному соображению.
— Знаете, Артур Христианович, — сказал Вячеслав Рудольфович, — у англичан есть поговорка: «This is too good to be true», по-русски это означает: «Слишком хорошо, чтобы было правдой». Знаете, когда все идет очень гладко, это уже вызывает подозрение, не бывает так в жизни. Савинков — конспиратор с огромным опытом. К тому же дело Азефа[3] для него тоже не прошло бесследно. Когда он планирует операцию, то обязательно закладывает в нее избыточный запас прочности, на случай, если какие-то частности не сработают. Он по опыту знает, что в долгой войне без поражений и провалов не обойтись. А вы хотите обеспечить ему сладкую жизнь, одни успехи для повышения веса нашего «Синдиката». Савинков этому нипочем не поверит. Поначалу, быть может, обрадуется, что так все хорошо, но через некоторое время заподозрит что-то неладное именно из-за странной легкости, с какой все будет удаваться.
Артузов в подобных случаях не обижался. Он глубоко уважал Вячеслава Рудольфовича за огромные знания, ум, опыт. А потому свое мнение отстаивал в разговорах с ним горячо и упорно, но не упрямо. Если аргументы собеседника оказывались сильнее, умел согласиться с ними. Кстати, точно так же вел он себя не только с начальниками, но и с подчиненными. Вот и в данном случае, признав правоту Менжинского, отказался от «гладкописи», ввел в разработку определенные канавки и кочки, для большего правдоподобия и жизненной убедительности.
Все это, однако, пока касалось лишь общей схемы. В нее предстояло внести множество поправок, дополнений, обусловленных развитием реальных событий и личными качествами конкретных людей. Но без нее, этой намеченной схемы, никак нельзя было обойтись, поскольку она задавала требования, по которым подбирал Артузов исполнителей главных ролей. Артур Христианович изучил десятки савинковских агентов, либо задержанных в последнее время, либо находящихся под наблюдением чекистов. Наконец у него появились основания прийти к Менжинскому с предварительным докладом.
— Кажется, нам удалось тут подобрать один «ключик», который, по моим расчетам, может открыть савинковские двери.
— Кто это? — оживился Менжинский.
— Шешеня…
Об аресте этого человека Менжинский, конечно, уже знал.
Бывший адъютант Савинкова — казачий сотник Леонид Шешеня был послан на связь с ранее заброшенными агентами. Он был родственником, а точнее, свояком Ивана Фомичева — влиятельного представителя Савинкова в Вильно и частично в Варшаве. Арестовали Шешеню при попытке перейти границу. Савинков о его задержании еще ничего не знал. Менжинский живо заинтересовался:
— Показания этот Шешеня дает?
— Дает. Назвал всех агентов, к кому шел. Мы их изъяли. Один представляет интерес.
— Чем?
— Он поселился в Москве около года назад, устроился охранником на железную дорогу. Не исключено, конечно, что законсервирован, но, по-моему, просто ничего не хочет делать. Живет тихонько, и все. Семейный.
— Фамилия?
— Зекунов Михаил Дмитриевич.
— С Шешеней знаком?
— Нет. Они вообще люди разные. Шешеня просто солдат, служака. Савинкову такой нужен только как преданный исполнитель несложных заданий. Привезти, отвезти, проверить. Ну, и стрелять, конечно, умеет. Зекунов интеллигентнее, похоже — и совестливее.
Менжинский слушал внимательно. Его всегда глубоко интересовали не только поступки, но и мотивы, их вызвавшие, характеры людей, оказавшихся в поле зрения ВЧК.
— Что ж, — сказал он после некоторого размышления. — Арест обоих зашифруйте, обеспечьте секретность содержания и приступайте к разработке.
— Хорошо…
— Кого из сотрудников предназначаете на главную роль?
— Предлагаю Андрея Павловича Федорова.
— Чем обосновываете?
— Деловыми качествами. Прекрасное образование — юрист, знает языки. До революции — боевой офицер. С начала гражданской — в Красной Армии. Забрасывался в тыл к белым в качестве военного разведчика, действовал под белогвардейского офицера.
Тверд, решителен, находчив, умеет отстаивать собственное мнение. Это очень важно, если придется столкнуться лично с Савинковым, вы же знаете, как тот подавляет людей… Еще одно соображение. Савинков писал как-то военному министру Франции, что большевистская власть в России может быть свергнута только русскими крестьянами. А Федоров внешне — типичный крепкий и сметливый русский крестьянин. Он уже внешне будет импонировать Савинкову как человек из гущи народа, а не говорун из интеллигенции, каких при нем и своих предостаточно.
— Что ж, выбор, похоже, удачен. Я знаю Федорова, не знал только всех его достоинств. Кстати, когда начнете составлять для него легенду, держитесь как можно ближе к подлинной биографии, поскольку у Федорова она, при некоторой отделке, очень выигрышна.
— Значит, начинаю работать.
— Работайте. Через несколько дней будьте готовы доложить обо всем Феликсу Эдмундовичу. Помните, его интересует все, что относится к «Синдикату». Феликс Эдмундович предупреждает нас, что в ближайшее время поднимется новая волна антисоветской активности, мы должны быть готовы встретить ее во всеоружии, отсюда такое внимание к «Тресту» и «Синдикату».
XII Всероссийская конференция РКП (б), собравшаяся в августе 1922 года, как раз когда началась операция «Синдикат-2», указывала, что первый год новой экономической политики, совпавший с голодом и нажимом международной реакции, вызвал усиление антисоветской деятельности остатков разгромленных контрреволюционных партий кадетов, меньшевиков и эсеров.
Не было ничего удивительного, что в нэповской лихорадке родились новые антисоветские центры и организации. Так появилась и группа «Либеральные демократы», или ЛД, в Москве. Программа организации была настолько расплывчата и аморфна, что позволяла присоединиться к ней любому антисоветчику, ну разве что кроме откровенных черносотенцев. Идеальная среда для пышного расцвета эсеровского савинковского вождизма. Был, правда, у ЛД и один недостаток — группы этой в действительности никогда не существовало. А требовалось как раз убедить Савинкова не только в ее реальном существовании, но и способности поднять восстание в масштабах всей страны. Единственного, чего для этого не хватало, так это присутствия самого Савинкова как общепризнанного всенародного руководителя.
Дзержинский, ознакомившись с планом «Синдиката-2», операцию утвердил. Еще раз попросил Менжинского и Артузова непрерывно держать его в курсе всех дел, связанных с Савинковым. Утвердил он и кандидатуру Федорова на роль полномочного представителя и одного из руководителей ЛД. Псевдоним Федорову был выбран Мухин, имя и отчество оставили настоящие — Андрей Павлович.
Для Зекунова Артузов придумал роль серьезную и интересную. Надо сказать, что этого савинковского эмиссара Артузов «вычислил» безошибочно. Зекунов, точно, в душе давно отошел от какой-либо антисоветской деятельности, он и в самом деле ничего не делал в качестве резидента «Союза» в Москве, очень тяготился своим прошлым и, в сущности, самостоятельно превратился во вполне лояльного по отношению к Советской власти гражданина. Зекунов согласился честно помогать ВЧК. Забегая вперед, следует сказать, что с порученным ему делом он справился успешно и охотно.
С Шешеней пришлось повозиться. Он был старателен, но, как витиевато выражались авторы арабских сказок, «чело его не было отмечено печатью мудрости». Каждую комбинацию, ход, фразу с ним приходилось отрабатывать до мелочей, поскольку самостоятельно действовать он просто не был способен.
В оптимальный срок Шешеня послал Савинкову первое донесение. Он информировал своего бывшего хозяина о политическом положении в Советской России, сообщал, что появились новые силы, способные выступить против большевиков.
Новое письмо — Шешеня докладывает Савинкову о похвальной и плодотворной работе в Москве эмиссара «Союза» Зекунова. Следует перечень диверсий, актов террора и саботажа, якобы предпринятых в последнее время Зекуновым и завербованными им людьми.
Наконец настало время для реализации замысла. Савинкову сообщают, что в Москве Зекунов встретил сослуживца по белой армии, тоже бывшего офицера, Андрея Павловича Мухина, человека надежного и «своего». После осторожных взаимных прощупываний Мухин сознался Зекунову, что является одним из руководителей подпольной организации «Либеральные демократы». Более того, Мухин даже предложил Зекунову в эту организацию вступить, поскольку ничего не знает о принадлежности Михаила к савинковскому «Союзу».
Шешеня сообщал, со слов Зекунова, что, к сожалению, в рядах ЛД (а это организация многолюдная) отсутствует должное единство. Существуют две примерно равновеликие группы: «активисты» и «накописты». Первые требуют развязывания террора и диверсий. Вторые стоят за метод выжидания, временной пассивности, ждут подходящего случая и подходящей обстановки. В итоге организацию раздирают противоречия: «Выходит, у нас нет такого человека, который бы смог сплотить наше движение воедино».
Это письмо не могло не заронить в авантюрную душу Савинкова будоражащую мысль: России нужен вождь. И этим вождем конечно же может быть только он, Борис Викторович Савинков.
В следующем письме Шешеня уже прямо намекал, что все больше и больше влиятельных членов организации ЛД склоняются к тому, что в качестве объединяющей силы должен выступить Савинков. Как сообщил ему, Шешене, Зекунов, на последнем заседании руководства ЛД Мухин прямо назвал Савинкова самой сильной личностью среди всех сторонников активной борьбы с Советской властью, находящихся за границей, да и «дома» тоже.
Так загодя Артузов начал постепенно внушать Савинкову мысль о необходимости его приезда в Россию для консолидации антисоветских сил и руководства ими в решающий момент.
Интерес Савинкова к ЛД день ото дня возрастает, но он не слишком полагается на своего бывшего адъютанта и хочет узнать о положении в ЛД от более авторитетного и сведущего человека — Зекунова.
Тут уже Артузов рисковал многим. Он вполне доверял искренности и порядочности Михаила Дмитриевича, вопрос стоял в иной плоскости: выдержит ли он состязание в непростом поединке с доверенными лицами Савинкова, тем более с ним самим? Один неверный шаг или неточное слово и — конец. И самому Зекунову, и операции «Синдикат-2».
Артузов послал Зекунова за кордон. В Вильно его встретил полномочный представитель Савинкова Иван Фомичев, затем уже вдвоем они поехали в Варшаву, где Зекунову пришлось сделать настоящий доклад и ответить на тысячу вопросов о деятельности «Либеральных демократов».
Все прошло благополучно. Зекунову, конечно, расставили несколько ловушек, но он их миновал, сделав вид, что ничего даже не заметил. Более того, ему удалось установить имена и фамилии нескольких савинковских агентов, направляемых в Россию. Все они позднее были обезврежены ОГПУ. Зекунов также узнал, что весной на советскую территорию будут заброшены вооруженные банды.
Зекунов получил указание от своего савинковского руководства поддерживать тесные контакты с ЛД и пригласить их руководителя Мухина на переговоры о совместных действиях в Варшаву и Париж. Приглашение было принято…
В Жизни Федорова наступила нелегкая пора. Савинков мог «проверить» его не только через Зекунова. Поэтому Артузов принял решение перевести Андрея Павловича на… нелегальное положение. Отныне Федоров и в родной Москве жил с документами на фамилию Мухина. К ОГПУ он и на версту не подходил — Артузов и другие чекисты встречались теперь со своим товарищем только на конспиративной квартире. Невысокий, но плотный, одетый в хороший костюм, специально отрастивший небольшую бородку, Федоров-Мухин походил на благополучного совслужащего, выбившегося в таковые из зажиточных крестьян.
Теперь ему предстояло впервые выехать вместе с Зекуновым за рубеж.
— Ваша задача — произвести впечатление. Не мы искали Савинкова, это его представитель Зекунов вышел на вас. Нужна только популярная личность, для того чтобы возглавить движение, восстание. В сущности, ЛД в любом случае, с Савинковым или без него, сохраняет независимость. Набивайте себе цену, не стесняйтесь. О разгроме резидентур савинковского «Союза» в Советской России знает каждый мальчишка, об этом сообщалось в печати. На сегодня Савинков может только блефовать, настоящих козырей на руках у него нет. Только имя. В этом отношении соблюдайте пиетет.
Федоров слушал сосредоточенно, иногда переспрашивал, прикидывал, возражал, — словом, «проигрывал» всевозможные ситуации, которые могли возникнуть в реальных условиях. Конечно, все предусмотреть было невозможно, но Артузов знал, что Федоров умеет мгновенно оценивать обстановку в движении и принимать оптимальное решение. Это было характерной и сильной особенностью его оперативного дарования, почему Артузов и предпочел его другим своим сотрудникам.
Поездка должна была осуществляться «нелегально» — на западной границе большими трудами чекистов (для этого требовалось создать самостоятельную и убедительную легенду) было оборудовано «окно». Ведал им командир-пограничник Ян Петрович Крикман, старый латышский коммунист, по легенде — один из активных военных работников ЛД.
В Польше Зекунова и Мухина встретили на высшем уровне. Было созвано специальное заседание Варшавского комитета «Народного союза защиты родины и свободы». Мухин сделал подробный доклад о деятельности ЛД, особенно подчеркнул ее возможности. Сообщил, что в организации нет единого мнения о необходимости объединения с «Союзом». Имеются, дескать, сторонники альянса, имеются и противники. Варшавяне дружно насели на Мухина, стремясь склонить его на свою сторону. Он держался солидно, только намеком давая понять, что ближе к сторонникам, нежели к возражателям. Эта позиция позволила Мухину выудить из вошедших в раж савинковцев множество ценной информации. Итогом совещания стало решение комитета установить постоянную связь с ЛД, для чего командировать в Москву Ивана Терентьевича Фомичева.
Связалась с Мухиным и польская разведка. В итоге она получила кое-какую изготовленную в ОГПУ информацию, а Мухин — возможность свободного передвижения по Польше и право поездок из Варшавы в Париж в любое время. Денежный гонорар — само собой разумеется. Держался он при этом настолько уверенно, даже надменно, что польские офицеры, обычно не очень-то церемонившиеся с белогвардейскими шпионами, заискивали перед ним.
— У Андрея Павловича стальные нервы, если они у него вообще есть, — говорил впоследствии Артузову Зекунов.
Через то же «окно» на границе Федоров, Зекунов и Фомичев переправились в СССР.
Теперь уже наступил черед чекистов проявить гостеприимство. Сотрудники ОГПУ в Москве, Минске и других городах, в частности Ян Крикман, сделали все, чтобы у Фомичева сложилось впечатление о существующей в стране мощной, хорошо законспирированной контрреволюционной организации. Устроили ему и встречу с руководителями ЛД. На ней присутствовал и сам Артузов, под псевдонимом конечно.
Фомичев из кожи лез, убеждая «центр» организации в желательности объединения. Это и требовалось Артузову: чтобы идею высказали первыми савинковцы, а не «Либеральные демократы». В мягкой форме, но твердо по существу он дал понять эмиссару «великого террориста», что в объединении с несуществующим фактически на территории СССР «Союзом» его организация не нуждается. Она вообще пошла на контакт лишь из-за огромного личного уважения к Савинкову. О том, что было дальше, один из сотрудников Артузова, присутствовавший на «совещании», писал: «Встреча несколько охладила оптимистические настроения Фомичева. Он увидел, что «организация» идет на контакт неохотно. Представитель «организации» откровенно заявил Фомичеву, что он не видит в савинковской организации реальной силы, а слияние двух неравных сил едва ли целесообразно. Тогда Фомичев логическим ходом событий принужден был заявить: «Давайте встретимся с Борисом Викторовичем Савинковым, а там видно будет». Эта установка создала для нас чрезвычайно выгодное положение, ибо приглашение о поездке в Париж выдвигали не мы, а противная сторона».
Фомичев вернулся в Варшаву, затем выехал в Париж и обстоятельно доложил о результатах поездки самому Савинкову. В итоге ЛД получила приглашение выслать своего представителя в Париж.
Теперь уже не только Менжинский и Артузов, но и лично Дзержинский инструктировал Федорова. Такую встречу — с одним из руководителей всей контрреволюции в его собственном логове — чекисты готовили впервые. Удержаться от волнения было трудно даже «железному Феликсу». Оперативная идея оставалась прежней, поправки вносились с учетом лишь одного, зато чрезвычайно важного обстоятельства: Федорову предстоял разговор с исключительно умным, обладающим к тому же волчьей интуицией, беспощадным врагом.
— Вы знаете, что такое лонжа? — спросил в последний момент Артузов Федорова.
— Слово знакомое, только не помню, из какого лексикона, — ответил Андрей Павлович.
— Из циркового. Так называется веревка, которая прикрепляется к поясу атлета, выполняющего особо опасный номер под куполом, на высоте. Так вот, вам в Париже придется работать без лонжи.
…Дождливой июньской ночью 1923 года Мухин перешел границу. Немного отдохнув на вильненской квартире Фомичева, он сразу же выехал вместе с ним в Варшаву, к тамошнему представителю Савинкова, «идеологу» движения профессору Дмитрию Владимировичу Философову.
Еще после майской поездки в Варшаву вместе с тем же Фомичевым Зекунов информировал Артузова: «Философовым получено от Бориса Савинкова письмо, в котором тот писал, что в ближайшее время в связи с обострением международного положения можно надеяться на улучшение материального и финансового положения савинковской группы. На заседании областного комитета в Варшаве было признано необходимым командировать Фомичева и представителя московской организации в Париж для доклада и дальнейших переговоров с самим Савинковым о продолжении работы, для чего представитель организации ожидается в Вильно 3–5 июня 1923 года. С технической стороны поездка в Париж препятствий не встретит, так как шеф обещал устроить заграничные паспорта, а Философов немедленно получит визы, так что свидание с Савинковым может состояться числа 12 июня, о чем он будет предупрежден Философовым заранее».
Таким образом, расчет обстановки был составлен Артузовым абсолютно точно. Встреча Мухина и Савинкова в Париже состоялась, правда, позже, нежели планировалось первоначально, — 14 июля 1923 года.
К сожалению, обострение международного положения для СССР действительно имело место. 8 мая министр иностранных дел Великобритании Керзон предъявил Советскому правительству меморандум, ставший известным в истории международных отношений как «ультиматум Керзона». В надменной форме британский министр-консерватор потребовал от нашей страны целого ряда «уступок» империалистическим державам, угрожая в противном случае новой интервенцией против СССР. Советское правительство отвергло наглый ультиматум. По всей стране прокатилась волна митингов протеста. Рабочие и крестьяне начали собирать деньги на строительство эскадрильи боевых самолетов. Артузов долго смеялся, купив как-то на углу Лубянки коробок спичек, на этикетке которого был изображен самолет с огромным кулаком вместо пропеллера. Надпись гласила: «Наш ответ Керзону!» Так назвали эскадрилью.
10 мая, словно эхо на лондонский меморандум, раздались выстрелы в Лозанне: белогвардейский террорист Конради убил полномочного представителя РСФСР в Италии Вацлава Воровского.
Вот какие события омрачили политическое небо Европы в начале лета 1923 года.
Первая встреча Федорова с Савинковым состоялась на его квартире (улица Де Любек, 32), вторая — через день в одном из дорогих ресторанов. Были и другие встречи. На одной из них Федоров познакомился с «министром иностранных дел» при Савинкове Александром Аркадьевичем Дикгофом-Деренталем и его женой Любовью Ефимовной, которая вскоре стала секретарем и гражданской женой Савинкова. На другую встречу пришел еще молодой, лет тридцати пяти блондин, мощного телосложения, с красивым, но чрезвычайно жестоким лицом. Немалых усилий стоило Андрею Павловичу выдержать его взгляд. Это был полковник Сергей Эдуардович Павловский. Банды Павловского в 1921–1922 годах терроризировали приграничные районы Белоруссии. Павловский отличался безудержной храбростью, собачьей преданностью Савинкову и чудовищной жестокостью. Если и можно было о ком сказать, что у него руки по локоть в крови безвинных людей, так это о Серже Павловском.
Савинков подверг Федорова мягкому, вежливому, можно сказать, великосветскому, но тем не менее самому настоящему допросу с множеством «сюрпризов» — хорошо замаскированных ловушек, которые чередовались с последними французскими анекдотами и ядовитыми характеристиками деятелей белоэмигрантских кругов.
Не один раз поминал Андрей Павлович добрым словом Дзержинского, Менжинского и Артузова, предусмотревших важнейшие вопросы Савинкова. Федоров не только сумел войти в доверие к опасному собеседнику, но и получил от него ценнейшую информацию о ближайших планах, окружении, источниках и масштабах финансирования. Таковыми в первую очередь оказались французская и польская разведки.
И еще знакомство, неожиданное, важное и опасное. Франтовато одетый, лощеный мужчина неопределенного возраста с восточной наружностью. И его жена, миниатюрная, красивая женщина, не спускавшая с мужа восторженных глаз. Федоров узнал его мгновенно по словесному портрету, который был известен каждому чекисту: Сидней Джордж Рейли, заочно приговоренный еще в декабре 1918 года как враг трудящихся к расстрелу «при первом же обнаружении в пределах… территории России». Жену его, актрису, звали Пепита Бобадилья.
О главном требовании ЛД, вернее, условии, на котором организация согласилась бы на объединение с «Союзом», Савинков хорошо знал. Об этом постоянно писал ему из России Шешеня. Эти письма льстили самолюбию Савинкова, но он не был настолько наивен, чтобы опрометчиво броситься в объятия первой же организации, которая позовет его княжить на ее престоле. Как-никак, но за плечами его был и опыт «великого провокатора» Азефа. Все надо было хорошенько прощупать, разведать. Потому и приглашал на встречи то Дикгофа-Деренталя, то Павловского, то, наконец, Рейли, единственного человека, с чьим мнением он считался, как со своим собственным.
На заключительной встрече Федоров официально по поручению своей «организации» предложил Савинкову возглавить объединенный центр «Народного союза родины и свободы» и «Либеральных демократов», подразумевая при этом, что руководство будет не «дистанционным» — из Парижа, а непосредственным — в Москве.
Савинков предложение принял, но вопрос о точном времени прибытия в СССР оставил пока открытым.
Федоров вернулся в Москву и доложил руководству о результатах поездки. Подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что Савинков настроен приехать, по непременно, по крайней мере, еще раз проверит реальность ЛД. Так оно и оказалось.
Савинков, никого не предупредив, послал в СССР своего эмиссара. И не кого-нибудь, а полковника Павловского. О прибытии Павловского Шешеня сообщил помощнику начальника КРО ОГПУ С. В. Пузицкому, игравшему роль члена ЛД Новицкого. Кроме проверки Павловский должен был устранить от имени Савинкова разногласия между «активистами» и «накопистами», поддержать «активистов» своим примером активной борьбы с Советской властью.
Прежде чем явиться в Москву, Павловский устроил бандитский набег на советскую территорию, с боем прорвался через границу, вошел в Демьянск, ограбил почту, остановил поезд и обобрал пассажиров. Как всегда, грабежи сопровождались зверскими убийствами коммунистов, советских работников, просто мирных жителей — для устрашения. С новым кровавым «хвостом» 16 сентября 1923 года словно снег на голову он свалился на Леонида Шешеню. Павловский был не Фомичев, действия которого можно было контролировать, а им самим незаметно, но твердо управлять. Павловский был опасный, бешеный зверь, способный натворить много бед. В разговорах с Шешеней, а затем и с сотрудниками Артузова он не скрывал, что подозревает ЛД в контактах с ОГПУ.
Артузов по согласованию с Дзержинским приказал Павловского арестовать. Сделать это было непросто. Учитывая физическую силу полковника, его постоянную настороженность, владение приемами самозащиты и всеми видами личного оружия, требовалось по возможности точно рассчитать все действия при аресте.
Павловского пригласили встретиться с одним из руководителей ЛД. Когда он ехал на квартиру этого «лидера» в пролетке, его арестовали. Любимец всего отдела — белокурый добродушный богатырь Гриша Сыроежкин и Василий Пудин, также не обиженный силой, сумели справиться с полковником.
Первые дни Павловский молчал. Тогда ему предъявили длинный список совершенных им на советской земле кровавых преступлений. Даже малой толики их было бы достаточно, чтобы суд вынес смертный приговор без малейших колебаний. И тогда полковник заговорил. Более того, он согласился оказать содействие чекистам, хотя Дзержинский лично предупредил его, что ОГПУ никаких гарантий на жизнь дать ему не может. Судить его будут все равно. Видно, очень уж не хотелось Павловскому расставаться с жизнью, а каждый день в тюрьме все-таки был ее продлением.
Появление в Москве Павловского и его арест вынудили Артузова внести в операцию существенные коррективы. Игра с Савинковым вступила в новую фазу. Теперь в Париже стали получать письма от Сержа, написанные им под диктовку Артузова. Конечно, были предприняты все меры, чтобы Павловский каким-нибудь заранее условленным знаком не дал понять Савинкову, что пишет не по доброй воле, а по принуждению.
Писем было несколько на протяжении всей зимы 1923/24 года и наступившей весны. Павловский информировал Савинкова о своей успешной работе в организациях ЛД, о совершенных якобы террористических актах и диверсиях. В качестве доказательств использовались специально опубликованные в газетах сообщения о пожарах и тому подобных происшествиях. Их подавали как результаты диверсий.
Федоров приехал в Париж во второй половине апреля 1924 года, но Савинкова не застал: тот был в Лондоне, где пытался добиться денежной помощи от английской разведки. В отсутствие Савинкова Андрей Павлович коротал время с… Сиднеем Рейли, который весьма интересовался деятельностью ЛД и намеком дал понять, что и сам не прочь поехать в Россию. Федоров обещал сообщить об этом своему центру, что, разумеется, и сделал. Таким образом, матерый английский разведчик фактически сам начал готовить операцию по своей поездке в страну, где он, как известно, в соответствии с приговором суда подлежал по задержании расстрелу.
Наконец Савинков вернулся из Лондона, и на протяжении трех дней Федоров вел с ним переговоры, в ходе которых посланец из Москвы информировал о возникших будто бы разногласиях в ЛД и заочном избрании его, Савинкова, лидером организации. В то же время в роли курьера ЛД в Вильно был направлен сотрудник КРО Григорий Сыроежкин с письмом Павловского, в котором тот просил Савинкова приехать в Москву для устранения разногласий и укрепления организации.
Савинков все больше и больше укреплялся во мнении: надо ехать в Россию. Более того, уже стал настаивать на такой поездке, но при одном условии — за ним должен приехать Павловский. Тут опытный конспиратор проявлял осторожность, похоже, он был явно обеспокоен длительным отсутствием самого, как он полагал, надежного помощника и доверенного лица.
Федоров вернулся в Москву и доложил обо всем Артузову. Артур Христианович был немало обеспокоен такой позицией Савинкова. Весь план повис в воздухе, поскольку о поездке Павловского в Париж не могло быть и речи.
Оставался только один способ успокоить Савинкова: устроить встречу Фомичева с Павловским в Москве. Фомичев по приглашению ЛД приехал охотно и принял участие в двух инсценированных Артузовым совещаниях руководства организации, на которых присутствовал и Павловский. Готовя полковника к встрече с «гостем», Артузов и не пытался взывать к каким-либо человеческим чувствам в душе собеседника. Это был не Зекунов, и даже не Шешеня, в котором чекистам удалось пробудить совесть. Артур Христианович просто предупредил Павловского, что квартира надежно охраняется и что малейшая попытка при встрече с Фомичевым нарушить правила «игры» кончится плохо.
Павловский успешно, даже талантливо сыграл свою роль. Он нахваливал Фомичеву «Либеральных демократов» за то, что они наконец переходят к энергичным действиям, просил Ивана Терентьевича передать Савинкову его просьбу — разрешить остаться в России, чтобы помочь своим опытом и личным участием в намеченных серьезных диверсиях и террористических актах.
Однако Артузов понимал, что все по-прежнему висит на волоске. В конце концов, Савинков может заупрямиться всерьез и категорически приказать Павловскому вернуться в Париж. Этот приказ надо было предвосхитить. И Артузов придумал новую комбинацию, одобренную Дзержинским…
10 июня Фомичеву показали тревожную телеграмму о том, что в Ростове при попытке ограбить почтовый вагон (а он знал, что ЛД нуждалась в деньгах) ранен Павловский. В сопровождении сотрудника КРО Фомичев срочно выехал в Ростов. Павловского, однако, он в городе не застал: местные «активисты» сообщили ему, что Сергея Эдуардовича уже отправили в Москву на излечение, поскольку здесь, на месте нападения, ему оставаться было крайне опасно.
Чтобы улучшить настроение сильно озабоченного случившимся Фомичева, ему предложили встретиться в Минеральных Водах с главарем местных националистических банд Султан-Гиреем, якобы связанным с ЛД. Такая банда действительно совсем недавно на Северном Кавказе существовала, наводила ужас на местных жителей, но к описываемому моменту была уже разгромлена.
Встреча с «кавказскими партизанами» была обставлена так эффектно, что совершенно ошеломила Фомичева: он увидел на сей раз не московских «квартирных» заговорщиков, а настоящий отряд на все готовых вооруженных джигитов! Особенно яркое впечатление произвел на него сам «Султан-Гирей», роль которого сыграл с блеском чекист Ибрагим Абиссалов, в мировую войну офицер «Дикой дивизии», обладавший действительно устрашающей горской внешностью.
В Москве Фомичева ожидал «раненый», «прикованный к постели» Павловский. Слабым голосом он рассказал, как хорошо проходила операция по ограблению почтового вагона и как ему при этом случайно не повезло: принятый им за убитого охранник успел с близкого расстояния выстрелить в него из нагана. Павловский был хорошо подготовлен — в качестве консультанта к нему пригласили квалифицированного военврача. Его рассказ о перенесенной хирургической операции по извлечению пули и последующем лечении был с медицинской точки зрения безупречен. Таким «мелочам» в оперативной работе Артузов придавал огромное значение, справедливо утверждая, что плохие студенты всегда срезаются на пустяковых дополнительных вопросах экзаменатора.
Для подкрепления устного рассказа Фомичева решено было послать в Париж и Федорова. Они повезли с собой собственноручно написанное письмо Павловского, в котором тот детально сообщал обо всем с ним случившемся и призывал Савинкова немедленно приехать в Россию, чтобы принять руководство организацией в решающий момент ее перехода к активным действиям на всей территории Советов.
Последняя фраза была написана Артузовым с тонким проникновением в психологию Савинкова. В ней был скрытый намек, что отказ приехать в СССР накануне больших событий будет воспринят как проявление трусости. А для Савинкова оказаться в положении труса было равносильно политической смерти.
12 августа Савинков прибыл в Варшаву вместе с Фомичевым, Федоровым и супругами Дикгоф-Деренталь. Остановились в небольшом отеле. Савинков пригласил к себе ближайших сотрудников и поставил их в известность о своем решении.
15 августа, несколько изменив свою внешность, с паспортом на имя Виктора Ивановича Степанова Савинков вместе с Деренталями и Фомичевым (Федоров отправился днем раньше, чтобы обеспечить «окно») выехал к границе. Здесь его встретили Федоров, ответственный сотрудник КРО Сергей Васильевич Пузицкий и Ян Петрович Крикман, которого Фомичев знал как Ивана Петровича Батова — «своего человека» в советских погранвойсках.
Что было дальше, через много лет рассказал Я. П. Крикман:
«В тот день с утра на границу приехали Пузицкий и Демиденко. Остановились в густых кустах невдалеке от пограничного столба. Ночь выдалась темная. Время тянулось медленно; прошел час, другой, третий — все тихо. Вдруг с польской стороны замигал огонек.
— Это Андрей Павлович, — сказал Пузицкий и пошел навстречу.
Андрей Павлович подавал нам сигнал фонариком. Рядом стояли Савинков, Любовь Деренталь, ее муж, Фомичев и представители польской разведки Секунда и Майер. Пузицкий подошел к нам, поздоровался, сказал, что путь свободен. Майер и Секунда остались на своей стороне, а остальные ступили на нашу землю.
Я подошел к процессии, козырнул и в целях конспирации предложил всем сдать оружие, чтобы избежать каких-либо осложнений при дальнейшем передвижении.
Первым протянул мне свой револьвер Савинков, затем остальные. Фомичев, как старый знакомый, подошел ко мне, поздоровался за руку, словно желая показать остальным, что здесь он свой человек.
Я рассовал их револьверы по карманам и предложил следовать за мной. Чтобы переход границы не показался легкой прогулкой, повел их по петляющей тропинке в кустарнике. Савинков и Фомичев шли не за мной, а сбоку, обгоняли меня, останавливались, прислушивались. Все было тихо. Мы еще днем предупредили начальника погранотряда, чтобы не выставлял на этом участке пограничников.
Вскоре мы вышли к спрятанным в балке лошадям, запряженным в две тачанки. Здесь, чтобы не вызвать подозрения у местного населения, я предложил «гостям» надеть красноармейские шинели и буденовки. В первой тачанке разместились Савинков, Любовь Ефимовна, Пузицкий и Андрей Павлович в качестве возницы. На второй — Фомичев, Александр Деренталь и я, а кучером у нас был пограничник. Доехали до большого озера в 12 километрах от Минска, сделали привал. Я предложил «гостям» снять шинели и буденовки: пограничную зону миновали, и теперь не опасно ехать в штатском. Постелили шинели на траву, сели. Фомичев достал из саквояжа бутылку вина, закуску. Он чувствовал себя хозяином, суетился, и весь его деловой вид убеждал «гостей» в том, что опасность миновала и можно отдохнуть. Разлили вино по стаканам, Пузицкий и я пить отказались.
— Вы с дороги, устали, вам сейчас спиртное нужнее, — пояснил Пузицкий.
Покончив с едой, сели в тачанки, поехали дальше. В километре от города остановились.
— Борис Викторович, — сказал Пузицкий, — в город лучше войти пешком и не всем сразу.
Савинков согласился».
Было около семи часов утра 16 августа 1924 года, когда они вошли в предместье Минска. Здесь из осторожности разделились на три группы: Савинков, Любовь Деренталь и Пузицкий и отдельно от них Александр Деренталь должны были разными маршрутами проследовать в заранее подготовленную квартиру на Захарьевской улице, 33. Фомичев и Крикман — в гостиницу.
В гостинице на Советской улице Фомичев был немедленно арестован и отправлен на вокзал — там уже был приготовлен для приема «гостей» специальный поезд.
Савинкова и Деренталей встретили более приветливо — сначала накрыли стол, дали возможность Савинкову поделиться своими впечатлениями о переходе границы, ближайшими планами. «Так вот ты каков», — думал про себя Артузов, глядя на невзрачной внешности маленького человека с высоким лбом, редкими волосами и срезанным подбородком. Только глаза, острые, умные, тяжелые, выдавали в нем незаурядную личность.
Так же внимательно слушали рассказ одного из столпов контрреволюции заместитель Артузова Роман Александрович Пиляр и Сергей Васильевич Пузицкий. Один только Федоров, полуприкрыв глаза, отдыхал возле окна в мягком кресле. Ему разглагольствования Савинкова за долгие дни личного знакомства изрядно успели надоесть.
Позволив Савинкову выговориться, Артузов выразительно взглянул на Пиляра. Роман Александрович поднялся, словно желая произнести очередной тост, но вместо этого сказал как-то очень обыденно:
— Вы арестованы, Савинков! Вы в руках ОГПУ!
В тот же день специальным вагоном Савинков, Дерентали и Фомичев были доставлены в Москву. Всю дорогу Савинков молчал, только во внутреннем дворе здания на Лубянке, выйдя из автомобиля, глухим голосом произнес:
— Уважаю ум и силу ГПУ!
Следствие по делу Савинкова было проведено в кратчайший срок — всего за десять дней, поскольку чекисты уже давно располагали всем необходимым для этого материалом о его контрреволюционной деятельности. Принципиально важные допросы Савинкова проводил сам Артузов, остальные — его заместитель Пиляр. На одном из первых допросов Артур Христианович спросил Савинкова об условиях содержания под стражей. У арестованного никаких претензий не было: во внутренней тюрьме ему обставили неказенной мебелью две комнаты, где он и жил с Любовью Ефимовной, которой, кстати, никакого обвинения предъявлено не было. Савинкову доставляли газеты, а позднее, после завершения суда, разрешили переписку, прогулки не во дворе, а в парке Сокольники, куда его возили на автомобиле.
Артузов допрашивал подследственного по хорошо продуманному плану, задавал только ключевые вопросы, помня ленинское замечание: если факты подбираются для доказательства выводов, то это будут уже не факты, а «фактики», которые являются игрушкой или кое-чем похуже.
— Как видите, мы добились многого, располагая ограниченными возможностями, — сказал он как-то.
— Я вас поздравляю, — без тени иронии отозвался Савинков, — у вас оказался верный разведывательный прогноз. Я оказался тем дураком, который смотрел на начало, умный всегда заглядывает в конец. Надеюсь, вы не предстанете передо мною адвокатом дьявола. Такие есть в римской католической церкви, они изучают все факты из жизни покойного затем, чтобы определить, можно ли усопшего причислить к лику святых.
— О нет, — засмеялся Артузов, — какой же я адвокат дьявола? Просто я хочу все знать о вас. Что касается ваших преступлений, они нам известны, многие даже в деталях. Меня интересует ваша психология, ваше отношение к нам, возможно, вы расскажете и о наших слабостях, которые мы, люди в разведке неопытные, порой проявляем, оказавшись в чужом нам, враждебном мире.
— В моей душе прошел экстренный совет, и вам я отвечу: вы сильнее, гораздо сильнее, чем мы. Вы сосредоточеннее, что ли, в своем замысле, у вас кругом, как я убедился, сильная поддержка. В годы революции я уже имел дело с ЧК. Лишь один раз мне удалось завербовать вашего сотрудника, некоего Эрдмана, да и тот оказался не тем человеком. Никакой пользы я от него не получил. У вас великая преданность. Вы не ждете, когда растает снег, а своими действиями сами способствуете, чтобы он растаял быстрее.
— А вы не думали о ложности своей борьбы? Что вы могли предложить народу? Посадить на его шею Врангеля, Маркова или, еще хуже, нового царя Николая Николаевича?
Ответ Савинкова оказался достаточно неожиданным.
— Думал. И был близок к тому, чтобы прекратить не только борьбу, но и вообще какую-либо политическую деятельность.
Артузов и виду не показал, что удивлен. Спокойно спросил:
— Были близки? Почему?
Савинков ненадолго задумался. Потом ответил:
— Для политика цель всегда существует в двух ипостасях. В первом смысле — как конкретная задача, решение которой и есть желаемая цель. Второй смысл куда более глубок. Он связан с мотивацией деятельности. Отвечает уже не на вопрос «что» требуется сделать, но «ради чего». Вот это-то ощущение «ради чего» я и утратил некоторое время назад.
— Вы утратили, иными словами, надежду, что ваш «Союз» когда-нибудь сумеет свергнуть Советскую власть? Но он и не имел на это ни малейшего шанса, никогда не имел.
Савинков поднял голову, спросил с неприязнью:
— Почему вы так уверены в этом?
— Если угодно, попробую объяснить, — охотно согласился Артузов. — С политической точки зрения ваш заговор был бесперспективен, потому что лишен какой-либо значительной базы. Народ на нашей стороне, а не на вашей. С точки же зрения профессиональной он был обречен с первой же минуты своего зарождения. Мы знали, предвосхищали каждый ваш шаг. Более того, самые важные из них мы же определяли. Как вы теперь знаете, Андрей Павлович Мухин — наш сотрудник. ЛД в природе никогда не существовали. А ваши самые доверенные люди — Зекунов, Фомичев, Шешеня, даже Павловский — тоже работали на нас. Как и многие другие бывшие савинковцы, они утратили веру в правоту вашего дела…
Савинков стиснул зубы так, что кожа туго натянулась на скулах.
— Я догадывался кое о чем…
— На что же вы рассчитывали в таком случае?
— Это важно для следствия? — с иронией спросил Савинков.
Артузов покачал головой.
— Не слишком… Следствие, опять же, как вы понимаете, располагает в достатке абсолютно доказательными уликами ваших преступлений против народа. Я нарочно употребил слово «народ», а не выражения «Советский Союз» или «Советская власть». СССР и Советскую власть вы не признавали, но ведь вы всегда утверждали, что боретесь за счастье народа…
— Вы правы, — с глухой тоской подтвердил Савинков.
Савинков молчал. Артузов между тем продолжал:
— Ваш индивидуальный террор до революции был бессмысленной авантюрой. И преступной. Потому что на нем вы погубили лучших людей своей партии. Честных и искренних в своих трагических заблуждениях. Ну а в семнадцатом году, когда вы пошли на союз с генералом Корниловым, на кого же был направлен ваш террор, уже, кстати, далеко не индивидуальный? А Рыбинск? А Колчак? А бандитские рейды Булак-Балаховича и Павловского? Чью кровь по вашему приказу они проливали? Не царских губернаторов и полицмейстеров. Народа российского! Рабочих и крестьян! Странная любовь…
Артузов захлопнул папку с «Делом».
— Уверен, — глухо сказал он, — что, если бы вы с Азефом не погубили бы без всякой пользы для революции, а скорее во вред ей Каляева и Созонова,[4] они сегодня были бы в наших рядах, а не с вами, Савинков. Но дело не только в этом. Тогда, в предреволюционные годы, народ не оценил вас как своих спасителей. Сегодня же он распознал в вас своих врагов.
— Я глубоко сожалею об этом, — тихо ответил Савинков. — И это понимание, а не предстоящий приговор наполняет сегодня мою душу страхом. Я не ответил еще вам, на что я рассчитывал, когда направлялся сюда из-за кордона, хотя интуиция меня предостерегала от этого шага. Я сохранял надежду, что ЛД действительно существует, что есть какой-то достаточно широкий пласт народа, который верит в правоту моего дела. Оказывается, ничего нет. И никого… Пустота… Вам этого не понять.
Артузов встал с кресла, допрос был закончен. Поднялся и Савинков. Движения его были вялы и неверны, словно у глубокого старика. Глаза потухли. В какой-то отрешенности он выдавил сквозь зубы:
— Мне теперь все безразлично, в том числе и моя участь. Я уже человек не живой…
Артузов нажал на кнопку звонка, вызвал конвой. Савинкова увели.
27—29 августа 1924 года состоялся открытый судебный процесс по делу Бориса Викторовича Савинкова.
По всем пунктам предъявленных ему обвинений Савинков признал свою вину. В последнем слове он сказал:
— Для меня теперь ясно, что не только Деникин, Колчак, Юденич, Врангель, но и Петлюра, и Антонов, и эсеры, и савинковцы, и грузинские меньшевики, и Махно, и Григорьев, и даже кронштадтцы не были поддержаны русским народом и именно поэтому были разбиты; что, выбирая между всеми разновидностями бело-зеленого движения, с одной стороны, и Советской властью — с другой, русский народ выбирает Советскую власть… Всякая борьба против Советской власти не только бесплодна, но и вредна.
Арест Савинкова, его изобличительные показания и полное раскаяние на суде внесли раскол в эмигрантские движения, явились тяжким ударом советской контрразведки по планам западной реакции. Сам Уинстон Черчилль писал Сиднею Рейли в сентябре: «С глубоким огорчением я прочел известия о Савинкове». Еще бы!
Суд приговорил Савинкова к высшей мере наказания — расстрелу. Однако по представлению самого суда в тот же день, 29 августа, Президиум ЦИК СССР, «признавая, что после полного отказа Савинкова… от какой бы то ни было борьбы с Советской властью и после его заявления о готовности честно служить трудовому народу… и полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс…», заменил ему смертную казнь десятью годами тюремного заключения.
«Феномен Савинкова» много лет не давал покоя его западным «биографам». Прежде всего их сбивала с толку сама арифметика. В самом деле: между арестом Савинкова и началом судебного процесса над ним прошло всего-навсего двенадцать дней. За этот короткий срок злейший антисоветчик, непримиримый враг СССР пришел к безоговорочному признанию Советской власти! Это казалось невероятным, невозможным, немыслимым! Объяснения на Западе давались самые фантастические: от первого, которое приходило на ум людям, мерившим все по собственным меркам (дескать, Савинков пошел на поводу у обвинения, чтобы спасти свою жизнь), до совершенно уже бредового — якобы на скамье подсудимых находился не Савинков, а загримированный под него артист.
Всего одиннадцать дней работали с Савинковым перед судом Артузов и Пиляр. Это ничтожно мало для подготовки судебного процесса над обычным преступником. Этого оказалось вполне достаточно, если учесть, что по одну сторону стола в следственной камере находились такие выдающиеся чекисты, как Артузов, Пиляр и Пузицкий, а по другую — человек такого быстрого и решительного ума, как подследственный Савинков. Хитрить с Савинковым, расставлять ему обычные следовательские ловушки, каверзные вопросы и т. п. не приходилось. Задачи уличить Савинкова в содеянных им преступлениях против СССР не стояло: тут, что называется, улики были налицо и в предостаточном количестве. От Артузова требовалось нечто принципиально иное: убедить Савинкова в бессмысленности его борьбы против Советской власти, доказать ему, что народы бывшей царской России, рабочие и крестьяне в первую очередь, считают эту власть своей собственной, кровной властью и никогда не поддержат против нее ни его, Савинкова, ни каких-либо других «освободителей».
Иначе говоря, Артузов и Пиляр должны были показать Савинкову, что преступления, им совершенные, были преступлениями не только против государственного и политического строя СССР — это Савинков понимал и на это шел, — но и тягчайшими преступлениями против того самого народа, борцом за свободу и счастье которого Савинков себя выдавал. В этом была политическая задача всей операции «Синдикат-2», в этом заключался ее политический итог, подвести который должно было уже не ОГПУ, а советский суд. Только так и можно было сорвать с Савинкова маску идейного борца и обличить савинковщину как контрреволюционное политическое течение, подписать ему смертный приговор, что, кстати, вовсе не обязательно связано было с вынесением, а тем более приведением в исполнение смертного приговора самому Савинкову.
У Савинкова была одна-единственная возможность избегнуть публичного признания своего полного политического банкротства — если бы он погиб, скажем, в перестрелке с пограничниками при переходе границы или в момент задержания. В этом случае имя его после смерти было бы окружено (эмиграция постаралась бы!) ореолом великомученика, отдавшего свою жизнь святому делу борьбы с большевизмом и Советами. Но такой возможности чекисты ему не предоставили. Он был захвачен, как и намечалось планом операции, живым и здоровым.
Савинков был сломлен морально и духовно еще до суда вовсе не самим фактом своего ареста. Опытнейший конспиратор, старый заговорщик, он прекрасно понимал и знал, что от случайного провала, ареста, гибели никто не застрахован. Он вполне мог бы смириться и с малоприятным фактом, что его, Савинкова, в какой-то конкретный момент перехитрило ОГПУ: сумев, к примеру, проникнуть в его организацию и устроить ловушку на границе. В этом случае проиграл бы только он лично, не повезло, бывает. Пускай бы большевики его расстреляли, но дело, бессмертное дело Савинкова продолжало бы жить и рано или поздно завершилось бы победой, оно было бы выбито на скрижалях истории золотыми буквами. Увы… Ничего, оказывается, не было. Не существовало в России никакой организации, только и ожидавшей его, Савинкова, прибытия в многострадальную страну, чтобы возглавить новую революцию. Не ждал его и русский народ — в его представлении он, бывший революционер, был таким же презираемым и ненавистным врагом, как любой белогвардейский генерал: Деникин, Юденич, Колчак, Корнилов, Врангель…
Вот этого Савинков перенести уже никак не мог. Что-что, а в свою историческую миссию он верил самозабвенно. Савинков был фанатиком порочной идеи. Без нее он был несчастнее андерсеновского голого короля. Разоблачение, а точнее, всенародное уличение в отсутствии даже фигового листка какой-либо подлинной идеи для него было куда хуже физической смерти, которой он, человек сильной воли и сильных страстей, как раз меньше всего боялся.
Знаменитому андерсеновскому мальчику хватило всего несколько слов: «А король-то голый!» Артузову и Пиляру для этого потребовалось одиннадцать дней. Всего лишь одиннадцать дней. Правда, за ними стояли годы, что длилась редкая по накалу операция «Сиидикат-2».
Заявления Савинкова, сделанные им в ходе судебного процесса, в последнем слове, общеизвестны. Они были опубликованы и в советской, и в зарубежной печати, вышли в свое время и отдельной брошюрой. Куда менее известно, что свое полное идейное и политическое разоружение, признание Советской власти он подтвердил и в частных письмах, адресованных самому близкому ему человеку — сестре Вере Викторовне, бывшим соратникам, а также Рейли.
В них Савинков прямо написал, что признал Советскую власть прежде всего потому, что окончательно убедился, что русский народ поддерживает ее.
Во всех письмах красной нитью повторяется мысль: «Русский народ не с нами, а с Советской властью».
Захватив руководителя одной из самых опасных контрреволюционных антисоветских организаций — Савинкова, Артузов и его сотрудники одержали блестящую победу как чекисты, как контрразведчики. Вынудив Савинкова признать свое политическое банкротство, они же одержали куда более весомую победу — уже на фронте идеологической борьбы. Да, конечно же было чрезвычайно важно обезвредить опасных убийц, диверсантов, шпионов, заговорщиков. Но не менее важно было и продемонстрировать перед всем миром непреодолимую силу коммунистических, советских идей.
За успешное завершение операции по поимке Савинкова, упорную работу и проявление полной преданности делу Президиум ЦИК СССР объявил начальнику КРО ОГПУ Артуру Христиановичу Артузову благодарность рабоче-крестьянского правительства СССР. Высоких правительственных наград были удостоены все чекисты, непосредственно участвовавшие в этой выдающейся контрразведывательной операции.
…На другой день после окончания сенсационного суда над Савинковым секретарь положил на стол Артузова доставленное из архива «Дело». На обложке было выведено только одно слово: «Рейли». Значит, передышки не будет.
Конец агента I-ST
— Сэр, ожидает приема мистер Сидней Джордж Рейли…
Черчиллю не потребовалось напрягать память. Это имя канцлер казначейства знал достаточно хорошо. Господина средних лет с путаной биографией, только что вернувшегося из России, в свое время ему представили в кулуарах Парижской мирной конференции. Тогда ситуация не позволяла его принять, как подобает государственному деятелю. Но цепкая память уже держала этого человека на заметке. Такие люди честолюбивы, предприимчивы, лишены предрассудков и нужны империи. Теперь же в самую пору пригреть жаждущего борьбы специалиста по российским делам. Опытнейший разведчик, изворотливый и смелый агент Сикрет Интеллидженс сервис по псевдониму — I-ST, способен на многое. Его присутствие здесь, в деловой резиденции, для Черчилля вполне объяснимо: такие, как Рейли, не останавливаются на полпути.
— Просите!
Рейли умел носить любую одежду так, словно в ней родился: от фрака до истрепанной красноармейской гимнастерки. Сейчас на нем была скромная визитка. Войдя в кабинет, он почтительно наклонил голову.
Глаза Черчилля беззастенчиво ощупывали посетителя.
— Я предугадываю смысл вашего визита. Вы хотите возвратиться в Россию?
— Да, сэр. Я здесь мерзну от недостатка движения. Я еще в форме и на кое-что способен. Спасение России — это мой долг.
— Насколько мне известно, вы там приговорены к смерти.
Не поведя бровью, Рейли уверенно ответил:
— Это меня не останавливает. Я не хочу и не могу идти через жизнь по избранному пути с опаской, уклоняясь от риска.
— Вы хотите войти внутрь Советов своеобразным никотином, — хохотнул Черчилль, — чтобы отравлять и отравлять их организм. Я вижу, в вас много деловой энергии. В связи с вашим решением, которое мне вполне импонирует, хотелось бы уточнить одно обстоятельство: предстоящие акции в России кто-нибудь изъявляет желание финансировать?
— Нет, сэр, — тяжело вздохнул Рейли, — даже мое ведомство, которому я подчинен, сомневается в моем предприятии. В этом моя главная трудность, в ее разрешении я и прошу вас помочь.
— О, мистер Рейли, я вам сочувствую. Трудные времена настали. Европа потрясена революциями. Финансы большинства стран расстроены или находятся под контролем левых сил, всякого рода оппозиций. Финансировать акции, подобные тем, что вы задумали осуществить, сейчас не в моде. Где же взять деньги? Думаю, что способ, как добыть деньги, вы сами найдете. Напомню только одно старое британское правило: всегда полезно делать свое дело чужими руками, иначе говоря, с помощью чужих денег. Деньги, деньги…
Рейли весь превратился в слух: вот-вот, после того как пролил крокодилову слезу, Черчилль все же укажет на источник финансирования. Но Черчилль молчал. Хмурая усмешка пробежала по его лицу. Затем, надув толстые щеки, он испытующе посмотрел на Рейли, как бы говоря: а ты что можешь предложить? Рейли понимал деликатность положения Черчилля, с ним туманно вести разговор все равно что загубить затею, и он уверенно заявил:
— На первых порах я обернусь своими средствами. Докажу реальность моего дела, и помощь придет. В этом я уверен…
— У вас есть деньги?
Собственных денег у Рейли не было.
Однако вопрос Черчилля не выбил разведчика из русла делового разговора. Он отлично знал, что так вот просто, с первого раза, без достойного обеспечения, Черчилль ему денег не даст. Он предвидел вопрос, а потому у него заранее был подготовлен и ответ:
— Нет, но у меня есть вполне реалистичный план, как добыть миллионы, чтобы свергнуть большевиков. Сама Россия станет финансировать меня.
Черчилль был заинтригован:
— Каким образом?
— Все очень просто, сэр. Россия богата не только пенькой и мехами, но и произведениями искусства, которым нет цены. Мои агенты будут вывозить их в Европу, думаю, что богатые покупатели здесь найдутся. Полотна старых мастеров не знают, что такое инфляция. Вот так я намерен российскими сувенирами свергать большевиков.
Черчилль нахмурил бугристый лоб, обдумывая сказанное. В глазах смешались выражение беспокойства и неподдельный интерес. Он испытующе поглядел на Рейли, чтобы проверить его решимость осуществить эту крайне сомнительную, но весьма заманчивую идею:
— Любопытная игра. Но она граничит с нарушением международного права. Не так ли?
— Да, сэр, и я это знаю. Но для нас дорого время. Главное, не дать большевикам окрепнуть. Моя цель, надеюсь, вы ее одобряете, свалить их, пока они стоят на слабеньких ножках. А для этого все средства хороши. Позволю себе отметить, сэр, и другое: у меня есть в России опора. Мне там не придется начинать, как говорят латинисты, «с яйца».
— Но я вас должен предупредить, — вставил Черчилль, — у Советов неплохо налажена контрразведка, а вы однажды уже потерпели фиаско.
Черчилль тяжело встал — знак, что аудиенция окончена, что надо, он сказал. Протягивая на прощание руку, все же не преминул обнадежить Рейли:
— Я одобряю ваше решение снова отправиться в Россию. Занимайтесь тамошними делами, я буду рад, если от вас поступят добрые вести. Все мои симпатии и расположение целиком и полностью на вашей стороне. Об этом будет знать и Интеллидженс сервис. Ну а субсидии… По-моему, это не проблема. Ваш первый успех послужит своеобразной визитной карточкой, которая откроет вам двери в любой английский банк, и не только в английский…
* * *
Неуемная страсть! Она кидает тебя в работу, как в омут, ты не замечаешь времени, забываешь про еду и сон. Работать инженером было бы куда спокойнее. Но цель, раз указанная профессиональным революционером Кедровым, глубоко завладев сердцем, стала смыслом всей его жизни. Оперативная работа стала призванием Артузова, его личным средством защиты дела Великого Октября. Но инженерные знания оказались далеко не лишними. И в оперативной работе надо все делать расчетливо, конкретно подходить к каждому факту, явлению, событию, оценивать каждую деталь. Инженерия — сама конкретность. Оперативная работа — то же самое.
Работа Артузова, требовавшая неустанного проявления политической гибкости и дальновидности, умственного напряжения, бешеных усилий воли, изобретательности, была постоянно в фокусе внимания Дзержинского. Естественно, у председателя ОГПУ всегда находились вопросы к начальнику КРО, вопросы острые, злободневные, отвечать на которые необходимо было быстро и только делом. Феликс Эдмундович был крайне огорчен тем, что Рейли, английскому разведчику, предпринимавшему отчаянные попытки свергнуть Советскую власть, в свое время удалось избежать кары, определенной советским судом.
При очередном докладе Артузова Феликс Эдмундович справился у него:
— Как с Рейли? Пока не ответите на этот вопрос — покоя вам не будет. Буду спрашивать назойливо и требовательно. Беспокойно вам будет, ибо он нам покоя не даст.
Разумеется, Артузов попытался успокоить Дзержинского, дескать, после захвата Савинкова Рейли с европейского горизонта исчез, по агентурным данным, на пароходе «Новый Амстердам» отплыл в Нью-Йорк и сейчас в Америке устраивает свои финансовые делишки.
Дзержинский с сомнением покачал головой.
— Прошу вас, не проявляйте благодушия. Эта фигура рано или поздно будет вновь вытащена на свет международной реакцией. В любой момент он предложит свои услуги любой капиталистической разведке. С Рейли борьба еще впереди.
Многое предвидел Феликс Эдмундович. Артузов, конечно, понимал: дело вовсе и не столь в личности Рейли, а в тенденциях определенных кругов Запада. Рейли нужен был и белогвардейской монархической эмиграции, погрязшей в раздорах и склоках, однако еще упорной в общей цели — снова сесть на шею народа. Она нуждалась в таком изворотливом помощнике, каким был Рейли, реально опирающийся на такую разведку, протянувшую свои щупальца по всему миру, как британская Интеллидженс сервис.
Но однажды во время доклада Артузова Феликс Эдмундович о Рейли не спросил. То ли забыл, то ли умышленно, чтобы не отвлекать внимания занятого по горло другим неотложным делом начальника КРО, промолчал. Но, прощаясь, Феликс Эдмундович лукаво усмехнулся, как бы показывая этой усмешкой: дескать, я ничего не забыл, будет что-либо интересное — сам придешь и расскажешь.
Шло время. Артузов пытался себя успокоить: Рейли на европейском континенте не объявлялся. Может, и не объявится. И меня он уже так не волнует. Я забыл о нем… Артузов умел убеждать людей, но сейчас поймал себя на мысли, что самое трудное дело — заниматься самообманом, самовнушением. Цепкий ум не поддавался самоубеждению, не позволял забыться.
Снова и снова Артузов размышлял о Рейли. Мыслями тянулся к этому авантюристу, скрытому от глаз далеким расстоянием.
«Как с Рейли?..» Медленно, постепенно накапливались факты, намечались подходы к решению задачи. Составлялось обстоятельное досье. Изучая его, Артузов все больше и больше проникался осознанием глубокой правоты Дзержинского. Да, конечно, такие, как Рейли, сами со сцены не уходят. Для западных разведок Рейли пока запасной козырь, но в ход он может быть пущен в любой момент. К этому надо быть готовым. А может быть… Может быть, подтолкнуть, самим ускорить его появление на сцене? Так забрезжила идея…
Сидней Джордж Рейли конечно же вовсе не канул в США в безвестность и устраивал за океаном отнюдь не только свои «финансовые делишки».
В то время в Америке широко обсуждался вопрос о крупном займе Советской России. Некоторые видные американские дельцы были готовы такой заем нам предоставить. Правительство занимало выжидательную позицию, во всяком случае, явного противодействия администрация не высказывала. Но он, Рейли, твердо решил, что этому не бывать, и со всей своей недюжинной энергией бросился в борьбу против предполагаемого займа. С этой целью он открыл на Нижнем Бродвее в Нью-Йорке контору, ставшую главным центром антисоветской пропаганды в Америке. Потом Рейли предпринял турне по стране с публичными лекциями, в которых как «очевидец» революции запугивал обывателей и бизнесменов опасностью большевизма, грозящего самому существованию цивилизации и мировой торговли.
Но и этого ему было мало. При поддержке русских белогвардейцев Рейли сколачивает на американской почве филиал «Международной антибольшевистской лиги», уже функционирующей в Берлине, Лондоне, Париже, в прибалтийских и балканских странах. Филиал лиги был даже в Харбине, где его возглавлял известный бандит атаман Семенов. Фашиствующие белогвардейцы, чьим лидером в США был старый агент царской охранки Борис Бразуль, наводили мосты между Рейли и самыми реакционными финансистами и предпринимателями Америки, в первую очередь Генри Фордом. Они же по поручению Рейли поставляли для него списки видных американцев, благожелательно относящихся к Советской России. Списки эти не раз доставят много бед включенным в них порядочным людям — вплоть до «эпохи» сенатора Маккарти!
Эту опасную для советских интересов деятельность Рейли нужно было пресечь, для чего требовалось выманить его обратно в Европу. Использовать можно было единственное средство — «Трест», хоть и утративший несколько свой блеск после «провала» Савинкова в некоторых эмигрантских кругах, но все еще пользующийся доверием Кутепова. И Артузов разрабатывает сложный, но безошибочно сработавший план, основанный на глубоком проникновении в психологию врага, тонком учете политической обстановки и событий.
И вот в адрес подставной нью-йоркской фирмы «Сидней Беренс — индийский хлопок», основанной Рейли для прикрытия его основной деятельности, приходит письмо из Ревеля, подписанное инициалом Е. и датированное 24 января 1925 года:
«Дорогой Сидней!
В Париже к Вам могут явиться от моего имени Красноштанов с женой. Они сообщат известие из Калифорнии и передадут стихи Омара Хайяма, которые Вы так хотели иметь. Если их дела заинтересуют, попросите их остаться. Если же дело не заинтересует, скажите просто: «Благодарю вас, до свидания».
Их дело заключается в следующем. Они являются представителями предприятия, которое, по всей вероятности, приобретет в будущем большое влияние на английском и американском рынке. Они полагают, что предприятие их достигнет полного расцвета не ранее двух лет, но обстоятельства могут сложиться для них желательным образом уже в течение ближайшего будущего. Это очень крупное предприятие, но говорить о нем пока нельзя, так как могут прослышать конкуренты. Интересуются концессией, в частности, две группы. Одна из них международная… Другая группа — германская. Она хотела бы вступить в трест, но основатели треста, представители которого названы выше, вынесли на своих плечах всю предварительную работу, не желают иметь с ней дела, так как опасаются, что германская группа постепенно приберет все дело к рукам. Поэтому они вошли в связь с небольшой французской группой, составленной из менее честолюбивых людей. Дело, однако, так велико и серьезно, что они опасаются, хватит ли у французской группы сил его поддержать. Поэтому они хотели бы привлечь к совместной работе также и английскую группу. Само собой разумеется, что правление треста будет составлено исключительно из лиц, совершивших основную работу… Они отказываются в настоящий момент назвать кому бы то ни было имя лица, заправляющего всем предприятием… Пишу Вам об этом, так как думаю, что этот план с успехом может заменить тот, над которым Вы в свое время работали и который так катастрофически рухнул».
Письмо было написано эзоповым языком, для Рейли, однако, прозрачным, как родниковая струя. О дезинформации не могло быть и речи, потому что отправитель — резидент английской разведки в Ревеле — был знаком Рейли по совместным делам давным-давно.
Под «Калифорнией» подразумевалась Советская Россия, «супруги Красноштановы» были Марией Захарченко-Шульц и Георгием Радкевичем, строки из Омара Хайяма — заранее условленным паролем для их явки к Рейли, под заманчивым «предприятием» имелся в виду «Трест», затеявший всю эту новую игру. «План», который так «катастрофически рухнул», — история с Савинковым.
На самом деле идея с приглашением Рейли была умело подброшена Шульц и Радкевичу контролером и ревизором «Треста» Якушевым по поручению Артузова. Они по тому же заданию через резидента Кутепова в Финляндии, Николая Бунакова, связались с финскими разведчиками — начальником 2-го отдела финской армии Мальмбергом и начальником погранохраны Выборгского района капитаном Рузенштремом — для организации на границе «окна».
В тайной войне, как и в обычной, действуют примерно сходные оперативно-тактические принципы: оценка обстановки, замысел, единство командования, захват инициативы, с тем чтобы навязать свою волю противнику, осуществление маневра во имя обеспечения внезапности и использования своих сил в наиболее выгодных условиях, массирование, а точнее, сосредоточение усилий в решающем месте и в решающий момент. Все это учитывал Артузов и потому начал свою работу с оценки противника.
В своей жизни Артур Христианович имел дело преимущественно с людьми сильного склада. Таковы были все без исключения его друзья, его товарищи — Пузицкий, Пиляр, Демиденко, Стырне, Сыроежкин; руководители, прежде всего Дзержинский и Менжинский. Но жизнь подбрасывала ему и врагов сильных. Большое дело, конечно, правильно определить сильные качества друга. Но в тысячу раз ответственнее — точно оценить врага. А между тем трезвой оценке часто мешает ненависть, неотмщенное зло, смутное представление о замыслах противника и его реальных возможностях.
Артузов думал о Рейли чаще всего глухими ночами, когда обычные дела оставались позади, никто никуда его не требовал, никто не беспокоил. Рейли интересовал его и как личность, и как противник. Интересовало все: внешность, характер, привычки, окружение. Хотелось, а точнее, нужно было уяснить, в чем его сила? Только ли в опыте и находчивости? Обычно Артузов вынимал из «Дела» какую-нибудь справку и начинал тщательно вникать в сухие фразы, не замечая времени. Отключался от раздумий, только когда сонный туман начинал застилать глаза, больно отдавалось в висках, а сквозь шторы начинал просачиваться молочно-белый свет и солнечные лучики разукрашивали стену кабинета золотыми точками.
Все чаще и чаще Артузов возвращался к Рейли, пытаясь проследить его жизненный путь. Артур Христианович изучал «Дело» страницу за страницей, возвращался к прочитанному, обдумывал и снова читал, делая пометки, понятные только ему. Чуждый и пока далекий Рейли постепенно проявлялся, становился более осязаемым.
Вот портрет Рейли, сделанный достаточно опытной и умной женщиной: «Я подняла глаза от чашки с кофе и встретила взгляд карих глаз, смотревших на меня с другого конца комнаты. В течение какого-то мгновения он смотрел прямо мне в глаза, и я почувствовала приятную дрожь. Этот человек был хорошо сложен и очень прилично одет. Лицо его было худощавое, довольно смуглое и выражало необычайную силу воли и решимость. Глаза были спокойные, добрые и немного грустные. И вместе с тем у этого человека было такое выражение лица, которое доказывало, что он очень часто смотрел прямо в глаза смерти».
На листке оценки противника Артузов набрасывает несколько выводов из прочитанных строчек: «Искусный любовник, перед которым могут устоять лишь волевые, немногие женщины. Значит, Рейли, обладая определенной внешностью, симпатизирующей женщинам, может опираться на их поддержку, использовать их квартиры в качестве конспиративных».
Артузов продолжал изучение досье, оценивая каждую строчку. Родился Рейли в 1874 году. Значит, ему около пятидесяти лет. Зрелый возраст, тот возраст, который в полной мере определяет опыт, когда человек становится осторожным, стремится не сделать ни одного опрометчивого шага. Артузов выводит на листочке цифру «50» и ставит знак «плюс».
Чем еще силен Рейли? Классовой направленностью действий. Сын капитана торгового парохода. Основное воспитание получил в русской среде. Служил в Восточно-Азиатской компании, был ее главным агентом в Порт-Артуре. Значит, он может хорошо приспособиться к русскому окружению. Это также что-то значит для разведчика. Ставится новый «плюс». К нему добавляются «плюсы» за свободное владение семью языками.
Глаза бегут по машинописным строчкам, и из сухого факта вычленяется еще одна сторона характера — умение сходиться с людьми. В Петербурге не давал покоя подвиг братьев Райт, поднявших в воздух первый самолет. Организуется российское общество «Крылья». И не кто иной, как Рейли, умело использовал воздухоплавательный клуб для наживы, а заодно приобрел множество важных связей в русских кругах.
Итак, Артузову рисовался человек смелый в своих начинаниях, больших возможностей, не случайно завербованный английской разведкой.
Чтобы знать человека до тонкостей, следует проследить за всей его жизнью, его поступками. Артузов изучает другие справочные материалы. С началом мировой войны Рейли не упускает шанса заработать на крови. Он едет в Японию, чтобы заключить контракты на поставки военного снаряжения.
Из Японии перебирается в Америку, передает крупные заказы американским фирмам. Используя старые связи в Германии, агент I-ST передает в Лондон немецкую программу строительства подводных лодок. Потом он и сам проникает в Германию и добывает секреты кайзеровского флота непосредственно в… германском адмиралтействе.
Когда в России совершилась революция, английская разведка сразу же переориентировала его — он должен работать в стране большевиков. На борту крейсера «Королева Мария» Рейли прибывает в Архангельск. Отсюда, воспользовавшись неопытностью и доверчивостью местных советских работников, пробирается в Петроград и сразу оказывается в центре очередного заговора контрреволюции. Видное участие в нем приняли и дипломатические представители некоторых западных стран…
Петроград, весна 1918 года. Рейли снова в городе «светлых грез». Так он любил называть Петроград. Ищет безопасное убежище. Артузов раскрывает конверт с фотографиями. Находит портрет красивой женщины: Елена Михайловна Боюжовская, кокотка. У нее и остановился Рейли. Счастливая звезда, как ему кажется, движется к зениту на политическом небосводе. Рейли не собирается долго оставаться в Петрограде. Его цель — Москва, где активно действует против Советской власти глава английской миссии Локкарт.
В военное время в Москву нелегко попасть. Нужен пропуск. Где добыть? Рейли перебирает в памяти всех бывших петербургских друзей. Останавливается на своем давнем агенте Грамматикове.
Грамматиков сумел достать пропуск и сам привез Рейли в Москву. Теперь надо осесть, осесть тайно. Рейли не был бы разведчиком, если бы не умел отличить организованную слежку от случайного наблюдения. Он быстро установил, что к нему и Грамматикову «присматриваются». Нужен был трюк, который отвел бы внимание от него. В дождливый день на перрон Николаевского вокзала к поезду Москва — Петроград подошли двое. Один — Грамматиков, второй — человек, похожий на Рейли. Сам Рейли из-за укрытия следил за посадкой своих друзей. И был удовлетворен, когда поезд ушел, увез «Рейли» и привязавшегося к нему наблюдателя. Пусть Рейли ищут в Петрограде, а он здесь, в Москве, и уже не Сидней, а Константин.
За убежищем дело не стало: в его кармане лежало письмо Грамматикова своей племяннице — актрисе Художественного театра Елизавете Оттен.
Артузов поднимает еще одну справку. В ней сообщение командира дивизиона латышских стрелков кремлевского гарнизона Эдварда Берзина, «завербованного» Локкартом с ведома ВЧК. 29 августа 1918 года на квартире Боюжовской в Питере Берзин получил от Рейли очередные 200 тысяч рублей для «подкупа» латышских стрелков с целью ареста Советского правительства (всего Берзин выудил у щедрого на такое заманчивое дело Рейли 1 миллион 200 тысяч рублей, которые сдал в кассу ВЧК). Тогда же Берзин приметил на письменном столе Елены Михайловны письмо с обратным адресом: Москва, Шереметьевский переулок, 3. Это был адрес квартиры Оттен.
…Артузов ставит новый крестик на листке, отмечая хитрость противника, его способность к неожиданным трюкам.
Поселившись у артистки, Рейли не теряет времени даром. Ищет объект вербовки. Английское правительство должно знать военные планы большевиков. Через Елизавету, даже и не подозревающую, кто у нее остановился по дядюшкиной рекомендации, он знакомится с ее окружением, в том числе и с подругой, некоей Марией Фриде. Брат подруги — бывший подполковник старой армии Александр Фриде работает в Главном штабе, следовательно, в курсе многих военных вопросов, в частности перевозок. Лучшего агента трудно сыскать.
Путь Рейли к подполковнику оказался весьма простым. Он очаровывает Марию, дарит ей умело подобранные подарки. Через сестру Рейли знакомится и с братом, быстро находит с ним — тайным контрреволюционером — общий язык. К слову сказать, и Мария и Александр уже были связаны с резидентом американской разведки Ксенофонтом Каламатиано. Мария, кстати, официально работала медсестрой в отряде Красного Креста при американской миссии.
Александр Фриде стал аккуратно доставлять Рейли копии военных сводок с фронтов, другие материалы. Рейли работает в Москве и Петрограде в тесном взаимодействии с двумя другими иностранными резидентами: французом Анри Вертимоном и американцем Ксенофонтом Каламатиано. В этой тройке он за «коренника».
Елизавета Оттен была па редкость общительной женщиной. Она не могла жить в одиночестве, ее постоянно окружали друзья и поклонники. В квартире было шумно и весело.
Для ничего не подозревающей публики, которая собиралась у нее, Рейли был… сотрудником Чека Релинским! Таким документом сумел снабдить его Фриде. Теперь Рейли мог без помех передвигаться по городу. Удостоверение предоставляло ему надежное прикрытие, позволяло свободно выезжать в Петроград, а там передавать добытые шпионские сведения сотруднику британского посольства капитану Кроми, который их в свою очередь переправлял в Англию.
Однако Рейли был не простым шпионом. Всякий раз, отправляя документы своему шефу в Лондон, он прилагал к ним собственные комментарии, рекомендации, исходящие из оценки политического положения в Советской России. Они били в одну цель: быстрее свергнуть большевиков, внушая адресату мысль, что «русские беспомощны, если у них нет вождя. Если России дать популярное правительство, то она снова повернет оружие против Германии».
Была у Рейли и своя корыстная цель. Если корсиканский лейтенант артиллерии сумел овладеть Францией, то почему бы ему, лейтенанту от британской разведки, не овладеть Москвой? В этой мысли он укрепил себя после того, как ознакомился с охраной Кремля. Главная опора ее — латышские стрелки. В их безусловную преданность Советской власти Рейли не верил. Он оказался целиком во власти навязчивой идеи: кто имеет власть над латышами, тот имеет власть над Москвой. Так в голове Рейли родился поддержанный Локкартом план подкупа латышских стрелков. В орбиту внимания Рейли попал Берзин, которого в свою очередь представил английским разведчикам как своего человека Шмидхен — агент Локкарта, а на самом деле Ян Буйкис, выполнявший особое задание ВЧК.
Артузов снова отмечает для себя: Рейли честолюбив, обладает бонапартистскими замашками. Убежден во всесилии денег. Это все — «минусы», они будут учтены в плане операции, как, впрочем, и «плюсы».
План, предложенный Рейли Берзиным, казался простым и легко осуществимым. В Большом театре должно было состояться правительственное заседание под охраной латышских стрелков. По приказу Берзина они должны были арестовать Советское правительство и в первую очередь Владимира Ильича Ленина. Рейли сделал только одно, но весьма существенное добавление к этому плану: иметь при себе гранаты на случай, если произойдет какая-нибудь непредусмотренная заминка. Иначе говоря, Берзин должен пустить их в ход, чтобы уничтожить Ленина.
До правительственного заседания оставалось некоторое время. Рейли пригласил Берзина прокатиться в Петроград. При этом преследовал две цели: обеспечить себе безопасный проезд и отправить донесение через английского дипломатического представителя о задуманном плане, а с помощью Берзина уговорить жителей латышского квартала выступить в Петрограде одновременно с «заварухой» в Москве.
Для петроградских знакомых Рейли был «господин Массино», ливорнский купец. Остановились у Елены Михайловны. Выявив связи Рейли, Берзин, сославшись, что он выполнил все поручения, уехал в столицу. Рейли остался в Петрограде. Ему надо было встретиться с капитаном Френсисом Кроми, постоянным английским резидентом. Рано утром позвонил Грамматикову, с тем чтобы узнать обстановку.
Услышал дрожащий, напуганный голос:
— Преждевременно произведена операция. Положение больного в высшей степени серьезно.
Рейли охватил страх. Но он не был бы разведчиком, если бы поддался панике. Быстрый ум сразу же оценил: надо немедленно ехать к Грамматикову и узнать все подробности, чтобы не действовать вслепую. Рейли благополучно добрался до квартиры Грамматикова, которого застал в страшном возбуждении. Он изрыгал ругательства по чьему-то адресу:
— Глупцы, выступили слишком рано, ни с кем не согласовали. Убит председатель Петрочека Урицкий. Надо бежать…
Рассказывая Рейли об обстановке в Петрограде, Грамматиков рвал какие-то бумаги, рвал и тут же сжигал клочки.
— Вам не следует возвращаться к Елене Михайловне, — предупредил Грамматиков.
— Я осведомлю кое-кого о случившемся и немедленно отправлюсь в Москву. Главные события развернутся там…
Рейли назначил военно-морскому атташе Кроми встречу в ресторане Палкина. В условленное время капитан не пришел. В задней комнате ресторана Рейли подождал еще полчаса. Кроми не появился. Тогда Рейли решил покинуть ресторан и пройти мимо английской миссии, убедиться, все ли там в порядке.
Подойдя к знакомому зданию, Рейли увидел толпу людей и отряд красноармейцев. Стоял грузовик. Рядом на тротуаре лежали тела двух убитых чекистов: Шейнкмана и Янсона.
Кто-то тронул Рейли за рукав. Оглянувшись, узнал случайно знакомого красноармейца.
— Здравствуйте, товарищ Релинский. Вот как неудачно получилось… Отстреливался гад. Вот он лежит…
На лестнице, у двери лежал Кроми… В такой обстановке нечего было и помышлять об установлении связи. Надо быстрее убираться из Петрограда. Здесь его знают слишком многие.
Рейли направился на вокзал. Путь ему преградила красноармейская цепь. Отступать было поздно. С независимым видом он подошел к проверяющему документы и показал свой пропуск. На удивление, его тут же пропустили.
В Клину Рейли купил свежую газету. Развернул, пробежал глазами по заголовкам, и ему стало не по себе. Арестован Локкарт. Арестованы Александр Фриде и его сестра. В газетном сообщении мелькали фамилии и других людей, с которыми Рейли не встречался, но о которых слышал.
Сообщение потрясло, словно взрыв. Значит, заговор провалился. Наверняка Чека уже знает и о нем, и о его документах, приметах, связях. Хорошо еще, что уехал из Петрограда. Там наверняка бы поймали.
Резкая команда вывела Рейли из оцепенения. На перроне показались красноармейцы. Рейли юркнул обратно в вагон. «Проверка документов. Что же делать?» Оставаться в вагоне опасно. Неужели конец? Поднялась злоба на самого себя. Так глупо попасться… Как хорошо быть понимающим и спокойным. Понимание, что надо бежать, — было, а спокойствия — нет. Лихорадочно работал ум, выискивая решение. Проверка шла и с «головы», и с «хвоста». Есть еще время подумать, пока комиссары дойдут до его вагона.
Рейли вышел в тамбур, открыл наружную дверь, огляделся по сторонам. У переднего и заднего вагонов часовых не было, они уже подошли ближе. Вот тут и мелькнула мысль. А если под вагон? Рейли скользнул под подножку и метнулся под вагон. Незамеченным прополз до «хвоста» поезда. Оттуда рывком — к пакгаузу. И вот он уже укрыт кирпичной стеной от красноармейских взоров. Выйдя из расположения станции, почувствовал себя на свободе. Надо пробираться в Москву. Там он найдет убежище, верные люди еще остались. Не все попали в тот газетный список арестованных. Какое-то время он переждет, а потом снова примется за свое.
По ближайшей улице Рейли вышел на московский тракт. Вскоре его нагнала подвода. Возница не отказал, за горстку махорки провез несколько верст. Так на случайных подводах Рейли добрался до самой Москвы. Где остановиться? Вспомнил одного офицера, к нему и направился. Офицер, на счастье, оказался дома и с душевной готовностью принял гостя.
Под ногами у Рейли уже горело. После злодейского покушения эсерки Фанни Каплан на Ленина в Москве и убийства Урицкого в Петрограде ВЧК предприняла энергичные меры против заговорщиков, в том числе иностранных шпионов. Был задержан Брюс Локкарт, пойман Каламатиано, арестованы десятки контрреволюционеров. Враги молодой республики сами вынудили Советскую власть объявить красный террор убийцам и шпионам.
Рейли узнал, что в квартире офицера недавно был обыск, оставаться долго в ней нельзя. Утром он ушел.
Какое-то время Рейли слонялся по городу. Остановился у витрины, потом у газетной тумбы, чтобы перевести дух. У него больше не было в запасе конспиративных квартир.
Самая надежная — в Шереметьевском переулке — провалена. Почему? Размышляя об этом, Рейли пришел к выводу, что, очевидно, потерял осторожность Фриде. Но он не знал, какую роль в раскрытии заговора играл Берзин. Это благодаря ему была взята под наблюдение квартира Оттен, отсюда уже потянулась ниточка к Марии Фриде, ее брату и дальше к помощнику американского торгового атташе Каламатиано, резиденту французской разведки Вертимону. В общей сложности в руки ВЧК попало, как сообщили «Известия» 17 октября 1918 года, свыше 60 агентов.
11 сентября Рейли удалось пробраться в Петроград. Здесь в германском консульстве он получил охранное свидетельство на имя антиквара Георгия Бергмана. С этим документом он прибыл в Кронштадт, а оттуда катером отправился в Ревель. Впоследствии в своем дневнике Рейли записал:
«Целью моей теперь было выбраться из России как можно скорее, возложенная на меня миссия кончилась полной неудачей».
Почему Берзин не арестовал Рейли? Он мог сделать это в любой момент, но по замыслу операции надо было выявить все связи Рейли, он еще не «раскрылся» до конца. Была уверенность, что Рейли — в наших руках и деваться ему некуда. Рано или поздно он придет к Берзину. Но тут интуиция не подвела английского агента.
8 ноября Рейли уже был в Лондоне. Здесь его застало известие: Верховный революционный трибунал РСФСР, рассматривая дело Локкарта (которому как дипломату Советское правительство разрешило покинуть Россию), объявил Сиднея Джорджа Рейли вне закона как врага трудящихся и приговорил его к расстрелу при обнаружении в пределах республики.
Встает вопрос: почему Рейли удалось ускользнуть из рук правосудия? На этот вопрос ответил впоследствии сам Рейли, когда оказался в тюрьме. В письме к заместителю Артузова Владимиру Андреевичу Стырне есть такие строки: «По моему глубокому убеждению, я приписываю мою удачу в подпольной жизни, а также в моем бегстве не каким-нибудь особенным личным качествам, а поразительно счастливому и часто повторяющемуся стечению обстоятельств, с одной стороны, и еще несовершенной в то время организации советского контрразведывательного аппарата, с другой стороны».
Провалившегося агента Сикрет Интеллидженс сервис обычно сбрасывает со счетов, такой ей уже не нужен. Исключение составил Рейли. СИС по-прежнему считала его асом разведки в своей профессии, наиболее опасным для Советов шпионом. Последнее, к сожалению, соответствовало истине. Рейли нужен был Лондону как специалист по русским делам. И вот уже его направляют в составе английской миссии к генералу Деникину. Поражение Деникина означало и поражение английской миссии. На какое-то время Рейли сошел со сцены и отправился в Америку, чтобы в очередной раз поправить свои коммерческие дела.
…Для чего нужен был Артузову этот экскурс в прошлое Рейли? Прежде всего потому, что ему как руководителю КРО необходимо было выявить все сильные и слабые стороны опасного врага. Без этого нельзя было составить точный и объективный портрет английского разведчика. Кроме того, внимательный анализ всех предыдущих похождений Рейли в России необходим и для того, чтобы избежать повторения допущенных тогда чекистами ошибок. Сильные стороны Рейли были, как говорится, налицо. Но Ар-тузов нащупал и слабые места: англичанин был нетерпелив, всегда стремился достигнуть цели как можно скорее. Эта нетерпеливость будет и впредь толкать Рейли на авантюры, которые следовало использовать. Когда «Дело» Рейли было изучено во всех деталях, Артузов встретился с Менжинским, чтобы обсудить оперативный план. Состоялся такой разговор.
Менжинский. У военных есть термин — главный удар. Вероятно, и нам надо принять его.
Артузов. Я с вами согласен.
Менжинский. Раз согласны, то изложите свою точку зрения на главный удар, против кого нам следует его сейчас направить?
Артузов. Против Рейли и рейлизма.
Менжинский. Но он уже однажды вышел из игры?
Артузов. Вышел. Но снова входит. Что касается главного удара, то, если вы, Вячеслав Рудольфович, не против, выслушайте некую историю. У нас в технологическом институте был профессор, он делил студентов на три категории. Первая — это наиболее способные ребята. Вторая — середнячки, третья категория — малоспособные, а точнее, плохо успевающие. На какую группу профессор рассчитывал свои лекции? На середнячков, считая, что им-то и надо помочь разобраться в материале, чтобы они усвоили и сдали курс. А наиболее способные сами во всем разберутся. Что же касается «хвостистов», то на них не стоит и время тратить. Теперь давайте на миг перенесемся к более близкому для нас примеру. Песочные Врангели и Марковы скомпрометированы. Они для нас главной опасности не представляют. Савинков, самый трудный враг, обезврежен. В серединку между Врангелями и Савинковым вторгся Рейли. Точнее, его пригрел не кто иной, как Черчилль. Это уже очень серьезно. По логике главный наш удар должен быть нацелен на Рейли.
Менжинский. Исходя из приведенного вами примера, Рейли только «середнячок»?
Артузов. В этом смысле — да. Вам показался странным закон трех частей нашего профессора? Каждый враг по-своему опасен. И все же я выделяю Рейли. Он только входит в роль. Я считаю, на него необходимо нацелить лучшие силы нашего отдела.
Менжинский. Я вас так и понимаю. Рейли, несомненно, доставит нам много хлопот. Нам сейчас важно понять и другое: какие причины обусловили появление Рейли? В чем его сила, кто его поддерживает?
Артузов. Черчилль уже не верит в силу белогвардейщины. Пускает в ход свои козыри. На начальной стадии рейлизм, несомненно, будет иметь ускоряющее развитие. Он постарается вобрать в себя все эмигрантские течения, выступающие до сих пор против нас.
Менжинский. Согласен с вами. И формы борьбы Рейли окажутся традиционными, вряд ли чего нового он придумает. И все же, с чем мы столкнемся?
Артузов. Рейли не начнет свои действия против нас, как говорится, с «чистого листа». В первую очередь он обратит внимание на «Трест» и «Синдикат», постарается прибрать их к рукам. Рейли постарается заявить о себе и громкими диверсиями, и, надо полагать, рано или поздно авантюризм толкнет его вновь в нашу страну.
Менжинский. Да, это решающие моменты. Рейли профессионален, обладает умом и изобретательностью, с благословения определенных кругов он непременно вступит с нами в непримиримую борьбу.
Артузов. Постараемся хорошо сыграть против Рейли, а если к тому же поможет счастливый случай…
Менжинский. Я далек от «серендипиты» — этакой счастливой цейлонской случайности. Игру следует строить не на везении и не в расчете па счастливый случай, а на основе точно рассчитанного плана, предвидении скрытой опасности. У вас масса дел, Артур Христианович, и, боюсь, ваша мысль будет блуждать. А вы все время возвращайте ее к Рейли. У вас должно появиться жгучее желание победить…
Почти все старые разведки изучали характер полководцев, отдельные их черты: энергичность, упрямство, отвагу, осторожность, волю к победе и, наоборот, нерешительность.
Зная характер полководца, оказывается, можно влиять на его решения — одного при определенных ситуациях заставить отступить, другого с помощью демонстрации силы вынудить отказаться от активной борьбы, третьего подтолкнуть броситься в опрометчивое наступление. Думаю, следует Рейли подтолкнуть к активной борьбе, и тогда вывод его через границу станет реальным делом.
Артузов. Я с вами вполне согласен. Он окажется в положении путника, который встретился с бурной рекой и ищет надежные камни, чтобы перейти по ним водную преграду. Рано или поздно он отважится перейти границу. А действовать, как подсказывают логика и опыт, надо подобно тому, как мы поступили с Савинковым. Предоставить Рейли «окно» на границе, создав иллюзию безопасности.
Менжинский. Насчет «окна» согласен. Но учтите — были случаи, когда самые отважные пасовали перед вдруг возникшей опасностью. Вот тут и необходимо знание теории вероятности.
Артузов. Изучая дело Рейли, я попытался определить возможности, связанные с «рассчитанным риском», а точнее, оценивая обстановку, выбрал все «лучшее из худшего» и «худшее из лучшего».
Менжинский. В таком случае надо действовать, действовать без колебаний.
Была еще одна причина, не позволявшая оставить Рейли без присмотра: советская дипломатия делала важные внешнеполитические шаги, на деле проводя ленинский принцип мирного сосуществования. Рейли был убежденным врагом любых переговоров Запада с Советами и готов был на самые крайние, террористические меры против советских представителей за рубежом. Артузов хорошо помнил донесения Андрея Павловича Федорова-Мухина из Берлина 1922 года:
…Рейли приехал в Берлин, приехал с благословения «отцов» западной политики. Здесь, в этом городе, окопались самые отпетые враги Советской власти. С их помощью лучше всего заявить о себе. Рейли нужно громкое дело, которое бы заставило говорить весь Запад. Из прессы он узнает, что советские наркомы Георгий Чичерин и Леонид Красин по пути в Италию, где они должны принять участие в Генуэзской конференции, на некоторое время остановятся в Берлине. Подходящий случай, чтобы расправиться с видными большевиками! Рейли находит фанатиков-пособников. Это один из руководителей белогвардейского союза — Долгоруков, гвардейский офицер Малевский и капитан Эльвенгрен, шпион, организатор контрреволюционного восстания в Карелии в 1919 году, близкий сотрудник Савинкова. Оружием и бомбами снабдил эту компанию бывший начальник врангелевской разведки Орлов.
Главная роль отводилась Эльвенгрену. Он должен был стрелять в Чичерина и сопровождающих его лиц на вокзале. Но немцы, видимо, почуяли неладное и, не желая накануне Генуэзской конференции портить отношения с Советской Россией, приняли надежные меры для обеспечения безопасности Чичерина. Покушение сорвалось.
Рейли получил новую информацию — в Берлине два Максима: замнаркома по иностранным делам Литвинов и писатель Горький. Решено организовать покушение па них в театре. Для Эльвеигрена и его людей приобрели билеты в театр на Унтер-ден-Линден. Но Литвинов и Горький, не досмотрев спектакль, покинули ложу.
…Итак, Артузов пришел к убеждению, что, несмотря на важные дела в Америке, Рейли использует первую же серьезную возможность для возвращения в Европу. А здесь он непременно попытается обзавестись собственной сильной организацией для работы в Советской России. Таковой мог и должен был стать только «Трест». Действительно, письмо из Ревеля от Е. вызвало у Рейли должную реакцию. Из его ответного письма было очевидно, что Рейли с готовностью зацепился за «Трест». В переписке Е. уже связывал Рейли с одним из представителей «Треста» — Н. Н. Бунаковым. Он писал: «…когда Вы будете писать Н. Н. Б., будьте столь любезны и напишите ему лично письмо, которое было бы исчерпывающим по всем интересующим вопросам; в данном случае Вы также сможете задать ему все те вопросы, на которые Вам необходимо будет иметь ответ. Другое же письмо Вы должны написать таким образом, чтобы он был в состоянии показать его московскому центру или же его представителям и в котором должно быть сказано, что Вы заинтересованы его коммерческими предложениями с указанием на то, что Вы сможете быть им полезным».
На это Рейли ответил: «Мой дорогой Е.! Письма гельсингфорсских представителей «Синдиката» весьма интересны, но как обычно бывает в таких случаях, все они слишком туманны. Я буду придерживаться вашего совета и напишу ему непосредственно. Я напишу ему очень подробно и даже поставлю все точки над i, так как, по моему мнению, а также судя по исключительно ценным данным, которые Вы переслали мне, положение таково, что надо постепенно приступать к действиям».
И еще письмо к Е.: «Согласно некоторых дел, которыми я сейчас занят, я намереваюсь, как только это возможно, покинуть здешние места и отправиться на два-три месяца в Европу. По всей вероятности, я составлю мой маршрут таким образом, чтобы иметь возможность заехать в Ревель и Гельсингфорс после того, как предварительно побываю в Лондоне…»
4 апреля 1925 года Рейли пишет новое письмо: «Дорогой Е.! Я получил сегодня копию письма Правления, адресованного Б. Я вполне согласен с Правлением, что для окончательного назначения дат и соглашения насчет дальнейшего плана производства мне нужно лично съездить и осмотреть фабрику. Я с удовольствием это сделаю и готов выехать, как только закончу здесь свои личные дела. Конечно, в путешествие я отправлюсь только после того, как подробно посоветуюсь с Вами и инженером Б. Думаю, что в случае благоприятного впечатления от фабрики и моего доклада о технических нововведениях заинтересованные круги окончательно убедятся в выгодности предприятия и сделают все от них зависящее, чтобы облегчить проведение плана в жизнь».
В апреле 1925 года Рейли отправил в адрес МОЦР письмо, в котором рекомендовал перейти к тактике активных действий, решительным способам борьбы с Советской властью, вплоть до проведения террористических актов против руководителей Коммунистической партии и Советского государства. Ознакомившись с этим письмом, Дзержинский дал указание Артузову принять все меры к выводу Рейли на территорию СССР и его аресту.
…И вот наконец на столе Артузова долгожданное сообщение из Финляндии: Рейли прибыл в Гельсингфорс. «Трест» подталкивает его на поездку в Советский Союз. Все понимают: пока Рейли не убедится на месте в реальности «фабрики», то есть существующих контрреволюционных сил в Москве, от Запада субсидий не жди.
В критическую минуту человек обычно бывает самим собой. Авантюризм, как и рассчитывал Артузов, неудержимо толкал Рейли в опасное путешествие. В Гельсингфорсе у чекистов влиятельный «союзник» — сам Бунаков всемерно поддерживает Рейли в его намерении. Он свято верит во всесилие «Треста». Ведь только что «Московский центр» по рекомендации Якушева переправил через «окно» на границе в Финляндию родного брата Бунакова — Бориса, которого тот не видел много лет. Это был исключительно сильный ход со стороны ОГПУ, чтобы окончательно расположить к «Тресту» представителя Кутепова.
Уже все для себя решив, Рейли отправляется в Париж и лично встречается с главой РОВСа генералом Кутеповым. Два медведя в одной берлоге не уживаются: Рейли и Кутепов не понравились друг другу. Рейли приходит к твердому выводу: белоэмиграция бессильна, рассчитывать можно только на внутренние контрреволюционные силы России. Стало быть, поездка не только желательна, но и необходима. А тут еще телеграмма от Е.: «Все готово для общей встречи. Просим сообщить, когда приедете». Е. не только прислал депешу, но и сам приехал в Париж, чтобы вместе с Рейли отправиться в Выборг.
Рейли телеграфирует в Гамбург жене: «Телеграмма получена. Завтра утром еду в Выборг и пробуду там четверг и пятницу. Вернусь сюда в субботу утром и в субботу же сяду на пароход. Из Штеттина телеграфирую, поеду ли прямо в Гамбург или сначала заеду в Берлин. Во всяком случае, в понедельник 28-го я обниму тебя, родная. Телеграфируй мне в Выборг, отель «Андрея».
Одновременно в тот же сентябрьский день Рейли отправил жене и письмо, в котором заверил ее в благополучном исходе дела: «Россия находится накануне важных и решительных событий».
Об этом периоде времени много лет спустя рассказал немало интересного А. X. Артузов в лекции молодым чекистам. Приведем из нее некоторые выдержки: «От «Треста» имелись послы в Риге, Ревеле, Париже и Лондоне. С ними считались как с представителями второго (подпольного) правительства России. Для нас «Трест» таил некоторую опасность. Определенные круги за границей считали: раз существует «второе» правительство, значит, Советы не так уж сильны. Это могло подтолкнуть их на более решительные действия против нашей страны.
Пожалуй, в некотором недоверии остались англичане. И они решили прощупать истинную силу «второго» правительства. Для этого выбрали Рейли. Естественна и его связь с Бунаковым, «послом» в Финляндии, бывшим социал-революционером, поддерживающим длительное время связи с английской разведкой. «Трест» перетянул «посла» на свою сторону, убедив его, что русское дело дороже английского. Бунаков постепенно охладевал к англичанам.
«Посол» был связан со своим братом, оставшимся на родине, изъявившем согласие сотрудничать с нами. Брат регулярно информировал Бунакова о делах в России, в частности о состоянии «Треста», представляя его как вполне дееспособную организацию, могущую повернуть судьбу России.
И все же Бунаков изъявил желание связаться с Рейли, видя в нем не только представителя «владычицы морей», помощь которой неплохо заполучить, но и человека, который обладает определенным опытом колонизаторских методов свержения неугодных режимов. Отсюда и оживленная переписка с ним. Бунаков снабжал англичан некоторыми сведениями, получаемыми из России. Но английской разведке этого было мало. Она привыкла верить информации, получаемой из первых рук. К тому же на всех этапах борьбы с Советской Россией Интеллидженс сервис имела в нашей стране своих тайных резидентов, которые инспирировали заговоры… поддерживали контрреволюционные силы.
В Финляндии Рейли устроили пышную встречу. Все шло по драматическому закону нарастания действий. Для пущей впечатлительности, а главное — чтобы заставить Рейли отправиться в далекое путешествие, были направлены наши люди, разумеется от имени «Треста». Они стали своего рода снарядом для начала атаки, убеждая Рейли, что он должен все посмотреть своими глазами, лично оценить состояние организации. К тому же само появление Рейли как английского представителя вызовет еще большую активность «Треста». Ему гарантировалась полная безопасность в переходе границы».
Действительно, несмотря на все уговоры, невзирая на собственную тягу, Рейли колеблется. Строго говоря, его можно понять: еще свежа в памяти история с Савинковым, а над Рейли как-никак «висит» дамоклов меч старого смертного приговора.
Все, что может, пускает в ход Якушев. Это он разработал для Рейли весь график трехдневной поездки, о которой тот писал жене. Александр Александрович оставил выразительный портрет английского агента: «Рейли одет в серое пальто, безукоризненный серый в клеточку костюм. Впечатление неприятное. Что-то жестокое, колючее во взгляде выпуклых черных глаз, резко выпяченная нижняя губа. Очень элегантен. В тоне разговора — высокомерие, надменность».
Ведет яростную атаку на Рейли неистовая Мария Владиславовна Захарченко-Шульц при молчаливой поддержке мужа — Георгия-Григория Радкевича. Они только что в который раз переправились в Финляндию из Ленинграда через «окно», которое держит преданный «Тресту» командир-пограничник Тойво Вяха.
Артузов в Москве понимает, что нужно поддержать усилия Бунакова и Захарченко-Шульц. Хорошо бы кого-то послать в Финляндию как представителей именно сейчас. Кого? Федорова никак нельзя, он последний человек, которого видели рядом с Савинковым в прошлом году. Отпало по разным причинам еще несколько кандидатур, Артузов вызвал своего заместителя Стырне, чтобы посоветоваться с ним. Тот словно только и ждал этого разговора:
— Что тут думать. Артур Христианович, есть очень подходящий человек, и не кто-нибудь, а бывший царский генерал. Да, впрочем, вы же его сами знаете — Потапов Николай Михайлович. В «Тресте» с 1921 года действует. Его преданность Советской власти испытана.
Артузов обрадованно хлопнул себя ладонью по лбу.
— Бог ты мой! Как же это я запамятовал о нем! Пригласите его к нам незамедлительно! Проинструктируем его вместе, обрисуем характер противника, ознакомим с последними делами «Треста».
Потапов, как и предполагал Артузов, превосходно справился с порученной ему ролью. Он отправился в Финляндию и в присутствии Рейли информировал Бунакова о деятельности организации. Говорил он солидно, убедительно и очень естественно выразил неудовольствие москвичей редкими визитами заграничных «гостей». А бывать надо в Москве почаще, потому что некоторые руководители «Треста» начинают грызться из-за власти. Это дало пищу для размышлений и Бунакову и Рейли. В заключение генерал высказал такую мысль:
— Все наши спрашивают: где же внешние силы, которые вот уже который год обещают оказать поддержку? Что мне ответить им? Надо иметь в виду, что большевики с каждым днем укрепляют свои позиции, а мы, лишенные зарубежной поддержки, со временем можем утерять нынешнее прочное положение. Большевики собираются овладеть крестьянством, главной нашей опорой, и если им это удастся, то нам придется туго. И еще скажу, кое-кто из руководителей проявляет инертность, нужна хорошая встряска и обнадеживающая рука.
Рейли задал генералу несколько вопросов об «окне» на границе. Генерал ответил твердо и уверенно, что оно находится под контролем «Треста», равно как и проезд от Ленинграда до Москвы. Он полез в нагрудный карман и вытащил бумагу с гербовыми печатями, положил перед Бунаковым и Рейли. Это было предписание военному специалисту, разрешающее ездить в отдельном купе с подчиненными, поскольку он имеет при себе секретные документы и военное имущество. Документ стал последней каплей…
Рейли отправил через Бунакова последнее письмо жене: «Я уезжаю сегодня вечером и возвращусь во вторник утром. Никакого риска…»
Финская разведка обеспечила Рейли переход границы со своей стороны, ее представители 25 сентября встретили его на станции Куоккала. В половине двенадцатого ночи они направились к Сестре-реке. До самой границы Рейли сопровождала Мария Захарченко-Шульц. На советской стороне Рейли встретил сам начальник советской погранзаставы Тойво Вяхя, следовательно, никаких «красных патрулей» нарушителям опасаться не приходилось. Тот же Вяхя довел Рейли до станции Парголово и посадил на поезд, следующий в Ленинград. В поезде Рейли уже ожидали Якушев и чекист Щукин. В Ленинграде Рейли провел на квартире Щукина целый день. Здесь он встретился с «оппозиционно настроенным московским рабочим, депутатом Моссовета», роль которого отлично сыграл Стырне, и настоящим монархистом, эмиссаром Врангеля — Мукаловым.
Вечером 26 сентября Рейли, Якушев и Мукалов в международном вагоне выехали в Москву. Несколько раньше отбыл в столицу и Стырне. На вокзале Рейли встретила группа чекистов и отвезла на дачу в Малаховку, где было инсценировано заседание «Политического совета» организации.
Артузов в своем кабинете не отходил от телефона. Каждые несколько минут ему сообщали о развитии операции.
На даче начали с хорошего обеда, потом перешли к делам. Рейли был вполне удовлетворен тем, что услышал от «руководителей организации». В свою очередь информировал их о положении на Западе. Якушев поставил вопрос о финансовой помощи «Тресту». Рейли возразил. Предложил свой план добычи денег, более надежный, чем субсидии западных правительств и Торгпрома.
— В России имеются громадные художественные ценности, в первую очередь творения знаменитых мастеров прошлого. Изъять их из плохо охраняемых советских музеев не представляет никаких трудностей. Я могу организовать их переправку за границу и сбыт. Мы получим громадные суммы.
Даже все видавшие чекисты были поражены таким цинизмом. Между тем, увлеченный своим планом, Рейли уже набрасывал памятную записку, точнее, инструкцию с указанием, что следует воровать:
«1. Офорты знаменитых голландских и французских мастеров, прежде всего Рембрандта.
2. Гравюры французских и английских мастеров XVIII века с необрезанными краями. Миниатюры XVIII века и начала XIX века.
3. Монеты античные, золотые, четкой чеканки.
4. Итальянские и фламандские примитивы.
5. Шедевры великих мастеров голландской, испанской, итальянской школ».
Заседание окончилось. Вечерним поездом Рейли должен был выехать в Ленинград, чтобы следующей ночью перейти границу.
По плану Рейли должен был быть арестован в машине по дороге в Москву. Неожиданно он изъявил желание написать своим заграничным друзьям открытку и собственноручно опустить ее в почтовый ящик. Это ему было нужно для того, чтобы иметь потом документальное подтверждение, что он действительно побывал в Москве!
Прекрасная идея, она была весьма на руку чекистам. В план операция тут же вносится поправка: Рейли следует арестовать сразу после того, как он опустит открытку в ящик.
…Артузов опускает трубку на рычаг. Что ж, с учетом не слишком хорошей дороги от Малаховки до Москвы прибытия господина Сиднея Джорджа Рейли на Лубянку следует ожидать самое большее через час.
В тот же вечер в Ленинград выехал Сергей Васильевич Пузицкий. Следующей ночью он инсценировал на границе перестрелку.
Это дало возможность впоследствии сообщить через газеты, что при попытке перейти границу у деревни Ала-Кюль в столкновении с советскими пограничниками случайно убит в завязавшейся перестрелке Сидней Рейли. Еще одна выдержка из лекции А. X. Артузова: «Перед нами стояла дилемма: задержать Рейли или выпустить его в интересах дальнейшей игры? Самые веские доводы говорили за то, чтобы отдать Рейли в руки советского правосудия. Один из таких доводов — активно-опасная тактика, избранная Рейли. Им была написана программа о революционной тактике, в основу которой положен террор народовольцев. Эту тактику мы считали опасной. Решили Рейли не выпускать за границу.
Рейли привезли в Москву. Встреча была инсценирована на подмосковной даче, которая охранялась не только «часовыми», но и собаками. Это Рейли подметил и еще раз убедился в том, что «Трест» процветает, а процветает потому, что наладил хорошую конспирацию и охрану руководства.
На состоявшемся совещании Рейли рассказал не только о своих планах, но и о позиции англичан, заверяя, что, по его убеждению, в ближайшие два года не предвидится интервенции со стороны западных держав. После того как Рейли выговорился, мы повезли его в Москву, и но «ошибке» автомобиль въехал во двор ОГПУ.
Рейли уже не опасен. Как вести дело дальше? Может, на этом и поставить победную точку? Сказать миру, что Рейли за решеткой? За границей тут же начнется вой и визг о «зверствах» ЧК. Признание, что Рейли арестован, еще больше насторожит противника, заставит его еще глубже законспирироваться, обострит его контрразведку.
Где же новая счастливая мысль? И она пришла. А что, если Рейли «убить» в перестрелке во время очередного перехода границы? Роковой случай. Понадобится двойник Рейли, человек в одежде Рейли. Такого подобрать не трудно. Разыграть «бой» на самой границе, всполошить финских пограничников: пусть смотрят на мертвого Рейли.
А что делать с Вяхя? Он отменно сыграл свою роль. Что же дальше? Оставить на заставе? Это слишком. Его могут убить с той стороны. Перевести в другое место? Но это же только полумера. Противник сразу поймет, какую роль играл Вяхя. «Убийство» Рейли требовало осуществить и другой шаг — тонко вывести из игры Вяхя. Логика действия и конспирации диктовала нам поступить именно так, иначе противник будет с подозрением относиться к каждому «окну». Вяхя должен быть арестован, и арестован не путем инспирации, обозначения, а так, как арестовывают заклятого врага. Это конечно же жестоко по отношению к честному и преданному командиру, но другого выхода нет. Да, с него будут на глазах товарищей сорваны зеленые петлицы, снята с буденовки пятиконечная звезда. Ни у кого не будет и тени сомнения: так поступают с предателями. Это был стержень плана. Его предстояло тонко осуществить».
Встревоженная отсутствием известий о муже, Пепита Бобадилья послала в выборгский отель телеграмму с запросом. Ей ответили, что он в отеле не появлялся ни в назначенный день, ни на следующий. Тогда она сама приехала в Выборг, но узнала только то, что видели финские пограничники: о непонятной перестрелке на границе в ту ночь, когда Рейли должен был вернуться…
Обратимся еще раз к лекции А. X. Артузова: «Английской разведке и Бунакову пришел достоверный ответ на вопрос: что с Рейли? Для них предельно ясно — Рейли был в Москве. Свидетельство тому — его открытки, отправленные из СССР. Эксперты тщательно исследовали их и убедились: да, открытки написаны рукой Рейли. Стиль письма его. Почтовые штампы в порядке. Нет ни малейшего подозрения, что открытка написана под диктовку ЧК.
Нам надо было создать видимость, что Рейли благополучно прибыл в Москву, ознакомился с «Трестом» и возвращался в Финляндию. И только чистая случайность (а случайность не предусмотришь ни в одной борьбе) — встреча с советскими пограничниками помешала ему прорваться в Финляндию. Рейли убит, а «Трест» продолжает здравствовать.
Придерживаясь этой версии, мы организовали с помощью начальника заставы Вяхя-Петрова перестрелку на границе, которая всполошила финских пограничников, и они могли в отдалении наблюдать «бой».
…Факт гибели Рейли расследовали Захарченко-Шульц и ее муж. Они опросили финских пограничников, местных жителей, которые подтвердили, что слышали перестрелку на русской стороне и видели, как трупы погрузили на телегу. Захарченко-Шульц ничего другого не оставалось, как зафиксировать случайную смерть Рейли.
«Трест» направил Бунакову и Захарченко извещение о гибели Рейли, сделав весьма важную ссылку, что провал перехода границы — некая фатальность и в этом «Трест» не виноват.
С достоверностью узнали те, кому следовало, о расстреле за измену двадцатичетырехлетнего командира-пограничника Тойво Вяхя. Он перестал существовать. Но через некоторое время на одной из южных застав появился молодой командир с орденом Красного Знамени на гимнастерке. Звали его Иван Михайлович Петров…
Первые дни Рейли держался твердо, хотя сразу понял, что «Трест» — мистификация ОГПУ. Он, однако, надеялся, что в его судьбу вмешаются Сикрет Интеллидженс сервис, британское правительство. И тогда ему показали газеты, не только советские, но и лондонские, подлинность которых для Рейли установить не составляло никакого труда. Он прочитал сообщение о собственной гибели. Следовательно, никто не будет заниматься его спасением. Ему оставалось только одно — давать показания. И он их давал…
Из протокола допроса Рейли 13 октября 1925 года: «Охотно признаю, что практика моей семилетней борьбы против Советской власти, а в особенности моя последняя попытка, доказали мне, что все те методы, которые применялись и мною и моими единомышленниками, не привели к цели и поэтому в корне были нецелесообразны».
Из письма С. Д. Рейли к помощнику начальника КРО В. А. Стырне от 17 октября 1925 года: «Мой последний опыт с «Трестом» до конца убедил меня в бесполезности и нецелесообразности искания какой бы то ни было опоры для антисоветской борьбы как в русских, так и в эмиграционных организациях. Во мне сложилось довольно сильное впечатление о прочности Советской власти. Поэтому мне приходится смотреть на всю интервенционную политику (какого бы то ни было рода) как на нецелесообразную…»
Начальник КРО Артузов принимал участие в допросах Рейли. При этом его интересовали не только факты, но и взгляды, мысли, чувства побежденного врага.
Рейли. Да, вы победили… Вековая наша методика дала трещину.
Артузов. Верили, потому и победили. За нами — правда, сама история. Вам кажется, что мы поступили нелогично. Вам кажется, что каждый ваш шаг был выверен методикой самой старой и самой опытной английской разведки. А мы разрушили вашу логику, заставили вас следовать логике поведения, продиктованной нами. Ваша логика капитулировала. Мы знаем симптомы вашей болезни и соответственно подобрали нужные лекарства, чтобы обезвредить вас как врага.
Рейли. Позвольте вам напомнить, господин Артузов, изречение — «Наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются».
Артузов. Ваша ошибка не в методике действий, а в главном: подняли руку на свободный народ, который не хочет, чтобы на его шею сели такие, как вы. Новое — неодолимо. Рано или поздно, но вы потерпели бы поражение. Время работает уже на нас, и одно это дает нам дополнительное оружие.
Рейли. Вы сложны и малопонятны. Одно мне ясно, вы хитры.
Артузов. Разве дело в хитрости? Хитрость — признак слабости характера, собственно говоря, это выгадывание за счет другого. Мы в таком качестве не заинтересованы. Это в вашем мире хитрость является нормой. Без хитрости, надувательства в вашем обществе не проживешь.
Рейли. Значит, вы против хитрости?
Артузов. В принципе — да. Хитрости предпочитаю гибкость ума.
Рейли. Вы оказались сильнее меня, а точнее — нас. Занавес моей драмы упал. Выходит, конец. И все же в моем сердце теплится крохотная надежда. Помнится, в России справляли всегда прощеное воскресенье. Из дома в дом ходили друг к другу, просили прощения за обиды. В ноги бухались. Может, и мне это сделать? Надежда — единственный в мире свет…
Артузов. Не поможет. Вы уже были осуждены однажды. Теперь только вышестоящий суд может пересмотреть приговор.
…Рейли не верит. Чтобы спасти свою жизнь, он уже готов на все. 30 октября он пишет заявление: «Председателю ОГПУ Ф. Э. Дзержинскому.
После происшедших с В. А. Стырне разговоров я выражаю свое согласие дать Вам вполне откровенные показания и сведения по вопросам, интересующим ОГПУ, относительно организации и состава великобританских разведок и, поскольку мне известно, такие же сведения относительно американской разведки, а также тех лиц в русской эмиграции, с которыми мне пришлось иметь дело».
И Рейли предает своих хозяев. Он рассказывает Стырне, основному своему следователю, все, что знает — а знает он много — об английской разведке.
Высшие судебные инстанции страны не сочли возможным отменить приговор Верховного революционного трибунала Советской России от 3 декабря 1918 года, по отношению к Сиднею Джорджу Рейли. 5 ноября 1925 года он был приведен в исполнение…
Завершена операция. Кажется — все. Но это только кажется. А по сути операция — только этап. От нее остаются нити, которые следует тянуть дальше, вить новые хитроумные оболочки, раскручивать самые тонкие спирали и, таким образом, добираться до глубины.
«Боюсь одного: выдержит ли моя психика ту огромную нагрузку, которая пала на мои плечи по праву большевика? Должен же быть какой-то защитный панцирь в той изнурительной борьбе, которую приходится вести ежедневно? Впрочем, это некое созерцание. Нет, я не живу своей заботой, заботой о себе. По-прежнему меня одолевает беспокойная порывистость и вместе с тем отчетливость и определенность в линии жизни. По-прежнему чувствую себя громоотводом, притягивающим молнии беспокойного мира.
В нашем деле нельзя и бесполезно идти напролом. Вот и приходится неотступно думать (тут я ловлю себя на мысли: не есть ли неотступное думание то, что мы называем творчеством?), чтобы предпринять какой-то отвлекающий маневр, осуществить тонко рассчитанную комбинацию, порой длящуюся многие годы, как сберечь от провала того, кого посылаю «туда» на беспощадное и безоговорочное одиночество».
(Из дневникового «созерцания» А. X. Артузова)Последнее слово атамана Анненкова
«…Анненков Борис Владимирович, 37 лет, бывший генерал-майор, происходящий из потомственных дворян Новгородской губернии, бывший командующий отдельной Семиреченской армией, холост, беспартийный, окончивший Одесский кадетский корпус в 1906 году и Московское Александровское училище в 1908 году;
Денисов Николай Александрович, 36 лет, бывший генерал-майор, происходящий из мещан Кинешемского уезда, Клеванцовской волости, Иваново-Вознесенской губернии, бывший начальник штаба отдельной Семиреченской армии, холост, беспартийный, окончивший Петербургское Владимирское училище и ускоренные курсы академии Генштаба,
обвиняются:
первый, Анненков, в том, что с момента Октябрьской революции, находясь во главе организованных им вооруженных отрядов, систематически с 1917 по 1920 год вел вооруженную борьбу с Советской властью в целях свержения ее, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 2 Положения о государственных преступлениях… в том, что с момента Октябрьской революции, находясь во главе организованных им вооруженных отрядов, в тех же целях систематически, на всем протяжении своего похода, совершал массовое физическое уничтожение представителей Советской власти, деятелей рабоче-крестьянских организаций, отдельных граждан и вооруженной силой своего отряда подавлял восстания рабочих и крестьян, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 8 Положения о государственных преступлениях;
второй, Денисов, в том, что, находясь во время гражданской войны на начальствующих должностях в белых армиях и отрядах и будучи начальником штаба отдельной Семиреченской армии и карательных отрядов Анненкова, систематически…» — те же обвинения, те же статьи.
(Из обвинительного заключения Суда Военной коллегии по делу атамана Анненкова, объявленного на процессе 12 июля 1927 года)* * *
Заснеженная солончаковая степь стонала от движущейся конницы. На рысях шли полки, точнее, остатки полков. Из-под конских копыт в разные стороны летели комья мокрой хляби. Позади оставался черный след, который не могла скрыть зима. Он не зарастет травой и летом. Это был поистине черный след, замешанный на людской крови.
Впереди, в трех-четырех верстах шел казачий разъезд — авангард. Казаки то и дело привставали на стременах, оглядывали степь и, убедившись, что она безлюдна, красной засады не видать, двигались дальше. За авангардом шла охранная сотня командующего, а за ней полки с наспех набранными крестьянскими парнями, формирования басмачей, замыкал все это шествие самый надежный полк командующего — Оренбургский, состоявший из богатых казаков.
Кого только не было в этой разношерстной орде — казаки сибирские и семиреченские, казахи, дунгане, уйгуры, китайцы, нукеры из басмаческих банд. Среди этого сброда важно восседали на сытых конях муллы. Такое вавилонское столпотворение определенным образом способствовало укреплению положения атамана. Возникала нужда — китайцы расстреливали русских, дунгане — китайцев. Террор был опорой дисциплины и средством утверждения покорности.
Вся эта конная лавина катила волей командующего отдельной Семиреченской армией атамана Анненкова. Под ним ходко шел резвый, с тонкими ногами вороной жеребец. Чтобы поспеть за таким конем, казакам приходилось то и дело нахлестывать нагайками, плетьми, камчами своих уставших лошадей.
Конная ватага, уже не державшая твердый строй, оставлявшая за собой выжженные села, сотни и тысячи ограбленных, изнасилованных, убитых, спешила к Джунгарским Воротам, к тому заветному проходу шириной в десяток километров между Джунгарским Алатау и горной грядой Барлык, который открывал путь к спасению.
В пору бы подкрепиться чорбой или зеленым чаем. Да и кони устали. Они несли на себе не только всадников, но и притороченные к седлам тяжелые баулы, чувалы, просто тюки, набитые вовсе не излюбленным конским кормом — овсом, а туго скатанными коврами, кожами, мехами, золотыми и серебряными окладами, содранными с икон, одеждой со следами крови.
«При позорном своем бегстве в Китай, — впоследствии вспоминал преследовавший остатки аннеиковской армии военком полка В. Довбня, — Анненков оставил за собой широкий и длинный кровавый след. На протяжении более двухсот верст, от села Глинского по берегам озер Ала-Куля и Джалапаш-Куля вплоть до Джунгарских Ворот… дорога была усеяна трупами…»
А атаман все подгонял и подгонял своего коня, не думая о привале. Для него каждая минута была дорога. Он понимал: сделай привал в открытой степи, можно и не поднять изрядно уставших казаков и солдат. А не поднимешь — и настигнут преследовавшие его по пятам красные войска. Эти соображения требовали дать команду на отдых только у самых Джунгарских Ворот, на границе с китайским Синьцзяном.
Еще издали атаман заметил спешившийся передовой разъезд. «Неужели достигли Джунгарских Ворот?» Отсюда до Китая — рукой подать. Навстречу Анненкову скакал казак. Осадив коня, доложил:
— Господин генерал! Вот они, Джунгарские Ворота! — И, повернувшись в сторону виднеющихся гор, обзорно провел рукой, как бы показывая: вон они, эти ворота.
— Добро, брат! Спасибо за службу! — отрывисто бросил Анненков.
В обычных разговорах казаки называли его атаманом и братом-атаманом. Но в строю другое дело, здесь для них он был генералом. И сам Анненков, как только Колчак присвоил ему это звание, требовал, чтобы в официальной обстановке его величали генералом, считая, что это слово дисциплинирует людей. Тем не менее, чтобы приблизить к себе казаков, Анненков ввел в обиход своей армии слово «брат», оно больше импонировало казакам, нежели «господин».
Анненков подал знак на привал — роздых для людей и коней. Всадники остановились, начали спешно расседлывать и стреноживать взмыленных, тяжело дышащих, с впалыми боками лошадей. Они тотчас же потянулись к торчащим из-под снега жестким былинкам. Казаки раскладывали брынзу, копченую свинину, бочонки с топленым маслом. Из обоза казахского отряда «Алаш-орды» пришли два басмача, облюбовали загнанного, дрожащего от усталости коня, моментально длинным ножом с узким лезвием перехватили горло, стали свежевать. Отрезав солидный кусок мяса, потащили его к богатой, наспех сооружаемой юрте.
Перед Анненковым кто-то услужливо расстелил плотную попону из верблюжьей шерсти. Отцепив шашку, отделанную серебром и самоцветными камнями, он лег на попону, вытянув затекшие от долгой езды ноги, смежил глаза. Так пролежал несколько минут. Потом привстал, оглядел казачий лагерь, кого-то поманил пальцем. К нему торопливо подошел начальник штаба Денисов, почтительно наклонился, ожидая распоряжений.
Тот подал знак, чтобы охранявшие его покой казаки отошли в сторону и не могли слышать разговор атамана с начштаба.
— Буду держать совет, — приглушенно заговорил Анненков. Денисов опустился перед ним на корточки.
— Такая армия в Китае нам ни к чему. Граница надвое разделит мою армию. Слишком много горючего материала мы с тобой везем в чужую страну. Вчерашние крестьяне захотят домой. Настала пора размежеваться. Те, кто не с нами, должны остаться на этой земле.
Слово «остаться» Анненков произнес с каким-то нажимом, явно придавая ему особое значение.
— Что будем делать? — вопросительно поднял глаза Анненков на своего начальника штаба.
— Я буду говорить с казаками, а ты тем временем отправляйся в Оренбургский полк, потолкуй кое с кем, укажи диспозицию пулеметчикам…
Денисов отчетливо понял, что необходимо сделать и почему выбор атамана пал на оренбуржцев. На совести этого полка кровь не сотен, а тысяч коммунистов, советских работников, сочувствующих Советской власти и просто бедняков. Опьяненные кровью анненковские головорезы истребляли всех, кто попадал им под горячую руку. Надписи на вагонах, орудийных лафетах призывали: «Руби направо и налево!» Они как бы узаконивали жесточайший террор. Анненкова повсюду сопровождал «вагон смерти». Кто в него попадал, живым оттуда не выходил. Самые жестокие, самые зверские карательные акции колчаковское правительство поручало Анненкову. Это он по распоряжению военного министра омского правительства Иванова-Ринова зарубил 87 делегатов крестьянского съезда Славгородского уезда. Это он дотла сжег село Черный Дол, поднявшее восстание против Колчака. Это по его приказу головорезы ворвались в непокорное село Черкасское и с ходу уничтожили две тысячи человек.
В Усть-Каменогорске Анненков отобрал из заключенных в крепости тридцать партийных и советских работников и вывез в Семипалатинск. Все они были выведены к проруби на Иртыше и утоплены. В районе Семипалатинска солдаты бригады генерала Ярушина отказались выступить против крестьян, осмелившихся взяться за оружие, чтобы защитить себя. Анненковский полк разоружил бригаду, солдат вывели в камышовые заросли. Все они были расстреляны…
Джунгарские Ворота — это почти всегда ветер. Зимой свирепый и пронизывающий. Люди Анненкова мерзли, пытаясь укрыться за конями. Надо бы разжечь костры, но где взять хотя бы хворост? В душе они кляли брата-атамана за то, что сделал привал. Китай-то рядом, как-нибудь уж добрались бы до этого места, конечного пункта похода. Кое-кто открыто призывал повернуть назад, разве можно родину покидать, неужто мы нехристи, да и кто нас ждет в Китае? И тут раздался сигнал сбора.
Перед сгрудившимися казаками предстал сам атаман-брат. Его речь была недолгой. Хорошо поставленным голосом с оттенком напущенной грусти он сказал:
— Славные бойцы! Два с половиной года мы с вами дрались против большевиков… Теперь мы уходим… вот в эти неприступные горы и будем жить в них до тех пор, пока вновь не настанет время действовать… Слабым духом и здоровьем там не место. Кто хочет остаться у большевиков, пусть остается. Не бойтесь ничего и ждите нашего возвращения. От нас же, кто пойдет с нами, возврата не будет. Думайте и решайте теперь же!
От этих слов одни казаки ожили, приосанились, подтянулись поближе к атаману, давая ему понять, что готовы за ним хоть в огонь, хоть в воду. Это были главным образом те, кому все дороги назад были отрезаны. Другие тоже радовались: атаман-брат отпускает их без обиды домой. Словно чуя недоброе и в надежде предотвратить его, спешили уверить Анненкова:
— Не суди нас, атаман-брат, что мы уйдем от тебя. Но мы клянемся тебе, что не встанем в ряды врагов твоих!
Те, кто собрался домой, один за другим подходили к восседавшему на коне атаману-брату и на прощанье целовали стремя. Что делать с винтовками? Они теперь не нужны. Атаман приказал освободить первую же попавшуюся на глаза повозку: «Складывайте в нее, может, нам еще пригодятся».
И вот уже длинная цепочка конников потянулась в обратный путь. Но дошли они только до ближайшего небольшого ущелья. Все, кто ушел от Анненкова, полегли здесь…
За узкой полоской затуманенного зимнего горизонта — Китай. Виднелись дымки над фанзами. Там — укрытие и надежда. Анненков хотел въехать в Китай как сила организованная, способная на многое. Казаки лихо заломили папахи, подтянули подпруги, обтерли запорошенных коней, стряхнув снег с башлыков, сели в седла.
— Развернуть знамя! — приказал Анненков.
Знаменщики вынули из чехла штандарт, натянули на древко. На ветру вяло затрепетало изрядно помятое черное полотнище со зловещей эмблемой Отдельной Семиречен-ской армии — черепом со скрещенными костями и словами: «С нами Бог!»
Под этим знаменем и въехали анненковцы в первую китайскую деревню. Их, разумеется, никто не встречал. Напуганные таким нашествием, китайцы, прослышанные о зверствах в Семиречье, укрылись в фанзах. В разные стороны из-под конских копыт разбегались куры. Только один индийский петух, подняв ногу, замер на месте, разглядывая круглым глазом странных пришельцев. Их путь лежал дальше, в синьцзянский пограничный город Урумчи.
* * *
Вячеслав Рудольфович уже давно должен был быть на месте. Значит, его задержало что-то важное — так размышлял Артузов, вглядываясь в темную августовскую ночь. Он подошел к столу, перевернул листок перекидного календаря. «Ого! Уже тридцатое число!» — удивился Артур Христианович. Выходит, конец лету. Он сел на стул, чуть поддернув хорошо отглаженные брюки, придвинул кипу бумаг. Выбрал несколько листков, начал читать. Это были протоколы судебного заседания по делу Савинкова. Он живо представил его, невысокого, лысоватого, с маленькими пронзительными глазами, хорошо владеющего словом.
Поздний час давал о себе знать, особенно если учесть, что и прошлые ночи были заполнены напряженной работой. Он прикрыл воспаленные веки и на какое-то мгновение забылся. Очнулся от скрипа двери… Вошел Трилиссер — один из старейших в ОГПУ членов партии, начальник смежного отдела.
— Опять засиделся до тумана…
— Покой усыпляет… Присаживайтесь, Михаил Абрамович.
— Вячеслав Рудольфович не звонил?
— Нет, жду. Сказал, что приедет обязательно.
Трилиссер вытащил из жилетного кармашка часы, поднес их к уху, убедившись, что они идут, неопределенно произнес:
— Неужто второй? Значит, в это время пробил последний час Савинкова?
— Да, как политическая фигура он канул в Лету. Вот перечитываю эти протоколы и думаю: не было у него главного — настоящей веры. Значит, не быдо и силы.
— Кто на очереди? Не Анненков ли?
— Угадали.
— Чем он, по вашим данным, занимается?
— По моим данным, поселился со своими казаками и начальником штаба Денисовым верстах в пятидесяти от Ланьчжоу. Разводит чистопородных лошадей. Мирное занятие.
Трилиссер хмыкнул недоверчиво. Меж тем Артузов продолжал размышлять вслух о человеке, с недавних пор изрядно занимавшем его мысли.
— Конечно, атаман не Савинков, в одиночку или с группой границу переходить не будет. Ему армия нужна. Ход Савинкова он не повторит… Но в конезаводчиках Анненков не засидится…
За этим разговором постепенно, как бы исподволь рождались мысли, намечался замысел новой операции, хотя один, первый шаг уже был предпринят, и он был удачен для Менжинского и Артузова.
— Боюсь, вы правы, — задумчиво сказал Трилиссер, — если Анненков убежден, что рожден для роли повелителя, реваншизм в нем неминуемо возобладает. Выходит, лошадок своих не для ипподрома растит атаман…
— Однако, — счел нужным заметить Артур Христианович, — люди, подобные Анненкову, как правило, превращаются в нуль, если не получают помощи извне. Я убежден, что рано или поздно Анненков обратится к японцам, великому князю Николаю Николаевичу, к черту-дьяволу, к кому угодно, лишь бы найти опору для своей новой авантюры. А найдя ее, он для нас станет вдвойне опасным. Это страшный человек, он пьянеет от крови. Вот почему я неотступно думаю о нем. Как и какой ключик подобрать к атаману?
— Похвально, Артур Христианович. От вас же слышал: неотступное думанье — непременный элемент творчества.
— Это вполне очевидно.
— Что ж, согласен думать вместе с вами…
Однажды Артузов уже занимался Анненковым. Затем на время нужда в таком внимании отпала. Вторично Артузов стал думать о нем после того, как атаман был выпущен из китайского зиндана. Это случилось в феврале 1924 года. Китайские власти упрятали туда Анненкова дочти на три года. После перехода границы в районе Джунгарских Ворот генерал с несколькими тысячами солдат и казаков расположился лагерем на реке Боро-Тала. Китайские власти попытались подтолкнуть Анненкова в объятия атамана Семенова, предложив ему передислоцироваться на китайский Дальний Восток. При этом они учитывали и беспокойное, а точнее, разбойное поведение анненковцев. Последние все чаще и чаще совершали грабежи и набеги на китайские селения. Губернатор, получив отказ Анненкова передислоцироваться, потребовал разоружения казаков. Анненков отклонил и это требование. Тогда-то его и упрятали в тюрьму. Кроме губернатора к этому аресту некоторое отношение имели… Менжинский и Артузов.
Анненков сидел в тюрьме. Казалось бы, он уже не опасен. Но… к Артузову попадает копия записки, направленной атаманом из зиндана японским властям. В ней говорилось: «Убедительно прошу Вас, представителя Великой Японской империи, дружественной по духу моему прошлому императорскому правительству, верноподданным коего я себя считаю до настоящего времени, возбудить ходатайство о моем освобождении из Синьцзянской тюрьмы и пропустить на Дальний Восток. Честью русского офицера, которая мне так дорога, я обязуюсь компенсировать Японии свою благодарность за мое освобождение».
Артузов понял, что Анненков не только не смирился, но явно пытается продать себя японской реакции и что на это письмо японские представители откликнутся незамедлительно, добьются его освобождения. Так и случилось. Анненков вышел на свободу. В городе Турфан атамана встретил Денисов, и они верхом отправились в город Ланьчжоу, в окрестностях которого и была создана пресловутая конеферма — явно для прикрытия. Анненков не торопился включиться в политическую борьбу. Ему нужно было время, чтобы присмотреться, сориентироваться в расстановке сил, определиться, за кем пойти, кому служить.
Артузов внимательно следил за действиями Анненкова и его окружения, рассматривая его как опасного потенциального врага.
…Вячеслав Рудольфович приехал только около двух часов ночи. Тут же позвонил Артузову.
— Заходите ко мне, заодно пригласите Трилиссера.
Менжинский умел читать по лицам людей их мысли. Когда Артузов и Трилиссер вошли в кабинет, то первым делом Менжинский окинул их изучающим взглядом и сразу определил, что между ними состоялся какой-то серьезный разговор. Но расспрашивать об этом не стал, зная, что они сами поделятся своими мыслями, начал со свежей информации.
— Только в час пятнадцать огласили приговор. В душе просил суд не выносить Савинкову высшей меры наказания. Но она, конечно, вынесена.
— Судью, равно как хирурга, уговаривать запрещено, — заметил Артузов, — не так ли, Вячеслав Рудольфович?
— Оно, конечно, так. Для нас важнее политическая смерть Савинкова. А она для него уже настала. Вот копия приговора, ознакомьтесь.
Артур Христианович негромко, повернувшись к Трилиссеру, прочитал приговор коллегии. Удовлетворенно кивнул головой, когда дошел до того места, когда суд счел возможным ходатайствовать перед Президиумом ЦИК СССР о смягчении наказания.
Принимая от Артузова прочитанные им листки, Менжинский отметил:
— Это для нас чрезвычайно важно: один из самых непримиримых и активнейших наших врагов сложил оружие, безоговорочно признал Советскую власть, и не только признал, но и призвал своих бывших соратников также сложить оружие.
Размышляя над этими словами Менжинского, Артузов все больше склонялся к мысли, что такой же, как у Савинкова, конец должен быть и у Анненкова. Его политическая смерть — вот что может стать единственной победной точкой в борьбе с ним.
Находясь в тюрьме, Савинков писал письма бывшим своим соратникам. Конечно же Артузова интересовало их содержание. В них прослеживалась эволюция взглядов Савинкова. «Я убежден, что не сегодня, так завтра все бескорыстные и честные эмигранты, и вы в том числе, поймут, что жизнь повелевает признать Советскую власть и работать совместно с нею», — так он убеждал бывшего своего соратника Пасманика. — А не поймете, так останетесь доживать свои дни в изгнании, питаясь «Последними новостями» и ненавидя коммунистов прежде всего за свои, а не их ошибки».
Вот и другое характерное письмо бывшему эсеру Фундаминскому: «В России выросло новое поколение, в сущности, именно оно и сделало революцию… Оно не допустит возврата к старому строю в каком бы то ни было виде… Вот это надо запомнить и перестать мечтать о «спасении» России, да еще при помощи иностранцев… т. е. при помощи штыков и денег…». Эту же мысль проводит Савинков и в письме к сестре Вере: «…А правда… в том, что не большевики, а русский народ выбросил нас за границу, что мы боролись не против большевиков, а против народа… Когда-нибудь ты это поймешь, поймут Виктор и Соня (брат и сестра Савинкова. — Авт.), поймут даже эмигрантские «вожди»…»
Размышляя над этими письмами, Артузов проводил параллель между Савинковым и Анненковым. Они одного поля ягоды. Савинков был человеком ненасытного честолюбия. Честолюбие характерно и для атамана. Оно будет постоянно толкать его на новые авантюры, коварные и опасные.
* * *
По кругу на аркане бегала резвая лошадка с заплетенной гривой. Вспотевший от натуги тщедушный казачок, пощелкивая бичом, то и дело погонял ее. Это был один из шести казаков, которые добровольно еще оставались при атамане. Остальные — попросту разбежались, почувствовав, что с атаманом больше каши не сваришь. Во всяком случае, пока не появятся у атамана могущественные, а главное — денежные покровители.
Сам атаман, облачившись в генеральскую форму, сидел в плетеном кресле и молча наблюдал за тренингом. Рядом примостился Денисов. Зная слабость Анненкова к лошадям, он рассчитывал во время тренинга улучить момент, чтобы заговорить с атаманом о его дальнейших планах. Неопределенность Анненкова раздражала Денисова: «Неужели так и закончим жизнь на этой конюшне?» — Борис Владимирович, наши единомышленники не дремлют, готовятся. А Семенов вот-вот поход начнет, — начал издалека разговор Денисов. — Выходит, только мы с вами сложили оружие. Да стоит нам нацепить только шашки, как это заметит жена французского посланника мадам Флерио, и денежки сами потекут к нам.
Анненков, продолжая сосредоточенно наблюдать за действиями казака, полез в карман и вытащил сложенную газету.
— Прочти подчеркнутое…
Денисов неохотно взял в руки газету. Это был хорошо ему известный белоэмигрантский листок «Возрождение». Нашел отчеркнутые атаманом строки, прочел вслух: «Мы отступили. Но мы не сдались. Мы залегли в окопы «беженского существования» и ждем».
— Понимаешь — «ждем», — с нажимом повторил за ним Анненков.
— Чего ждем?
— Своего часа.
Забрав газету из рук Денисова, атаман неожиданно спросил:
— Ты в тюрьме когда-нибудь сидел?
— Нет, Борис Владимирович.
— То-то. Слишком ретивых в зиндан прячут. Нет, я не трус. Но, возможно, покажусь тебе трусом, если прочтешь одну конфиденциальную бумагу.
Анненков вынул из нагрудного кармана вчетверо сложенный лист бумаги, протянул Денисову:
— Ознакомься…
Чем больше углублялся в чтение Денисов, тем свирепее становилось его лицо.
— Да за это шашкой, шашкой… — еле сдержав себя, выдавил бывший начальник штаба.
— Осади коня! — крикнул казаку атаман, словно не замечая реакции своего ближайшего сподвижника.
Казак остановил тяжело дышавшую кобылку, быстро обтер попоной лоснящийся от пота круп лошади, потрепал ее ладонью по морде и повел на конюшню.
— Значит, разуверился во мне? — укоризненно спросил Анненков.
— А вы как полагаете? — уклончиво буркнул Денисов.
— Ты бы подписал такую бумагу?
— Даже под пыткой не подписал бы…
— Еще как бы подписал.
Денисов был в недоумении. Что случилось с атаманом, почему отказывается от борьбы, почему кается в грехах, ведь совершал святое дело, лил большевистскую кровь?..
— Значит, ты решил, что я предатель, — продолжал разговор атаман. — Запомни: плохой анализ разрушает все, а ты, я вижу, плохой аналитик, хоть и учился в Генштабе. Позволь задать тебе один только вопрос: где мы находимся?
— Как где? В Китае, в Ланьчжоу…
— Кто хозяин этого края?
— Фэн Юйсян.
— Кто он такой?
— Маршал, командующий Первой народно-революционной армией.
— Вот видишь, командующий. Если мы публично хоть раз тявкнем против Советов, он нас с тобой скрутит в бараний рог. На время надо затаиться, выждать. Будем жить тихо, заниматься лошадками. Я даже присмотрел коняшку в подарок маршалу. Про нас забудут. Но ты же знаешь, что наши единомышленники нас не забывают. Они наведываются.
Анненков подразумевал переписку и курьеров шанхайской монархической организации НН. Под этими буквами скрывался сам великий князь Николай Николаевич, живший в предместье Парижа Шуаньи и мечтавший возвратиться в Россию в качестве императора. Атаман был также связан с «Богоявленским братством», во главе которого стоял его бывший подчиненный полковой врач Д. И. Казаков.
— Вот что, друг, считай, что это письмо конспиративное, — решительно заключил беседу Анненков. — Нелишне тебе напомнить слова Наполеона, военное искусство которого я почитаю: «Шпионы вездесущи». Если это письмо попадет в чужие руки, оно станет моим алиби, понял?
Письмо, столь взволновавшее Денисова, вместе с двумя другими посланиями Анненков передал бывшему начальнику своей личной охраны Ф. К. Черкашину, который пробрался к нему под видом скупщика пушнины для английской фирмы.
Черкашин привез Анненкову письмо от М. А. Михайлова, начальника штаба русской белогвардейской группы при армии генерала Чжан Цзолина. Михайлов, бывший начальник штаба 5-й Сибирской колчаковской дивизии, предлагал атаману вспомнить прежние времена, собрать отряд, встать на сторону Чжана и начать борьбу против СССР.
Обдумав это предложение, а также предложения, вытекающие из переписки с шанхайской группой, Анненков и написал три письма. Вот что сообщал атаман Михайлову: «Сбор партизан и их организация — моя заветная мечта, которая в течение пяти лет не покидала меня… И я с большим удовольствием возьмусь за ее выполнение… Судя по многочисленным письмам, получаемым от своих партизан, они соберутся по первому призыву… Все это даст надежду собрать значительный отряд верных, смелых и испытанных людей в довольно непродолжительный срок. И этот отряд должен быть одним из кадров, вокруг которых сформируются будущие части».
В другом письме, адресованном белогвардейцу П. Д. Иларьеву, сколачивающему фронт борьбы с Советской властью, Анненков писал: «Привет, дорогой Павел Дмитриевич! Итак, я хочу собирать свой отряд старых партизан. Думаю, что и ты с теми, кто тебя окружает, соберетесь в нашу славную стаю… Для того чтобы я выбрался отсюда, нужно добиться того, чтобы мое имя совершенно не упоминалось в причастности к отряду. Лучше, наоборот, распускать слухи о моем отказе вступать в дальневосточные организации, о моей перемене фронта».
Содержание третьего письма, адресованного Казакову, с которым Анненков познакомил Денисова, было полной противоположностью двум первым. Главе «Богоявленского братства» атаман писал о своем нежелании вступать в армию Чжан Цзолина, отходе от борьбы с Советами и вообще от политики.
Это было тонко рассчитанное письмо. Всякое могло случиться: Черкашин как курьер не внушал Анненкову особого доверия. Любитель спиртного, он мог затерять письма, а мог и перепродать. Третье письмо в таком случае стало бы для атамана спасительной лазейкой.
Анненкову нельзя было отказать в прозорливости. Какой-то из предвиденных им случаев и произошел. Курьер со всеми предосторожностями покинул конеферму атамана все в том же обличье предупредительного и делового скупщика пушнины. Письма покоились в чемодане с двойным дном. Сев в купе поезда, Черкашин почувствовал себя в безопасности и решил, что дальнейшие предосторожности уже ни к чему. Здесь до него никому дела нет. Вагон заполнялся народом. Появились попутчики и в купе Черкашина. Как они ухитрились проникнуть в его чемодан — одному богу ведомо. Короче говоря, письма исчезли.
* * *
Но каким образом все-таки Анненков оказался в китайской тюрьме? Три года — срок немалый. И у атамана хватило времени поразмышлять на тему — кому было выгодно изолировать его. Многих он подозревал: Семенова, видящего в нем опасного конкурента, того же Михайлова, возможно захотевшего прибрать к рукам его казаков… Мысль о причастности к его злоключениям ГПУ ему, разумеется, и в голову прийти не могла. Именно чекисты сумели воздействовать на волю губернатора.
В двадцатые годы у Советской России было много явных и тайных врагов, преследующих одну цель — задушить государство трудящихся. Естественно, основные усилия чекистов направлялись в первую очередь на обезвреживание тех, кто представлял в данный момент наибольшую опасность. Сразу, по горячим следам, им было просто не под силу схватить Анненкова. В ту пору перед органами госбезопасности стояла задача хотя на время оградить границы от проникновения анненковских банд. А в том, что атаман не оставит нас в покое и вся борьба с ним еще впереди, ни у кого сомнения не вызывало. Это Артузов называл выявлением проблемы до того, как она станет очевидной.
Как-то беседуя с Артузовым о замысле операции против Анненкова, Вячеслав Рудольфович многозначительно заметил: «Начать — перышко поднять». Они как бы определяли в данной ситуации первые шаги, которые необходимо предпринять против кровавого атамана. Напрашивалась идея его изоляции как первоочередной меры для того, чтобы парализовать враждебную деятельность атамана. Его изоляция, пусть даже на незначительное время, позволит оторвать от атамана часть казаков, внесет растерянность в лагерь на реке Боро-Тале. Казаки перестанут быть организованной силой.
Замысел нуждался в создании реальных условий для осуществления. В то время не так уж были велики силы чекистов. Менжинскому и Артузову не хотелось распылять их. Они нужны были для проведения более значительных операций.
На оперативном совещании, созванном Менжинским, высказывались самые различные мнения. Одни предлагали внедриться в. стан Анненкова, чтобы подорвать его изнутри, другие склонялись к мысли совершить налет на лагерь и разом покончить с анненковцами.
Когда все выговорились, счел нужным высказаться и Артузов. И сказал-то он всего несколько слов, но все с удивлением повернулись в его сторону… И Менжинский сразу почувствовал, что Артур Христианович родил идею, которая в случае, если, конечно, удастся ее осуществить, сулит успешное решение всех проблем. Мысль Артузова в лаконично сформулированном виде выглядела так: «Осуществить тактику активного воздействия на синьцзянского губернатора», с тем чтобы его руками изолировать атамана или, на худой конец, парализовать его враждебные действия против нашей страны.
Меняшнский какое-то время оценивал предложение Артузова, не явится ли оно утопической затеей? Когда же все взвесил, то пришел к выводу: решиться на такой шаг стоит.
Тактика Артузова в первую очередь требовала усилий. Менжинский и Артузов засели за выработку требований к губернатору. Разумеется, при этом учитывалось, что на нашей стороне реальная военная сила, точнее, та сила, что стояла на границе. И эту силу чувствовал губернатор.
Вскоре представители нашего командования предъявили синьцзянскому губернатору в ультимативной форме главное требование: выдать Анненкова как опасного военного преступника или, если это окажется невозможным, разоружить анненковцев, а самого атамана арестовать. Излагая эти требования, наша сторона учитывала, что губернатор однажды уже пытался отнять оружие у банд Анненкова, но атаман воспротивился этому, понимая, что без оружия он уже не сила и никто с ним считаться не станет.
К июлю 1921 года из многих тысяч у атамана под рукой оставалось всего 670 казаков, остальные разбрелись по Китаю. Оставшиеся отнюдь не церемонились с китайцами. Взращенные на грабежах и убийствах, они не могли вести себя иначе. Дебош в районе Гучэн, учиненный пьяными казаками, переполнил чашу терпения губернатора. Он вызвал Анненкова в Урумчи и арестовал его. Так началась операция против Анненкова. Его арест считался временным успехом. Основная борьба была еще впереди.
* * *
Человек живет надеждой. Надеждой на лучшие времена жил и Анненков. И тем не менее на душе у него было неспокойно. С его лица не сходил отпечаток усталости. Он все время чего-то тревожно ждал. С одной стороны, новых гонцов, которые бы, подобно Черкашину, принесли ему важные вести, призывавшие его, как в былое время, стать крупным военачальником, с другой — возмездия. Что-то должно было случиться. Это двойственное тревожное чувство не отпускало атамана ни днем ни ночью.
Анненков, конечно, был в неведении, что в Москве о нем тоже думали и многое знали. Знали о его планах и намерениях, знали даже то, как он выглядит в данное время. На столе Артузова лежали сообщения из Китая, датированные сентябрем 1924 года, характеризующие атамана как личность. «Анненков — человек быстрого и хорошего ума, громадной личной храбрости, остроумный, жестокий и ловкий… Хорошо владеет китайским языком, имеет средства и хорошо себя держит — это тип лихого казака».
Такая уж была обязанность Артузова — вести настойчивое наблюдение за каждым шагом Анненкова, быть в курсе его действий и мыслей. Со смертью президента Сунь Ятсена, возглавлявшего кантонское правительство и завещавшего Гоминьдану довести революционную борьбу до окончательной победы, обстановка в Китае начала складываться отнюдь не в пользу этой партии. Компрадорская буржуазия, монархисты, помещики под эгидой империалистических разведок сколачивали «Антикрасный союз», во главе которого стояли реакционные генералы-милитаристы У Пэйфу и Чжан Цзолин. Эти силы открыли враждебную кампанию против Советского Союза. Реакционные газеты печатали поджигательские статьи, иной раз с прямыми призывами к войне против СССР…
Первая революционная армия маршала Фэна, в зоне действий которой проживали Анненков и Денисов, потерпела ряд неудач в боях против частей генералов-милитаристов. Затягивать операцию против атамана поэтому было никак нельзя. Он мог оказаться в стане врагов, сколотить армию и перейти к активным действиям против СССР. Перед Менжинским и Лртузовым вплотную встал вопрос: как это предотвратить? Как обезвредить Анненкова? К этому времени у чекистов уже имелся опыт борьбы с белой эмиграцией. Недаром сам Врангель признал, что «на удочку ГПУ» попались почти все организации и большинство их деятелей.
Артузов тоже готовил надежную «удочку». У него вызрел план захвата атамана-палача. Свой замысел он, как водится, доложил Менжинскому. Протянув руку братской помощи китайским революционным силам, Советское правительство направило в Китай по их просьбе группу советников. В Китае работали герои гражданской войны, будущие Маршалы Советского Союза Василий Константинович Блюхер и Александр Ильич Егоров. Советский аппарат при Первой революционной армии возглавлял Виталий Маркович Примаков, бывший командир легендарного корпуса червонного казачества.
Артузов знал, что Примаков установил прямые дружественные связи с командующим армией маршалом Фэном. С помощью советского военного специалиста в этой армии были разработаны и осуществлены несколько успешных наступательных операций. Вот и пришла Артузову мысль, что Примаков может добиться согласия маршала Фэна на захват Анненкова. Только человек твердой воли и большой уверенности мог предложить такой план, простой и в то же время смелый.
Менядапский сразу оценил все достоинства замысла своего ближайшего помощника, но все же попробовал его как бы «расшатать», проверяя на «прочность». Прежде всего его интересовало, даже тревожило, насколько можно полагаться на Фэна.
— Я уверен, что маршал нам поможет, — подмечая, как с лица Вячеслава Рудольфовича спадает тень настороженности, произнес Артузов. — Для него присутствие Анненкова тоже каждодневная угроза.
— Возможно… Но возможно и другое. Что тогда? Есть ли у вас запасной вариант?
— Есть. Пошлем нашего сотрудника, он найдет способ, как подобраться к атаману.
— Это уже более реальный подход, — согласился Менжинский и вдруг предложил:
— А если нам для верности начать одновременно оба варианта?
— Что ж, так будет еще надежней, — согласился Артузов.
— Кстати, на чем зиждется ваша уверенность, что маршал нам поможет, помимо, соображения о той угрозе, которую представляет, как мы полагаем, для него присутствие атамана? Каково его политическое лицо?
— Трилиссер дал исчерпывающую информацию. Маршал Фэн Юйсян — выходец из провинции Чжили (ныне Хэбэй). Отец каменщик, служил писарем в армии одного из богдыханов. Так как был грамотным, дослужился до командира роты. Сын пошел по стопам отца, овладел его профессией. Принимал участие в «Боксерском» восстании. Был приговорен к пожизненному заключению. Освобожден в 1911 году революционными силами. Был командиром полка в гвардии президента, затем комбригом, губернатором провинции. Это Фэн выгнал из Пекина наследника богдыханского престола…
— Теперь я понимаю вашу уверенность, Артур Христианович, что маршал нам поможет. Что ж, действуйте!
Через несколько дней после этого разговора Артузов направил в Китай опытного чекиста С. П. Лихаренко.
* * *
Как же осуществился на практике план Артузова? Об этом можно судить по заявлению Анненкова, сделанному им некоторое время спустя следователю ОГПУ: «5 декабря 1925 года ко мне приехал директор департамента иностранных дел Ченг (от Фэн Юйсяна) с переводчиком, который мне сообщил, что, ввиду имеющихся у них сведений о моих отношениях со штабом Чжан Цзолина, они считают необходимым мой приезд из моего дома в г. Ланьчжоу, очевидно, где бы они могли наблюдать за мной. Через несколько дней я переехал со своими людьми в г. Ланьчжоу, где проживал до 4 марта 1926 года, когда я был вызван к губернатору, где полицмейстер передал мне распоряжение Фэн Юйсяна приехать к нему. На другой день я совместно с моим начальником штаба Денисовым Николаем Александровичем поехал к Фэн Юйсяну… Прибыв к Фэн Юйсяну, мы были лично им приняты, и я назначен советником при маршале Чжан Шудаян, и мне был выдан соответствующий документ».
Действительно, маршал ни одним словом, ни одним жестом не дал Анненкову повода для подозрений. В резиденции его ждали. Солдаты, одетые в серые френчи с маузерами и двуручными мечами, охранявшие маршала, любезно расступились, пропуская атамана. В прихожей солдат, по китайскому обычаю, смоченным в горячей воде полотенцем обтер ему лицо. Маршал, человек высокого роста, крепкого телосложения, тотчас же принял атамана. Говорил он тихо, как и подобает большому человеку — «мудрый должен говорить тихо, чтобы не расплескать чашу мудрости».
Анненков ехал в Калган в полной уверенности в своей безопасности, в самом радужном настроении: он признан, он скоро снова поведет войска в атаку! Ему уже слышался воинственный китайский клич «Ша! Ша!» («Убивай!»). Немного послужит, а там и свою армию сколотит, двинет на Семиречье, овладеет Верным, создаст свое государство, в котором будет властелином…
Ехал атаман и вспоминал обед, данный ему губернатором. Его угощали самыми изысканными кушаньями: хайшеном — жареными морскими червями, крошеным мясом с зеленью, бамбуковыми побегами, картофелем, зажаренным в сахаре.
Одно только его огорчило… Перед отъездом он зашел просто так, из любопытства, в китайскую кумирню. Встретил его бонза с толстой книгой в руках. В ней содержались «божьи ответы». Анненкову захотелось узнать, что ему предскажет книга. Бонза подвел его к глубокой чаше и предложил выбрать из нее любую из множества находящихся там палочек. Атаман взял наугад одну, протянул бонзе. Тот повернулся к изваянию божества, прочитал иероглиф, начертанный на палочке… Предсказание было нехорошим: «Легче разрубить летящий камень, чем тебе достигнуть успеха». Положив палочку обратно в чашу, бонза произнес смиренно: «Сяншен» («Такова божья воля»).
Наконец Анненков въехал в Калган. С любопытством рассматривал главную улицу города, идущую от моста. Она сплошь состояла из китайских и русских лавок. Сверкали лаком вертикальные вывески с иероглифами, витрины были завалены черными, золотистыми, белыми мехами: город считался одним из крупнейших пушных центров. Вдалеке виднелась каменная крепость. Здесь проходила первая линия Великой китайской стены. В одном ущелье был проложен проход в Монголию.
К моменту прибытия атамана в город чекист Карпенко получил лаконичную депешу:
«Анненков в Калгане. Действуй».
Установив наблюдение за гостиницей, где остановился Анненков, Карпенко связался с Лихаренко. Артузову была немедленно послана телеграмма: «20 марта Анненков и Денисов в Калгане». Из этого краткого сообщения Артур Христианович, естественно, понял, что пружина его плана стала раскручиваться.
Лихаренко также находился в Калгане. С Липом — под такой фамилией Примаков работал в Китае — он быстро нашел общий язык. Виталий Маркович принял непосредственное участие в захвате атамана.
Под предлогом ведения дальнейших переговоров о «службе» Анненкову и Денисову было вручено такое предписание: «Атаману Анненкову Б. В. Сегодня старший советник господин Лин прибыл в Калган. Он приказал Вам не выходить из помещения до 16 часов, ожидая его распоряжения о времени переговоров с Вами».
В тот же день — 31 марта 1926 года — Анненков и Денисов были перевезены из гостиницы и переданы советским властям…
Атаман был выдан Советскому правительству компетентными китайскими властями как крупный военный преступник, чья деятельность к тому же на территории сопредельного государства могла быть направлена против коренных интересов самого китайского народа.
Захватить Анненкова, однако, было только половиной дела. Атаман должен был публично признать свои преступления перед народом, отречься от политической борьбы, призвать своих бывших «партизан» одуматься, проявить лояльность к Советской власти.
После нескольких бесед, в которых была затронута и судьба раскаявшегося Савинкова, атаман, понимая обреченность своего положения, написал в ЦИК СССР письмо.
«Сознавая свою огромную вину перед народом и Советской властью, зная, что я не заслуживаю снисхождения за свои прошлые действия, я все-таки обращаюсь к Советскому правительству с искренней и чистосердечной просьбой о прощении мне глубоких заблуждений и ошибок, сделанных мной в гражданскую войну. Если бы Советская власть дала мне возможность загладить свою вину перед Родиной служением ей на каком угодно поприще, я бы был счастлив отдать все силы и жизнь, лишь бы доказать искренность моего заблуждения.
Сознавая всю свою вину перед теми людьми, которых я завел в эмиграцию, я прошу Советское правительство, если оно найдет мою просьбу о помиловании меня лично неприемлемой, даровать таковое моим бывшим соратникам, введенным в заблуждение и гораздо менее, чем я, виноватым, каков бы ни был приговор, я приму его как справедливое возмездие за свою вину.
Б. Анненков. 5 апреля 1926 г.».В другом письме, адресованном своим бывшим «партизанам», Анненков писал: «Мы видим, что Советская власть крепка, твердой рукой ведет народ к благу, производит великую строительную работу на благо Родины.
Советская власть призывала и призывает тех, кто искренне и честно хочет принять участие в этой работе».
Оба письма были опубликованы в китайской печати, газетах русской эмиграции.
Арест Анненкова советскими чекистами и доставка его в Москву для белой эмиграции явились полной неожиданностью.
Когда следствие было завершено, Анненкова и Денисова повезли в Семипалатинск, в ту самую Семиреченскую область, где ими были совершены главные преступления против Советской власти и народа.
На открытом судебном процессе девяносто свидетелей уличили Анненкова и Денисова в чудовищных зверствах. С утра и до ночи огромные толпы людей не расходились перед зданием, где заседала военная коллегия. Почти каждый из них мог предъявить атаманам свой собственный счет по убитым детям, родителям, братьям и сестрам… Военная коллегия не нашла ни единого смягчающего вину обстоятельства. Анненков и Денисов были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. 24 августа 1927 года приговор был приведен в исполнение.
Перед смертью Анненков написал следователю Владимирову следующее письмо:
«Прежде всего позвольте Вас поблагодарить за человеческое отношение, которое Вы проявили ко мне во время моего пребывания в Москве… Я должен уйти из жизни и уйду с сознанием того, что я получил по заслугам.
Уважающий Вас Б. Анненков. 13 августа 1927 г., г. Семипалатинск».Этот документ весьма примечателен. Он с лучшей стороны характеризовал перед миром деятельность ОГПУ в целом и Артузова в частности, неукоснительно соблюдавших социалистическую законность даже по отношению к таким кровавым заклятым преступникам, как Анненков и Денисов.
Напутствие
Артузова вызвали в Кремль. Разговор был серьезный, завершение его для Артура Христиановича оказалось несколько неожиданным. Один из руководителей партии и правительства сказал:
— Вы, товарищ Артузов, должно быть, лучше всех знаете, какие грозовые тучи собираются над нашей страной с тех пор, как в Германии к власти пришел Гитлер со своей кликой, а в Японии окончательно взяли верх самые реакционные круги. В этих условиях нам особенно важно знать, и знать точно, что происходит в армиях этих стран, каковы их стратегические концепции, военные планы и намерения, новинки вооружения, военно-экономический потенциал и тому подобное. Агрессоры готовят нападение на СССР, это очевидно. И тут вы, чекисты, должны помочь правительству и командованию Красной Армии. Наша военная разведка нуждается в опытных кадрах. Там необходим человек, знающий методы работы иностранных спецслужб. Поэтому мы приняли решение назначить вас заместителем начальника управления разведки, не освобождая пока от работы в НКВД.
* * *
Действительно, приход 30 января 1933 года к власти в Германии гитлеровцев коренным образом изменил ситуацию в Европе, да и во всем мире.
Артузову вспомнился давний разговор с Менжинским. В 1927 году, когда германский фашизм на политической арене Европы еще всерьез не принимался, Вячеслав Рудольфович, уже тяжело больной, отправился в Германию в составе советской банковской делегации под именем Николая Ивановича Пахомова. Конспирации ради председатель ОГПУ перед поездкой даже сбрил свои густые усы. Он хотел самолично разобраться в сложной политической обстановке в этой стране, установить, насколько велика опасность включения возрождавшего свои былые позиции германского империализма в очередной «крестовый поход» против СССР.
Вернувшись в Москву, Менжинский немедленно собрал всех основных своих сотрудников, руководителей ведущих служб.
— Должен заявить вам со всей откровенностью, товарищи, — своим глуховатым голосом начал Менжинский, — что нас ни в коем случае не должен ввести в заблуждение внешний уголовный антураж нацистов, откровенно хулиганские выходки штурмовиков Гитлера. Это не просто банда преступников и взбесившихся от невзгод кризиса обывателей. Штурмовики, конечно, оголтелая банда. Но за ними стоят могущественные силы самого реакционного сегодня империалистического капитала и милитаристских кругов, жаждущих реванша за поражение в мировой войне, а там, чем черт не шутит, и европейского господства…
Мы должны быть готовы к тому, что эти силы приведут Гитлера и его клику к власти. В первую очередь это относится к вам, Артур Христианович, — с этими словами Менжинский повернулся в сторону Артузова, — нужно немедленно ориентировать нашу контрразведку на то, что ей очень скоро придется иметь дело как с главным противником — с немецкими шпионами и диверсантами. И не просто с иностранной разведкой, а с фашистской разведкой… — На слове «фашистской» Менжинский сделал ударение.
…Теперь, почти одновременно приняв дела в Разведупре, его новый начальник комкор С. П. Урицкий и заместитель корпусной комиссар А. X. Артузов думали о том, как организовать сбор информации о приготовлениях фашистской Германии к развязыванию агрессивной войны в Европе.
Со злейшим врагом мира и человечества активно боролись мужественные и самоотверженные люди — антифашисты многих европейских стран. Свою работу, связанную со смертельным риском, они рассматривали как выполнение интернационального долга перед трудящимися всего мира, патриотического долга перед народом собственной страны. Так началось сотрудничество с видным венгерским ученым-картографом и убежденным антифашистом Шандором Радо, открывшим в Женеве частное картографическое агентство «Геопресс». На протяжении многих лет, вплоть до 1944 года, Радо-Дора передавал в Центр информацию о планах фашистского руководства.
Впоследствии, отдавая должное прозорливости руководителей советской разведки, Шандор Радо писал: «Из дальнейшей беседы с Урицким и Артузовым мне стало понятно, что в будущем они видят наибольшую угрозу со стороны нацистской Германии и фашистской Италии: оба государства усиленно перевооружаются, разжигают в народе дух реваншизма, ведут яростную милитаристскую и антикоммунистическую пропаганду. Возможно, что агрессивные державы в случае войны станут главными противниками Советского Союза. Поэтому необходимо внимательно следить за всеми их действиями на международной арене и заблаговременно раскрывать тайные планы фашистских правителей.
Моя задача как разведчика будет состоять именно в этом».
Артузов помнит одно из первых серьезных заданий, которое он получил на новой работе в том же 1935 году. Вечером его срочно вызвали в Кремль. Это произошло, когда он с минуты на минуту ждал прихода гостя — известного чтеца Владимира Яхонтова, старого своего друга. Артист хотел показать ему новую работу — программу по стихам Маяковского. Попросив домашних, чтобы извинились перед Яхонтовым и попросили его подождать, он быстро сбежал по лестнице, сел в машину, сказав шоферу:
— К Боровицким воротам.
Артузов знал, что в Кремле идет совещание командующих войсками военных округов. Но ведь там присутствует его начальник, комкор Урицкий, он располагает необходимыми материалами. Что же требуется от него? Возможно, Семену Петровичу необходима какая-нибудь справка? Нет, скорее всего речь пойдет о задании.
Когда Артузов вошел в большой кабинет, где проходило совещание, с докладом перед собравшимися выступал командующий бронетанковыми войсками страны. Сев на свободное место рядом с Урицким, Артузов стал внимательно слушать выступавшего., Командующий был молод, влюблен в свой род войск, потому говорил увлеченно, с удовольствием приводил тактико-технические данные танков, хвалил удачные конструкции.
Когда он закончил, секретарь ЦК задал вопрос:
— Какие вам известны танковые новинки на Западе или Востоке?
Командующий веско сказал:
— Я считаю, что наши танки — последнее слово техники и военной мысли.
— Понятно. А все же?
— Товарищ секретарь ЦК! Я не располагаю на этот счет необходимыми данными и не готов сейчас дать исчерпывающие объяснения.
— Честный ответ. Что ж, послушаем, что нам скажет Разведупр.
Поднялся с места Урицкий.
— У нас есть донесение из Берлина. Немцы создали новый средний танк. Известно наименование — «Т-3». Но тактико-технические данные танка пока не установлены.
Секретарь ЦК обратился к Артузову:
— В бытность работы товарища Артузова в НКВД я читал его донесение о проекте нового немецкого танка, видимо, этого самого «Т-3». Помнится, там сообщалось, что эта машина будет лучше нашего танка «БТ». Я не ошибаюсь?
Артузов встал, несколько удивленный, что секретарь ЦК помнит его давнее донесение.
— Нет, не ошибаетесь. В новом донесении речь идет именно об этой машине, уже запущенной в небольшую опытную серию.
Секретарь ЦК твердо сказал:
— Нам крайне важно иметь чертежи этого танка или хотя бы толковое описание его. И, разумеется, основные тактико-технические данные: вес, проходимость, мощность двигателя, тип горючего, толщину и качество брони, вооружение… Мы не имеем права отставать от капиталистических стран, в танках особенно. Будущая война — война моторов.
Урицкий осторожно заметил:
— Немцы умеют хранить свои секреты.
Секретарь ЦК повернулся в сторону Артузова, явно ожидая, что скажет корпусной комиссар. Артур Христианович это понял и быстро перебрал в памяти свои зарубежные связи, в том числе в нейтральных странах, прикидывая, кто может добыть сведения о танке. Хоть и пунктиром, но вырисовывалась тоненькая линия. Он встал и заявил, тщательно взвешивая каждое слово:
— Подтверждаю мнение комкора Урицкого, что немцы умеют хранить свои секреты. Но в принципе достать данные можно.
Секретарь ЦК задал новый вопрос:
— На каком же принципе базируется ваше утверждение?
— Под принципом я имел в виду продажность, свойственную капитализму. Все, что имеет капиталист, он в принципе согласен продать. Операцию по добыче данных о танке я построил бы именно на этом принципе, как на самом реальном, а потому и результативном.
— Так, может, ты и готовый танк привезешь?! — не удержался и бросил с места командарм I ранга Иероним Уборевич. По рядам прокатился легкий смешок. Видимо, многие из присутствующих восприняли заявление Артузова как совершенно утопическое. Артузов, однако, и бровью не повел. Ответил невозмутимо:
— Разум — титан, если поможет, да немного денег в твердой валюте, если Наркомфин отпустит, да немножко везенья… Тогда и танк можно предоставить в распоряжение наших исследователей.
Секретарь ЦК пристально посмотрел на Артузова и негромко, но внушительно произнес:
— Уверенность товарища Артузова дает нам основания поручить Разведупру добыть необходимые сведения о танке. Конкретную ответственность, полагаю, следует возложить на него же. Другие предложения имеются? Нет? Значит, принято единогласно. И учтите, товарищ Артузов, комкор Урицкий действительно прав, немецкие генералы умеют оберегать свои танки.
…Когда Артузов вернулся домой, близкие уже давно спали. Только за стаканом остывшего чая с книгой в руках его поджидал Владимир Яхонтов. Словно ничего особенного не произошло, оторвавшись от книги, он спросил деловито:
— Так будешь Маяковского слушать?
— Буду, обязательно буду, — ответил Артузов, — вот только чайник подогрею.
И он зажег конфорку…
Через два месяца после совещания в Кремле немецкий танк модели «Т-3» стоял на советском танковом полигоне. Артузов имел полное моральное право гордиться тем, как быстро выполнено его задание. Но новые дела скоро завладели его мыслями. Однако через некоторое время ему напомнили о танке.
Однажды на прием к Артузову явился видный военный инженер. Долго осматривался, потом пригладил волосы. Артузов вытащил карманные часы, глянул мельком на циферблат. Военинженер правильно понял этот жест как намек, что пора и начать разговор.
— Собственно говоря, товарищ корпусной комиссар, — сказал он, — я пришел, чтобы поблагодарить вас и ваше ведомство за танк «Т-3» и сообщить о результатах испытаний.
— Слушаю вас, — оживился Артузов, — это в высшей степени интересно.
— Как раз особого интереса танк для нас и не представил, — неожиданно возразил военинженер. — Обычный танк. Броня не ахти какая, да и ходовые качества оставляют желать лучшего. Пушка, правда, сильная… Словом, наши нынешние машины лучше, а проектируемые — и подавно.
— Стреляли по нему?
— Не то слово… Изрешетили.
— Снаряды, значит, берут?
— Берут.
— Понятно. Значит, у немецких танкостроителей нам нечего перенимать? А вы пробовали из него стрелять по нашим танкам?
И тут выяснилось, что этого не только не было сделано, но и не собирались делать. Зачем, мол?
— Я бы на вашем месте все же «попортил» бы несколько своих танков. Для чего? Чтобы испытать силу его огня. Вы сами заметили мимоходом, что у «Т-3» сильная пушка. Значит, в этом его преимущество.
Военинженер начал сердиться.
— Простите, товарищ корпусной комиссар. Что же вы теперь прикажете делать? Усилить бронезащиту нашего танка, а заодно поставить на него 152-миллиметровое орудие?
— Не исключаю.
— Еще раз простите, но вы, очевидно, сильны в своем деле, но не в броне.
— Нет, не прощаю. В броне как раз я разбираюсь и всегда разберусь. У меня диплом инженера-металлурга и некоторый стаж работы в бюро, видимо, известного вам профессора Грум-Гржимайло.
Военинженер замер. Потом откашлялся и уже на пониженных тонах стал рассуждать:
— Не всунешь же в танк 152-миллиметровку. Одно противооткатное устройство займет всю полезную площадь. Тогда танк придется строить несусветных размеров, а это уже мишень на поле боя.
Артузов возразил:
— Оставим это дело конструкторской мысли. Знаю одно: огневая мощь нашего танка должна превышать огневую мощь любого танка в мире. Я не вижу облегчения от сознания, что наш танк легко пробивает немецкий, если тот, будучи как танк хуже, может своим орудием поразить наш. Не знаю, за счет чего можно достигнуть огневого преимущества, тут уж артиллеристы пусть подумают, но знаю одно, вы успокоились и расхаяли немецкий танк. На вашем месте я повел бы себя не как взрослый человек, а как ребенок, которому охота все развинтить, до всего докопаться. Иначе стоило бы нам рисковать, добывая новейший немецкий танк.
Военинженер притих, склонил голову, видно было, что он переживал урок, полученный от разведчика. Потом поднял голову и твердо сказал:
— Спасибо, товарищ корпусной комиссар. Заронили хорошие мысли. Выходит, нам следует еще ох как ворочать камни.
— Совершенно верно.
Военинженер встал, улыбнулся признательно:
— Рад был познакомиться с вами, товарищ инженер-металлург! Нам остается одно — шагать в ногу со временем.
— А лучше — опережать время. В военном деле это очень важно…
Простились они вполне довольные друг другом. А вскоре Артузову стало известно, что в одном из артиллерийских КБ начата работа над созданием новой, более мощной танковой пушки.
Но его тревоги и заботы в это время были уже иные: империалистическая Япония.
Уже тогда Артузов стал намечать меры по решительной борьбе с японской разведкой. В первую очередь надо было парализовать подрывную деятельность японского военного атташата в Москве и по возможности через него же войти в курс стратегических планов японского генерального штаба. Вторая задача, стоявшая перед Артузовым, заключалась в том, чтобы активными действиями воспрепятствовать ведению разведки со стороны Японии на советском Дальнем Востоке, «закрыв на замок» государственную границу СССР. Для этого, в свою очередь, нужно было усилить разведывательную работу в Маньчжурии.
На примете у Артузова были молодые толковые люди, по сути, его ученики, уже прошедшие хорошую школу в КРО. В подборе кадров он руководствовался железным правилом: хороший контрразведчик, как подсказывал опыт, становится и прекрасным разведчиком. Сотрудники Артузова, успешно поработавшие в контрразведывательном отделе, гораздо легче внедрялись во вражеские зарубежные разведцентры, полицию, жандармерию, правительственные учреждения, реже терпели неудачи, нежели те, кто не обладал опытом ведения контрразведки. Артузов виртуозно владел методом внедрения в антисоветские зарубежные центры искусно подобранных сотрудников и патриотически настроенных людей — добровольных помощников чекистов. Конечно, иностранные разведки догадывались об этих методах. Но это не означало, что от них следовало отказаться. Нет, Артузов по-прежнему считал, что они могут способствовать победам и на Дальнем Востоке, если будут действовать более искусно, тоньше, филиграннее.
Изучая материалы о японской разведке, Артузов исподволь подыскивал людей, способных выполнить многие задачи. У него подобрались хорошие помощники: С. Пузицкий, И. Тубала, И. Чибисов, В. Пудин, Б. Гудзь и другие. Все они имели солидный опыт контрразведывательной работы, в том числе и против японской агентуры в СССР.
Вскоре пришел и первый успех.
…С некоторых пор чекисты заинтересовались личностями двух японских офицеров, работавших в Москве: Камацубара и Миямото. Оба они, как было с несомненностью установлено, занимались военным шпионажем. Но наблюдение установило и другое: офицеры усердно предавались также пьянству, разврату и стяжательству. В конечном счете у них вырос такой «хвост» недопустимых, с точки зрения любого начальства, компрометирующих проступков, что они были согласны на все, лишь бы сомнительная слава об их московских «подвигах» не докатилась до Токио. Этим и воспользовались чекисты. Так, однажды Камацубара настолько напился вместе с любовницей, что потерял ключи от сейфа в своей квартире…
В результате кропотливой настойчивой работы чекистов Советское правительство было полностью в курсе захватнических замыслов японских милитаристов на советском Дальнем Востоке. Позднее в советских газетах были опубликованы материалы, неопровержимо изобличающие перед всем миром агрессивный курс тогдашнего милитаристского правительства Японии.
Однажды Артузову позвонил Гудзь и попросил разрешения зайти к нему.
— Конечно, заходите, — ответил Артузов.
Бориса Гудзя он помнил еще юношей. Его отец, агроном Игнатий Гудзь, принимал участие в революционном движении на Херсонщине с 1892 года. Борис Гудзь был когда-то студентом Горной академии, служил в Красной Армии. В ВЧК он пришел по рекомендации известного профессионального революционера, старого большевика А. Д. Цюрупы, заместителя В. И. Ленина по Совнаркому. Гудзь долгое время работал в КРО под началом Пузицкого и Стырне, принимал участие в операции «Трест», проявил себя хорошим, инициативным сотрудником. Несмотря на большую занятость, Гудзь сумел заочно закончить двухгодичный философский курс при Институте красной профессуры. Чекисты-коммунисты избирали его секретарем партийной организации КРО и Особого отдела, в который его позднее перевели.
Как талантливого разведчика знал Артузов и близкого друга Гудзя — такого же молодого Александра Агаянца.
В то время на советском Дальнем Востоке проводилась частичная реорганизация государственного управления. В частности, произошли изменения в территориальном делении. Был организован Восточно-Сибирский край с центром в Иркутске. В крае создавался и аппарат ОГПУ. Опытных чекистов там, конечно, остро не хватало. Гудзь и Агаянц решили добровольно поехать на работу из центрального аппарата в Сибирь. Их инициативу одобрили. Вот Борис и Александр надумали зайти к своему давнему наставнику, чтобы заручиться его советами и поддержкой перед отъездом в далекий Иркутск.
Разговор затянулся. Артузов, конечно, не ограничился общими добрыми напутствиями, пожеланиями. Он точно и обстоятельно охарактеризовал чекистам политику милитаристской Японии по отношению к Советскому Союзу и Китаю, состояние и методы работы японской разведки. Для должной ориентации ознакомил Гудзя и Агаянца с пресловутым планом полковника Андо и другими документами противника.
Уже перед уходом Гудзь спросил:
— Артур Христианович, как вы считаете, стоит ли нам в Забайкалье легендировать антисоветскую организацию по модели «Треста», или это всего лишь старая история?
— А почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил Артузов. И добавил: — Мне кажется, что в идее «Треста» остались неисчерпанными многие потенциальные возможности. Тут дело не в самой модели, как таковой, хотя она превосходна, а в вашем чекистском мастерстве, если хотите, артистизме исполнителей главных ролей, в точном учете психологии противника, местных условий.
Он засмеялся:
— Я понимаю, к чему вы клоните, Борис Игнатьевич. Хотите создать свой маленький «Трест»? Что ж, благословляю. Только не копируйте слепо, вносите новое, свое, учитывающее специфику местных обстоятельств.
Гудзь и Агаянц уехали в Иркутск и приступили к работе. А вскоре иркутские чекисты сумели организовать «маленький «Трест».
…В феврале 1937 года, после возвращения из длительной спецкомандировки, Гудзь в помещении архива НКВД случайно встретил Артузова. Артур Христианович выглядел нездоровым, очень усталым, по всему чувствовалось, что настроение у него неважное. Одет он был в полувоенный костюм с орденом Красного Знамени на груди.
Указав на стол, заваленный старыми белогвардейскими газетами, Артузов сказал:
— Вот просматриваю… — и объяснил: — Работаю над книгой о первых годах ВЧК.
Они разговорились, вспомнили Дзержинского, Менжинского, других старых чекистов. Гудзь сказал с сожалением:
— Не повезло мне… Много раз видел Феликса Эдмундовича в здании, слушал его выступления у нас на партийных собраниях, а вот побеседовать с ним не пришлось. Он произвел на меня впечатление очень сурового, даже сумрачного человека. Не представляю его улыбающимся.
Артузов задумался. Потом сказал:
— На собраниях он, точно, всегда был очень серьезен, а в выступлениях и резок, и суров. Но видели бы вы, как весело и заразительно смеялся Феликс Эдмундович, когда кому-нибудь из нас удавалось остроумно обмануть врага. Помню, однажды, как он хохотал, когда читал инструкцию для подпольной работы, полученную Якушевым от самого великого князя Николая Николаевича. Или вот еще помню — прогулку Шульгина по трем советским столицам. Дзержинский сквозь смех задавал нам вопросы о разных деталях необычного путешествия этого монархического деятеля под нашей эгидой.
Особенно смешила Феликса Эдмундовича анекдотическая сторона вояжа, не имеющая прямого отношения к нашим чекистским делам. Ему было интересно, как Шульгин гримировался под местечкового старого еврея с пейсами, как он изумился, увидев в большевистских поездах чистое белье.
Гудзь слушал с живым интересом. Потом сказал:
— А все-таки не могу представить Феликса Эдмундовича в домашнем кругу, в семье.
Усталые глаза Артузова потеплели. Он мягко улыбнулся и стал вспоминать.
— Это было в одну из годовщин ВЧК. Группа сотрудников устроила по этому поводу скромную вечеринку. Все были в хорошем настроении, шутили. Кто-то предложил, чтобы каждый из присутствующих рассказал бы какой-нибудь эпизод из своей жизни или произнес речь на вольную тему. Когда очередь дошла до Дзержинского, Аванесову, кажется, пришла коварная мысль, чтобы Феликс Эдмундович произнес речь на тему «О любви к женщине».
Несколько минут Феликс Эдмундович, сконфуженно улыбаясь, пытался уклониться от выступления на столь необычную лирическую тему. Но колебания были недолгими. Он встал и произнес совершенно исключительную по теплоте, искренности и жизнерадостности речь о женщине-товарище, друге, жене, которая в революционной борьбе идет в ногу с нами, мужчинами, которая зажигает нас на великое дело борьбы, которая воодушевляет нас в минуты усталости и поражений, которая навещает нас в тюрьме и носит передачи, столь дорогие для узника, которая улыбается нам на суде, чтобы поддержать нас в момент судебной расправы над нами, и которая бросает нам цветы, когда нас ведут на эшафот… Ни у кого больше я не слышал таких проникновенных и сильных слов. В тот день Феликс Эдмундович открылся нам еще с одной обвораживающей стороны своей необыкновенной личности…
Они расстались. Больше Борис Гудзь никогда не видел своего многолетнего начальника, учителя и старшего друга.
* * *
Его хватало на все. Ярый враг безделья, он был нетерпелив и целеустремлен. Он все делал быстро: быстро ходил, быстро ел, мог думать одновременно о нескольких вещах и делать сразу несколько дел. Разрабатывал сложнейшие операции и был добровольным прорабом строящегося для сотрудников жилого дома. Изучал иностранные языки и шефствовал над одним из колхозов Подмосковья. Следил за новостями в металлургии и мечтал написать историю ВЧК — ОГПУ. Подготовил цикл лекций об оперативном искусстве чекиста и прочитал его в Высшей пограничной школе. Этот цикл можно назвать напутствием чекистской молодежи.
До нас дошли конспекты некоторых из этих лекций, датированные 1927 годом.
В них, этих лекциях, портрет чекиста-революционера, какими были тогда солдаты Дзержинского, каким был сам Артузов.
1. Решительность. Это слово рекомендую дважды подчеркнуть. Это ленинское слово. Он хотел, чтобы наши органы, а стало быть и каждый чекист, действовали со всей решительностью, если это касается подавления контрреволюции. Ильич всегда нас предупреждал: промедление смерти подобно. Вы только подумайте, что могло бы случиться 6 июля, когда эсеры, подталкиваемые иностранной агентурой, организовали заговор с целью свержения Советской власти, уничтожения вождей революции. Только наша решительность сорвала их планы.
Запомните: тип политического преступника, как правило, есть тип сильного человека. В борьбе с ним необходима не только высокая идеологическая вооруженность, но и решительность.
В нашей профессии есть удачи и неудачи. Но чаще терпят неудачу те, кто нерешителен, у кого не развито чувство интуиции, наблюдательности, логической углубленности в порученное дело, умение вжиться в чужой образ, кто не понимает и плохо воспринимает характерные особенности информационной работы.
Среди нас, как, впрочем, и среди людей других профессий, есть разные по складу характера работники: забывчивые и рассеянные, строгие и сентиментальные, нервные и спокойные, торопливые и медлительные. Но все это остается для чекиста за порогом порученного дела. На моей памяти много примеров, когда с виду трусливый сотрудник с храбростью льва бросался в бой, под пули, нервный сжимался в комок, чтобы выстоять перед испытанием, которое ему устраивал противник, медлительный проявлял неимоверную активность и решительность, чтобы выполнить оперативное задание.
Решительность предполагает быстрые и оперативные действия. Нередко приходится руководствоваться, особенно в информационной работе, как при строительстве линкоров: мало, но быстро, ибо любая информация таит в себе внутреннюю ценность, которая с течением времени падает.
2. Верность. Это тоже ленинское слово, адресованное чекистам. Чекист прежде всего должен быть верным идеалам партии. Он работает, действует во имя осуществления задач партии, задач пролетарской революции. Он ее щит и меч. Чекист неотделим от партии, работает под ее контролем, растет на могучем древе партийной мудрости. В этом его однотипность, родственность, слитность с партией, в этом заключена его сила. Я за партийную отмеченность в каждом дело, в каждом шаге!
Признак верности в любви хорошо известен. Это такое состояние человека, когда он отдает щедро все, что может, в чем раньше отказывал. Любовь к Родине, верность ей неизменно вызывает ревнивую бдительность. Стало быть, в каждом из нас должен быть заложен этакий мощный «ген беспокойства» за безопасность Советского государства. Беспокойство — это в то же время и ответственность. Не отказывайтесь от ответственности— это и есть ваша совесть…
Сражения, которые мы ведем, требуют искусства, гнева, увертливости, напряжения всех сил. Бывает и так: чекист попадает в руки врага. И тут проверяется его верность. Сможет ли он «испытать больше, чем вытерпеть можно»? Этот вопрос задайте себе или хотя бы подумайте над ним. Такая постановка диктуется политической честностью чекиста.
Сикрет Интеллидженс сервис существует 150 лет. Мы — 10. В этом ее преимущество. Но у нас есть свои преимущества: ясная цель, наша неподкупность, сознательность, а главное — верность делу социализма.
3. Профессиональная честь. Наша профессия в тени. И не потому, что она не почетна. Просто наш труд не афишируется. Часто наши победы и наши слезы миру не видны. Но я не придаю нашей профессии какой-то исключительности. Считаю, что она в ряду других интересных и трудных профессий. Работники таких профессий, как и мы, руководствуются идеями партии, ее совестью. И у них, как и у нас, любовь к Родине до обмирания сердца, до трепета души. Но, как они, так и мы ничего не достигнем без трудолюбия и усердия.
Чекист служит правому делу. Ему по душе атмосфера подлинности и достоверности. Это понятно и тому, кто стоит по ту сторону барьера. Именно потому чекисту свойственна способность сочувствия и сопереживания, понимания человека со всеми его обстоятельствами, слабостями и заблуждениями. Иначе говоря, все это мы называем человечностью. Нелишне нам напомнить поразительную по своей человечности инструкцию Ф. Э. Дзержинского, навсегда запомнившуюся чекистам моего поколения:
«…Пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель Советской власти — рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть».
Наш фронт незрим. Прикрыт секретностью, некой дымкой таинственности. Но и на этом, скрытом от сотен глаз фронте бывают свои «звездные» минуты. А чаще всего геройство чекиста заключается не в единственном подвиге, хотя история сохранила немало имен оперативных сотрудников, которые в решительный момент проявляли наивысшую революционную активность, в критически острых, переломных обстоятельствах делали то, что нужно делать, — а в будничной напряженной, кропотливой работе, в той возвышенно-значительной борьбе, не знающей ни передышек, ни послаблений, в которой он отдает все, что имеет. Это можно назвать «тихим» героизмом. Его повседневно совершают обыкновенные сотрудники, командиры погранвойск, но не обыкновенные в своей верности, партийной надежности и убежденности. Мы живем в героическое время. Совершается подвиг целым классом. У этого класса есть свой авангард. Думается, в этом авангарде найдете и вы свое место. Так сказал Артузов. Лучше не скажешь. Этими словами и заканчиваем мы повесть о чекисте.
Иллюстрации
Ф. Э. Дзержинский
В. Р. Менжинский
А. X. Артузов
М. С. Кедров
И. П. Павлуновский
Р. А. Пиляр
С. В. Пузицкий
В. А. Стырне
А. П. Федоров
Г. С. Сыроежкин
Я. П. Крикман
Тойво Вяхя (И. М. Петров)
А. А. Якушев
Н. М. Потапов
Письмо С. Рейли Ф. Э. Дзержинскому
А. X. Артузов с сыном Камиллом
Примечания
1
Кедров, однако, недолго возглавлял этот отдел. Партия сочла необходимым вскоре направить его, имеющего высшее медицинское образование, на борьбу со свирепствовавшим тогда сыпным тифом, сохранив за ним обязанности члена коллегии ВЧК. По. решению ЦК РКП(б) 18 августа 1919 года Особый отдел возглавил сам Ф. Э. Дзержинский.
(обратно)2
16 февраля 1922 года декретом ВЦИК ВЧК была реорганизована в ГПУ — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР. После образования СССР 2 ноября 1923 года было образовано Объединенное Государственное политическое управление — ОГПУ при Совнаркоме СССР.
(обратно)3
Азеф Евно Фишелевич — руководитель Боевой организации партии эсеров. Возглавлял подготовку эсеровских террористических актов на великого князя Сергея Александровича, министра внутренних дел В. К. Плеве и др. Ближайшим помощником Азефа был Савинков. В 1908 году стало известно, что Азеф — многолетний агент царской охранки.
(обратно)4
Каляев Иван (1877–1905). Член эсеровской боевой организации. 4 февраля 1905 года убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
Созонов Егор (1879–1910). Член эсеровской боевой организации. 15 июля 1904 года убил министра внутренних дел Плеве. Приговорен к вечной каторге. Покончил с собой, протестуя против телесных наказаний политкаторжан в Горном Зерентуе. Действиями Каляева и Созонова руководил Савинков.
(обратно)




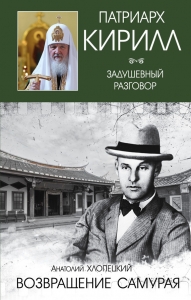

Комментарии к книге «И я ему не могу не верить…», Теодор Кириллович Гладков
Всего 0 комментариев