Дмитрий Сергеевич Мережковский Микеланджело
Тебе навеки сердце благодарно,
С тех пор, как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно-зеленых Арно,
По галереям сумрачным твоим,
Флоренция! И статуи немые
За мной следили; подходил я к ним
Благоговейно. Стены вековые
Твоих дворцов объяты были сном,
А мраморные люди, как живые,
Стояли в нишах каменных кругом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Бокаччио с приветливым лицом,
Макиавелли, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый,
И тот, кого прославила молва,
Не разгадав, – да Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва
Похожий и во всем необычайный.
Как счастлив был, храня смущенный вид,
Я – гость меж ними робкий и случайный,
И, попирая пыль священных плит,
Как юноша, исполненный тревоги,
На мудрого наставника глядит, —
Так я глядел на них и были строги
Их лица бледные, и предо мной
Великие, бесстрастные, как боги,
Они сияли вечной красотой.
Но больше всех меж древними мужами
Я возлюбил того, кто головой
Поник на грудь, подавленный мечтами,
И опытный в добре, как и во зле,
Взирал на мир усталыми очами;
Напечатлела дума на челе
Такую скорбь и отвращенье к жизни,
Каких с тех пор не видел на земле
Я никогда, и к собственной отчизне
Презренье было горькое в устах,
Подобное печальной укоризне.
И я заметил в жилистых руках,
В уродливых морщинах, в повороте
Широких плеч, в нахмуренных бровях —
Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, создатель Страшного Суда,
Твой беспощадный дух, Буонарроти.
И скукою бесцельного труда,
И глупостью людскою возмущенный,
Ты не вкушал покоя никогда.
Усильем тяжким воли напряженной
За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,
Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог
Осуществить чудовищных мечтаний
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.
Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал вовек, – и были у тебя
Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья
Страданий человеческих предел.
Одной судьбы ты понял неизбежность
Для злых и добрых плод великих дел —
Ты чувствовал покой и безнадежность.
И проклял, падая к ногам Христа,
Земной любви обманчивую нежность,
Искусство проклял, но, пока уста
Без веры Бога в муках призывали,
Душа была угрюма и пуста.
И Бог не утолил твоей печали,
И от людей спасенья ты не ждал:
Уста навек с презреньем замолчали.
Ты больше не молился, не роптал,
Ожесточен в страданьи одиноком,
Ты, ни во что не веря, погибал.
И вот стоишь, не побежденный роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаяньи спокойном и глубоком,
Как демон – безобразен и велик.
I
Весною тысяча пятьсот шестого года в Риме половина площади перед древнею, еще не перестроенною, базиликою св. Петра была завалена громадными глыбами каррарского мрамора: они искрились на солнце, как белые груды только что выпавшего снега с голубыми тенями. Каждый день морем до Остии, потом по Тибру к выгрузной пристани Рима приходили все новые и новые барки с мрамором. Сваленные глыбы громоздились до церкви Санта-Катарина и между церковью и тем узким коридором, который ведет из дворцов Ватикана в крепость Св. Ангела. С утра до вечера скрипели колеса тяжелых повозок, запряженных быками и буйволами, раздавались крики погонщиков, стучали молотки каменщиков.
Римляне, которые с древности славятся жадностью к зрелищам, толпами собирались в Борго, чтобы любоваться на эти величественные приготовления. По городу ходили разные слухи, но достоверно было одно: новый папа Юлий II заказал флорентинскому ваятелю и зодчему Микеланджело Буонарроти гигантскую гробницу, какой не удостоивались ни императоры, ни великие полководцы древности. На высоте трехъярусного мавзолея, окруженного кариатидами, аллегориями всех искусств и наук, мраморными колоссами и титанами, среди которых должен был восседать подобный чудовищному двурогому демону длиннобородый гигант, разгневанный, готовый разбить скрижали Моисей, вознесутся два изваяния: исполинская Кибела, богиня Земли, плачущая о смерти папы, и ликующая о его переселении в лучший мир Урания – владычица Неба, они будут поддерживать гроб Юлия. Благочестивые люди находили кощунственным подобный замысел – две языческие богини, несущие на руках своих саркофаг наместника Христова, служителя того Бога, который пожелал родиться, как нищий, на соломе, в приюте пастухов, чтобы проповедовать людям любовь к бедности. Для новой гробницы старая базилика Петра, древняя святыня христианского мира, оказывалась малой и тесной: Юлий, желая построить новую, более просторную и пышную, не задумался разрушить тысячелетние стены храма, основанного во времена Константина Равноапостольного. Он поручил это дело своему любимцу, человеку на все готовому, расторопному и угодливому – Браманте из Урбино, бывшему придворному архитектору герцога Лодовико Моро.
Когда однажды старый поселянин из Кампаньи, несколько лет не бывавший в Риме, зашел в церковь св. Петра помолиться и увидел, как низвергнута и опозорена древняя святыня, он не мог удержаться от слез. Пыль столбами подымалась между деревянными лесами. На груды извести, мусора и щебня навалены были обломки порфировых колонн; гробницы древних святителей церкви Христовой были разрыты, и прах костей их развеян по ветру; мозаики, над которыми работали поколения искусных мастеров, были разбиваемы молотками поденщиков, и жалко было смотреть, как их нежная, драгоценная чешуя осыпается под ударами каменщиков. Браманте ничего не жалел, ни перед чем не останавливался. Новые люди закладывали основание нового храма.
Угождая своеволию папы, архитектор заставлял рабочих приготовлять известь и кирпичи, обмазывать цементом куски травертина[1] ночью при свете факелов, чтобы днем, на глазах Юлия, как бы волшебством вырастали из-под земли новые стены: чудотворный строитель мало заботился о прочности, только бы обмануть нетерпение своего повелителя.
Папа торопил ваятеля не меньше, чем зодчего. Римляне указывали друг другу на подъемный мост за церковью Санта-Катарина, соединявший коридор Ватикана с домом и мастерскою Микеланджело: Юлий во всякое время дня и ночи, никем не замеченный, мог приходить к художнику, беседовать с ним наедине и следить за его работой. Прелаты и кардиналы завидовали пришельцу, флорентинскому «выскочке», каменотесу, которому первосвященник оказывал такие милости.
Надолго ли? У Микеланджело опасные враги: хитрый Браманте нашептывает папе злые речи и старается охладить его к мавзолею. Ему удалось оттеснить от постройки собора Джулиано ди Сан Галло, призвавшего Буонарроти к римскому двору; теперь очередь за Микеланджело.
II
Однажды в начале апреля, в тихое солнечное утро, из тех, какие бывают в Риме, когда в городе пахнет свежестью окрестных полей и к небу возносится, как пение, звон колоколов, двое каменщиков вели беседу, сидя за работой среди белых обломков мрамора. Один был старый генуэзец, по имени Грилло, из небольшого местечка Лаванья, к северу от Каррары, где Микеланджело нанял лодочников и гребцов, чтобы перевозить камень в Рим, другой – юноша, по имени Чопполи, каменотес из флорентийского предместья Сентиньяно.
– Что, как вино у моны Пипы? – произнес Грилло, постукивая молотком и щуря от мраморной пыли и солнца воспаленные веки.
– Сказать правду – кислятина. Мона Пипа такая же пройдоха, как все эти трактирщицы. Но есть у нее просоленная рыбка – как ее наешься, то так захочется пить, что, кажется, вылакал бы целый монастырский погреб, и уж всякое вино тогда покажется вкусным… Ничего, мы вчера изрядно напились, еще сегодня голова трещит. Подлеца Амброджо за ноги вытащили из-под лавки. Весело было. Пойдем-ка сегодня, куманек, к моне Пипе. Будешь доволен.
– Куда мне, старику! – тяжело вздохнул Грилло. – Ты человек холостой, одинокий, у тебя мысли веселые, а у меня на сердце кошки скребут. Дома, в Лаваньи, жена да две дочери на выданьи. Может быть, они без меня уже с голоду померли или по миру пошли, если только, не дай Бог, чего-нибудь хуже не приключилось. Долго ли до греха с молодыми девками. Эх, поскорее бы домой, право. И чего нас держат? Получить бы деньги по расчету…
– Ну, нет, братец, деньги ты не так-то скоро получишь. Теперь у хозяина денег мало, и Бог знает, когда будут.
У Грилло вытянулось лицо, маленькое, загорелое и сморщенное, как печеное яблоко; он беспомощно заморгал красными веками.
– Что ты, что ты, Чопполи! Да избавит нас святой Георгий от такого несчастья. Мы люди бедные, нанимались по уговору. Мессер Микельаньоло господин добрый и честный, он нас не обманет…
– Он-то не обманет, да его самого обманули, а ты знаешь, Грилло, что на папу суда нет и жаловаться некому.
– Да ведь папа любит хозяина; я слышал, что он вперед дал тысячу скуди.
– Что дано – истрачено, а больше не дает…
– Объясни же мне, Чопполи, что случилось. Ты лучше меня знаешь здешние дела.
– Неладно, Грилло. Черная кошка пробежала между папою и Микельаньоло.
– Кто же их поссорил?
– Браманте, архитектор собора. Знаешь, такой важный господин, тучный и лысый, ездит на белом муле в шелковой упряжи, и щедрый, никогда меньше не дает на выпивку, как по сольдо…
– Знаю, он мне намедни серебряную монету бросил на улице Банки за то, что я ему низко поклонился.
– Ну, вот, вот. Это, видишь ли, ловкий пройдоха, в одно ухо влезет, в другое вылезет. Он-то и роет яму нашему хозяину.
– А за что он его невзлюбил?
Чопполи на минуту остановил молоток и с таинственным видом наклонился к уху товарища:
– За то и невзлюбил, что тут, братец ты мой, дело нечистое. У Браманте губа не дура. Синьор щедрый и великолепный. Такие пиры задает, что и герцогу впору. Деньги ему всегда нужны дозареза. У жидов кругом в долгу, а привык, чтобы куры у него червонцев не клевали. Папу обманывает и разоряет казну. Здания возводит непрочно: говорят, лет через десять стены трещины дадут. Папа на него не нарадуется, потому что скоро строит, – скоро, да неспоро, все на песке. А мессер Микельаньоло насквозь его видит, все шашни его знает. Микельаньоло человек правдивый и неподкупный. Браманте и боится, чтобы наш-то хозяин его не обличил, на чистую воду не вывел, и наушничает, и уверяет папу, что строить себе гробницу при жизни – дурная примета: значит, мол, смерть себе пророчит. Папа испугался, гробница ему опротивела, и денег больше не дает. Каменщиков, лодочников наняли, мрамору навезли гору, заварили кашу, а кто расхлебает – Бог весть… Я так полагаю, что еще не скоро ты вернешься в Лаванью, Грилло…
– Тише, тише, Чопполи, хозяин.
И они усердно принялись за молотки.
III
Сопровождаемый толпою подрядчиков: плотников, барочников, каменотесов, которые спорили, кричали, приставали, лезли со счетами, ругались, божились и требовали денег, подходил человек с уродливым и угрюмым лицом, в старой и пыльной одежде из черного бархата.
– Как вам будет угодно, мессере, – говорил главный подрядчик, – а мы больше ждать не можем. Мы, как честные люди, нанимались. Пожалуйте расчет.
– Ежели его святейшество… – пробовал возразить человек, осаждаемый толпою.
– Мы не к его святейшеству, а к вам, мессере…
– Я обещаю вам…
– Обещаниями сыт не будешь. Не за обещаниями мы пришли, а за деньгами. С голоду нам помирать, что ли?
– Не обижайте нас, синьор, – молили жалобные голоса, – мы вам правдою служили. Пожалейте, отпустите душу на покаяние.
– Слушайте, вот вам мое последнее слово, и оно твердо. Подождите до завтра. Я в последний раз схожу к папе, и если он не заплатит, я вам из собственных денег отдам все до последнего сольдо. Не бойтесь – за мною не пропадет. Я вас нанимал, я и заплачу, если бы даже мне пришлось заложить дьяволу душу и тело.
Молвив так, он повернулся и пошел к своему дому между глыбами мрамора по узкой дорожке, усеянной белыми осколками, которые хрустели под ногами, как плотный снег в морозный день.
Это был человек лет за тридцать, роста ниже среднего, крепкого и костлявого телосложения. Голова казалась громадною, борода была жидкая, черная и жесткая, такие же волосы, нижняя губа выступала вперед с выражением угрюмой надменности; вокруг некрасивого рта были злые, страдальческие складки; под редкими бровями маленькие серые, холодные, как свинец, широко расставленные глаза отталкивали тех, кто с ним говорил, подозрительным и тяжелым взглядом. Но особенное безобразие придавал ему расплющенный нос. Во Флоренции, когда он был мальчиком, живописец Торриджани, человек грубого, зверского нрава, в драке, начавшейся из-за насмешек самого Буонарроти, кулаком раздавил ему носовой хрящ. Художник остался изуродованным на всю жизнь, сознавал это и мучился.
Подойдя к двери дома за церковью Санта-Катарина, Микеланджело постучался. Ему отперла старая служанка, стряпуха с засученными рукавами и подоткнутым платьем.
– Посланный от казначея был? – спросил он старуху.
– Не был. Погонщики мулов за деньгами приходили, кричали да ругались, я едва выпроводила.
В доме пахло чадом оливкового масла; приготовлялся обед для множества рабочих, плотников, мраморщиков, нанятых во Флоренции. Проходя в мастерскую, он с отвращением и скукою заглянул в большую комнату, наполненную постелями, скарбом, утварью, инструментами поденщиков, живших в доме. Теперь все эти люди остались у него на руках, и он не знал, что с ними делать.
В мастерской было тихо и светло. Он вздохнул с облегчением, почувствовал привычный приятный запах влажной глины и мраморной пыли. За деревянными подмостками белели грубые неясные глыбы, едва тронутые резцом, но глаз художника уже различал в них скрытые образы. Он взял резец, молот и сделал несколько ударов.
Работа не дала ему забвенья, – в сердце не было спокойствия. Он сошел с подмостков, приблизился к столу и начал пересматривать чертежи, планы злополучной гробницы, оказавшиеся теперь ненужными и бессмысленными. Среди них попался ему голубой тонкий лист бумаги: это был любовный мадригал единственной женщине, которая всю жизнь была верна другому, как он был верен ей. Наивная, чувствительная надпись, достойная влюбленного мальчика, гласила на полях: «Delle cose divine se ne parla in campo azzuro. – О небесных вещах следует писать на бумаге небесного цвета».
Милые жалкие рифмы, затерянные среди унылых счетов лодочников и плотников. Улыбка озарила на мгновение его суровое, безобразное лицо.
Он взглянул в окно и по знакомой тени соседнего дома в переулке увидел, что солнце перешло за полдень. Надо было идти во дворец немедля; в этот час папа кончал обед и его наверно можно было застать. Он посмотрел на свою одежду, запачканную во время работы, старую и пыльную, с истертыми локтями; на груди болталась пуговица, готовая оторваться, висевшая на тонкой нитке: служанка все забывала ее пришить. Люди считали его высокомерным и презрительным, но на самом деле ему достаточно было всякой мелочи, чтобы покраснеть и смутиться как школьнику. Он вспомнил с горечью, как недавно папа приходил к нему в мастерскую для простых дружеских бесед, тогда он не побрезгал бы его домашней одеждой. Ему стало досадно и противно вынимать из гардеробного шкапа свое единственное придворное платье голубого шелка с пышными разводами. Он поскорее собрал необходимые планы и счеты и, уже заранее сердитый и мрачный, пошел во дворец как был, в старом камзоле.
Недалеко от бельведера, на веселой широкой лестнице, недавно построенной папским любимцем Браманте великолепно и непрочно, ему попался навстречу сам строитель, окруженный толпою льстивых поклонников и друзей. Архитектор возвращался от папы довольный, обласканный, – должно быть, получил много денег. Паж, тонкий и стройный, как молодая девушка, нес за ним большие свитки планов и чертежей. Браманте был одет и держал себя, как царедворец. Складки великолепной одежды, самоуверенная, почти юношеская осанка, умный взор живых глаз, мягкие седые волосы, обрамлявшие широкий голый череп, истинный лоб древнего мудреца Пифагора или Архимеда, придавали красивому старику выражение приятной и благосклонной важности. Он говорил с молодым епископом о своей новой кобыле, купленной у приезжего турка-барышника Мустафы, красавице, сводившей с ума всех наездников Рима. Потом обернулся он к собеседникам и стал приглашать их на ужин.
– Только что получены куропатки из Муджелло, и вы отведаете, друзья мои, нашего доброго ломбардского вина – Монтебриантино. Оно поспорит с лучшим корсиканским…
Браманте увидел всходившего по лестнице Буонарроти. Старик, сняв берет, с изысканной, несколько преувеличенной вежливостью поклонился молодому сопернику, который ответил холодным, сдержанным поклоном.
Микеланджело шел по бесконечным коридорам и галереям Ватиканского дворца: в то время они перестраивались; художник невольно любовался созданием соперника, легким, как светлый сон, изящным и непрочным: Буонарроти предвидел, что эти стены обрушатся лет через двадцать, если их не укрепить контрфорсами. Пахло сыростью новой штукатурки; всюду возвышались деревянные леса.
Он подошел к дверям, у которых стоял на карауле швейцарец с копьем и арбалетом. Внимательно посмотрел он в лицо Буонарроти, должно быть, не сразу узнав его, потом извинился и пропустил.
IV
Микеланджело вступил в обширную полутемную залу, служившую столовой папы; на сводах мерцали старинной позолотой фрески Джотто. Стены увешаны были драгоценными фландрскими коврами, аррацами с тусклыми, нежными, мягкими красками, с изображением языческих мифов – похищения Европы, смерти Адониса. Внизу по стенам шли скамьи с высокими точеными спинками из темного дерева.
Папа кончил обед и занимался делами. Секретарь читал депеши из Болоньи. Царствовала тишина. Кардиналы и немногие придворные, сидевшие за столом, переговаривались шепотом. В душном воздухе был тонкий запах обеденных пряностей. Слуги, приходя и уходя по знаку церемониймейстера, скользили неслышно, как тени. Придворный лейб-медик держал пузырек лекарства и осторожно отсчитывал капли в стакан вина, приготовленный для папы. У самых ног его святейшества, на шелковой, вытканной золотом, подушке, сидел странный юноша необычайной красоты, не то шут, не то вельможа, в полудетской, полуженской одежде, с белокурыми, длинными локонами, с прелестными, лукавыми глазами, в которых сияла нега. Он небрежно и тихо, так, чтобы не мешать деловому чтению, перебирал струны лютни. То был всемогущий баловень грозного Юлия, семнадцатилетний Ганимед[2] ватиканского Юпитера, сиятельнейший спальничий, камерьер Аккорзио, который обладал ключами от сердца папы так же, как папа обладал ключами неба.
Луч солнца скользил по столу, дробился в хрустальной чаше с недопитым вином, играл на майоликовом блюде, задевал серебряную белую бороду Юлия, которая выделялась на пурпурном бархате широкого папского наплечника, и сверкал в большом рубине перстня на исхудалой, бледной руке старика. Он сидел немного сгорбившись, опираясь обоими локтями на ручки кресла, отодвинутого от стола. Голый череп покрывала надвинутая на лоб бархатная скуфья такого же темно-красного цвета, как наплечник. Пороки и болезни оставили следы свои на этом изнуренном лице с ввалившимися щеками. Но тонкие губы все еще были сжаты с выражением неодолимого упорства, закоренелой привычки к самовластию, и под насупленными бровями в глубоких впадинах глаз светился огонь воли, не побежденной ни пороками, ни болезнями. Взор этих глаз был страшен, когда они сверкали гневом.
Микеланджело входил в столовую. Секретарь кончил чтение болонских депеш. Юлий заметил Буонарроти, бросил на него исподлобья быстрый, недовольный и скучающий взгляд. Художник понял, что пришел не вовремя; ни с кем не заговаривая, одинокий и надменный, остановился он у окна, ожидая очереди, как проситель.
К папе приблизился юркий, жирный, круглый, как шар, с грязными руками, болтливый старик, придворный золотых дел мастер. Он говорил о покупке драгоценных камней для украшения недавно заказанного Юлием креста к алтарю Сикстинской капеллы.
Папа, не слушая, закрыл усталые веки. Ювелир прекратил болтовню, думая, что папа уснул. Тогда Юлий открыл глаза и молвил сердито:
– Остались деньги?
– Нет, ваше святейшество, я истратил все, что было назначено. Осмеливаюсь просить ваше святейшество о прибавке: армянин Джем предлагает за дешевую цену два карбункула и смарагд, ежели ваше святейшество…
– Довольно, – с нетерпением махнул папа рукою, – говорю, довольно, отстань!
Ювелир переминался с ноги на ногу и хотел возразить, но папа крикнул:
– Убирайся к черту и помни, больше я не дам ни гроша, ни на малые, ни на большие камни…
Микеланджело понял, что значит это «большие камни», понял, что намек был обращен к нему.
Когда наступила очередь, он подошел к Юлию с чертежами, планами и счетами. Папа взглянул на них брезгливо:
– Некогда, – молвил он, зашевелившись на кресле, – приходи в понедельник.
– Святой отец, – возразил Микеланджело спокойным твердым голосом, – не угодно ли вам будет посмотреть эти счета? Рабочие требуют платы: по справедливости, нельзя им доле отказывать. Велите казначею выдать деньги, или я должен буду заплатить за мрамор для вашей гробницы из собственного имущества.
Юлий пристально, как будто удивленно, взглянул на Микеланджело. Художник, не потупившись, выдержал этот взгляд.
Все замерли в ожидании. Аккорзио, оставив мандолину, поднял голову с лукавым и веселым любопытством.
Юлий промолчал, только отстранил рукою положенные перед ним планы и счета, так что они упали на пол. Потом, не обращая на Буонарроти внимания, как будто забыв о нем, он поднялся с кресел; два молодых прелата подскочили и поддержали его под руки, третий подал ему палку и, опираясь на нее, быстрыми, еще бодрыми шагами папа направился к выходу из приемных зал во внутренние покои для краткого послеобеденного отдыха.
Буонарроти побледнел; судорога ярости исказила его губы. Чувствуя на себе насмешливые взоры пажей, лакеев и конюхов, он должен был наклониться, чтобы подобрать с полу упавшие бумаги.
V
Он вернулся домой и тотчас же написал своему старому флорентийскому другу, мессеру Бальдассаре Бальдуччи, который заведовал делами в римском банке мессера Галли, и попросил у него взаймы двести золотых имперских дукатов. В тревоге стал он ожидать ответа, с горечью думая о возможности отказа и новых унижений. Но, даже если бы Бальдуччи согласился, Микеланджело был разорен: чтобы заплатить долг, ему надо продать дом во Флоренции, в котором жили старый отец его и братья. Он вспомнил долгие годы лишений, которые добровольно терпел, чтобы обеспечить семью, вспомнил восемь месяцев, только что проведенных им в каменоломнях Каррары. Лихорадки, изнурительная работа то под жгучим солнцем, то под ледяными дождями едва не сломили его крепкого здоровья. Имея двух слуг и одну лошадь, в продолжение всего этого времени он ничего не получал от папы, за исключением насущного хлеба. Он не был скуп, но расчетлив, деловит, как истинный флорентинец, знал цену деньгам и отказывал себе во многом, мечтая о будущей независимости и спокойствии. Так он был воспитан в доброй честной семье, где с молоком матери передавалась привычка свято чтить свое и чужое имущество.
Наконец пришел посланный с ответом из банка. Бальдассаре Бальдуччи в краткой и любезной деловой записке обещал прислать деньги на следующее утро.
Микеланджело, успокоившись, опять взошел на подмостки и взял резец. Мало-помалу работа увлекла его. Статуя была одним из «Связанных Невольников», олицетворений искусств, которые должны были стоять на четырехугольных выступах мавзолея. Этими изваяниями художник хотел сказать, что смерть, похитившая Юлия, заковала в цепи искусства и лишила их надежды когда-либо найти подобного ему покровителя. Теперь художник без горькой усмешки не мог вспомнить этой аллегории. Не все ли равно? Предчувствуя, что гробница не будет окончена, он работал для себя, бесцельно и бескорыстно, не думая о папе. Он забыл про все. Удары молота были так сильны, что казалось, вся статуя разлетится вздребезги. Осколки мрамора сыпались дождем.
Приходила служанка и звала его ужинать; он не пошел, только взял кусок хлеба, торопливо съел его, не сходя с подмостков, и опять принялся за работу. Твердый камень становился все мягче, таял, как воск. Ваятель освобождал из-под каменной оболочки скрытый образ. Молодой невольник закинул голову с отчаяньем, все члены, все жилы и мускулы были напряжены в бесконечном усилии, чтобы порвать узы, которые врезывались в тело.
Художник оставил работу поневоле, когда наступили сумерки, засветил огонь и до поздней ночи просидел над любимой книгой, «Божественной Комедией», с которою никогда не расставался, так же, как и с Библией. В эту ночь написал он гордые стихи, посвященные Данте:
Dal mondo scese ai ciechi abissi . . . . . . . . . . . . . . Per' foss'io talĺch'a simil' sorte nato, Per l'aspro esilio con la virtute, Darei del mondo il più felice stato. . . . . . . . . . . . . . . Из мира сошел он в темные пропасти, Людям открыл вечные тайны, Но подвиг остался без награды; Неблагодарный народ не понял и отверг его. И все же пусть бы я был таким: за его судьбу, За его суровое изгнание и добродетель Я отдал бы самый счастливый удел на земле.Ночь начинала бледнеть, когда Микеланджело лег на жесткую бедную постель для недолгого отдыха, как он это часто делал, почти не раздеваясь, не снимая обуви.
Утром Буонарроти призвал лодочников, плотников, каменотесов и заплатил все, что был должен, до последнего сольди.
VI
В назначенный Юлием день, то есть в понедельник, пошел он опять во дворец. Ему сказали, что папа едет на охоту в Альбанские горы. Двор был полон веселых звуков рогов, лаем собак, криками доезжачих, шумом и трепетом соколиных крыльев. Микеланджело увидел издали, как Юлий, в странном для духовного лица охотничьем наряде, в больших ботфортах, в шляпе с перьями и кожаном панцире, подобный старому полководцу, садился на великолепного коня. Аккорзио держал стремя. Папа казался оживленным и что-то на ухо говорил своему любимцу, который улыбался тонко и двусмысленно, что Буонарроти понял, что теперь Юлию не до мыслей о гробнице. Он пришел во вторник. Папа еще не возвращался с охоты. Пришел в среду и в галерее встретил знакомого секретаря, который предупредил его, что его святейшество в дурном расположении духа, так как из Болоньи нехорошие вести: он только что избил костылем епископа Анконского. Из приемной выходили придворные с растерянными лицами, и Микеланджело услышал, как французский посланник с улыбкой говорил своему собеседнику, упитанному, жирному и безмятежному капеллану:
– Mais il est terriblement cholérique, votre pape!.[3]
У Буонарроти была еще надежда, что если удастся напомнить папе о счетах, то он, скрепя сердце, заплатит.
Во что бы то ни стало решил он добиться свидания на следующий день, в четверг.
Но когда подошел к двери приемной, его остановил «палефреньер», папский конюх.
– Извините, синьор. Мне не приказано пускать вашу милость…
Один из епископов Луккских, находившийся в передней, услышав эти слова конюха, прикрикнул на него и сказал:
– Как ты смеешь, грубиян! Ты верно не знаешь, с кем говоришь. Это мессер Буонарроти. У него пропуск во всякое время.
– Вы ошибаетесь, синьор, – отвечал палефреньер невозмутимо, – я очень хорошо знаю мессера Буонарроти, но мой долг: не рассуждая исполнять приказания папы и моих начальников.
Микеланджело не верил ушам своим. Ему казалось, что все это он видит в дурном сне. Ничего не ответив, повернулся он, пошел домой и написал папе следующие строки:
«Блаженнейший отец. Сегодня, по вашему приказанию, я был выгнан из дворца, а потому объявляю вам, что с этого часа, если пожелаете меня видеть, то вам придется искать меня в другом месте, а не в Риме».
Он отправил это письмо камерьеру Агостино Скалько для передачи папе.
Призвав двух верных слуг, давно у него живших, старших надзирателей за рабочими, плотника Козимо и мраморщика Антонио, он сказал им:
– Ступайте, отыщите какого-нибудь жида, продайте все, что есть в этом доме, и приезжайте ко мне во Флоренцию.
Потом отправился в гостиницу «Трех Мавров», где останавливалась почта, взял место в неуклюжей и неудобной почтовой карете, запряженной четверкой заморенных кляч, и через два часа выезжал из Рима по дороге на север. Его спутниками были угрюмый и молчаливый аптекарь из Перуджи, старый еврей-ростовщик с лицом ветхозаветного патриарха, монах-чертозианец, веселый и вертлявый, все время убеждавший еврея креститься, и толстая, белолицая мызница с корзинкой яиц, множеством узелков, которая боялась нападения разбойников или турок. Микеланджело был рад, что никто его не узнает, но все-таки опасался и успокоился окончательно только тогда, когда отъехали на несколько миль от Рима. Кругом на необозримое пространство до амфитеатра Сабинских гор с грозным обрывистым утесом Рокка ди Папа, как туманное море, мягкими, зелено-синими волнами холмов расстилалась Кампанья. Кое-где на ясном небе чернела сторожевая башня непокорных феодальных баронов Священной области – Колонна, Орсини, Савелли. Над тихими развалинами и сломанными пролетами акведуков, тянувшихся до самого Фраскати, реяли черные крикливые стаи галок и ворон.
Микеланджело, радуясь тишине и свободе, с наслаждением вдыхал крепкий как вино, сладкий, как мед, запах диких трав. Все, что с ним произошло на службе папы Юлия, казалось ему теперь далеким воспоминанием.
Дорога медленно поднималась в гору. Он любовался облаками, лежавшими на горизонте равнины. С детства любил он отыскивать в этих громадах образы, как бы статуи неведомого ваятеля, которые величием превосходят все, что может создать человек. И он вспомнил, как однажды, глядя на каменоломню Каррары с высокой горы над морем, задумал высечь в скале исполинскую статую, чтобы мореплаватели видели ее издалека. То была греза художника, такая же бесцельная, как эти мгновенные, чудовищные и пленительные очертания нагроможденных облаков.
VII
Наступила ночь, когда почтовая карета, дребезжа и звеня, въехала в плохо мощенные, тесные и узкие улицы маленького города, старой крепости Поджибонси, первого местечка, принадлежавшего Флоренции, в восемнадцати или двадцати милях от города. Микеланджело решил остановиться и отдохнуть до утра, считая себя в безопасности здесь, на земле, принадлежавшей флорентинцам. Правителем города, подеста, был его приятель Федериго Старно.
Буонарроти остановился в маленьком альберго[4] под вывеской «Оловянного Блюда», недалеко от ратуши. В громадной сводчатой кухне пылал очаг, играли в кости, распевали песни и пьянствовали доганьеры, чиновники таможни и наемные солдаты из Сан-Джеминьяно. Хозяин объявил, что все постели заняты лошадиными барышниками, спешившими на сиенскую ярмарку, и отвел гостя в тесную душную горницу, где на необъятном ложе, подобии катафалка, заливались храпом трое спящих; он указал Микеланджело на оставшееся свободное место с края постели и обещал дать отдельную подушку, уверяя, что «ежели немного потесниться, то будет просторно». Гость предпочел устроить ночлег у окна на широкой деревянной скамье, завернувшись в дорожный плащ и подложив под голову вместо подушки кожаную сумку с чертежами и бумагами.
Давно уже не спалось ему так сладко, как в этой дрянной гостинице, первую ночь на свободе и в родной земле.
Петухи пропели, звезды начинали бледнеть, и в часовне св. Петрониллы прозвучал колокол, когда послышался громкий стук в ворота альберго, крики богохульства, топот лошадиных копыт. Микеланджело вскочил и долго не мог сообразить в темноте, что с ним и где он: он все забыл во сне, и ему казалось, что он еще в Риме, в своей спальной комнате рядом с мастерской. Затем вспомнил и подумал, что это внизу, в кухне, буйствуют пьяные доганьеры.[5] Но по лошадиному топоту в соседнем переулке скоро догадался, что дело неладно, должно быть, за ним приехали посланные от Юлия. Сердце его забилось чаще; он хорошо знал, что поступок его с папою может стоить ему жизни, или, по крайней мере, заключения в страшных подземных темницах Св. Ангела. В темноте, обшарив скамью, ощупал он кожаный пояс с прикрепленными к нему ножнами, вынул кинжал и положил рядом с собою на подоконник.
Дверь горницы отворилась, и в нее просунул голову хозяин гостиницы, заспанный и растрепанный, с фонарем в руке, от которого упал колеблющийся круг света на кирпичный пол.
– Не вы ли мессер Микеланджело Буонарроти из Рима? – спросил хозяин.
– Я Буонарроти из Флоренции и возвращаюсь в мой город из Рима. Чего вам нужно?
– Ах, помилуйте, ваша эчеленца,[6] мог ли я предполагать что-либо подобное! – воскликнул хозяин с подобострастным поклоном. – О, зачем же ваша эчеленца давеча не изволили предупредить? Знаю, знаю, инкогнито… Но, поверьте, если бы я только имел счастье подозревать, что такой знатный и благородный господин делает честь моему скромному жилищу, я отвел бы покои внизу. Правда, мы ожидаем с часу на час посла яснейшей республики, мессера Джустиниани, но для вас, знаменитейший и сиятельнейший…
– Послушайте, что вам нужно? – повторил Микеланджело с нетерпением, слыша продолжавшиеся крики и стук.
– Курьеры, курьеры его святейшества, преблаженнейшего и преподобнейшего отца нашего папы Юлия, – объявил хозяин с таинственным видом, как неожиданно радостную весть. – Я велел им отпереть с вашего позволения. Пресердитые и преважные господа, осмелюсь доложить, едва ворот не выломали, всю крепость всполошили…
– Вы окажете мне большую услугу, добрый человек, – произнес Микеланджело, – если немедленно пошлете кого-нибудь или сами сходите к здешнему подеста,[7] моему другу мессеру Федериго Старно. Попросите от моего имени, чтоб он пришел со своими людьми: скажите, что мне скоро может понадобиться его помощь.
– Вашей милости нечего беспокоиться, – возразил хозяин, – я слышал голос мессера Федериго у моих ворот. А ночью он никогда не выходит без стражи. Вот и господа курьеры…
И он пропустил в комнату пять человек, с ног до головы вооруженных, в огромных ботфортах, забрызганных грязью. Трое спящих на громадной постели проснулись и вскочили: один из них, думая, что это разбойники, спрятался под кровать, другой, крестясь, шептал Ave Maria, третий ругался, протирая глаза.
В предводителе маленького отряда, в молодом человеке с красивым и хищным лицом, Микеланджело узнал кавалера папской гвардии. Юноша снял черный берет с алым пером и произнес, вежливо кланяясь:
– Имею честь быть, мессер Буонарроти, вашим покорным слугою – рыцарь Джисмондо Брандино. Я позволил себе явиться к вашей милости с поручением от папы. Не угодно ли будет вашей синьории последовать за нами – лошади стоят у ворот. Не должно медлить, так как его святейшество ожидает вас с великим нетерпением.
– Папа, вероятно, уже получил мое письмо, – возразил Микеланджело, – я извещаю его, что навсегда уехал из Рима и не намерен возвращаться.
– Я имею письмо от его святейшества.
Джисмондо приблизился и подал конверт с привешенной на шнурке большою печатью зеленого воска, на которой изображена была тройная остроконечная митра и ключи римского первосвященника. Хозяин принес заплывшую сальную свечу в неуклюжем деревянном подсвечнике. Микеланждело прочел следующие слова, торопливо написанные рукою папы:
«По прочтении сего немедленно ехать в Рим или готовиться к нашему гневу.
Юлий»– Это письмо, – спокойно произнес художник, – ни в чем не меняет дела. Вы можете передать его святейшеству, что я остаюсь при моем намерении никогда не возвращаться в Рим.
– Мессере, – молвил Джисмондо, – говорю вам теперь не как посланный его блаженства, а как человек, желающий добра великому художнику, славе и гордости нашего отечества: исполните волю папы. Святой отец разгневан, но готов простить и оказать вам новые, еще большие милости. Я знаю, что он велел заплатить двести дукатов, которые вы в прошлую субботу заняли в банке мессера Галли.
– Благодарю за добрый совет, рыцарь, – с усмешкой возразил Буонарроти, – но, к сожалению, вы имеете дело с человеком не менее своевольным и упрямым, чем его святейшество папа Юлий. Не тратьте же слов даром: воля моя столь же неизменна, как воля папы, и счеты мои с ним кончены.
– Мессер Буонарроти, как мне ни прискорбно, но я должен предупредить вашу милость, что в случае, если бы вы не пожелали добровольно вернуться, я имею полномочия употребить крайние средства. Надеюсь, что вы не заставите меня.
– Угроза? – перебил Микеланджело и быстро подошел к окну, открыл ставни, поднял подвижную раму с тусклыми стеклами и увидел у ворот альберго Федериго Старно с вооруженными людьми и толпою любопытных.
Утреннее небо светлело, колокола св. Петрониллы заливались весело и тонко.
– Мессер Буонарроти, последнее слово: вы не желаете следовать за нами? – произнес Джисмондо.
– Оставьте меня в покое, уверяю вас, это лучше для нас обоих.
– В таком случае…
По знаку Джисмондо один из солдат приблизился к Микеланджело и взял его за руку. Он понял, что они хотят связать его, и оттолкнул солдата с такою силою, что он ударился о стену и едва не упал. В то же мгновение Буонарроти схватил кинжал и, выглянув в окно, приветствовал своего друга подеста громким голосом:
– Доброго здоровья, мессер Федериго. Как поживаете?.. Нет, нет, благодарю вас, пока помощь ваша не нужна.
Потом, обернувшись к папскому курьеру, продолжал:
– Слушайте, мессере, если кто-нибудь из ваших людей тронет меня пальцем, я позову стражу подеста, и вам будет плохо. Мне довольно сделать знак, чтобы люди, стоящие у ворот, изрубили вас. Мы здесь на свободной земле. Я гражданин Флорентинской республики, и горе тому, кто посмеет наложить на меня руку. Я не хочу, чтобы проливалась кровь. Ступайте же с Богом, пока не случилось беды.
Джисмондо понял, что Микеланджело не шутит, переменил выражение лица и голоса и начал просить, чтобы он, по крайней мере, ответил на письмо папы.
Художник согласился, велел хозяину принести чернильницу и написал короткое письмо, в котором извещал, что посланные настигли его в флорентинских владениях, а потому не могли заставить ехать в Рим, объявил, что ни за что не вернется, что за верную службу не следовало оскорблять и выгонять его как негодяя и что так как папа не хотел дозволить ему окончить гробницу, то он считал сделанные условия уничтоженными и не желал делать новых.
Выставив число в письме, он запечатал и передал его Джисмондо. Рыцарь с церемонною испанскою вежливостью поклонился и молвил: «Надеюсь, до скорого свидания в Риме», и, так как делать было больше нечего, вышел со своими людьми. Через несколько времени Буонарроти услышал удалявшийся стук лошадиных копыт.
В тот же день среди милых нежных холмов, где извиваются серебряные кольца Арно, он увидел черепичный, подобный громадному нераспустившемуся цветку, красноватый купол Марии дель Фьоре и темно-серую высокую башню палаццо делла Синьория.
VIII
В это время правителем Флоренции, пожизненным гонфалоньером, был старый друг Микеланджело, Пьетро Содерини. Он принял художника под свою защиту.
Через три месяца пришла из Рима папская булла.
«Возлюбленные чада! – обращался Юлий к флорентинским синьорам, – прежде всего апостольское наше вам благословение во здравие и спасение души и тела. Микеланджело, ваятель, который легкомысленно и необдуманно уехал от нас, ныне, как мы слышали, не смеет возвратиться. Мы не гневаемся на него, зная нрав и природу людей, подобных ему. Но для того, чтобы он отложил всякое подозрение, напоминаем вам о долге сыновней почтительности и поручаем сказать ему, что ежели бы он пожелал вернуться, то мы не причиним ему никакого зла и примем с той же милостью, какую оказывали ему до отъезда. Из Рима дано 8 июля 1506, нашего правления третьего лета».
Микеланджело хорошо знал, что святой отец не задумается нарушить слово, что он не раз уже преступал клятвы в делах с людьми более сильными, и что милостивая булла – только хитрость, дипломатическая западня.
Содерини ответил Юлию почтительно и уклончиво, что Микеланджело так напуган (impaurito), что, несмотря на уверения, заключенные в булле, считает возвращение в Рим небезопасным. Он, Содерини, всячески убеждает и будет убеждать его возвратиться в Рим, но вместе с тем уверен, что если только он перестанет обращаться с Микеланджело ласково и осторожно, тот непременно убежит. Два раза он уже был близок к тому.
Гонфалоньер не обратил большого внимания на первую буллу, не очень торопил Микеланджело ехать и надеялся, что гнев Юлия скоро потухнет.
Через несколько дней пришла вторая, еще более милостивая и настоятельная булла.
Тогда Содерини, человек, безукоризненно честный, но слабый и нерешительный, призвав Микеланджело, молвил:
– Ты поступил с папою так, как не осмелился бы поступить с ним король Франции. Не при против рожна. Довольно упорствовать. Мы не хотим и не можем начинать из-за тебя войну с папою и подвергать город опасности, а потому просим тебя возвратиться к его святейшеству.
– Лучше я отправлюсь к великому турку, чем к его святейшеству, – воскликнул Буонарроти, – султан сумеет защитить меня от папы.
Содерини знал, что эти слова в устах Микеланджело – не простая угроза. Художник давно уже вел переговоры с Баязетом II через одного приехавшего из Константинополя францисканского монаха. Чувствуя себя, как зверь, затравленный в берлоге, Буонарроти готов был на все, чтобы избавиться от страшных когтей папы. Султан предлагал ему построить мост через один из рукавов Золотого Рога, чтобы соединить Константинополь с Перою. Художнику нравилось величие этого замысла.
От Содерини пошел он к монаху францисканцу, с которым вел переговоры, – к фра Тимотео.
Тот принял его, как всегда, с радостью, стал угощать восточным розовым вареньем, показал новые письма из Константинополя и умолял поскорее решить дело, так как султан не хочет долее ждать и требует окончательного ответа.
– Фра Тимотео, – произнес Микеланджело, – заклинаю вас, скажите мне правду, как перед Богом, не потребует ли султан, чтобы я отрекся от Христа и поклонился нечестивому Магомету? Я лучше хотел бы умереть, чем не только сделать, но даже подумать что-либо подобное.
– О, будьте, покойны, мессер Буонарроти, клянусь вам Святою Пасхою, клянусь спасением души моей, что султан не потребует от вас ничего противного совести. Поверьте мне, суд Божий не то, что человеческий. Я жил в Константинополе, жил в Риме, и, право, мне трудно было бы решить, говорю вам по совести, где больше порочных людей – при дворе его святейшества или при дворе его величества. Мессер Буонарроти, все мы люди, все человеки. Я знавал язычников, которые были милосерднее и праведнее, чем те, кто называют себя христианами и повторяют мертвыми устами: «Господи, Господи», а в сердце их дьявол.
– Буду ли я свободен, фра Тимотео, свободен во всем? Позволит ли мне султан в искусстве делать то, чего я желаю?..
– Слушайте, сын мой, я прочел однажды, не помню в какой книге, что древний ваятель задумал вырубить из целой горы, стоявшей на берегу моря, статую Александра Великого, такую громадную, чтобы на ладони рук ее мог поместиться город с площадями, улицами, храмами, с десятками тысяч народа. Если бы вы задумали что-нибудь подобное, а я знаю, что великая душа ваша способна и к большему, то султан поймет вас и ни в чем не откажет – ни в деньгах, ни в людях. Этот всемогущий государь хочет, чтобы вы создали произведение, достойное вас и его, необычайное, о каком еще ни один человек на земле и подумать не смел. Султан сильнее папы, и в сравнении с тем, что он ожидает от вас, замыслы его святейшества ничтожны. У папы есть Браманте. Довольно с него. Лучшего не стоит. На вашем месте я бы показал флорентинцам-купчикам и римским папам, кто у них был и кого они лишились! О, я проучил бы их, уехал бы к султану уже для того, чтобы долго они помнили, что значит оскорблять художника! У меня и теперь душа замирает от смеха, как подумаю, какое лицо сделает папа, узнав, что ваша милость уехала к султану. Святой отец будет себе руки кусать от злобы. Да поздно, – птичка улетела, не воротишь… Итак, мессер Буонарроти, по рукам, не правда ли? Я дурного не посоветую. Через два дня мы выезжаем отсюда, потом на корабле из Венеции. Скажите только «да» – и я сегодня же напишу его величеству.
IX
В глубоком раздумьи возвращался Микеланджело от фра Тимотео по тихим улицам Флоренции. В сотый раз взвешивал он на внутренних весах совести: папа или турок? Что лучше – папа или турок?
– Господи, неужели и вправду нет на земле свободы, неужели нет такого места, где бы я мог никому не служить – ни папе, ни турку, исполняя волю своего сердца и Бога?
С тяжелым вздохом поднял он глаза к небу. Недосягаемо высокие облака, круглые, мелкие, голубые как перламутр, освещались невидимой луной: там был вечный холод, покой и свобода.
– Папа или турок? – повторял он с горькой усмешкой. – Монах прав, они стоят друг друга. Не все ли равно! Нет свободы, надо быть рабом, надо терпеть и покоряться.
Он вспомнил себя, каким был в Поджибонси – бесстрашным и надменным. Трех месяцев мелких оскорблений, мелких счетов с жизнью довольно было, чтобы обезоружить его сердце, чтобы в душе его не осталось ни капли гордости. Он чувствовал себя беспомощным и слабым. Стоило возмущаться, стоило убегать из Рима, людей смешить!
Поскорее вернулся он домой, не зажигая свечи, разделся, лег в постель, с головою завернулся в одеяло так, чтобы ничего не видеть и не слышать, повторяя одно слово: «Скучно, скучно!» Холод отвращения к жизни, к людям, к себе пронизывал его до сердца, как холод смертельной тошноты. Обессиленный и уничтоженный, без мысли, без чувства, без воли, заснул он мертвым сном.
На следующий день пришла третья булла.
Гонфалоньеру донесли о новых переговорах Буонарроти с турками. Содерини опять призвал его к себе и стал уверять, что если он уедет к султану, Юлий, наверное, отлучит его от церкви. Лучше умереть от руки папы, чем жить при дворе турка. Впрочем, художнику нечего опасаться; святой отец благосклонен и требует его к себе, потому что любит, а не потому, что желает причинить ему обиду. Но если он все-таки страшится, флорентийская синьория готова дать ему титул посланника – ambasciatore, делающий лицо неприкосновенным.
Микеланджело ответил, что согласен на все и готов ехать к папе.
В это время его святейшество, не как смиренный пастырь Христовых овец, а как римский военачальник, не снимая шлема и панциря, не сходя с боевого коня, опустошил замки, города и селения непокорных вассалов и баронов церкви, завоевал Перуджу и триумфатором при кликах народа вступил в Болонью.
С титулом ambasciatore – посланника Флорентинской республики – приехал туда Микеланджело 15 ноября 1506 года.
Гонфалоньер дал ему письмо к своему брату, кардиналу Содерини.
«Смеем вас уверить, – писал он, между прочим, брату, – что Микеланджело – человек необыкновенный, первый ваятель в Италии, если не в целом мире. Мы поручаем его вашему вниманию. Вежливостью и ласковостью можно с ним сделать все что угодно. Но следует дать ему заметить, что его любят и ценят. Помните, что Микеланджело возвращается к папе, доверившись нашему слову».
Несмотря на все дипломатические любезности, Буонарроти, по собственному выражению в одном из тогдашних писем, ехал к папе «с ремнем на шее», то есть как собака, которую тащат насильно.
Он передал письмо кардиналу Содерини, который был болен, извинился, что не может лично ходатайствовать, и поручил одному из своих епископов замолвить слово перед папою за художника.
Буонарроти приехал в Болонью утром и пошел слушать обедню в собор. По дороге встретили его папские конюхи. Они обрадовались и повели его во дворец.
Х
В торжественной и мрачной зале, во Дворце шестнадцати (Palazzo de sedici), папа, окруженный рыцарями и военачальниками, сидел под триумфальным балдахином из темно-зеленого бархата, по которому были вышиты золотом дубовые листья и желуди – геральдический знак Юлиева дома – делла Ровере.
Епископ, приближенный кардинала Содерини, встретил Буонарроти в дверях, положил руку на его плечо и стал успокаивать:
– Как вы себя чувствуете, сын мой? Главное, не теряйте присутствия духа. Господь милостив, папа сегодня в хорошем настроении. Не бойтесь, уж мы за вас похлопочем.
Микеланджело взглянул на епископа: это был вертлявый человек с угодливым и приторным выражением лица.
– Главное, присутствие духа, – повторял он хлопотливо. – Сложите руки, смотрите его святейшеству в глаза; его святейшество любит, чтобы ему смотрели прямо в глаза. Изобразите кротость и смирение в лице…
Епископ подвел художника к престолу папы. Микеланджело стал на колени.
Юлий взглянул на него исподлобья и тотчас же отвел глаза. В старческих пальцах сжимал он костяную ручку своего страшного знаменитого посоха. Наконец Юлий проговорил тихо и угрюмо:
– In cambio di venire tu a trovare noi, tu hai aspettato che veniamo a trovare te? – Вместо того чтобы тебе явиться к нам, ты подождал, пока мы сами не пришли к тебе?
Его святейшество хотел этим сказать, что Болонья находится ближе к Флоренции, чем Рим, и таким образом он первый приехал к Микеланджело в Болонью.
Художник произнес заранее приготовленные слова – вежливо извинял свой поступок, уверяя, что не имел желания оскорбить его святейшество. Он позволил себе покинуть Рим, полагая, что более не нужен папе.
Юлий не отвечал и сидел, опустив голову. Лицо его было гневно, брови нахмурены, и судорожно подергивались углы плотно сжатого, старческого, ввалившегося рта. Наступило молчание.
Тогда угодливый епископ решил, что пора заступиться, что иначе дело может кончиться плохо для Буонарроти. Среди зловещего молчания он произнес жалобным и глупым голосом:
– Ваше святейшество, простите беднягу, не извольте на него гневаться. Такой уж народ все художники: с них и спрашивать нельзя, это люди невежественные, необразованные, ничего не разумеют, кроме своего ремесла…
– Дурак! – закричал папа таким голосом, что у епископа ноги подкосились от испуга, – ты говоришь ему дерзости, которых и мы не говорим. Невежда не он, а ты. В мизинце этого человека больше ума, чем в твоей голове. Убирайся к черту!
И он с яростью замахнулся костылем на епископа, который стоял ни жив ни мертв.
Тогда конюхи, лакеи, приспешники окружили, заперли, оттеснили его, сначала потихоньку, подталкивая под локти, потом уже не церемонясь, выпроваживая в двери, по выражению самого Микеланджело, который впоследствии нередко рассказывал об этом случае друзьям своим, – «лакейскими толчками».
Папа сорвал сердце на епископе. Все вздохнули свободнее. Юлий велел художнику приблизиться, поднял его и милостиво дал благословение:
– Чудак, – молвил папа, и улыбка заиграла на его губах. – Чего ты струсил? Думал, я тебя съем, что ли?
Потом лицо его сделалось серьезно, он наклонился и сказал ему на ухо быстро и тихо, так, чтобы окружающие не могли слышать:
– Не верь клеветникам, как я не верю, и знай, Буонарроти, сколько бы ты ни жил, не найдешь ты другого человека, кто бы так любил тебя, как я.
Он обнял, поцеловал Микеланджело в лоб, и оба почувствовали, что понимают друг друга.
XI
Вскоре после этого свидания папа, еще находясь в Болонье, приказал художнику вылепить с него громадную статую, отлить из меди и поставить в нише над главным входом в церковь св. Петрония. Для исполнения заказа положил он в банк мессера Антонио Мария Леньяно тысячу скуди. Буонарроти с жаром принялся за дело, и до отъезда Юлия в Рим глиняная модель статуи была готова.
Однажды папа пришел к нему в мастерскую взглянуть на работу. Святой отец был изображен благословляющим народ правою рукою, но художник не знал, что дать ему в левую.
– Не пожелаете ли книгу, ваше святейшество? – спросил он Юлия.
– Книгу! – воскликнул папа. – О, нет, я человек неученый. Не книгу, а меч. Mettimi una spada, che io non sono di lettere.
Потом, указывая на могучее и грозное движение поднятой правой руки, папа, улыбаясь, спросил его:
– Что это? Благословение или проклятие?
– Ваше святейшество, – отвечал Микеланджело, – вы говорите жителям Болоньи, что накажете их, если они будут непослушны.
Буонарроти провел шестнадцать месяцев в тяжелом труде, лишениях и заботах, отливая статую. Наконец она была готова: над входом в церковь сидел медный папа, как живой, с грозно поднятою десницею, но в левой руке держал он не книгу и не меч, а ключи св. Петра.
Эта статуя погибла бесследно. Граждане Болоньи, которые некогда встречали восторженными криками Юлия-триумфатора, по возвращении изгнанных папою герцогов Бентиволио с яростью, бранью и хохотом стащили веревками статую на площадь и разбили ее вдребезги; герцог Альфонсо д'Эсте, большой любитель и знаток артиллерии, вылил из обломков громадную пушку, которая получила имя Юлия.
Микеланджело, окончив работу, вернулся в Рим и надеялся, что папа позволит ему продолжать гробницу.
Но враги готовили новые сети. Браманте не мог успокоиться, придумывая средства, чтобы поссорить папу с Буонарроти, и с этою целью пригласил из Урбино своего родственника, юного Рафаэля Санти. Он угадал, что Рафаэль будет единственным соперником, страшным для Буонарроти не в скульптуре, а в живописи. Браманте решил заманить Микеланджело в живопись и стал нашептывать папе, что следует покрыть фресками потолок недавно перестроенной капеллы Сикста и что во всем мире нет человека более способного к столь трудному делу, чем Микеланджело. Браманте надеялся, что если Буонарроти не примет заказа, то восстановит против себя папу, если же согласится, то славу его как живописца затмит Рафаэль.
Микеланджело понял намерение врагов и старался избавиться от заказа. Он убеждал папу, что следует поручить это дело Рафаэлю, что он, Буонарроти, отвык от живописи, не разумеет и не любит этого искусства. Но таков был нрав Юлия: чем больше Микеланджело упорствовал, тем непреклоннее становилась воля папы. Дело грозило окончиться новою ссорою. Браманте злорадствовал.
– Нашла коса на камень, – говорил он сообщникам своим, весело потирая руки.
Наконец Микеланджело понял, что сопротивление бесполезно, и скрепя сердце, с отчаянием в душе, начал подготовительные рисунки.
Сикстинская капелла – узкое, длинное здание с высокими окнами, с гладкими голыми стенами без всяких украшений. Продолговатый потолок с дугообразными отвесами хорошо освещен. Желая оставить свободное место для совершения служб церковных, папа не позволил загромождать нижней части часовни. Леса надо было строить так, чтобы без подпорок они держались на высоте, соединяясь с полом только узкими опасными лестницами.
Папа поручил Браманте постройку лесов. Он долго не знал, как приступить к этому трудному делу. Наконец придумал способ: проделал в крыше и потолке небольшие дыры, в которые пропустил канаты: на них должны были держаться легкие висячие мостики. Эта сложная сеть веревочной паутины – хитрая воздушная постройка, была чудом искусства, но чудом бесполезным.
Микеланджело, увидев ее, рассмеялся в лицо Браманте:
– Что же мы будем делать с дырами, когда придется покрывать эти места живописью?
Браманте смутился, пожал плечами и ответил, что иначе сделать нельзя, если не строить подпорок снизу, чего папа не позволяет.
Тогда Буонарроти пошел к Юлию и объявил, что леса Браманте никуда не годятся.
– Ежели он не умеет, – возразил папа, бросая гневный взгляд на архитектора, – сделай сам.
Браманте почувствовал, что попал в яму, которую рыл другому.
Микеланджело разобрал веревочную паутину, заделал дыры, причем вынутых канатов оказалось такое множество, что бедный помощник его, плотник Козимо, которому он их подарил, на вырученные за них деньги выдал замуж двух дочерей.
Буонарроти построил леса без помощи веревок, искусно утвердив на карнизах выступы бревен и досок, соединяя их и переплетая так, что подмостки становились тем прочнее и надежнее, чем более накладывали на них тяжестей.
Эта постройка открыла глаза Браманте, научила его воздвигать леса, и он воспользовался уроком, когда строил подмостки для церкви св. Петра.
Боясь, что собственных сил не хватит для выполнения замысла, Буонарроти пригласил из Флоренции живописцев – Граначчо, Буджардино, Бастьяно ди Сангалло.
Но скоро увидел он, что помощники бесполезны; они раздражали его упрямством и неумелостью. Мало-помалу он начал их избегать, потом отпустил совершенно, и они уехали домой оскорбленные и негодующие.
Микеланджело принялся за работу один, никого не пуская на леса, кроме плотника – молчаливого Козимо. Лицом к лицу с почти непреодолимыми трудностями Буонарроти отказался от всякой помощи.
Окончив первые картины, он разобрал часть подмостков, чтобы взглянуть на работу снизу, и убедился, что размеры человеческих фигур слишком малы, не соответствуют высоте потолка. Он должен был уничтожить все сделанное и сызнова начать работу.
Картина потопа была готова, когда за ночь, при северном ветре «трамонтано», на стенах, покрытых новою непросохшею известью, выступила плесень. Микеланджело увидел белесоватые уродливые пятна, под которыми краски побледнели и кое-где совсем исчезли. Он побежал к папе.
– Говорил я вашему святейшеству, что живопись не мое дело. Все, что я написал, погибло. Если вы не верите, пошлите кого-нибудь.
Папа послал Джулиано ди Сангалло, который, осмотрев стены, понял, что Микеланджело накладывал слишком влажную известь: сырость при ночном холоде выступила плесенью; Сангалло утешил и научил приятеля снимать плесень так, чтобы она не причиняла вреда картине.
Это было последнею попыткою Буонарроти освободиться от ненавистного заказа, последнею надеждою, за которую он ухватился, как утопающий за соломинку. Случилось то, чего он более всего страшился: работа увлекала его. Она изнуряла, как тяжелая болезнь. Ему казалось, что он умрет, не окончив ее, сойдет с ума. Но он не мог остановиться. Невыполнимое притягивало, как бездна, как безумие. Таким он был создан. Душа его презирала возможное. И он работал поневоле, с отчаянною и бесповоротною решимостью, с неимоверною быстротою, с убийственным напряжением всех сил душевных и телесных.
Он писал лежа, закидывая голову, чтобы видеть потолок. Тело его так привыкло к мучительному положению, что, когда становился на ноги, держал голову прямо, – он почти ничего не видел. Зрение ослабевало; он боялся ослепнуть, страдал бессонницами и головокружениями. Чтобы читать письма и бумаги, должен был подымать их выше головы и обращать глаза кверху. По целым неделям не сходил он с лесов на землю.
Когда же сходил, то, понурив голову, угрюмый и одинокий, спешил по веселым улицам Рима и чувствовал с отвращением на своем изможденном лице любопытные взоры людей. Ему чудилось, что он должен казаться выходцем из могилы. Повседневные человеческие лица были ему противнее и ненавистнее, чем когда-либо. Завидев издали знакомого, он обходил его, чтобы не встретить. Его мучило вечное подозрение, что за ним подсматривают враги, подосланные Браманте. На вежливые поклоны друзей он не отвечал и отвертывался. Тогда, в самом деле, в городе стали говорить, и до папы дошли слухи, что Микеланджело не в своем уме, что он страдает черной меланхолией.
XII
Однажды, в жаркий день, когда у потолка на подмостках было нестерпимо душно, Микеланджело работал с утра, лежа на своей скамейке, передвижной, катавшейся на колесах, с небольшим деревянным изголовьем, покрытым войлоком, чтобы оно не терло шеи. Голова его была закинута: пот выступал на лбу и порою с потолка прямо ему на лицо падали капли невысохших красок, только что положенных кистью. К этому он давно привык и не обращал внимания. Лицо его в разноцветных пятнах казалось бы смешным, если бы не было таким уродливым и страшным.
Картина изображала создание первого человека. Бог Отец в порыве бури, окруженный ангелами, спускается с неба к телу Адама, лежащему на голой земле, и готов прикоснуться, но еще не прикоснулся рукой к его руке, чтобы дать ему жизнь. Микеланджело осторожно накладывал последние тонкие, почти неуловимые тени, доканчивая руку Адама, беспомощно протянутую к Создателю, с могучими, но неоживленными мускулами, поникшую, слабую, как у спящего ребенка, который должен и не хочет проснуться.
Внизу на лестнице послышался знакомый скрип ступеней. Буонарроти всегда боялся, чтобы его не застали врасплох. Он встал со скамейки и подошел к двери, нарочно устроенной так у входа с лестницы на подмостки, чтобы никто не мог взойти на леса, когда Микеланджело запирал ее изнутри. Надо было выломать дверь, чтобы проникнуть в эту воздушную крепость.
«Кого черт несет?» – подумал художник со злобою и спрятался за доски рядом с дверью, расположенные так, чтобы можно было, как из засады, видеть, кто идет по лестнице. Тревога оказалась напрасной. Микеланджело забыл, что послал Козимо к ближайшему пекарю, «fornaio», за хлебом и ветчиной на завтрак.
– Это ты? А я испугался, думал, опять лезут. Письмо?
– Почта из Флоренции, – отвечал угрюмый плотник, карабкаясь по лестнице.
– Давай, давай скорее!
Он взял письмо, но перед тем, чтобы распечатать, подумал: не лучше ли сперва кончить, наложить последние тени, потом он забудет их и не найдет; письмо опять расстроит его на целый день, лишит силы работать. Мысли о семье, письма от отца и братьев были для него единственным горьким рассеянием, единственным отзвуком далекой жизни. В последнее время он имел дурные вести из Флоренции: младший брат Джован-Симоне, необузданный, легкомысленный юноша, вел порочную жизнь, не слушался отца, разорял семью, бросал деньги на женщин – эти проклятые, святые деньги, которые он, Микеланджело, зарабатывал с такими невыразимыми страданиями, его деньги, его кровь и пот.
Он нетерпеливо распечатал письмо, прочел, и лицо его потемнело, глаза вспыхнули. Он злобно оттолкнул ногою рабочую скамейку, которая далеко откатилась с жалобным визгом, и негодующими, большими шагами заходил взад и вперед по скрипучим шатким доскам.
Отец писал ему о брате Джоване-Симоне, который дошел до такой наглости, что недавно, вернувшись домой пьяный, грозил старику побоями.
– Подожди, я тебя проучу, негодяй! – восклицал Микеланджело, размахивая руками, не обращая внимания на сосредоточенного Козимо, который давно привык к этим яростным монологам своего господина. Кончив скудный завтрак, плотник равнодушно возился в углу над кадкою со свежей известью для потолка.
– Ты не человек, а зверь, – продолжал Буонарроти, обращаясь к невидимому собеседнику – anzi sei una bestia! – И я поступлю с тобою, как со зверем. Знаешь ли, несчастный, когда сын подымает руку на отца, – дело идет о жизни и смерти?
Он хватался за голову с отчаянием:
– О, Господи, да неужели не могут они оставить меня в покое? Я скитаюсь в Италии, не нахожу себе покоя, терплю лишения, обиды, подвергаю себя бесчисленным опасностям, изнуряю тело и душу – и все для них, все для отца и братьев. И вот, когда мне удалось немного устроить и поддержать их, этот полоумный хочет уничтожить все, что я приобрел такими усилиями. Клянусь плотью и кровью Христовой, не быть тому вовеки! Если бы десять тысяч братьев пришли ко мне, я сумел бы с ними расправиться, как следует. Довольно на плечах моих тяжести, я больше не возьму на себя ни одного золотника.
Несколько раз он пытался преодолеть волнение и приняться за работу: ложился на скамью, привычным движением закидывал голову и упирал затылок в деревянную перекладину. Но каждый раз вскакивал, бросал кисти и опять начинал ходить взад и вперед. Он так привык к своим лесам, что, не думая и не замечая, в одном месте на ходу расставлял ноги шире, как и следовало, чтобы перешагнуть и не провалиться в дыру между досками. Злоба душила его. Теряя самообладание, он кричал и грозил кулаком.
– Покажу я тебе, молокосос, что значит бросать на ветер чужие деньги, поджигать свой дом и свое добро. Вот ужо приеду во Флоренцию, погоди, щенок, доберусь я до тебя. Не посмотрю я на вашу гордость, мессер Джован-Симоне, завоете вы у меня, как дети воют под розгами. На отца поднял руку!.. О, мерзавцы, все мерзавцы!..
Козимо, не отнимая рук от кадки, обернул к Микеланджело равнодушное лицо.
– Это вы правду изволили сказать, мессере, что все мерзавцы. Изгадились людишки. Смотреть тошно… Давеча Браманте опять подсылал: денег дает сколько хочу, только бы я позволил ему, когда вас не будет, взглянуть на потолок. Я ответил, что с лестницы спущу его и этого молодчика из Урбино, Брамантова прихвостня Рафаэля, если они осмелятся прийти сюда. Мерзавцы!
Козимо выражался кратко и невразумительно. Но слуга и хозяин понимали друг друга с полуслова, даже без слов.
– Козимо, есть у тебя чернильница и перо?
– Есть, как не быть. Все у нас есть, кроме птичьего молока.
Он гордился хозяйством своего воздушного жилища. Не торопясь пошел Козимо в угол, где стояли две постели, порылся среди домашнего скарба, старого платья, кухонной посуды, бутылок с вином, горшочков с жидкими кра-сками, запаса кистей, плотничьих и столярных инструментов, ящиков с известью, нашел чернильницу, перо, бумагу, и подал их Микеланджело.
И тут же, присев на доски перед рабочею скамьею, художник решительно и быстро написал брату, которого, несмотря ни на что, любил больше других братьев, в буйных выходках Джован-Симоне находя душу, подобную собственной душе.
Но на этот раз он высказал все, что думал, не смягчая выражений: anzi sei una bestia! Он грозил брату жестокою расправою, если он не одумается. Микеланджело, отправив письмо, вздохнул свободнее.
На следующий день он опять принялся за картину. Когда художник взглянул на нее, он почувствовал радость. Он знал, что это ненадолго, что стоит кончить произведение, чтобы оно ему опротивело. Но мгновения этой обманчивой радости были единственной наградою, без которой он бы не принял и не вынес муки творчества.
Микеланджело радовался, думая, что в действительности все было так, как он изобразил, и не могло быть иначе.
Блаженные духи, первозданные херувимы, которые прячутся в бурных складках ризы Господней, с недоумением, любопытством и ужасом смотрят на человека, на своего нового брата, а в лице Создателя – благость, которая есть совершенное знание. Но если Он благ и знает все, то зачем создает обреченного греху и смерти?
XIII
Наступали сумерки. Художник собирался оставить работу, когда снова услышал внизу ненавистный скрип ступеней и чужие голоса.
– Мессер Буонарроти! Эй, мессер Буонарроти, – звали его так, как будто ничуть не боялись помешать.
– Опять! О, черти! – проворчал художник и хотел крикнуть ругательство непрошеному гостю, но, выглянув из засады, увидел внизу у подножия лестницы папу Юлия в сопровождении двух конюхов.
– Поскорее, мессер Буонарроти. Разве вы не видите? Его святейшество ожидает вас.
«Отправил бы я ко всем дьяволам ваше святейшество», – подумал Микеланджело и только тогда отпер дверь, когда убедился, что ни самого Браманте, ни Рафаэля Санти не было с Юлием.
Он сошел, поздоровался и попросил благословения у папы с таким злобным видом, что старик невольно улыбнулся: он был в хорошем настроении.
– Святой отец, – молвил Микеланджело, – я не советую вам подыматься. Одна ступенька сломана, плотник не успел починить. Не дай Бог свалиться, костей не соберешь. К тому же темнеет, и вы все равно ничего не увидите.
Но папа уже толкал его нетерпеливо на лестницу.
– Ну, ну, не упрямься же, полезай вперед и давай мне руку. Если свалимся, оба расшибемся, вместе умрем, как вместе жили.
Делать было нечего; папу не переспоришь. Микеланджело медленно и осторожно стал подниматься, помогая и держа за руку старика, который бесстрашно карабкался по узкой головокружительной лестнице без перил.
– Одичал ты, мессер Буонарроти, – подсмеивался Юлий над спутником, – совсем одичал на своих подмостках. Приступу к тебе нет, волком смотришь, того и гляди укусишь.
Микеланджело молчал и думал:
«Хорошо бы сбросить с лестницы этого болтуна».
Они лезли все выше и выше: те, кто смотрели снизу, должны были закидывать голову, и казалось, что художник уводит папу в недосягаемую бездну, в самое небо, где в сумраке исчезали их соединенные тени.
Наконец вышли они на подмостки, старик, запыхавшись от подъема, тяжело дышал и опирался на плечо Микеланджело.
Потом он стал молча обходить и рассматривать картины. Иногда с любопытством приподнимал куски грубой холстины, которыми были завешаны неоконченные фрески. Микеланджело страдал, но должен был водить его святейшество за руку, вежливо предупреждая, где надо поставить ногу и перешагнуть дыру между досками.
Папа нетерпеливо жевал старческими губами: художник видел, что он собирается что-то сказать.
«Ну, вот, – подумал Буонарроти с отвращением и скукою», – начнутся советы.
Юлий приблизил лицо к Сивилле Кумской,[8] чтобы рассмотреть страшные мышцы загорелой руки, которою старуха-исполинша поддерживала на коленях открытую книгу, читая в ней пророчество.
– Да, терпение, дьявольская анатомия! – произнес папа и обернул лицо к художнику. – Клянусь спасением души моей, я ничего подобного не видел. Но это невозможно, – слышишь?
– Что невозможно, ваше святейшество?
– Я говорю, Буонарроти, невозможно так работать. Ты хочешь того, что выше сил человека. Когда ты думаешь кончить потолок, если будешь выписывать каждый мускул, каждую жилку?..
– Я не могу иначе, – произнес Микеланджело.
– Да для кого, скажи на милость, для кого? Когда снимут леса, потолок будет на такой высоте, что всех этих твоих морщинок, мускулов и складочек все равно никто не увидит. Надо стоять здесь, на подмостках и смотреть в упор, чтобы оценить эти подробности. Зачем же тратить время и силы? Это сумасшествие.
– Я не могу иначе, – повторил Микеланджело, не скрывая досады.
– Затвердил, как попугай, не могу иначе, не могу иначе, а ты моги. Слушай, Буонарроти, я стар, смерть у меня за плечами. Я хочу, чтобы ты кончил работу прежде, чем я умру. Ты должен кончить. Скорее, слышишь? Не выписывать – я так хочу – скорее!
– В таком случае, ваше святейшество, – произнес Микеланджело тихо и злобно, – следовало поручить работу кому-нибудь другому, например, этому ловкому молодому человеку, Рафаэлю из Урбино, любимцу Браманте и вашему. Они бы живо расписали потолок и уж, конечно, не постеснялись бы складочками и мускулами, которых, в самом деле, чернь, глазеющая снизу, не оценит. Я согласен уничтожить работу, но испортить ее никому не позволю…
Юлий застучал костылем о звонкие доски пола.
– Что, что ты сказал? Повтори. Не хочешь ли, чтобы я велел тебя сбросить с подмостков?
– Если вам угодно, я могу повторить, – произнес Микеланджело невозмутимо, – я сказал, что не двину пальцем скорее, чем нужно для моей работы, и кончу ее не ранее, чем буду в силах.
– Буду в силах! Буду в силах! – произнес папа, дрожа от злости и наступая на него, – подожди, негодный, научу я тебя, как должно говорить со своим отцом и благодетелем!..
Он два раза ударил его палкою.
Микеланджело молча посмотрел ему в глаза. Под этим взглядом Юлий притих. Через несколько мгновений он уже раскаивался. Когда они спустились с подмостков, старик обернулся к Микеланджело и хотел ему что-то сказать на прощание, но, увидев лицо художника, смешался, опять рассердился на себя и, как виноватый, поскорее ушел в сопровождении конюхов.
В тот же вечер к Буонарроти пришел папский любимец, молодой Аккорзио, и, объяснив, что он послан его святейшеством, с невинным бесстыдством передал кошелек, туго набитый золотом, – в нем оказалось пятьсот дукатов, – просил позабыть обиду и старался, как мог и умел, извинить своего господина. Аккорзио был так очарователен, говорил с такою вкрадчивою улыбкою и женственною грацией, что Микеланджело не пробовал возражать, не мог сердиться, взял подарок, поцеловал мальчика в лоб и отпустил с миром, сказав, что прощает обиду его святейшеству.
Микеланджело понял: Юлий готов был на все, только бы с ним помириться, боясь, чтобы Буонарроти снова не покинул его и не убежал во Флоренцию.
XIV
Наконец наступил день, которого Юлий ожидал нетерпеливо. Потолок был готов. Микеланджело велел сломать леса в 1512 году, в день Всех Святых. Облака пыли от сброшенных досок и бревен не успели улечься, когда пришел папа в сопровождении прелатов, епископов и кардиналов. Косые лучи солнца падали сквозь узкие окна часовни, пронизывая голубыми снопами клубившуюся пыль. И сквозь нее, как бы сквозь дымку, в недосягаемой высоте папа увидел создание Буонарроти. Юлию казалось, что стены и потолок раздвинулись, и он созерцает лицом к лицу открывшуюся бездну.
Посредине было девять картин, изображавших творение неба и земли из хаоса, солнца и луны, вод и растений, первого человека, жены его, выходящей по слову Бога из ребра Адама, грехопадение, жертву Авеля и Каина, потоп, насмешку Сима и Хама над наготою спящего отца.
Вокруг девяти средних картин, не думая о тайнах, заключенных в них, вечно свободные и беспечные, играли юные боги первозданных стихий, сопровождая равнодушной пляской и хором трагедию вселенной.
Под ними – пророки и сивиллы, гиганты, отягченные скорбью и мудростью.
Еще ниже – предки Иисуса Назарянина, ряд поколений, покорно передававших друг другу бесцельное бремя жизни, томившихся в муках рождения, питания и смерти. Они не участвовали в мудрости пророков и сивилл, не слышали бури Господней, которая волновала веселые хороводы стихийных богов. В домашнем сумраке, в семейной тишине, они только любили, укрывали и грели детей своих, ожидая пришествия неведомого Искупителя.
Так Микеланджело изобразил три ступени бытия: веселие богов, мудрость пророков, любовь матерей к своим детям. Но трагедия Бога и человека, тайна бытия не разрешилась ни веселием, ни любовью, ни мудростью.
Осмотрев потолок, Юлий обнял Микеланджело.
– Слава тебе, Буонарроти, – произнес папа, и слезы блеснули на его глазах, – слава тебе и мне, ибо если бы не мое упорство, если бы я не стоял над тобою, не понукал тебя и не надоедал, ты никогда не кончил бы.
Кардинал, считавший себя знатоком живописи, указывая на потолок, произнес:
– Ваше святейшество, не находите ли вы, что следовало бы протрогать эту картину золотом и аквамарином. А то простому народу потолок покажется бедным. Золото в церкви никогда не мешает.
Папа с улыбкой обернулся к Буонарроти.
– Что ты скажешь?
– Скажу, блаженный отец, что более не прикоснусь к потолку: что я сделал, то сделал. Конечно, легко разукрасить живопись золотом и аквамарином по церковному обычаю. Но зачем? Люди, изображенные в моих картинах, были не из тех, которые украшаются золотом и пышными одеждами.
Толпами сходились римляне в часовню Сикста. Повсюду говорили о новых фресках; рыночные торговки болтали и спорили о живописи. Лаисы, Империи, Анджелики, даже знаменитые своим легкомыслием «Мадремано-вуоле», – все модные римские куртизанки рассуждали о том, кто из двух живописцев выше, Рафаэль или Микеланджело.
А сам Буонарроти ходил как потерянный. За двадцать месяцев он так успел привыкнуть к своей работе, что, лишившись ее, чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Вместо заслуженной радости в душе его были холод, пустота и скука.
В часовню он почти не заходил, чтобы не слышать нелепых суждений о себе или еще более нелепых восторгов.
XV
Однажды понадобилась ему кожаная сумка с бумагами и письмами, забытая в ящике среди хлама и сброшенных лесов, которые не успели убрать из капеллы. К счастью, в этот день народу было мало: все пошли на большой праздник в церковь св. Петра.
Микеланджело рылся в ящике; никто его не видел. Нагроможденные доски и бревна сваленных подмостков закрывали его. Художник с тайным сожалением смотрел на пыльные развалины своей неприступной крепости, где он провел столько памятных дней.
Отыскивая нужную сумку и разбирая хлам, тщательно сложенный бережливым Козимо, он услышал вблизи спор двух посетителей. Судя по говору, один из них был чужеземец, приехавший в Италию с далекого севера, вероятно, фламандский художник. В другом Буонарроти узнал венецианца, ибо тосканское g он выговаривал по-детски смешно и мягко, как z. Мессера Джордже, своего собеседника, он называл мессером Зорзо.
Буонарроти старался не обращать внимания на их разговор, но отдельные слова и выражения споривших поразили его, и он с любопытством прислушался к беседе.
– Как? И вы еще спорите, мессер Зорзо, – горячился венецианец, – нет, нет, всеми комментариями Аверроэса к Аристотелю вы не докажете, что когда-либо Рафаэль создаст что-нибудь подобное этому потолку.
– Почем вы знаете, мессер Федериго, что он создаст? Рафаэль молод, – возразил медлительный и хладнокровный фламандец.
– Да, молод годами, мессер Зорзо. Но он себя показал до конца. Он тут весь как на ладони. Рафаэль всегда подражает.
– Подражает природе, тем лучше! – возразил Джорджо.
– В том-то и дело, что не одной природе. Сперва он подражал своему учителю Перуджино, потом Леонардо да Винчи, потом древней живописи, которую отыскал в римских подземных гротах. Теперь – увидите, как усердно начнет он подражать Микеланджело: Рафаэль берет у всех.
– Берет у всех и всем возвращает сторицею, – перебил Джордже, – старое делает новым, чужое – своим.
– О, я не спорю, это – великий художник, самый великий и неподражаемый из подражателей… А кстати, слышали вы, мессер Зорзо, что, когда потолок еще не был окончен, он хлопотал через Браманте, чтобы его святейшество отнял работу у Буонарроти и поручил расписать другую половину потолка ему, Рафаэлю… Видите ли, он чувствует свою слабость и боится – иначе он не стал бы прибегать к таким средствам!
– Вы говорите о человеке, не о художнике. Какое мне дело до человека, мессер Федериго?
– Каков человек, таков художник. Рафаэль осквернил себя корыстью. Он любит искусство и славу, но еще больше любит жирные куски со стола кардиналов, свой роскошный палаццо, построенный для него Браманте, своих лошадей и наложниц. Он пишет Мадонн и живет как язычник из стада Эпикура. Обманывает простодушных, прикидывается неземным созданием, самым невинным из мечтателей, но это fortunato garzone,[9] по выражению моего друга Франчиа, этот херувим, слетевший к нам с высот Урбино, удивительно ловко устраивает свои дела. Впрочем, он имеет то, чего хотел и чего заслуживает; да, у Рафаэля – «счастливого мальчика» – бессмертная слава. Чего же больше? Он останется навеки идолом людей, любящих в искусстве приятное, доступное и поверхностное, людей чувствительных и мало думающих, богом живописи для толпы.
– А кто же бог избранных? – спросил фламандец.
Мессер Федериго указал на потолок часовни.
– Тот, кто это создал, с кем счастливому мальчику я посоветовал бы никогда не соперничать.
– В словах ваших много правды, Федериго, но я хотел бы нечто сказать, – только не знаю, сумею ли выразить мою мысль: я плохо говорю по-итальянски, и у меня нет привычки говорить о таких предметах…
Микеланджело давно забыл о том, зачем туда пришел, и перестал рыться в ящике; с жадным вниманием приблизил он ухо к тонким доскам, чтобы не потерять ни слова, и, не понимая причины своего волнения, чувствовал, как сердце бьется все чаще. С трепетом боязни ожидал он, что возразит мессер Джорджо.
– Видите ли, Федериго, – начал фламандец медлительно путаясь в словах и запинаясь, – вы говорите, мысль… Конечно, я с этим спорить не могу: у Микеланджело – мысль. Он думает и знает, чего хочет. И потом – сила, это главное. Такой силы нет ни у кого. Когда смотришь, все время удивляешься и видишь, как он старается сделать хорошо, так хорошо, как до него никто не делал. Думаешь, как ему трудно и какая сила. Буонарроти ничего не получает даром, сколько заработает, столько возьмет. А у Рафаэля не так. Не видно, чтобы он работал, кажется само сделалось нечаянно, он не старается, чтоб вышло хорошо, а выходит лучше, чем когда стараются. Ему легко – у него все даром. Когда смотришь на греческие статуи, которые выкапывают из-под земли, тоже думаешь, нетрудно бы так сделать. А пусть кто-нибудь попробует! Это легкое – есть трудное, последнее в искусстве, то, что без Бога невозможно, как чудо. И это важные мысли, потому что оттуда все мысли и туда идут. Я говорю неясно, мессер Федериго, но, может быть, вы поймете. Микеланджело – против Бога. А Рафаэль с Богом. Вот почему ему легко, и душа у него ясная, как зеркало. Вы говорите о деньгах, о лошадях, о женщинах. Это – маленькое, житейское. Зачем об этом говорить? Рафаэль может делать злое, жить как язычник, а все-таки душа у него ясная. Микеланджело делает доброе, живет как святой, а душа у него темная, страшная, и никогда в ней не будет света. Я знаю, что Микеланджело сильнее Рафаэля, но вспомните, мессере, слово Священного Писания: Бог не в бурях, а в тишине.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Через тридцать лет после этого разговора, 24 октября 1542 года, из Рима Буонарроти в заключение одного письма к монсиньору Синегельскому, епископу Марку Вигерию, писал следующее:
«Все несогласия, происшедшие между папою Юлием и мною, произошли от зависти Браманте и Рафаэля Урбинского. Вот причина, по которой папа не продолжал заниматься гробницею и разорил меня. Что касается до Рафаэля, то он имел причину завидовать мне, потому что все познания в искусстве он приобрел от меня».
Чувствуя, что эти слова несправедливы, Микеланджело все-таки написал их, потому что завидовал Рафаэлю, счастливому и ничтожному мальчику.
XVI
Много лет прошло с тех пор, как Буонарроти окончил потолок Сикстинской капеллы. Старость приближалась, но, несмотря на страдания и труды, здоровье его не ослабевало, а как будто крепло. Он говаривал шутя, что люди, всю жизнь имеющие дело с камнями, под конец сами каменеют. Только лицо покрывалось морщинами, кожа темнела, сохла – он делался все уродливее. Когда маленьким детям случалось его встретить неожиданно в сумерках на пустынной улице, они убегали с плачем и рассказывали матерям, что видели черта.
Виттория Колонна, вдова маркиза Пескарского, дочь надменного Фабрицио Колонна, со смерти мужа жила вдали от света, как монахиня, но в благочестии сохраняла гордость древнего рода. Виттория чтила гений Микеланджело; позволяла ему любить себя, но он никогда не забывал, что она принадлежит другому, покойному мужу своему, единственному человеку, которого маркиза всю жизнь любила.
Так они оба состарились, и за долгие годы Микеланджело ни разу не сказал ей, что любит ее. Даже в стихах боготворил ее издалека, мадригалы и сонеты его были полны не страстью, а модною в то время платоническою риторикой.
«Ваятель, – писал он ей, – задумал статую, лепит ее сначала из глины, потом уже молотом высекает из мрамора. Так я был несовершенною глиняною формой, пока ваш резец, о, мадонна, не сделал из меня нового человека. Но какая мука ожидает мое непокорное сердце, если вы захотите до конца научить и наказать его?»
Однажды, ненастным вечером, в конце февраля 1546 года, Микеланджело направлялся из своего маленького дома у подножия Монте-Кавалло в монастырь Санта Анна дей Фунари, куда пригласила его только что приехавшая в Рим из Витербо маркиза Колонна.
Шел мелкий дождь; на улицах было холодно, грязно и темно. Он думал о предстоящем свидании. Одной из мук его любви было то, что он не мог вообразить себе ее лица, когда не видел: помнил каждую отдельную черту, но не умел соединить их.
Он слышал, что маркиза в последние годы постарела. Ее преследовали несчастья. Родственники погибли в смятениях. Надменный род Колонна был унижен и низвергнут папами Фарнезе. Виттория осталась одна, покинутая, окруженная врагами. Он знал, что недавно она перенесла тяжелую болезнь.
Подымаясь по монастырской лестнице и спрашивая сестер-бенедиктинок, в каком покое остановилась маркиза, он чувствовал, что колени его дрожат, и ему было стыдно, что, шестидесятилетний старик, он робеет перед свиданием, как влюбленный мальчик.
Его привели в большую келью с белыми стенами. Огней еще не зажигали. Сквозь стекла окон, серых, мутных от дождя, как будто заплаканных, падал свет зловещих сумерков. Angelus звучал, как похоронный колокол. Среди монахинь, на кресле, увидал он маркизу Витторию. Сердце его сжалось. Перед ним была старая женщина. В черном шелковом платье, не опираясь на высокую спинку кресла, держалась она прямо, и в ее осанке была гордость древнего рода вдовы маркиза Пескарского, дочери Фабрицио Колонна, которая одно время должна была сделаться неаполитанской королевой. Сквозь кисею вдовьего покрывала, спускавшегося низко на лоб, закрывавшего плечи, грудь и шею, он увидел седые волосы. Выражение спокойствия и печали было вокруг увядающего рта, в глазах, все еще прекрасных; но он заметил в них покорную доброту – признак старости.
Он подошел и приветствовал ее почтительно. Слабый румянец покрывал ее щеки. После первых незначительных слов, когда монахини отошли в другой конец комнаты, Виттория, наклонившись, произнесла тихим голосом, с робкою и стыдливою улыбкою:
– Вы удивились, мой друг, увидев меня такою, не правда ли? Я очень постарела…
Он хотел сказать, что для него она не может быть старою, что он любит, как всегда, еще больше, чем всегда, но не посмел и только взглянул на нее глазами, полными такой боязливой нежности, что она поняла все и ответила ему долгим, благодарным взглядом. В этот день, прощаясь, маркиза Колонна первый, единственный раз в жизни взяла его за руку, и Микеланджело несколько дней, вспоминая это прикосновение, ходил, как потерянный, от радости и удивления.
Он стал посещать монастырь святой Анны. В присутствии монахинь рассуждали они подолгу о текстах Священного Писания, о Боге, о смерти, о будущей жизни. Он чувствовал себя более близким к Виттории, чем когда-либо, писал ей, как тридцать лет тому назад, пламенные, благоговейные и риторические сонеты, в которых, сравнивая ее с Беатриче, с Лаурой, прославлял ее бессмертную молодость.
Она опять заболела. В Риме с еще большею силою возобновилась изнурительная лихорадка. На глазах его она ослабевала и таяла. Он думал о конце, но не верил в него: смерть Виттории казалась ему невозможной. По мере того, как приближалась вечная разлука, улыбка ее становилась все прекраснее и прекраснее.
«Она обещает мне так много, – писал он в своем дневнике, – что когда я смотрю на нее, мне кажется, я делаюсь прежним, молодым, хотя я очень стар, и уже поздно. Смерть между нами, и я могу любить ее прежнею любовью только в те краткие мгновения, когда забываю о смерти. Но мысль моя все чаще возвращается к ней, и жар любви остывает от смертельного холода – dal mortale ghiaccio é spento il dolce ardore».
Предчувствие Микеланджело исполнилось. В начале 1547 года Виттория умерла. Он не плакал, ни с кем не говорил и был похож на сумасшедшего. Лицо его выражало недоумение, усилие и невозможность понять то, что случилось.
Но он не умер и не сошел с ума, только внутри все в нем еще более окаменело.
Через десять лет после смерти Виттории Микеланджело рассказывал однажды события своей долгой и печальной жизни молодому художнику, одному из немногих своих учеников, Асканио Кондиви, который записывал их, чтобы передать потомству. Речь зашла о маркизе Пескарской. Микеланджело говорил о ней мало, но спокойно. Вдруг изменившимся тихим голосом он произнес:
– Асканио, я скажу тебе то, чего никому не говорил. Когда она лежала в гробу, и я пришел проститься, я поцеловал ее руку и не осмелился поцеловать в лоб. Вот уже десять лет, как это мучает меня, сын мой…
И, забыв о присутствии ученика, он долго сидел неподвижно, в забытьи. Медленные слезы струились из глаз его по старым щекам с глубокими, безобразными морщинами.
XVII
Папа Юлий II перед смертью завещал Микеланджело окончить гробницу и оставил для этого деньги душеприказчикам своим, кардиналам Санти-Кварто и Аджиненси. С особенною любовью возобновил Буонарроти работу своей молодости. Но преемник Юлия, Лев X, заставил бросить начатое дело, чтобы ехать во Флоренцию, где вздумалось папе украсить мрамором фасад церкви своего прихода – Сан-Лоренцо. Микеланджело умолял, чтобы его оставили в покое, напоминая условия, сделанные с душеприказчиками Юлия, но Лев не слушал и говорил:
– Предоставь мне окончить это дело: я берусь удовлетворить всех.
И, послав за обоими кардиналами, велел им освободить Микеланджело от исполнения условий. Со слезами на глазах покинул художник злополучную гробницу и отправился во Флоренцию исполнять прихоть нового господина.
По смерти Льва, враги Микеланджело распространили слух, что Буонарроти от папы Юлия за гробницу получил вперед шестнадцать тысяч скуди и, ничего не сделав, положил их в карман. Началась нескончаемая тяжба, которая с каждым годом запутывалась, не давала ему ни минуты покоя и, наконец, так опротивела, что он начал раскаиваться, что не перенес клеветы молча.
«В меня ежедневно бросают каменьями, как будто я распинал Христа, – писал он в 1542 году Синигальскому епископу, прося у него защиты, – этот гроб Юлия скоро сделается моим собственным гробом. Излишняя верность, которую не хотели оценить, погубила меня. Так угодно моей судьбе… Меня называют вором и ростовщиком, многие утверждают, что я отдал в рост деньги папы Юлия и обогатился ими. Если ваша милость найдет возможность сказать слово в мою защиту – скажите его, потому что я пишу вам правду. Не только перед Богом, но и перед людьми я считаю себя честным человеком, потому что никогда не обманывал и потому также, что, защищая себя от негодяев, иногда, как видите, мне можно „с ума сойти“.
И несколько раз он повторял в письме с отчаянием: «Я пишу правду. Я был бы рад, если бы папа и весь свет прочли это письмо. Я не вор, не ростовщик, не разбойник, но флорентинский гражданин, благородный сын честного человека».
При жизни папы Климента Буонарроти начал расписывать хоры Сикстинской капеллы. Он приказал отштукатурить стену и закрыть лесами от пола до потолка. Климент хотел, чтобы Микеланджело написал Страшный суд, последнее действие трагедии, изображенной на потолке часовни. Но на многие годы художник был отвлечен от работы тяжбою. Папа Павел, приняв к себе на службу Буонарроти, требовал, чтобы он окончил Страшный суд.
Работа была готова на три четверти, когда Павел пожелал взглянуть на нее, увидел, что громадная стена, перед которой стоял алтарь и должно было совершаться богослужение, вся сверху донизу покрыта голыми телами. Ни ангелы, ни праведники, ни грешники не стыдились наготы своей: земные покровы упали, и люди должны были голыми, какими вышли из чрева матери, предстать перед лицом Божественной Справедливости. Испуганный и растерянный папа не знал, что сказать.
Наконец обратился он к своему церемониймейстеру мессеру Бьяджо ди Чезепа, которого Вазари называет «persona scrupulosa»,[10] и спросил, что он думает.
Бьяджо ответил:
– Это бесстыднейшая из картин, какие я когда-либо видел, блаженный отец. Она достойна не папской капеллы, а общественной бани или остерии! Non opera di capella di papa ma da stufa e d'osteria!
Буонарроти, услышавший эти слова, продолжая работу, своему адскому судье Миносу, у которого туловище дважды обвито змеевидным холстом, придал сходство с Бьяджо.
Церемониймейстер пожаловался папе, но тот ответил ему с улыбкой:
– Видишь ли, друг мой, если бы он поместил тебя в чистилище, я мог бы что-нибудь сделать, но ты в аду, откуда уже никто не может извлечь тебя, ибо там, как тебе известно, нет помилования – «nulla est redemptio».
XVIII
В это время в Венеции жил знаменитый писатель Пьетро Аретино. Он был сыном продажной женщины в Ареццо, от которой мальчиком убежал, обокрав ее, попеременно делался переплетчиком, монахом, уличным бродягой, лакеем, терпел нужду, голод, побои, бесчисленные оскорбления, но, наконец, пером своим и, по собственному выражению, «потом чернильницы» приобрел славу и богатство. Клеветой и лестью, угрозой пасквилей и обещанием панегириков выманивал он деньги и почести у сильных мира сего. Не только многие итальянские государи, но и сам император выплачивал Аретино ежегодную пенсию. Христианнейший король Франции подарил ему золотую цепь с изображением змеиных языков, эмблемою ядовитых сатирических жал. В честь его была выбита медаль с головой поэта, увенчанною лаврами, с латинскою надписью: «Divus Petrus Aretinus flagellum principum» – «Божественный Петр Аретин, бич королей», и на обратной стороне: «Veritas odium parit» – «Истина рождает ненависть». Под самыми злыми и наглыми из своих пасквилей, направленных против государей, медливших подарками, он подписывался: «Divina gratia homo libero» – «Божией милостью свободный человек». С легкостью и быстротой сочинял он по заказу все, что угодно. По поручению Виттории Колонны писал благочестивые размышления и жития святых, по просьбе ученика Рафаэля Марк-Антонио – сонеты к таким бесстыдным гравюрам, что папа, несмотря на заступничество многих кардиналов, посадил за них художника в тюрьму. В прекрасном палаццо на Canale Grande,[11] в знаменитой Casa Bolani,[12] жил Аретино с царственным великолепием, окруженный постоянно сменявшимся гаремом красивых женщин и редкими произведениями искусства. Тициан ухаживал за ним, писал с него портреты, дарил ему свои произведения. Со всех концов Италии стекались к нему картины, рисунки, барельефы, медали, бронзы, античные мраморы, камни, майолики, резные камни, драгоценные вазы. Когда его дворец так переполнялся, что больше не было места, он делился художественною добычею с теми из вельмож и государей, которые заслужили его милость: по собственному выражению, поэт отдавал царям крохи со своего стола.
Из тщеславия столько же, как из враждебной любви к прекрасному, Аретино давно горевал, что в его музее нет ни одного произведения Микеланджело. Через клевретов своих Бенвенуто Челлини и Джорджо Вазари несколько раз намекал он Буонарроти, что очередь за ним; но тот не удостоивал его ответом.
Тогда писатель решил сам закинуть удочку.
В 1537 году обратился он к Буонарроти с одним из знаменитых посланий своих, которые распространялись по Италии в тысячах списков.
Сначала приветствовал художника, потом объяснял ему, какие свойства его таланта он, Аретино, более всего ценит. Главная часть письма начиналась обращением:
«Итак, я, чьи похвалы и порицания имеют такую силу, что слава или позор людей в настоящее время создаются единственно мною, я, тем не менее, малый и, можно сказать, ничто, приветствую вашу милость, на что не дерзнул бы, если бы мое имя не достигло некоторого блеска, благодаря тому уважению, которое оно внушает величайшим государям нашего века. Но перед Микеланджело мне остается только благоговеть. Королей на свете много, Микеланджело один, и он затмил славою имена Фидия, Апеллеса и Витрувия», – письмо продолжалось в этом духе, пока речь не заходила о «Страшном суде»: тут Аретино давал советы и учил художника, как следует писать картину. В заключение – новые предложения услуг и готовность прославлять его имя.
Буонарроти ответил краткой и вежливой запиской, в которой чувствовалась ирония сквозь преувеличенные похвалы.
Аретино предпочел не заметить иронии и в новом письме просил на память хотя бы самого маленького рисунка, одного из тех, которые художник бросает в печку. Микеланджело не ответил, и Аретино в течение пяти лет оставил его в покое.
В 1544 году он известил Буонарроти, что император Карл V только что оказал ему, Аретино, неслыханные почести – stupendi onori – позволил ехать на коне по правую руку от себя. Челлини пишет, что Буонарроти благоволит к Аретино. Это всего дороже поэту. Он любит и чтит Микеланджело. Он плакал от умиления, увидев снимок со «Страшного суда». Его друг Тициан также чтит Буонарроти и восторженно прославляет его.
Микеланджело продолжал безмолвствовать. Через два месяца поэт напомнил через римских друзей об ожидаемом рисунке. Никакого ответа. Аретино подождал год и напомнил снова. Наконец получил он из Рима жалкие отрепья, вместо рисунка – бумажные клочки, которые были скорее насмешкою, чем подарком. Он написал Микеланджело, что считает себя неудовлетворенным и ожидает большего. Опять молчание в продолжение нескольких месяцев. Тогда терпение Аретино истощилось. Он послал Челлини угрожающее письмо. Буонарроти должен стыдиться; пусть он ответит ему прямо, намерен ли исполнить свое обещание или нет; он требует объяснений, иначе любовь его превратится в ненависть.
Угроза подействовала так же мало, как лесть. В это время Тициан, бывший в Риме, воспользовался удобным случаем насплетничать покровителю своему Аретино на соперника своего Микеланджело и поссорить их окончательно.
XIX
В ноябре 1545 года Буонарроти получил следующее письмо из Венеции: «Мессере, теперь, когда я увидел снимки „Страшного суда“, я узнаю в нем, что касается до исполнения и замысла, знаменитую прелесть Рафаэля. Но как христианин, как человек, принявший святое крещение, я стыжусь необузданной свободы, с которой ваш дух посягнул на то, что должно быть последнею целью христианской добродетели и веры.
Итак, этот Микеланджело, столь могущественный в своей славе, этот Микеланджело, которому мы все удивляемся, показал людям, что он столь же далек от благочестия, сколь близок к совершенству в искусстве. Как могло случиться, что художник, сам себя уподобляющий Богу и потому прекративший почти всякие сношения с обыкновенными смертными, осмелился таким произведением осквернить храм Бога Всевышнего, первый из алтарей христианских, первую капеллу мира, где великие кардиналы, досточтимые пресвитеры, где сам наместник Христа в божественных и страшных таинствах приобщаются плоти и крови Господней?
Если бы не казалось почти преступным сравнивать такие вещи, то я позволил бы себе напомнить вам, как в моих легкомысленных диалогах из жизни куртизанок я сумел облечь бесстыдное содержание благородными и нежными словами. Тогда как вы, имея дело с такими возвышенными предметами, лишаете ангелов их небесной славы, праведников – их земной стыдливости. Но даже язычники облекали Диану в покровы, и когда изображали нагую Венеру, то заботились о том, чтобы целомудренное движение руки заменяло ей одежды. А вы, христианин, дошли до такого безбожия, что дерзаете оскорблять в часовне папы стыдливость мучеников и святых дев… Воистину, для вас было бы лучше вовсе отречься от Христа, чем, будучи верующим, глумиться над верою своих братьев. Но знайте, что Небо не потерпит, чтобы преступная смелость вашего необычайного искусства оставалась безнаказанной. Чем удивительнее эта картина, тем вернее будет она гробом вашей славы».
Потом Аретино переходил к своим собственным счетам: напоминал художнику, что он не исполнил обещания, не прислал рисунка.
«Впрочем, если горы золота, полученные вами от папы Юлия, не побудили вас исполнить вашего долга – построить обещанную гробницу, то на что может надеяться такой человек, как я?.. А все-таки, положив в карман чужие деньги и нарушив слово, вы сделали то, чего не следовало сделать, и это называется воровством».
В заключение он советовал папе уничтожить «Страшный суд», показав пример такой же благочестивой ревности, с какой некогда папа Григорий разрушал изображения языческих богов, как бы они ни были прекрасны.
«Если бы последовали моему совету, – обращался он к Буонарроти, – если бы вы исполнили указания, которые я вам дал в моем письме, ныне всему миру известном, где я подробно и научно объясняю устройство неба, ада и рая, то природе не пришлось бы стыдиться, что столь великим гением одарила она такого человека, как вы. Напротив, письмо мое оградило бы ваше произведение от всякой вражды и зависти до скончания веков.
Ваш слуга Аретино».Послание было переписано чужой рукой для того, чтобы Микеланджело не мог сомневаться, что оно обнародовано и распространяется по всему миру, но в конце были следующие строки, написанные рукой самого Аретино:
«Теперь, когда я отчасти излил мою ярость, причиненную грубостью, с которою вы ответили на мою доброту, и когда, смею надеяться, вы имеете достаточное доказательство того, что если вы – божественный di vino[13] – из вина, то я, с своей стороны, не из воды (dell' aqua), – разорвите это письмо так же, как я готов его разорвать, и признайте, что, во всяком случае, я достоин получать ответы на свои письма даже от императоров и королей».
XX
Папа, прочтя одну из бесчисленных копий этого письма, испугался. Первою мыслью его было последовать совету Аретино и уничтожить «Страшный суд». Теперь ему было не до шуток. Святой отец сам боялся попасть в то место, где «nulla est redemptio».[14] Не могло быть никаких сомнений: письмо было доносом инквизиции.
Но, немного успокоившись, папа решил, что можно поправить дело так, чтобы волки были сыты и овцы целы: по совету кардинала Караффа, он призвал к себе Буонарроти и велел прикрыть одеждами нагие тела в «Страшном суде».
– Главное, ангелов, – говорил папа. – Чертей ты можешь оставить наполовину голыми. Но ангелов и праведников изволь одеть совершенно. Не то что там по бедрам какими-нибудь лоскутами, а в длинные пристойные одежды… Анатомии не жалей и крылья не забудь приделать кому следует…
Микеланджело отказался. Тогда папа поручил это дело ученику его, Даниэле да Вальтерра, который ревностно принялся за работу, и через несколько дней, к немалому утешению Павла, св. мученик Бьяджо со скребницей и св. Катерина с колесом были одеты. Вальтерра получил хорошие деньги за то, что согласился обезобразить создание учителя. Буонарроти молча покорился и даже с учеником своим не поссорился.
Тогда не только враги, но и лучшие друзья восстали на него, уверяя, что он выжил из ума от старости, так как иначе не мог бы вынести безропотно такого поругания своей картины.
Буонарроти был равнодушен ко всему, потому что в это время умирал последний друг, старый верный слуга его, плотник Козимо Урбино. В одном письме к Джорджо Вазари Микеланджело рассказывал об этой смерти.
«Мне трудно писать, однако же в ответе на ваше письмо скажу кое-что. Вы знаете, как умер Урбино. Это событие было для меня великою божескою милостью, но оно причинило мне много вреда и горя. Милость заключается в том, что он, оживлявший меня в продолжение моей жизни, умирая, научил меня умирать бестрепетно, с любовью к смерти. Он прожил у меня двадцать шесть лет и всегда был редким, верным человеком. Теперь, когда я обогатил его и надеялся, что он будет костылем, успокоителем моей старости, он исчез, и мне осталась только надежда видеть его в раю. Эту надежду внушил мне Создатель его счастливою смертью – тем, что он, умирая, не столько жалел о том, что умирал, сколько о том, что оставлял меня одного в этом предательском мире, среди всевозможных горестей. Большую часть меня он унес с собой и мне оставил одни бесчисленные неприятности. Поручаю себя вашему вниманию».
Микеланджело пережил царствование шести пап – Юлия II, Льва X, Климента VII, Павла III, Юлия III, Павла IV. Все современники и товарищи его умерли. Он был окружен новыми, чуждыми поколениями. Весною в 1549 году он тяжело заболел. Доктора успокаивали, но не помогали. Он не спал ночей, стоная от боли. Ему было 75 лет. Все думали, что это конец, но он выздоровел.
С каждым днем душа его становилась мрачнее: он думал только о смерти.
– Я стар, – говорил он ученику своему Кондива, – смерть отняла у меня все юношеские мысли, а кто не знает, что такое старость, должен иметь терпение дожить до нее. Прежде этого ее нельзя узнать.
Он вспоминал свою любовь к Виттории, но надежда встретиться с нею в другом мире не утешала его.
И он писал в дневнике: «На утлой ладье через бурное море жизни я достиг того предела, где мы должны дать отчет во всем. И теперь я узнаю, каким обманом была моя прихоть к искусству, ибо всякое желание человека на земле – обман. И с любовными грезами, некогда такими суетными и веселыми, что сталось теперь, когда я приближаюсь к двум смертям, одной – телесной, неминуемой, другой – духовной, угрожающей? Ни живопись, ни ваяние более не утоляют моего сердца, обращенного к той Любви, которая на кресте, чтобы принять нас, открывает руки».
Он молился, но в душе его не было света Христова, и ему казалось, что он осужден Богом на вечную погибель.
«Горе мне, горе; вспоминая столько прошедших годов, я не нахожу среди них ни одного дня, который я мог бы назвать моим. Мне знакомы все человеческие страсти: я плакал, любил, горел, желал, не сделав ничего доброго в моей жизни. И вот я ухожу мало-помалу. Тени растут; солнце заходит, и я готов упасть, утомленный, изнемогающий».
Он продолжал работать, без цели, без радости, по привычке. Однажды, в конце августа 1561 года, он упал среди работы на пол и лишился сознания. Когда домашние сбежались и привели его в чувство, художник объяснил обморок тем, что встал рано утром, не одевая обуви и чулок, и три часа простоял за рабочим столом босыми ногами на голом полу. Через два дня он поправился, мог уже ездить верхом и опять принялся за работу, за архитектурные рисунки и планы для собора св. Петра. Ему было 86 лет. Казалось, что он никогда не умрет.
Но раннею весною 1564 года обнаружились признаки близкого конца. Силы покидали его медленно. Целые дни и ночи он чувствовал озноб, никакие одежды не могли его согреть от изнуряющего внутреннего холода. Им овладела смертная тоска. Он перестал работать. Молодой флорентинский врач Федериго Донати ухаживал за ним.
XXI
Однажды вечером, 14 февраля, Федериго подъезжал на муле к дому Буонарроти: в то время он жил на площади древнего форума Траяна, рядом с церковью Санта-Мария ди Лорето. Перед домом был маленький сад, окруженный стеною, где росли лавры. Дул холодный трамонтано; по небу ползли унылые, низкие тучи. Врач удивился, увидев, что Микеланджело прохаживается в саду под дождем. Мертвые прошлогодние листья лавров шуршали под его ногами. Ворона уныло каркала на мокрых черепицах соседней крыши.
– Мессере Буонарроти, – заметил Федериго, – вам не следует выходить из дома в такую погоду.
– Что же делать, – ответил Микеланджело, – мне дурно… Я не нахожу себе места. Дома хуже. Вот, вышел погулять. Скучно, мессер Федериго, я не могу вам сказать, как скучно…
И он продолжал торопливо ходить взад и вперед, от стены до стены, по крошечному саду, попадая ногами в грязные лужи, шурша гнилыми мокрыми листьями лавров. Он говорил бессвязно, с трудом находил слова.
Только пред самым концом он лег в постель; его причастили и, когда спросили о последней воле, он сказал:
– Душу мою – Богу, тело – земле, имущество – родным.
Потом попросил, чтобы его похоронили на родине во Флоренции. 18 февраля, в час Ave Maria, он скончался. Смерть была спокойной. Просьбы Микеланджело не исполнили: он был погребен в Риме, в церкви Св. апостолов.
Но флорентинский герцог Козимо Медичи пожелал, чтобы прах Буонарроти покоился во Флоренции. Посланные ночью тайно вырыли тело Микеланджело, зашили его в мешок, как зашивают товары, и отправили во Флоренцию.
Флорентинская академия рисования решила устроить торжественные похороны. Народу на улицах собралось так много, что академики не без труда внесли тело в церковь. Чтобы последний раз увидеть учителя, открыли гроб. Ожидали найти полуразвалившийся труп, так как со дня смерти прошло двадцать пять дней. Но, к всеобщему удивлению, тело было не тронуто тлением: он лежал в гробу маленький, почернелый, высохший, как мощи. Вокруг безобразного широкого рта были все те же надменные, злые морщины. Их не разгладила смерть.
* * *
Академики, желая почтить память художника, превратили церковь в музей, наполнили ее аллегорическими фигурами, статуями и картинами тогдашних художников, учеников и последователей Микеланджело. Эти произведения казались жалкими карикатурами на создания учителя. Достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что искусство погибает. Но печальные мысли не приходили в голову академиков. В особенности торжествовал, несмотря на свою любовь к покойному, знаменитый художник, почетный депутат академии Джорджо Вазари. Лицо его сияло самодовольством. В тот же вечер описывал он эти блестящие похороны своему покровителю, герцогу Козимо Медичи:
«Светлейший и превосходнейший государь мой!
Сего утра, то есть 14-го текущего месяца, было совершено погребение божественного Микеланджело Буонарроти, вполне удовлетворившее здешнюю публику, толпившуюся в церкви Сан-Лоренцо, которая была так наполнена важными лицами, благородными дамами и множеством иностранцев, что нельзя было не удивляться. Вице-президент сидел посредине церкви против кафедры, члены академии и общества рисования сидели в порядке на самом видном месте. Ниже членов академии сидело до двадцати пяти юношей, изучающих рисунок. Некоторые из этих юношей имеют достоинства. Сегодня утром увидел в соборе восемьдесят человек живописцев и скульпторов, публика пришла в восторг. Кажется, никогда не было так много и таких отличных мастеров, как теперь.
Как удачно был исполнен катафалк, как он был пышен, великолепен, и какое впечатление производили стоящие на нем статуи, – передать невозможно! Каждый из молодых людей старался выказать свои достоинства, и все они так хорошо исполнили свое дело, что статуи, после того, как их выбелили и подделали под мрамор, кажется, выросли и сделались гораздо изящнее. Вся церковь была уставлена скелетами, которые обрезали стебли, увенчанные тремя лилиями, означавшими три искусства. Скелеты, казалось, выражали сожаление, что были обязаны обрезать цветы и не могли изменить порядок, установленный природою. Между скелетами была помещена Вечность, стоявшая над Смертью.
Поистине, государь мой, я с моими начальниками благословляю труды и время, употребленные на устройство похорон, потому что эти похороны были причиною того, что ваша светлость осчастливила академию своим посещением, за что академия приносит вам покорнейшую и чувствительную благодарность. Она видит, как ваша светлость ценит заслуги, и горит желанием служить вам. А я, с своей стороны, желаю, чтобы вы помогали художникам, и всячески буду стараться оживлять искусства».
. . . . . . . Таково было последнее оскорбление, последняя насмешка жизни над великим художником. Но он уже ничего не чувствовал, и маленькое, уродливое, окаменелое лицо его в гробу хранило печать спокойного презрения.
Примечания
1
травертин (известковый туф) – легкая пористая горная порода
(обратно)2
Ганимед – красавец юноша, похищенный орлом Юпитера и ставший его любимцем и виночерпием
(обратно)3
Да ведь ваш папа страшный холерик! (франц.)
(обратно)4
гостиница, постоялый двор (итал. albergo)
(обратно)5
таможенники (итал. doganiere)
(обратно)6
ваше превосходительство (итал. eccelenza)
(обратно)7
мэр города
(обратно)8
знаменитая древнеримская прорицательница из города Кýмы (Кампанья)
(обратно)9
счастливый мальчик (итал.)
(обратно)10
педантичнейшей личностью (итал.)
(обратно)11
большой канал (итал.)
(обратно)12
дом Болани (итал.)
(обратно)13
игра слов: divino (божественный; итал.) и di vino (из вина; итал.)
(обратно)14
нет искупления (лат.)
(обратно)
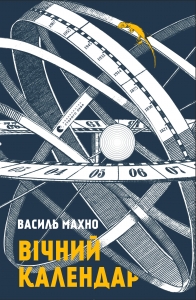


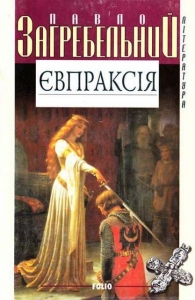


Комментарии к книге «Микеланджело», Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всего 0 комментариев