Всеволод Сергеевич Соловьев Княжна Острожская
ПРЕДИСЛОВИЕ
В тяжелое время довелось жить князю Константину (Василию) Константиновичу Острожскому (1526–1608), сыну гетмана великого княжества литовского, киевскому воеводе и ревнителю православия в Западной Руси: в 1596 году была заключена Брестская уния. То, чего в течение нескольких веков добивались католики, свершилось: православные украинцы и белорусы, проживающие в пределах Речи Посполитой, должны были признать догмат об исхождении святого Духа, учение о чистилище, главенство папы римского, правила и постановления Тридентского собора. Церковные же обряды и богослужение на родном языке оставались неприкосновенными. Король польский Сигизмунд III, страстный католик, всячески поощрял сторонников унии, обещая им различные милости. Казалось, что вслед за протестантизмом сломлено в Речи Посполитой и православие. Однако православные предали анафеме униатов, а униаты – православных. Начались долгие годы борьбы православных с униатами… Скольких людей сгубила эта борьба! Сколько сил отняла у украинского и белорусского народов! Как затормозила их развитие! И по сей день кровоточат четырехсотлетние раны… Что может быть страшнее и бессмысленнее религиозных распрей?!
Страницы предлагаемого читателю романа «Княжна Острожская» переносят его в те времена, когда эти распри только разгорались. Чистой любви князя Сангушки и княжны Острожской – Гальшки всячески противятся иезуиты, всеми правдами и неправдами пробравшиеся в Западную Русь. Не только желание иезуитов совратить княжну в католическую веру, но и страстная любовь к княжне одного из них создают массу трудностей на пути возлюбленных. Однако сам князь Острожский на их стороне… Что из этого выходит, читатель узнает в конце романа – этой прекрасной песни любви и стойкости духа.
Владимир Близнюк
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Много было славных и могучих вельмож на Литовской Руси. Каждый горожанин, каждый бедный землепашец с великим почтением произносил имена князей Радзивиллов, Ходкевичей, Сапег, Воловичей, Олельковичей-Слуцких. Но имя князя Константина Константиновича Острожского возбуждало повсюду даже благоговение – все литвины, от Острога до Вильны, не иначе называли его как «великим князем».
Высок был род князей Острожских – они вели его от Владимира Святого; несметно было их богатство, обширны их владения на Волыни, Подолии, и во всем юго-западном крае. Но не одной славой предков, не миллионами червонцев, не вотчинными городами, местечками и деревнями сиял на всю Литву князь Константин Константинович. От своего родителя, знаменитого великого гетмана литовского, воеводы трокского и кастелана виленского, князя Константина Ивановича, он получил в наследие непоколебимую верность церкви православной и народности русской. Крепко и бодро отстаивал он святую веру и ее неприкосновенность, на которую со всех сторон поднимались козни вражеские. Тяжелое то было время: протестантство и арианство распространялись в крае, и церковь русская теряла немало своих членов; иноверное правительство польское если еще и не явно враждовало с нею, то, во всяком случае, равнодушно смотрело на ее бедствия и ничуть не заботилось о ее выгодах. Короли, основываясь на своем праве подаванья, жаловали монастыри православные в управление светским людям. Немало тяжб и свар заводили между собою и духовные лица.
А с запада надвигалась страшная, черная туча – в Риме уже давно зорко следили за Польшей и Литвою, давно уже решили испробовать самые яркие средства, чтобы окончательно укрепить шатавшуюся власть папы в Польше и подчинить той же власти и Литву православную. Сбирали дружину непобедимую для завоевания Востока, дружину, невидимые стрелы которой были насквозь пропитаны смертоносным ядом, дружину, созданную адскою силою и святотатственно носившую имя Иисуса…
В это-то трудное время приходилось жить и действовать князю Константину Константиновичу Острожскому. И он отдал всю свою жизнь на служение православию, на поддержание его и охранение. И все, что в Литве дорожило отцовской верой, примыкало к могучему князю, прибегало под его защиту, полагалось на него, как на оплот надежный.
Оттого-то его имя и было на устах каждого литвина и произносилось с благоговением.
Князь Константин имел свою резиденцию в наследственном городе Острог, построенном на берегу реки Гарыни. Здесь, на возвышенной местности, спускавшейся прямо к речному берегу, среди благоуханных садов и тенистой, вековой рощи, высился огромный княжеский замок – величественное произведение итальянского зодчества XV века.
У самого замка, сквозь купы кудрявых деревьев, белелись главы замковой Богоявленской церкви, щедро изукрашенной благочестивыми владельцами и вмещавшей под своими тяжелыми сводами усыпальницу рода князей Острожских. За церквью начинался длинный ряд всевозможных более или менее обширных строений, отделенных друг от друга дворами, вымощенными каменными плитами – это были помещения для придворных, которых у князя Константина насчитывалось более двух тысяч человек. К задней стороне замка примыкали многочисленные службы.
Весь замок, с принадлежавшими к нему строениями, садами и значительной частью рощи, был обнесен высокой, крепкой стеною, делавшей из него превосходно защищенную крепость. Гарнизон и артиллерия замка были настолько значительны, что всегда могли отразить сильное нападение. Иначе нельзя было и жить в то время, когда частная ссора между двумя вельможами давала повод ко вторжению одного из них во владения другого.
Если бы князь Константин почел нужным, он всегда мог бы собрать такое войско, с которым можно было бы идти на Краков. Ему принадлежало около трехсот городов и местечек, несколько тысяч деревень и несметное число слобод, хуторов и фольварков.
Кроме двух тысяч человек, преимущественно принадлежавших к дворянским и даже богатым и известным фамилиям, которые составляли его двор, многочисленная шляхта жила его милостями и готова была, по первому знаку, исполнять княжеские приказания.
За оградой замка начинался самый город Острог, раскинувшийся на несколько концов, довольно тесно застроенный деревянными жилищами, пересеченный улицами, мощеными деревом. Между городскими зданиями обращала на себя внимание школа, выстроенная князем Константином, а также его типография, которою заведывал бежавший из Москвы первый московский типограф Иван Федоров. В городе шла жизнь, имевшая мало общего с роскошной жизнью замка; тут ютилась небогатая шляхта, многочисленный класс горожан-ремесленников, и запуганные, но терпеливые евреи проделывали свои неизменные во все времена гешефты.
В то время, с которого начинается наш рассказ, т. е. в шестидесятых годах XVI столетия, князь Константин Константинович был еще далеко не стар. Он был женат на дочери Станислава Тарновского, кастелана краковского, и имел трех сыновей: Януша, Константина и Александра. Кроме того, в Острсжском замке, под его родственной охраной, жила вдова его рано умершего брата, Ильи, княгиня Беата с единственной дочерью Еленой.
Звон колокольный разносился по улицам Острога. Всюду замечалось необычное движение. Народ в праздничных одеждах собирался кучками и направлялся к церкви Рождества Богородицы, где должно было происходить торжественное освящение только что отстроенного придела во имя св. равноапостольных Константина и Елены. Придел этот жители Острога соорудили на свои собственные средства и посвящали его святым патронам князя Острожского и его племянницы, в доказательство всеобщей любви и почтения к могучему, великому князю и прекрасной княжне Елене. Живо шла работа, чтобы поспеть к торжественному дню 21 мая. Епископ Арсений за неделю уже прибыл в город. Освящение должно было совершиться со всевозможным блеском. В замок со всех сторон съехались гости – там готовился целый ряд празднеств.
Утро задалось светлое, теплое, безоблачное. Праздничный шум города сливался с ликованием весенней природы, распустившейся во всей красоте своей и залившей Острог свежей, душистой зеленью фруктовых садов, густо разросшихся почти у каждого дома.
На улицах становилось все шумнее. Народ со всех концов стекался к церкви. По дороге к замку уже расположились пестрые ряды горожан, приготовившихся встречать княжеский поезд. В руках женщин и детей были букеты цветов и зелени.
Вся стенка замка была увешана разноцветными коврами и флагами. Ворота стояли настежь. Но поезд еще не показывался.
В это время по Заславской дороге в город въезжала блестящая кавалькада, состоявшая из девяти всадников. Лихие, на диво выхоленные кони сверкали легкой, золоченой сбруей, дорогими седлами и яркими шелковыми кистями. Впереди, на вороном, лоснившемся и нервно вздрагивавшем жеребце, красовался статный молодой человек, богатый наряд которого показывал литовского вельможу, еще не успевшего или не хотевшего перенять западные моды, царившие в Кракове, при дворе Сигизмунда-Августа.
За ним следовали почти в таких же одеждах, как и он, розовый, красивый юноша лет семнадцати и два человека средних лет, из которых один отличался значительной толщиною и замечательно длинными усами. Далее, в некотором расстоянии, ехали пять служителей.
Молодой человек обернулся и остановил светлые большие глаза на красном, жирном лице своего толстого спутника.
– Эх-ма, Иван Петрович, – сказал он улыбаясь, – вижу твое лютое мучение и чует мое сердце, что ты проклятию предаешь меня чуть ли не с самых Сорочей.
– Не то, князь! – отвечал Иван Петрович густым басом; – мне что? – толст, толст, да не такие концы могу еще отхватывать, а вот что не дело, так не дело. Ну где ж это видано, чтобы на такой праздник, да еще и на освящение, выезжать до восхода солнечного и гнать, словно за нами вражья сила, когда все к князю Константину за день, да за два съезжаются. Мало что ль хором у него понастроено…
– Так тебе небось хотелось, чтоб я так, не дождавшись зову, и поехал. Когда гонец-то от князя прискакал? Вчера к вечеру – ну, я и еду. А не прислал бы гонца, так и не поехал бы.
– И дело, – вмешался в разговор другой всадник, – так и князь, родитель твой покойный, вашей милости перед смертью наказывал: крепко держись, никому не позволяй себе наступать на ногу; будь близок к князю Острожскому, но и от него требуй себе почтения – Сангуши не хуже Радзивиллов да Острожских. Как покойника отца твоего князь Константин всегда звать почетного гонца посылал, так и к сыну его и наследнику посылать должен.
– Так-то оно так, – согласился Иван Петрович, – да уж больно жарко ноне, а в церкви небось почитай что до полдня выстоять придется.
Розовый юноша, давно уже насладившийся комическим положением, в которое толщина ставила Ивана Петровича, не выдержал и рассмеялся.
Улыбнулся и князь.
– А тебя, пострел Федька, и брать вовсе не следовало, – пробасил толстяк, притворяясь рассерженным. – И чего это ты, ваша милость, разбаловал так мальчишку! – обратился он к князю.
– Не ворчи, старый, – успокаивал его князь, – ведь сам ты, небось, после того как Федя вытащил меня совсем бесчувственного из Сорочского озера, назвал его моим храбрым оруженосцем – так оруженосец-то всюду должен следовать за своим рыцарем, не баловства ради, а охраны.
– Ишь ты, хранильщик выискался! – не унимался Иван Петрович; – а поди, приключись что, напади на дороге лихой человек, так Федюша первый, как баба, со страху разрюмится.
Но такого обидного предположения юноша снести уже никак не мог. Он даже побледнел и гневно сверкнул глазами на обидчика.
– У меня только и дума одна, – задыхаясь от волнения начал он, – как бы по-настоящему, не из-под опрокинувшейся лодки, а от мечей вражеских защитить и спасти моего князя и самому умереть за него… Да и не знаю я, кто из нас двух, я или Иван Петрович Галынской с перепугу захнычет…
– Молчи, щенок! – крикнул толстяк, сердясь уже не на шутку.
– Никак вы и взаправду свару затеяли, – оглянулся князь с недовольным видом, – нашли время!.. Слышите?..
Гул радостного народного крика раздался близко за поворотом улицы. Иван Петрович и Федя замолчали, только злобно взглянули друг на друга.
Всадники дали шпоры коням и красивым галопом, звеня оружием, поскакали вперед. Через две минуты они были среди толпы народа, при повороте на довольно широкую улицу, зеленевшую далеко раскиданной свежей травою.
Народ радостно кричал, подбрасывая кверху шапки. Слева гудел торжественный благовест. Справа, с пригорка, на котором возвышался замок, медленно двигался блестящий княжеский поезд.
Лицо князя Сангушки мгновенно преобразилось. Румянец залил его щеки. Глаза, широко открытые, сиявшие блаженным выражением, остановились не мигая на одной далекой точке. Грудь дышала порывисто, и рука нервно и бессознательно сжимала рукоятку осыпанной дорогими каменьями отцовской сабли.
Не великолепие поезда поразило молодого князя – это был далеко еще не полный парадный поезд Острожского, иногда выезжавшего из города в сопровождении тысячи провожатых. Сангушко даже и не замечал поезда. Он не видел, как мимо него проскакали передовые гайдуки, как проехал маршал двора Острожского, сверкая на солнце своим золотом шитым костюмом. Он не видел толпы красивых пажей и шляхетской молодежи, среди которой, в сопровождении почетнейших гостей, подвигался князь Константин Константинович на белом, словно серебряном коне. Он не слышал восторженного крика, которым народ приветствовал своего князи.
Он глядел не отрываясь, все с тем же блаженным выражением в глазах… и ближе, ближе становилось то, на что глядел он, и сердце его замирало невольно, и туманилась голова его… За князем Константином медленно подвигалась запряженная шестериком золоченая, обитая драгоценной парчею, колымага. В ней помещалась княгиня, супруга князя Константина, женщина лет сорока, с красивым, необыкновенно добродушным и ласковым лицом, а рядом с нею сидела молоденькая девушка.
Восторженные крики народа возобновились. Женщины и дети бросали свои букеты сирени и других душистых цветов. Взгляды всех были обращены на молодую девушку. «Княжша наша! Красавица Гальшка! День красный! Солнышко небесное!» – раздавалось кругом с восторгом и благоговением.
И этот восторг, и это благоговение народа были совершенно понятны. Княжна Елена Ильинишна Острожская (или Гальшка, как ее все называли) была необыкновенная, неслыханная красавица. Такая красота родится веками, приобретает себе славу, подобно гению, и память о ней сохраняется в потомстве. Такая красота – высочайший дар природы – может служить поводом и причиной великих и часто кровавых событий.
Только вдохновенному художнику мог пригрезиться этот образ, совершенное воплощение которого было теперь перед народной толпою и выделялось на блестящем фоне парчевых подушек, как бы окруженное золотым сиянием.
Княжне Гальшке только что исполнилось семнадцать лет; но вот уже три года, как по всей Литве и даже Польше разносилась весть о чудной красоте ее. Немало людей, разумеется, людей молодых и вольных, нарочно приезжало в Острог, чтобы только взглянуть на нее и потом говорить: «я видел красавицу Гальшку». Какое же описание может дать понятие об ее прелести, равно возбуждавшей восторг и в мужчинах и в женщинах, и даже в детях, радостно бросавших цветы ей навстречу. Если бы закутать ей голову густым покрывалом, то всякий, взглянув на эту легкую, грациозную фигуру, на эти стройные, строго пропорциональные, словно из мрамора выточенные члены, не мог бы усомниться, что это тело принадлежит безупречной красавице. И точно, здесь нельзя было ошибиться – ее небольшая головка, отягченная ниже колен спадавшими, бледно золотистыми и мягкими как шелк косами, заставила бы даже закоренелого злодея выронить нож и отступить в смущении и восторге. Большие, черные, с длинными ресницами глаза казались еще прекраснее при светлых волосах и необычайно нежном цвете лица. Благородный и строгий профиль смягчался выражением, которое поражало ясностью душевной чистоты и очевидной, на все обращавшейся добротою. Но в то же время в этом лице было что-то, какая-то неуловимая черта, обличавшая присутствие мысли и воли, а по временам на нем мелькало отражение не то грусти, не то серьезной задумчивости. Одним словом, поэты того времени говорили про нее, что это была красота, гармонически слившая в себе и божественную прелесть мадонны, и земную обольстительную прелесть классической богини.
Княжна Гальшка на шумные приветствия народа отвечала ласковыми, добрыми улыбками, стыдилась возбуждаемого ею восторга, и порою смущенно взглядывала на тетку, будто желая за нею спрятаться и прося прощения в том, что она невольно обращает на себя одну всеобщее внимание. Но добрая княгиня и сама, очевидно, гордилась племянницей.
Князь Сангушко едва сдерживал свое волнение и глядел на Гальшку не отрываясь, как очарованный. Он видал ее и прежде, он помнил ее еще ребенком; в последнее время ее образ преследовал его всюду и даже не померк от глубокой, мучительной горести, в которую повергла молодого человека смерть его отца, горячо им любимого. Но никогда еще Гальшка не казалась ему так бесконечно прекрасной. И он почувствовал, в первый раз почувствовал совершенно определенно и ясно, что эта чудная красавица, которой все любуются и которую все прославляют, для него гораздо больше, чем красавица; что она дорога ему, что он любит ее, любит больше всего на свете…
Ласковая улыбка не сходила с уст Гальшки; но глаза ее были скромно полуопущены перед восхищенной толпою. Она подняла их на мгновение и ее взгляд встретился со взглядом Сангушки. Что-то быстрое, не то изумление, не то радость, мелькнуло в этих глубоких глазах. Ее щеки колыхнули румянцем… Золоченая колымага прокатилась мимо.
Сангушко тронул поводья и шагом поехал за нею, не веря себе, сомневаясь и боязливо поддаваясь новой надежде. Он обернулся. Среди бесчисленных, окружавших его лиц, его взгляд упал на пораженное, восторженное молодое лицо Феди, который растерянно глядел кругом и ничего не видел перед собою.
– Федя! – крикнул князь.
Юноша вздрогнул, очнулся и молча поехал за ним, смотря по тому же направлению, куда обращались взоры всего народа и горячие взоры князя.
II
Князь Константин Константинович Острожский, как мы уже сказали, был одним из надежнейших оплотов православия. Его деятельность в этом направлении была неутомима; но и он уже с ужасом начинал видеть, что вся его энергия, все его силы далеко недостаточны для ведения успешной борьбы с разнородными и могучими врагами.
Хотя в XVI веке православие было в Литве господствующей народной религией, но огромная масса народа только по имени могла считаться христианами. Не только в глубине страны, но и в деревнях, находившихся вблизи городов и соприкасавшихся с городской жизнью, царили совершенно языческие понятия и верования, которые в течение долгих веков оставались неискорененными. Православных церквей было много; но сельское духовенство не имело решительно никакого влияния на свою паству. Идолы и языческие празднества оставались нетронутыми – им только даны были христианские наименования. Так, например, видя в церкви вербу с повешенной на ней иконой, парод поклонялся и вербе и иконе, воображая, что богиня Блинда была превращена в дерево, и именно в вербу. К христианским праздникам применялись все прежние языческие обряды, отчасти сохранившиеся и до сих пор, но в то время имевшие в глазах народа чисто религиозное значение. Праздник Рождества слился с праздником коляды, Новый Год с языческим щедрым вечером, Крещение сопровождалось всевозможными обрядами, остатками культа Святовиту. Христова Пасха была не что иное, как празднество волочиньня. Георгиев день справлялся веселыми играми, песнями и плясками; в Троицын день завивались венки; в день Рождества Иоанна Предтечи скакали через огонь; в день Петра и Павла строились качели. Но этого мало: в иных местах на Троицу, после крестного хода, собравшийся в огромном количестве народ всю ночь завивал венки, бросал их в воду и сопровождал эти обряды невероятными бесчинствами и бесстыдством.
Солнце и луна, подземные божества, называвшиеся Баструками, и их владыко Пушайтис почитались по-прежнему. Им народ молился, чтобы они смягчали сердце жестоких господ. Окончание жатвы, дожинки праздновались по-язычески. Осенью, по окончании полевых работ, на большой стол клали сено, потом постилали его чистою скатертью, ставили на стол бочку пива и затем вводили быка или корову, назначенных в жертву богу оплодотворения. Все присутствовавшие яростно бросались с дреколием и оружием на несчастное животное и убивали его до смерти, припевая: «вот тебе жертва наша, о бог земли. Слава тебе за сохранение жизни нашей в прошлом году, защити нас и в наступающем от врага, огня, меча, морового поветрия!» Мясо убитого животного тут же жарилось и съедалось.
Но не с одними остатками язычества приходилось бороться князю Острожскому и прочим ревнителям православия. С некоторого времени в высшие сословия, а затем и в народ начинали все больше и больше проникать новые учения, идущие с запада Европы. Соперником князю Константину по влиянию и могуществу был Николай Радзивилл Черный, канцлер великого княжества Литовского, двоюродный брат королевы Варвары и один из ближайших и влиятельнейших советников Сигизмунда-Августа. Радзивилл Черный принял евангелическо-реформатское исповедание и всеми мерами начал распространять его по государству. Он основал кирки в Вильне, Келецке, Несвиже, Орше, Минске, Бресте и во многих других городах, число которых простиралось до ста шестидесяти. Он выписывал известнейших в то время проповедников, и они разъезжали всюду и учили народ. Он устроил типографии и в большом количестве печатал духовные книги. Все, что нуждалось в покровительстве могучего Радзивилла, получало это покровительство с условием отступить от православия или католичества и принять реформатство. Радзивиллу содействовали и другие вельможи: Сапеги, Ходкевичи, Кишки, Вишневецкие, Пацы, Войны и т. д. Король оставался совершенно равнодушным к этому движению и будто не замечал падения литовского православия и польского католичества.
Князь Константин Острожский видел, как с каждым годом отрывались от церкви надежнейшие сыны ее, как русско-литовские вельможи уходили в стан вражеский. Его покидали лучшие друзья и советники, он оставался почти один во главе православия – а между тем годы шли и убавляли в нем его крепкие силы, энергии кипучей деятельности. Внимательно глядя кругом себя, он с ужасом убеждался, что нет ему верного друга и помощника, что умри он сегодня – и с ним вместе умрет, пожалуй, и великое дело, которому и отец его, и он сам посвятили всю жизнь. Ревностных православных людей было еще немало, но все они были бессильны, не имели того влияния и тех огромных материальных средств, какие требовались в таких обстоятельствах.
Только в родном своем Остроге он, по крайней мере, видел себя в среде своих; здесь все вокруг него дышало» православием и благочестием. С нескрываемой радостью встретил он весть о решенной городом постройке нового придела во имя св. Константина и Елены – ему были дороги и ревность горожан к вере, и преданность ему самому и его любимой племяннице.
Давно уже не видали князя с таким радостным лицом, как во время освящения придела. Окруженный блестящей толпою, стоя у клироса на небольшом возвышении, обитом малиновым бархатом, он внимательно следил за торжественной службой и часто клал земные поклоны. Одет он был роскошно, в светлом атласном кафтане с блестевшею драгоценными камнями цепью на шее – но эта роскошь одежды не была плодом его собственной заботливости: он так оделся, потому что так одел его приставленный к его гардеробу шляхтич. Если бы ему принесли старое платье, он надел бы и его и никогда не заметил бы этого – он никакого внимания не обращал на свою внешность.
Но его фигура, его лицо были такого рода, что как бы он ни одевался, его нельзя было смешать с толпою. Он был довольно высокого роста и полон. Вокруг большого, прекрасной формы лба поредели и поседели мягкие волосы, длинная борода еще больше блестела сединою; но в открытых голубых глазах, в свежем цвете лица и улыбке было много еще жизни, силы и здоровья. В счастливые минуты внутреннего довольства лицо князя поражало откровенной добротой и необыкновенной привлекательностью. В минуты гнева оно бывало грозно, и вряд ли можно было найти человека, который бы не побледнел, встретясь тогда с его блестящим взглядом.
Все близкие люди, знавшие характер князя, не могли не уважать его; но к этому уважению непременно примешивалась большая доля страха. Все знали, что только с чистой совестью и с разумным словом на устах можно было смело приближаться к князю, что от него можно было ждать справедливости, но ни в каком случае потачки. Он уважал всякую силу; но разжалобить его слабостью – было очень трудно. Строгий к себе, неуклонно прошедший школу нравственного самоулучшения, он считал себя вправе быть строгим к другим, и со стороны его строгость могла даже иногда показаться жестокостью. К тому же деятельная жизнь, посвященная всецело святой и великой для него цели, жизнь, сопряженная со многими огорчениями и даже ударами, развила в нем некоторую желчность, раздражительность, делавшую его характер иной раз тяжелым. Но кто знал его трудно разнеживающимся, но растроганным, тот охотно прощал ему привычную суровость, Строгая его неподкупность, самостоятельность и справедливость в делах политических и общественных признавались даже злейшими его врагами…
Богослужение кончилось. Епископ Арсений, маленкий, бледный старичок, совершенно непричастный к интригам и буйствам тогдашнего высшего духовенства, едва держался на ногах под тяжестью массивного парчевого одеяния и тихо шептал последние молитвы. Князь Константин, набожно приложившись к кресту и поцеловав руку владыке, выходил на паперть, принимая поздравления окружавших.
На паперти стояли в ряд бурмистры, рядцы, лавники[1] и прочие почетные горожане. Они громко и радостно встретили князя, который благодарил их, милостиво наклоняя голову. Затем он обратился к толпе народа.
– Други мои, – громко сказал он, – спаси вас Бог за ваше радение к сему святому храму, ныне украшенному и расширенному вашими щедротами. Благодарствую от сердца и за чувства ваши ко мне и к роду моему…
Громкие крики народа не дали ему покончить. Снова шапки полетели в воздух, и немногие успели расслышать, как князь приглашал всех горожан к себе в замок, где на обширных дворах, под навесами, была с утра приготовлена, по обычаю, обильная трапеза.
Оглянувшись, князь Константин заметил пробиравшегося к нему сквозь тесную толпу молодого Сангушку. Он обнял его и троекратно с ним поцеловался, отвечая на его поздравления.
– Горд ты стал, горд, князь Дмитрии Андреевич, – заговорил он, улыбаясь. – Думал, caм обо мне вспомнишь, да заглянешь – ан ты зову ноне стал дожидаться… Ну, да Бог с тобой – вишь какой вырос – мне и спорить с тобой не приходится; не забудь только, что ты всегда мой гость желанный.
И он снова его обнял.
А Сангушко и не пытался отвечать князю, он мимо ушей пропустил его несколько насмешливо произнесенную фразу: «вишь, какой вырос…» Он сам теперь не мог понять, зачем дожидался гонца княжеского, как мог он, из каких бы то ни было соображений, пропустить два дня, два дня жизни под одной кровлей с Еленой… Он увидел ее в толпе, рядом с княгиней, окруженною блестящей молодежью.
Он подошел к ним и снова ему показалось, как будто внезапная краска вспыхнула на щеках красавицы.
Им овладело какое-то опьянение и в этом опьянении было столько никогда еще не изведанного им счастья, что он поддался ему всею душою. Он не знал, что такое он говорит княгине, и что она ему отвечает. Он видел только глубокий и смущенный взгляд Елены, слышал, как она ему говорила:
– А мы уже, князь, не чаяли тебя видеть – думали ты в Кракове, а то, пожалуй, и в Немцы уехал…
В тоне слов этих слышался такого рода упрек, который мог бы возбудить великую зависть в окружавшей толпе молодых людей; но княжна произнесла свою фразу так тихо, что расслышал ее только один Сангушко.
Князь Константин уже садился на коня. Росписная (так в книге – Д.Т.) колымага подъезжала к церкви. Толпа расступилась. Нарядная прислуга и многие гости бросились помогать княгине садиться в экипаж. Некоторые молодые люди воспользовались этим случаем, чтобы иметь возможность хоть слегка прикоснуться к платью красавицы.
Гальшка, садясь в колымагу, снова невольно взглянула на Сангушку. На этот раз ее взгляд не был замечен никем, даже самим князем Дмитрием Андреевичем. Подметил его только один человек, все время прятавшийся в толпе, но тщательно наблюдавший за княжною. Человек этот поражал своим видом и резко отличался от всего собравшегося люда. Он был далеко еще не стар и высок, и очень худ. Рост его выступал еще больше от длинного, черного, полумонашеского одеяния, на которое неприязненно косились проходившие мимо него горожане. Лицо этого странного человека соответствовало его фигуре: сухое и бледное, с правильными резкими чертами, черные почти сросшиеся брови, глубокие впалые глаза, с тяжелым, слишком внимательным взглядом – это было какое-то фатальное лицо, нечаянно взглянув на которое, можно было испугаться… А между тем оно было красиво, и в нем отражались деятельная мысль и сильная воля.
Княжеский поезд с маршалом во главе и в строгом порядке медленно подвигался по усыпанной травою и цветами улице. Народ снова приветствовал его криками и стремился за ним к широко растворенным воротам замка. Вокруг церкви пустело.
Черная фигура странного человека свернула в переулок и по другой, совершенно пустынной улице тоже направилась к замку.
Становилось душно; солнце жгло с высоты безоблачного неба. Через изгороди садов свешивались на улицу густые ветки белой акации, сирени и фруктовых деревьев, все усыпанные сильным, душистым цветом. Ворота маленьких деревянных домиков стояли на запоре. Была полная тишина и безлюдие. А Черная фигура медленно подвигалась по деревянным мосткам, настланным с обеих сторон улицы.
Вот из-под одной подворотни выглянула длинная морда собаки. Послышалось рычание и затем оглушительный лай. Где-то вблизи ему завторил другой лай, еще пронзительнее. Хлопнула калитка, на улицу выбежали белоголовые ребятишки, увидели черную фигуру…
– У-у-у! Черт идет, черт! – закричали они и спрятались в калитку.
Отворилась ставня, выглянул седой старик и сжатым кулаком энергично погрозил прохожему.
Черный человек равнодушно посмотрел на старика, на угрожавший кулак. Ни одна черта не дрогнула в лице его. Он продолжал идти всем тем же мирным, спокойным шагом, погруженный в свои мысли.
Скоро он скрылся за поворотом к замку.
III
Мы видели княжну Гальшку вдвоем с теткой, супругой князя Константина, ее же родной матери, княгини Беаты Острожской, не было в торжественном поезде, не было и в церкви, во время освящения придела. Такое отсутствие княгини могло бы сразу показаться странным и предосудительным непосвященному человеку и непременно должно было возбудить толки и пересуды в толпе собравшегося народа. А между тем никто не удивлялся, никто не спрашивал о княгине Беате. Народ уже давно привык к ее постоянному отсутствию на всех религиозных торжествах, на всех церковных праздниках. Про нее знали, что она живет в замке, что она полька и католичка, что у нее есть своя домовая каплица и свой духовник.
Все это, взятое вместе, а также ее нелюдимость и неприветливость, не могли снискать ей любви народной. Если ее не порицали и не бранили открыто, то единственно вследствие уважения к имени князей Острожских, которое она носила.
В то время, о котором мы говорим, нравы литовской аристократии были в большом упадке. По достоверным свидетельствам современников можно представить себе весьма непривлекательную картину. Стремление к роскоши делалось всеобщим. Литовские женщины высших слоев общества мотали деньги так, что мужчины могли жениться только с большим приданым. Многим девушкам из хороших домов трудно было поэтому найти приличную партию, и они должны были или оставаться старыми девами, или вступать в предосудительные браки. Литовская женщина по законам имела многие права и пользовалась большою независимостью, но недостаток серьезного воспитания развил в ней полное отсутствие самоуважения – она стремилась только к роскоши и неприличному кокетству.
Немудрено после этого, что благоразумные отцы семейств предпочитали выбирать для своих сыновей жен в Польше, где женщины были гораздо образованнее и высоко ценили родовую честь. Так поступил и покойный князь Константин Иванович Острожский – он женил своего сына Илью на польке, Беате Косцелецкой, дочери подскарбия коронного. Беата была красива, богата и имела большие связи в Кракове. Она была верной и преданной женою князю Илье, но рано овдовела, с тех пор близкие люди стали замечать в ней большую перемену.
Строго воспитанная в правилах католической веры, она и выйдя замуж осталась ревностной католичкой. Муж и его отец предоставляли ей в этом отношении полную свободу и никогда даже не заводили с ней религиозных споров. Она привезла с собой в замок Острожских старика духовника, человека весьма почтенного и сдержанного, имевшего на нее большое влияние, но никогда им не злоупотреблявшего. Княгиня Беата немало часов проводила с ним в религиозных беседах, после которых муж заставал ее иногда в восторженном настроении, со слезами на глазах. Но эта восторженность скоро проходила и молодая княгиня являлась в общество с любезной, веселой улыбкой, довольная своей молодостью, красотой и блестящим положением, далекая от всякого религиозного фанатизма. Родилась дочь – в княгине Беате вспыхнули материнские инстинкты, и все свободное от удовольствий время она стала посвящать ребенку. Девочка росла и уже с первых лет стала всех поражать своей необыкновенной красотою. Княгиня отовсюду слышала ей похвалы самые восторженные и не могла сомневаться в их искренности. Ее Гальшка сделалась ее гордостью и радостью – она не могла на нее налюбоваться.
В это время от какой-то скоротечной и неизвестной тогдашней медицине болезни умер князь Илья. Эта неожиданная утрата совершенно сразила Беату. Первое время она казалась помешанной. Она заперлась от всех, ушла в себя и месяца три выносила присутствие только одного духовника. Даже к дочери почти охладела. Строгий пост, молитва на могиле мужа, чтение духовных книг – вот в чем стала проходить жизнь ее, изо дня в день, без всяких отступлений. Напрасно многочисленная родня, искренно ее любившая, старалась привести ее в себя, убедить, что, несмотря на всю великость ее горя, жизнь еще не может потерять в глазах ее всякое значение, что ей рано еще совершенно отказываться от общества, что у нее, наконец, есть дочь, которая должна примирить ее с жизнью.
Все добрые советы, все убеждения, пропадали даром. Княгиня молча, внимательно выслушивала все, что ей говорили, но, взглянув на нее, можно было сразу заметить, что она думает о чем-то постороннем, своем, что вразумить ее нет возможности. Только при имени дочери она несколько оживлялась; но оживление это было минутное и скоро переходило в обычную апатию и замкнутость.
За несколько недель до первой годовщины смерти мужа, она съездила с духовником своим в Краков. Она пробыла там недолго, не показывалась при дворе и все время провела окруженная католическим духовенством. Она вернулась в Острог сильно возбужденная и оживленная. Во всей ее фигуре, в ее движениях замечалась явная перемена – прежней апатии не было и следа. Родные обрадовались сначала, думая, что поездка развлекла ее, что теперь она снова заживет своей прежней, естественной жизнью.
Но скоро все поняли, что ошиблись: княгиня Беата, несмотря на оживленность и признаки нравственной энергии, осталась по-прежнему равнодушной к интересам, ее окружавшим. Она была снова одна, только уж не погруженная в прежнюю тоску и задумчивость, а охваченная какою-то новой, таинственной деятельностью, которая первое время держалась в тайне от обитателей замка. Старый духовник остался в Кракове, а на место его явился новый ксендз, державший себя со всеми особенно предупредительно и льстиво. Он постоянно куда-то уезжал и возвращался, привозил княгине Беате какие-то письма, которые она жадно читала и прятала в свою заветную шкатулку вместе со всеми своими драгоценностями.
Что же все это значило? Значило это, что княгиня, действительно, сумела найти примирение с жизнью, найти дело, которому она отдалась порывисто и страстно. Дело это было – религиозная пропаганда. Католические патеры в те времена, как и теперь, любили действовать через женщин и всегда имели в них верных учениц, помощниц и благодетельниц.
Мудрый сонм краковских отцов в короткое время совершенно забрал в руки княгиню Беату. Она поклялась посвятить всю жизнь свою делам веры и помогать духовенству своими посильными приношениями. В первый же год она переслала в Краков, при посредстве нового духовника, весьма значительные суммы денег. Взамен их она получала благодарственные письма святых отцов, где ее провозглашали достойнейшей дочерью церкви. Эти красноречивые, пропитанные тонкою лестью письма составляли ее отраду и гордость. Ей обещали, что ее добрые дела скоро сделаются известными папе, что она получит и его благодарность. Она удвоила рвение и с радостью жертвовала ловким патерам гораздо больше половины всех своих доходов.
Поглощенная и затуманенная своей новой деятельностью, Беата уже не находила времени заниматься подраставшей дочерью. Вся ее прежняя любовь к ней как-то расплылась в охватившем ее фанатизме. Иногда она забывала ее по целым дням. Князь Константин Константинович и его жена до глубины души возмущались этим. Они не раз пробовали убедить, усовестить Беату.
– Я люблю ее гораздо больше, нежели вы все думаете, – во время одного из таких объяснений сказала княгиня Константину Константиновичу. – Я много забочусь о ее будущем, о ее счастии, но разве я виновата, что у меня руки связаны, что я хоть и мать, да не мать ей…
– Что это значит? – спросил князь. – Неужели ты хочешь упрекнуть меня или жену в том, что мы становимся между тобой и Гальшкой?..
– Я ни в чем не хочу упрекать вас, но скажи по совести, разве она не больше принадлежит вам, нежели мне? Разве ты не опекун ее, разве не в твоих руках ее состояние, разве, наконец, моя дочь не чужда мне по вере, в которой вы ее воспитываете?
– Но ведь ты все это хорошо знала, когда выходила за брата. Ты знала, что дети Ильи Острожского не могут быть католиками. Ты торжественно клялась покойному отцу и брату никогда не заводить и речи об этом.
– Да, клялась! – отчаянно проговорила княгиня, – клялась; но сама не знала, что делала, не знала какой грех, какое мучение брала на свою душу… Вы заставили меня отступиться от моего собственного ребенка… Это ужасно!
Князь уже давно ожидал подобных упреков, хотя Беата до сих пор и была очень сдержанна. Он давно уже предвидел, что трудно ему будет обойтись без семейной драмы, подготовленной католическими патерами. Ему приходилось отстаивать православие уже не в одной Литве, а и в стенах собственного дома, приходилось начинать тяжелую, раздражающую борьбу с фанатизмом женщины, которую он, не без основания, иногда готов был считать помешанной…
Его лицо вспыхнуло, глаза блеснули недобрым блеском.
– Никто тебя не заставлял и не заставляет отступаться от Гальшки, – гневно сказал он. – Никто не заступает тебе дорогу к ее сердцу; если тебе мало ее любви, если ты хочешь стать между ею и Богом, насильно навязывать ей свою веру, то уж лучше тебе уехать отсюда. Я выдам все, что тебе завешано братом, но Гальшки тебе не выдам.
– Как! – поднялась Беата, бледная и дрожащая. – Ты хочешь отнять у меня дочь, ты хочешь меня выгнать из дому?! Или ты думаешь, что на тебя нет и закона, что король потерпит такое беззаконие?..
Князь Константин едва себя сдерживал. Он побагровел от гнева.
– Я не боюсь твоего короля! – задыхаясь, проговорил он. – Ты знаешь, что до сих пор я тебе был добрым братом, но я был братом и твоему мужу – я не отдам его дочь на съедение твоим патерам, которые лишили тебя и рассудка, и сердца…
И он вышел своими тяжелыми шагами от княгини.
Беата бессильно опустилась в кресло и залилась слезами.
Она еще недавно получила из Кракова письмо от епископа, в котором он убеждал ее в необходимости вырвать, дочь из «челюстей схизмы». Верные слуги католической церкви давно уже всецело подчинили ее своему влиянию. Она жила их мыслями. Но рядом с этим в ней оставалось нетронутым уважение к князю Константину, какой-то благоговейный страх: перед ним. Борьба с ним представлялась ей невозможной.
Она велела позвать своего духовника и излила ему душу. На другой день он ехал в Краков за инструкциями.
Пройдя к себе и несколько успокоившись, князь Константин задумался о Гальшке. Ей уже был шестнадцатый год на исходе. Из прелестного ребенка она превратилась в удивительную, неслыханную красавицу, в девушку кроткую и благочестивую. Князь души не чаял в племяннице. Да и мог ли он не любить ее! У него было трое сыновей, старшему из которых только что исполнилось 12 лет. У него была и единственная, любимая дочь, сверстница и подруга Гальшки. Но дочь эта умерла три года тому назад, и с тех пор вся его нежность к ней перенеслась на Гальшку.
Молодая княжна и сама горячо любила дядю. Никто, как она, не умел ему прислуживать, никто не умел так разглаживать маленькой и нежной рукой морщины гнева и печали, выступавшие на лбу его. Она одна из окружавших не боялась его в страшные его минуты. Она одна смело входила к нему в те часы, когда все трусливо обегали его покои
Он любил тихо и ласково беседовать с ней в свободное время. Иногда по вечерам он собирал жену и детей, а Гальшка отстегивала золотые застежки большой тяжелой книги и своим звонким голосом читала им житие какого-нибудь святого или главу из Евангелия. Князь Константин по временам прерывал чтение и объяснял ей то, что, как ему казалось, было неясно ее пониманию.
И эту-то добрую и ласковую, ангельски прекрасную дочку-племянницу желают отнять и у него и у церкви, желают сделать полькой, католичкой! Невозможно допустить до этого, нужно еще больше следить за нею, оберегать ее от вредных влияний – а следить и наблюдать совсем некогда: большие дела на руках, кипучая, непрерывная деятельность. Все чаше и чаще приходилось князю отлучаться из Острога, дела звали его то в Краков, то в глубину Литвы, то в резиденции других магнатов литовских.
Правда, без него оставалась жена… она добра, она сама без души любит Гальшку; но князь Константин невольно должен был сознаться, что его добрая, верная княгиня Анна Станиславовна плохой дипломат и руководитель. Ее обмануть и одурачить ничего не стоит – на это хватит самого неопытного католического монаха.
Выдать бы поскорее Гальшку замуж, приискать ей жениха хорошего и надежного, из доброй и вельможной семьи православной. Но на ком остановиться? Где теперь в это смутное, шаткое время надежные люди? Что за мелкое, жалкое племя народилось у стариков литовских! За отличие при дворе продают и родину и веру. Забыли стародавние, дедовские нравы и обычаи – а ими то – крепко, несокрушимо стояла Литва родимая. Передразнивают поляков да немцев, перенимают их непутные, разорительные моды… Стыдно сказать – малый лет в двадцать с чем-нибудь уже побывал в разных чужих странах, всего навидался, все ему опротивело, а пуще всего опротивели родные леса литовские. Так его и тянет из дому, все в Краков, да в Краков, за чужими женами польскими волочиться, да своих же литвинок очумевших вводить в грех и беспутство. Совесть забыли, Бога забыли, родину губят…
Есть один человек на примете Князь Константин давно в него всматривался. И роду знаменитого, и сын друга-товарища, и крестником приходится. Воспитан строго, в вере и благочестии, собою молодец и умом не обижен – мог бы и для дела святого пригодиться князь Дмитрий Сангушко, можно было бы положиться на такого племянника, пока свои дети не вырастут. Да кто его знает – как еще покажется он самой Гальшке. А неволить Гальшку и настаивать в таком деле князь Константин не решился бы ни за что на свете.
Приходилось ждать да положиться на милость Божию. Князь только стал почаще беседовать с Гальшкой об истинах православной веры и старался возбуждать в ней патриотические чувства…
Между тем, краковское духовенство не дремало. По поводу княгини Беаты списались с Римом. Там приняли в этом деле живое участие, заинтересовали княгиней Острожской даже папу Пия V. Он послал ей в духовники итальянца – монаха. Этот монах принадлежал к ордену иезуитов, сильно покровительствовуемому(так в книге – Д.Т.) папой. Звали его Антонио Чеккино. Ему даны были важные инструкции и полномочия.
Княгиня Беата встретила его как посланника неба; он сразу успокоил ее взволнованную душу, и не прошло и месяца, как забрал ее всю, со всеми ее помыслами и чувствами, в свои руки. Явившись в Острог, отец Антонио сделал все, чтобы произвести выгодное для себя впечатление в его обитателях – он обошел не одну Беату, он обошел всех, но не мог обойти князя Константина. Князь сразу почуял в нем врага ловкого и хитрого. Между тем, не было достаточной, законной причины для его удаления из замка. Так прошло три года.
IV
Княгиня Беата сидела одна в роскошно убранном покое. Палящее солнце притупляло лучи свои о причудливые итальянские витрины высоких окон. В комнате было прохладно, и массивное, в духе того времени, ее убранство казалось еще внушительнее в мягком полумраке. Княгиня только что вышла из своей молельни и старалась предаться религиозным размышлениям. Но чувства ее были взволнованы, она не могла спокойно мыслить о Боге, не могла победить себе раздражения. Ее утро началось дурно. Она имела неприятное объяснение и не послушалась своего руководителя – отца Антонио.
Он всегда убеждал княгиню сохранять добрые отношения со всеми в замке, а в особенности быть почтительной и предупредительной с князем Константином. Он настоятельно советовал ей никогда не вступать в религиозные споры, никогда не хулить православной веры, посещать церковь вместе с семейством Острожских. Но послушная и безгласная во всем остальном, в этом пункте княгиня Беата не могла совладать с собою. В ее характере была врожденная искренность, при которой ей трудно было идти окольными путями, лгать и притворяться. Ее религия, доводившая ее до фанатизма, была для нее так высока, что она считала унизительным входить с православием в какие бы то ни было компромиссы. Отцу Антонио было еще трудно убедить ее в учении, что цель оправдывает средства.
Прежде, несколько лет тому назад, Беата была равнодушна к «схизме». Она охотно посещала русскую церковь и молилась в ней по своему молитвеннику. Разговоры «от св. писания» князя Константина не волновали ее и не возбуждали в ней злобы. Но с тех пор, как она поставила целью своей жизни католическую пропаганду, с тех пор, как она отдалась в руки духовенства и в изобилии стала принимать духовную пищу, посылаемую ей краковскими отцами, ее взгляд на православие совсем изменился. Теперь оно было для нее даже не просто чужая вера, а нечто ненавистное, крайне враждебное, столкновение с чем приводило ее в ужас. Она стала горячо ненавидеть русскую церковь, русские обряды, русское духовенство, всех православных людей. Но пуще всех она возненавидела князя Константина. Она еще продолжала его бояться, она еще не решилась разорвать с ним, еще исполняла клятву, данную ею мужу на смертном одре его, то есть жила в Острожском замке, под охраной князя. Но кроме чисто внешнего исполнения этой клятвы от нее ничего уже нельзя было требовать.
Она все реже и реже стала выходить из своих покоев, очевидно избегала встреч с князем и домашними. Она никогда не показывалась в народе. Уже давно никто не видал ее в церкви.
Напрасно Антонио, с жаром и свойственной ему красноречием, доказывал ей, что хоть на сегодня ей непременно следует отправиться к обедне, на освящение придела, следует показаться вместе с дочерью именинницей. Она упорно отказывалась и объявила, что это свыше сил ее. Как ни настаивал Антонио – ему пришлось оставить ее непреклонной.
«Глупая женщина, помешанная женщина! Только портит дело…» – про себя шептал он, досадуя и волнуясь, в то время как лицо его оставалось неизменно спокойным. И он пошел в церковь подмечать все достойное внимания, прислушиваться к народному говору. Обладая большими лингвистическими способностями, Антонио в короткое время выучился литовскому языку и понимал каждое слово. В обществе же он говорил обыкновенно по-итальянски, так как этот язык был тогда в большом ходу и моде, и даже многие литовцы высшего круга объяснялись на нем очень порядочно. Княгиня Беата знала его в совершенстве…
Сначала все было тихо в замке – деятельная жизнь кипела только на том дворе, где пометались кухни и где в этот день с солнечного восхода делались приготовления к роскошному пиру. Но вот послышался гул и конский топот, потом отдельные голоса и народные крики. Княжеский поезд в сопровождении толпы горожан подъезжал к замку.
Княгиня Беата прислушивалась к этим звукам с каким-то даже отвращением. Эта православная толпа народа, эти православные гости князя казались ей вражеским, варварским войском. Много бы дала она, чтобы провести этот день у себя, запершись с Антонио и дочерью. Но это было уже невозможно, это было бы такое оскорбление князю, после которого нужно было разойтись с ним совсем и поднять целый ряд трудно разрешимых вопросов, в том числе и денежных. И она с ужасом и мучением думала о том, что предстоит выйти «на ту половину», принимать участие в пире, выслушивать, наверное, такие речи, от которых огнем закипало ее сердце.
О, если б она была одна, если б не связывала ее Елена или вернее, если б не было так сильно влияние и могущество князя Константина даже в Кракове, где королю не с руки было окончательно вооружать против себя могущественного литовского вельможу!.. Что ж это не идет Гальшка? Ее совсем отнимают у матери! – княгиня Беата забывала, что она сама отнимала у себя дочь своим неровным, странным обращением с нею. Сегодня Гальшкин праздник, ее именины. Беата приготовила ей богатые подарки. Вот лежат они на столе: удивительное жемчужное ожерелье, которому могла бы позавидовать и королева; цепь тончайшей венецианской работы… Как прекрасна должна быть Гальшка с этим ожерельем на шее… Да, Гальшка хороша неслыханно, она все хорошеет…
В княгине проснулась материнская гордость. Из соседней комнаты послышались легкие шаги, вошла Гальшка, сияющая и цветущая, в своем белом платье, обшитом золотой бахромой, с какою-то новой улыбкой и новым блеском во взоре.
Княгиня поднялась и на мгновение остановилась, пораженная необыкновенной красотой дочери, как бы осветившей собою мрачную и тяжелую обстановку комнаты.
Ее бледное, худощавое, но все еще прекрасное лицо оживилось. Она протянула руки и привлекла к себе девушку, покрывая ее глаза, губы, волосы горячими поцелуями…
– Гальшка! дитя мое! моя дорогая! – говорила княгиня растроганным голосом, не в силах, да и не желая удержать вдруг полившиеся слезы.
Княжна взглянула на мать, увидела эти слезы, эту мало знакомую ей нежность, и с легким криком радости и сушения припала головою на грудь Беаты.
Так пробыли они несколько мгновений. Потом княгиня взяла Гальшку за руку и подвела ее к столу, на котором лежали подарки.
– А вот это я приготовила для сегодняшнего дня моей девочке, – ласково сказала она. – Вот эта нитка жемчугу – ее подарил моей матери король Сигизмунд I… посмотри, какие зерна – и все на подбор, одно к одному… такого жемчугу не видала ни одна вельможная краковская панна… я надевала этот жемчуг всего раз, как под венец шла. Когда родилась ты, я для тебя его спрятала – не знала еще тогда, что такая красавица ты у меня будешь… Да с этим жемчугом на шее краше тебя и не сыскать никого во всем свете…
И она надела драгоценное ожерелье на тонкую, будто мраморную, шею дочери и застегнула его алмазным запястьем.
– Спасибо, матушка, спасибо, родная, – невольно восхищалась Гальшка, ловя и целуя руку княгини.
– Ну, а вот цепь веницейская – ее я нарочно для тебя заказывала, только что прислали. Смотри, что за работа – словно паутина… Дай руку, я кругом обмотаю – увидишь, как будет красиво.
– Матушка, а ведь и тебе пора нарядиться, – заметила княжна, обнимая мать за этот второй подарок. – Все гости собрались уже в золотой зале… меня про тебя еще в церкви спрашивали, о твоем здоровье справлялись…
Лицо княгини мгновенно преобразилось; злая усмешка мелькнула на губах ее.
Кому я нужна, что обо мне справки наводят?
Кому я мешаю, что обо мне забыть не могут?.. А ты меня и сегодня упрекнула… Что же ты думаешь – лежала я и спала все утро! Я о тебе молилась, о тебе плакала, просила Бога, чтобы Он просветил тебя истиной, не дал тебе погибнуть в кознях вражеских…
Светлые глаза Гальшки отуманились печалью. Она горько вздохнула. Чудная минута материнской ласки, горячей взаимной искренности мелькнула и исчезла. Она снова чувствовала ту вечную, непреоборимую преграду, которая стояла между ней и матерью, снова испытывала то раздражающее чувство, которое всегда возбуждалось в ней подобными словами.
Это чувство до сих пор составляло единственное мучение ее жизни и избавиться от него она не была в состоянии. Но теперь оно почему-то быстро ослабело – его пересилило необыкновенное, никогда еще так чудно не испытанное ею счастие, которым она была полна все утро. Выражение, бывшее на ее лице, когда она входила в комнату матери, снова вернулось. Оно было так ново, оно так довершало красоту ее, что княгиня Беата не могла его не заметить.
– Какие у тебя глаза сегодня! – сказала она, вглядываясь в девушку. – Что с тобой?.. Тебе весело, ты счастлива?..
– Да… да… мне хорошо, мне весело сегодня, – смущенно прошептала Гальшка.
– Много собралось? Кто еще приехал? А Сангушко? Здесь он?
– Здесь… Я видела его в церкви…
Если б княгиня Беата продолжала глядеть на дочь, она заметила бы, как та смутилась и покраснела.
– Ну, ступай туда, к тетке, а мне вели позвать дежурную панну – я стану одеваться, – рассеянно проговорила княгиня.
Гальшка поцеловала ее и направилась к двери.
На пороге она почти столкнулась с черной фигурой высокого и бледного человека. Он почтительно поклонился.
– Приветствую княжну Елену и приношу мое сердечное поздравление, – сказал он по-итальянски.
– Благодарю вас, отец Антонио, – равнодушно ответила Гальшка и прошла мимо.
Только замолкли ее шаги, он быстро подошел к княгине.
– Я был в церкви, – заговорил он, – вы очень дурно сделали, что остались дома – это только всех вооружит против вас и не поведет ни к чему доброму… Но теперь не то… есть опасность важнее. Скажите, княгиня, желаете ли вы, чтобы ваша дочь навсегда была для вас потеряна, чтобы все ваши планы спасти ее немедленно рушились?!
– Что вы говорите?! – с ужасом прошептала княгиня.
– Я говорю, что все это легко может случиться в самом скором будущем.
– Что же такое случилось – не томите ради Иисуса и Святой Девы!
– Если княжна Елена полюбит русского и выйдет за него замуж – будет ли это ее гибелью?
– О, это было бы ужасное, величайшее несчастие!
– Да, для нее это величайшее несчастие, и для вас тоже, и это несчастие готово совершиться… Если только я могу доверять глазам своим, она уже любит одного из сильнейших врагов нашей святой веры…
– Моя дочь любит? Гальшка? Да она еще ребенок, она так равнодушна ко всем своим поклонникам и искателям! – воскликнула княгиня.
– Она ребенок, – с горькой усмешкой проговорил Антонио. Для вас – да; но этому ребенку уже семнадцать лет… Один час, одно мгновение превращает ребенка в женщину – и это мгновение пришло сегодня, и я его подметил.
– Но кого же любит моя дочь? – в ужасе прошептала княгиня.
– Молодого князя Сангушку, – ответил Антонио еще более бледный, чем когда-либо.
Княгиня Беата отчаянию схватила свою голову руками. Она хорошо знала покойного Сангушку, знала и сына. Она знала, что оба были православными и русскими до мозга костей. Она помнила, как еще недавно князь Дмитрий Андреевич, на пиру у Острожского, горячо и прямо порицал католицизм и польское влияние, польские нравы и обычаи. С того дня она почувствовала злобу к молодому человеку. И вот этот враг ее веры, ее родины, этот любимец и крестник князя Константина теперь отнимает у нее навеки ее Гальшку… Понятно, что князь Константин не только ничего не будет иметь против этого брака, но даже будет рад ему, употребит все усилия, чтобы его устроить. Но когда же это могло случиться? Когда же Гальшка успела полюбить его – он в последнее время, после смерти отца, несколько месяцев не бывал в замке…
– Этого быть не может! Это было бы слишком ужасно… вы ошибаетесь, отец мой! – пробовала она отогнать от себя уверенность в несчастии.
– Я не ошибаюсь, княгиня, я не стал бы говорить вам, если бы не убедился в справедливости моих подозрений. Ваша дочь действительно еще очень молода – она не умеет скрыть своих первых волнений – ее лицо, ее глаза выдали мне ее тайну…
– Ее лицо, ее глаза!.. Да, правда, правда – у нее странное лицо сегодня! – шептала Беата.
– А! и вы заметили?
– Я даже спросила ее, что с ней. Она ответила, что ей хорошо, весело сегодня…
– Быть может, она сама еще не понимает, не сознает ясно своего чувства, – сказал Антонио, – быть может, все только и началось сегодня… Но разве для этого нужно время…
– Но что же делать, Боже, что делать? – ломала руки княгиня.
– Наблюдать и употреблять все силы, чтобы не допустить этого брака. В случае крайности нужно решаться на все – и к тому же не забывайте, что вы мать, что как бы ни был силен и могуч князь Константин – если вы останетесь тверды, то без вашего согласия, при вашем прямом запрещении, не могут выдать вашу дочь замуж…
– Спасите, отец мой! Идите, идите, наблюдайте – я сама сейчас там буду! – стала торопить его княгиня.
Отец Антонио вышел своими тихими, мерными шагами и направился длинными коридорами и переходами на половину князя Константина, откуда уже доносились говор и звуки музыки.
По его мрачному и утомленному лицу скользило выражение с трудом подавляемой сердечной боли.
V
Антонио Чеккино принадлежал к одному из старых родов Италии. Он вырос в самом блестящем обществе, отличался красотой и ловкостью. Уже в первые годы молодости он приобрел себе известность как храбрый рыцарь и покоритель сердец дамских. Он был совершенным представителем рыцарства того времени, полагавшего все призвание и цель благородного человека в военно-театральных подвигах и чувственной любви, прикрытой платонической маской.
В два, три года молодой Чеккино насчитывал больше десятка поединков, из которых он всегда выходил победителем. Немало южных темных ночей были свидетелями его подвигов более мирного свойства. Немало ревнивых мужей клялись кровавой ему местью и трусливо оставались при этих грозных, но бессильных клятвах, над которыми откровенно смеялся самоуверенный счастливец.
Жизнь его проходила как сон, причудливой и волшебной. Постоянные удачи и лесть баловали его плохо направленное, мелкое самюлюбие. Мысль бездействовала… А между тем в его природе лежали зародыши такой силы, которая не могла удовлетвориться слишком узкой ареной. Он не успел еще превратиться в зрелого мужа, как уже безотчетная грусть и скука начали врываться в его веселье. То, что так недавно считал он за счастье, переставало казаться ему счастием. Рыцарские забавы теряли свою прелесть; ласковые взоры благосклонных дам уже не сулили блаженства.
Но между этими дамами была одна – молодая графиня Риччи, умная и ловкая кокетка, не почерпавшая силу своих чар в общепринятом маленьком кодексе, где по пунктикам значилось все, чем прекрасная дама должна была побеждать сердца благородных рыцарей. Графиня Риччи была самостоятельна и оригинальна в деле кокетства. У нее были свои приемы – постоянно неожиданные и разнообразные, которыми она весьма искусно уловляла в сети. Скучающий и жаждавший нового интереса Антонио сам не заметил, как горячо полюбил ее.
Она долго его мучила, чтоб окончательно закрепить власть за собою. Но она сама была им несколько увлечена и под конец тронулась его страстью. Блаженству его не было границ. Ему казалось, что он возродился к новой жизни. Во славу своей возлюбленной он готов был на всевозможные подвиги. Он создал из своих дней и ночей огромный роман во вкусе эпохи и тайно от чуждых взоров переживал все его тончайшие перипетии.
Избалованный всеми женщинами, с которыми сталкивался, привыкший только возбуждать ревность, но никогда ее не испытывать, он не боялся и за свою графиню. Ему даже и в голову не приходила мысль о возможности с ее стороны измены. Ему только хотелось как-нибудь навсегда отделаться от ее сонного и разжиревшего мужа, присутствие которого становилось чересчур скучным.
А между тем, привыкшая к разнообразию графиня уже искала новой жертвы и, разумеется, скоро нашла ее. Услужливые друзья постарались анонимно предупредить об этом Антонио. Он сразу не поверил; но и одного сомнения было достаточно, чтоб возбудить в нем ад, поднять все его страсти. Ему недолго пришлось находиться в неизвестности – он еще не успел придумать способа убедиться в измене графини, как она сама предложила ему отставку. Она не знала своего рыцаря. Она шутила и смеялась; но смех и шутка замерли на губах ее – одно мгновение – и она плавала в крови своей, а Антонио, с искаженным, безумным лицом, бледный, как смерть, спускался, шатаясь, с потайной лестницы, по которой он так часто крался, счастливый и блаженный… Он не помнил как вскочил на своего, привязанного в саду, коня, как примчался домой. На другой день таинственная история убийства графини была у всех в устах. Антонио, придя в себя, не захотел явиться с повинной – он только казался мрачным и задумчивым; многие его подозревали, но ясных улик не было. Некоторые даже говорили, что убийцей был сам граф, убедившийся в неверности жены. Как бы то ни было, дело кончилось ничем – молодую женщину торжественно похоронили в фамильном склепе, а мрачный Антонио скоро неизвестно куда скрылся.
Его не мучило раскаяние; он как-то сумел потопить и любовь свою, и злобу в крови графини. Но тоска и скука томили его невыносимо. Общество, в котором он жил, жизнь, которую вел, опротивели ему. Нужно было покончить с ними, искать какого-нибудь нового существования, новой деятельности.
Он вспомнил одного человека, который когда-то произвел на него сильное впечатление. Человек этот был Диего Лайнец, генерал ордена иезуитов.
К нему решился идти Антонио, чтобы навсегда отказаться от прошлого и начать новую деятельность, которая привлекала его своей таинственностью и очевидным могущественным значением.
В одежде послушника явился блестящий рыцарь перед генералом иезуитов. Он принес с собою все свое золото, все драгоценности и просил принять их в дар на нужды общества. Он умолял не выдавать его имени и дать ему какое-нибудь поручение вдали от тех мест, где его знали… он клялся посвятить всю жизнь на службу Богу и ордену…
Проницательный Диего сразу увидел, с каким человеком имеет дело. Ему неясны были подобные люди. Но прежде необходимо было испытать Антонио. И Диего провел его через долгую школу испытаний.
И удивительная перемена произошла в Антонио. Он, бывало, не признававший ничьей воли, кроме собственной, привыкший к поклонениям и лести, превратился в самого почтительного и безответного исполнителя чужых приказаний. Его самолюбие и честолюбие получили совершенно новое направление – ему хотелось удивить отцов иезуитов подвигами своего смирения.
Тоска и скука, от которых он бежал, замерли в нем. Он испытывал совсем новое, страстное наслаждение в самобичевании, в умерщвлении плоти, в фанатических грезах. Здоровый и сильный – он мог вынести многое, но все же, когда через полгода он явился к Диего, строго исполнив свой искус, генерал едва узнал его. Он бьл страшно худ, с углубившимися и лихорадочно блестевшими глазами, с новым выражением в лице.
«Вот человек, какого нам нужно! – подумал Ланнец, – он может сломить в себе все, и ни перед чем не остановится, – он не упадет духом и не изменит».
Генерал торжественно объявил Антонио, что из разряда достойных похвалы учеников (sholastici approbati) он переводит его, не в пример прочим, прямо в высшую степень «профессоров» или «исповедников», то есть деятельных, исполняющих важные поручения членов общества Иисуса. Он оставил его при себе, обращался с ним, как с другом, и скоро посвятил во все тайны иезуитства.
Перед Антонио открылось многое, чего он и не подозревал. Мало-помалу в беседах увлекательно красноречивого Диего выяснилась оборотная сторона действий ордена, давших ему в короткое время такую силу и значение, возбуждавших к нему страх и ненависть большей части общества. Антонио увидел, что школа умерщвления плоти и беспрекословного послушания не только папе, но и воле ближайшего орденского начальства должна была привести человека не к высшему служению Богу, а имела единственной целью сделать, из иезуита сильное орудие для достижения совершенно земных целей. Обращение народов в латинство (католичество – Д.Т.), полное владычество «общества Иисуса» над умами и материальными средствами ближних – вот в чем состояла программа, поведанная Антонио генералом.
Но все, что в этой программе могло смутить совесть рыцаря, было совершенно сглажено тем влиянием, которое Диего уже получил над Антонио. Пламенные речи, блестящие софизмы, ловкие обещания могущества и власти в близком будущем сделали свое дело. Посвященный во все тайны, Антонио превратился в истинного, безукоризненного иезуита. Он с большим еще жаром и искренностью поклялся генералу быть верным слугой папе и отдать всю жизнь на благо ордена.
Перед ним заманчиво рисовалась благодарная, увлекательная деятельность. Ему предстояло уловлять сердца не ловкостью и физической силой, не красотою и блеском, а силой разума; предстояло приходить к владычеству над людьми тайными, ловко перепутанными путями. Его самолюбию открывалась обильная пища.
Скоро ему представился случай испытать свои силы.
Он был послан миссионером в Бразилию и в течение трех лет присылал генералу ордена огромные списки новообращенных; кроме того, через него орден получил и значительные денежные средства. Антонио имел огромное влияние в местности, где действовал; беспрекословно и постоянно удачно исполнял он все приказания, высылаемые из Рима, и благосклонный Диего Лайнец обратил на его деятельность внимание папы. Решено было вызвать Антонио в Рим и поручить ему какое-нибудь важное дело, требующее осторожного и ловкого человека.
Антонио явился с апломбом испытанного и знающего себе цену деятеля. Он был дружески встречен генералом и имел продолжительную аудиенцию у Пия V, который расстался с ним, благословив его на новый «подвиг».
«Подвиг» этот действительно был важен. Рим давно уже жадно следил за Польшей и Литвой. Оттуда начинали приходить все более и более тревожные известия. Необходимо нужно было утвердить шатающееся латинство в Польше и сделать «схизматическую» Литву достоянием «истинной» церкви. Такое дело было только по плечу иезуитам. Но явиться сразу и действовать прямо они, разумеется, не хотели: им нужно было подготовить себе почву, очистить путь, заручиться такими сведениями, которые бы не допустили возможности ошибки.
Особенно в православной Литве, имевшей таких вождей, как князь Константин Острожский, нужно было хорошенько осмотреться и найти себе сторонников и учеников в среде влиятельных, вельможных семейств русских.
А тут, как нарочно, представлялся самый удобный случай начать тайные, враждебные действия в самом центре литовского православия, в семье Острожских. Княгиня Беата, верная дочь римской церкви, пожертвовавшая на католическую пропаганду значительные суммы, просила у папы духовника и руководителя по его личному выбору и с его благословения.
Папа избрал отца Антонио.
Мы видели, что иезуит ловко приступил к исполнению своей миссии. Он получил огромное влияние на княгиню Беату, он очаровал всех в замке. Он аккуратно посылал в Рим очень важные и интересные донесения. Кроме того, два старших сына князя Константина были в его руках. Мальчики очень боялись отца и этот страх, основанный на его строгости и раздражительности, лишил их детской откровенности с ним. Князь, удрученный делами и заботами, не имел никакой возможности постоянно следить за детьми. Антонио стал пользоваться каждым удобным случаем перекинуться с ними несколькими словами и скоро так обворожил их своей добротой и участием, что они считали его своим лучшим другом. Он сумел внушить им уверенность, что для них лучше, если эта дружба останется в тайне ото всех. И дети дорожили этой тайной, свято хранили ее и мечтали о блаженной жизни мальчиков в той стране, откуда приехал их друг и куда они сами могут попасть, если будут умными и станут слушаться его советов. С каждым днем укреплялись эти тайные отношения. Иногда дети за неимением возможности увидеться с Антонио пересылали ему записочки, кладя их в дупло заранее условленного дерева в парке; они жаловались своему другу на притеснения и наказания, которым подверглись, и добрый друг всегда являлся их сторонником, осуждая тех, кто причинял им неприятности. Мало-помалу он развивал в мальчиках недовольство отцом, его строгостью…
А деятельный князь Константин, хоть и глядел на Антонио как на тайного врага, все же не замечал ничего, не подозревал, что этот тайный враг успешно отнимает у него сыновей, подготовляет в них, в князьях Острожских, отступников от православия…
Одно только никак не удавалось отцу Антонио. Ему не удавалось получить влияния над Гальшкой. Князь, уверенный в ее благочестии и искренности, насколько возможно следивший за нею, дозволил Антонио давать ей уроки итальянского языка. Эти уроки не могли повредить ученице; но они вызывали ад в душе учителя. Отец Антонио, давно позабывший все соблазны мира, прошедший долгую и страшную школу лишений и умерщвления плоти, искренно отказавшийся от всего, чем когда-то полна была жизнь его, не устоял перед соблазном внешней и нравственной красоты княжны Елены и полюбил ее безумно, со всем жаром своей страстной натуры, крепко подавленной, но не убитой силою воли.
Эта вторая любовь принесла монаху гораздо более тайных мучений, чем первая. Он ясно видел, что она безнадежна, что Гальшка не будет отвечать ему, что она смотрит на него, как на учителя, как на монаха чуждого ей вероисповедания, и как-то даже совсем не видит в нем мужчину. Это сознание было для него ужасным. Не прошло еще и шести лет с тех пор, как он был блестящим рыцарем, любимцем женщин… Неужели он с тех пор так страшно изменился? Да, он бледен, он худ, глаза его впали, манеры и обращение светского человека перешли в сдержанность и скромность служителя церкви… Но, Боже, разве молодость ушла навсегда, разве черная одежда положила на него несмываемую печать? Стерла все признаки былой красоты его!? Он замечал, как одна из хорошеньких паненок, приближенных княгини Беаты, смущалась и краснела встречаясь с ним. Эту шляхтянку звали панна Зося, она была полька и католичка. Он исповедовал ее, потупив глаза, и говорил с ней только о религии… Но и из-под опущенных ресниц видел, как она, не отрываясь, смотрела на него, краснела и бледнела… Ее голос дрожал, грудь высоко поднималась. Однажды, не в силах будучи владеть собою, она залилась слезами, упала перед ним на колени и призналась ему в любви своей. Отец Антонио хорошо знал, что один параграф тайных иезуитских Наставлений, составленных самим Диего Лайницом, допускает делать все, приятное женщинам, преданным душою обществу Иисуса, только требует осторожности и избежания соблазна… Панна Зося была молода, красива; пользуясь благосклонностью не только Беаты, но даже и Гальшки, она годилась для роли шпиона.
Но полным страстной любви к Гальшке, он не пленялся красотой и слезами своей духовной дочери. Он ласково поднял ее и стал успокаивать… Он говорил ей, что нужно бороться с соблазнами, говорил увлекательно и долго… Тон его слов и их намеки не поощряли, но и не внушали безнадежности.
Молодая девушка ушла от него с твердым намерением не отгонять от себя соблазнов и в конце концов добиться любви прекрасного монаха…
И не одна панна Зося находила его прекрасным – он встречал немало поклонниц. Для них он и в черной одежде, говорящей об обете целомудрия и полного отречения от мира, не терял своей привлекательности, а даже напротив – манил к себе как плод запретный… Но Гальшка была слишком далека от подобных взглядов. Его наблюдательный ум верно выяснил ему ее характер. Она была еще таким чистым, невинным ребенком… И, однако, эта чистота чувства и помыслов являлась не единственным признаком крайней молодости – она была присуща ее натуре и победить ее вряд ли предстояла возможность. На все вещи Гальшка смотрела прямо. Если б она узнала, что кто-нибудь из ее сверстниц влюбится в отца Антонио, она бы глубоко изумилась возможности этого и во всяком случае признала бы такое чувство позорным для женщины и глубоко оскорбительным для Антонио. Он монах, он отказался от мира, торжественно принял обет безбрачия, полюбить как мужчину подобного человека – грех позорный и возмутительный. Если же бы она узнала, что он сам полюбил кого-нибудь – она почувствовала бы к нему презрение, сочла его осквернителем своего сана, недостойным носить его. Такой взгляд не был привит ей извне, она носила его в себе и изменить не была в состоянии.
Антонио хорошо понимал все это. У него бесповоротно отнято было право всякого мужчины добиваться любви горячо любимой им девушки. Он не смел ничем выказать ей своего чувства. Напротив, он должен был всячески скрывать его, глубоко хранить в себе, чтобы не заслужить ее презрения. Эти неожиданные им обстоятельства, эта глухая, невыносимая борьба окончательно отравляла жизнь его.
А между тем он не желал смерти. Он не мог умереть с мыслью, что Гальшка достанется другому, что она будет любить, будет счастлива… Нет, если судьба так жестоко над ним посмеялась, если для него погибло все – пусть же и никто не прикоснется к его недосягаемой святыне… Его тайные чувства сходились с целями пославшего его Лайнеца. Княжна Гальшка должна принадлежать только Богу, ее удел – монастырь…
Горькие мысли Антонио переходили в видения и галлюцинации. Ему являлась чудная красавица, окруженная блеском храма, облаками благоухающего ладана… Вот ее нежные пальцы касаются органа… раздаются дивные, божественные звуки… ее чистый, невинный голос поет песнь Богу… «Святая Цецилия! святая Цецилия!» – шепчет потрясенный монах, падая в изнеможении и обливаясь никому неведомыми слезами…
И все свои силы напрягал Антонио, чтобы подействовать своим красноречием на душу Гальшки, чтобы внушить ей сознание необходимости исповедывать одну веру с матерью, чтобы доказать истину и превосходство этой веры перед православием. Нужно было действовать хитро и осторожно, нужно было тщательно скрывать свои цели. Всякий, сколько-нибудь прямой намек смущал Гальшку; она прерывала Антонио простым замечанием, что она православная.
Княгиня Беата тоже не могла помочь, и исполнение предписанного Лайнецом образа действий было невозможно. Княгиня и решилась бы, пожалуй, в виду благой цели, притеснять и мучить Гальшку; но князь Константин никогда бы не допустил этого. Следовательно, оставалось добиваться удаления Беаты и Гальшки из дома Острожского. Княгиня, несмотря на все влияние Антонио, еще не могла на это решиться. Однако в последнее время она уже стала колебаться. Иезуиту оставалось выждать случай, когда бы можно было приписать почин разрыва князю Константину, и затем обставить дело так, чтобы князь, несмотря на все свое могущество и влияние, не был в силах удержать при себе Елену…
Решением этого вопроса и занят был отец Антонио, когда его проницательный взгляд подметил зародившееся в Гальшке чувство к молодому князю Сангушко.
Ужас и отчаянная ревность наполнили сердце монаха. Он отдал бы все, он подверг бы свою душу вечным мучениям ада, чтобы только иметь возможность, как в былые дни, вскочить на коня и сразиться со счастливым князем. О, он убил бы его, он растоптал бы его конскими копытами…
И в то время, как эти отчаянные, безумные мысли вихрем клубились в голове его, как его грудь изнывала от боли, его бледное лицо не выражало ничего, кроме мрачного спокойствия.
Через час он уже овладел своей болью и решился действовать хладнокровно и обдуманно. Он уже начинал предвидеть, что ужасное обстоятельство, открытое им, может послужить к достижению его цели, к окончательному разрыву между князем Константином и Беатой.
VI
Солнце закатилось за извивом реки Гарыни. Наступали прохладные и душистые сумерки. Пир князя Острожского был в самом разгаре. Зажигались яркие огни в замке; в цветниках и парке приготовлялась роскошная иллюминация. Многочисленный итальянский оркестр князя под управлением талантливого маэстро Скорцо далеко оглашал безветренный и прозрачный воздух. Толпы разряженных мужчин и женщин двигались по парадным залам, выходили на террасу и рассыпались по дорожкам сада отдохнуть и освежиться в тени вековых деревьев.
Огромный белый замок со своей причудливой итальянской архитектурой, весь залитый светом, музыкой и движением производил среди ясного, весеннего вечера волшебное впечатление. Он казался заколдованным дворцом могучего чародея, созданным его служебными духами. Очарование не исчезло и при входе во внутренние покои. С обширной террасы, вымощенной драгоценной мозаикой, огромные резные двери вели в целую анфиладу залов, поражавших своей роскошной обстановкой. Главная зала, в два света и с хорами, на которых помешался оркестр, была обтянута золотою парчою с ярко-малиновым по ней рисунком; пол был в ней мраморный, мозаичный; глубокий потолок, уходивший куполом, поражал причудливой лепной работой. Были залы, обитые бархатом, были небольшие покои для отдыха женщин, устланные дорогими коврами, сверкавшие вделанными в стены бесчисленными зеркалами венецианского изделия. Всюду мрамор, серебряные массивные вещи огромной стоимости. Обширные столовые с длинными, заставленными кушаньями и винами столами, со стенами, покрытыми до потолка серебряной фамильной посудой, выставленной на полках. Стоимость этой посуды равнялась многим сотням тысяч.
Много было в этот день званых, почетных гостей у князя Константина, но число их терялось в массе гостей незваных и непочетных, явившихся по обязанности и частью живших в зданиях, окружавших замок. Здесь можно было встретить сотни шляхтичей с семействами, живших милостями князя. Тут были офицеры, духовные, писатели. Большинство из них имело при замке свои отдельные помещения, содержало свою прислугу, лошадей, экипажи. Кроме того, эти люди получали от князя жалованье в несколько тысяч и бесплатно арендовали у него фольварки. Еще больше было здесь шляхты, состоявшей на княжеском жалованье и обязанной являться в Острог по торжественным дням, а также сопровождать князя на сеймы.
У князя Константина был также свой почетный домашний караул, в котором числилось несколько сотен казаков, валахов, венгерской пехоты и немецких драгун. Около восьмисот молодых шляхтичей, пажей и паненок дополняли придворный штат замка, содержание которого поглощало половину громадных доходов князя Острожского, другая же половина отдавалась им на дело распространения и поддержания православия.
И вся эта масса разнообразного, разнохарактерного люда была теперь в сборе и предавалась чисто необузданному веселью. Бесчисленной прислуге то и дело приходилось выносить из столовых почетных гостей, слишком усердно оказавших честь сокровищам княжеских погребов. Маршал то и дело отдавал своим помощникам приказания восстановлять тишину то в одном, то в другом покое…
Подальше от толпы, от блестящей молодежи, окружавшей нарядных женщин, в укромном углу прохладной столовой, собралось человек двадцать шляхтичей и военных. Тяжелые серебряные кубки то и дело наполнялись темным, душистым венгерским. Собеседники, очевидно, были увлечены равно для всех интересным разговором.
Между ними обращала на себя внимание толстая, несколько комичная фигура шляхтича Галынского, приближенного и любимца молодого князя Сангушки. Круглое добродушное лицо его было еще краснее обыкновенного; он молодецки закрутил свои бесконечные усы, сдвинул брови и сверкал глазами.
– Подумайте, люди православные, до чего у нас ноне доходить стало! – горячился он, стуча красным, жирным кулаком по столу, так что густое вино колыхалось в стопах и кубках. – Что мы такое? вольные люди или рабы короля польского? Что такое наша вера святая, что отдают ее на посмешище и позор великий? Только и слышишь, что король такой-то да такой-то монастырь отдал своему холопу, дьяку канцелярскому… а то и сами наши пастыри чинят всякие беззакония… И год от году все хуже да хуже. Сначала один волк был, львовский епископ Арсений, тот, что ограбил и в разор ввел монастырь Уневский; а теперь, прости Господи, почитай каждый епископ, каждый архимандрит – зверь лютый и разоритель… Наедет этот епископ на монастырь, награбит все добро запасенное, да еще и гневом королевским стращает: вот, мол, пикните только, так отдадут вас пану польскому, тот с вас по семи шкур драть станет…
– Это точно, это так! – вмешался другой шляхтич. – И срам-то какой: духовенство православное так и лезет в Краков с жалобами друг на друга… Случилось мне недавно, по делу пана моего милостивца, съездить в Краков… Ну и навидался же я соблазнов… Эти пастыри наши духовные, столпы нашей веры, ругаются как псы, тайно задаривают дьяков королевских, ищут как бы извести друг друга. Чего уж тут ждать путного – того гляди продадутся все не то папе римскому, не то немецкого монаха апостолом признают.
– А слыхали? – робко и оглядываясь по сторонам заговорил какой-то маленький, невзрачный старик. Наша-то княгинюшка Слуцкая, опять позабыла гнев королевский. Ну вот не может спокойно жить, да и только! Послала намедни грамоту Трифону Огольскому, своему наместнику. Так и пишет: ты, говорит, митрополита не бойся, не те времена, что прежде, король в мои дела не станет уж вступаться. Провинился в чем перед тобой поп – ты и суди его своей властью; в тюрьму, так и в тюрьму его – и то разрешаю. А если, говорит, муж на жену, али там жена на мужа жалобу принесут, то ты жалобу ту выслушай, да и учини расправу, дозволяй и развод – коли нужно… Верите—ли – сам, своими вот этими глазами читал грамоту – ведь ее сочинял-то Матвей Петрович, друг мой и благоприятель…
И маленький старик обвел присутствовавших удивленными глазами.
– Дела, дела! – снова закричал Иван Петрович Галынский, волнуясь и расстегивая на все пуговици кафтан, в котором ему становилось чересчур уже тесно. – Дела! как послушаешь – инда тошно становится… Но пуще всего беда нам от королевского права подаванья. Ну и статочное ли это дело, монастырь православный отдавать светскому, да зачастую еще и католику – ляху! Ведь это что ж такое! Ведь этому нужно конец положить на сейме… неужто ж князь Константин Константинович допустит долее такое посрамление!
Никто не заметил, что сам хозяин стоял у двери и прислушивался к разговору.
– Думаю я, друг, как бы пресечь это зло, да много ли тут сделаешь, коли люди горазды стали по углам шептаться, а до дела дойдет – отмалчиваются, – сказал князь Константин, подходя к столу.
Собеседники вздрогнули от неожиданности, быстро и почтительно встали перед князем.
Галынский тщетно пробовал застегнуть кафтан и даже оторвал одну пуговицу.
Князь не обратил никакого внимания на признаки почтительного страха, возбужденного его появлением.
Да вряд ли он их и заметил – он так давно привык встречать их повсюду.
Он продолжал:
– Мы уж немало толковали с митрополитом Ионой. Порешили так: для начала я молчать буду, а все возьмет на себя митрополит. Он готовит к королю много просьб и непременно представит на сейме убедительное прошение, чтобы власть духовную не отдавать людям светским… Если же король отдаст духовную должность светскому человеку, и этот в течение трех месяцев не примет сан духовный, то дабы дано было право владыке отбирать от такого человека достоинства и хлебы духовные а отдавать их людям духовным. Авось король одумается и исполнит нашу просьбу. Ну а нет, так придется действовать иначе… Радуюсь, друзья мои, видя, что вам близки дела эти, только будьте тверды, не забывайте, что дело церкви Божьей – прежде всего, прежде всех дел человеческих. А это теперь совсем стали забывать православные люди. Много зла не от нас, но главное зло от нас, в душах наших пустило оно свои корни… Зло тяжелое и истинная погибель наша – оскудение в нас веры и благочестия…
И князь, грустно опустив голову, прошел дальше.
Он подходил то к одной, то к другой кучке. Здесь и там бросал свое слово, прислушивался к разговорам, подмечал господствовавшее настроение перед открывавшимся в скором времени сеймом, наблюдал за своими гостями.
Эти наблюдения были далеко не утешительны.
Разговоров о делах настоятельных и важных было слышно мало. Передавались сплетни, хвастались и лгали безбожно, втихомолку посмеивались друг над другом; иные гости едва ворочали языком и тупо глядели помутившимися от вина глазами.
Женщины кокетничали напрополую. Летали страстные взгляды, намеки. Здесь и там, среди шума и движения толпы внимательный взгляд мог заметить то робкие, то страстные пожатия рук, чуткое ухо могло подслушать любовные признания, многие тайны обманутых мужей и жен, зарождение семейных драм и скандалов…
Мы знаем из достоверных свидетельств современников печальные подробности литовской общественной жизни того времени. Мы знаем, что на роскошных пирах и балах вельмож литовских царствовали уже самые испорченные нравы, что женщины высшего общества, по словам одного летописца, соперничали не в добродетелях, а в бесстыдстве. Девушка вельможного рода, жена знаменитого князя, часто втихомолку заводили интриги с ничтожными шляхтичами, услужниками своих отцов и мужей. Это было дело вовсе не понятий о равноправности всех сословий, не протест против кастовых взглядов – литовская женщина XVI века была чрезвычайно мало развита и образованна – это было дело необыкновенной испорченности нравов, отсутствия всяких твердых правил. Цинизм проглядывал не только в поступках, но даже и в речах. Женщины перестали стыдиться и отказались от всякой хотя бы чисто внешней скромности…
В огромном «золотом» зале замка танцевали бесчисленные пары. Неутомимый оркестр переходил от одной мелодии к другой, от одного темпа к другому. Здесь оживление достигало своего высшего предела. Одно за другим быстро мелькали разгоряченные лица. Молодые женщины и девушки были буквально залиты драгоценными камнями, сияли дорогими причудливыми нарядами. Летучие фразы, остроты, насмешки, улыбки и откровенный смех перекрещивались в общем вихре…
Хорошенький Федя из свиты Сангушко танцевал с панной Зосей. К нему так шел его шитый золотом кафтан и маленькие пушистые усики, оттенявшие румяные губы. Она была тоже очень красива с длинными косами, переплетенными жемчугом, со своими черными выразительными глазами. Оба они были так молоды, так полны жизни… они крепко держались за руки, были так близко друг к другу… Им ли не наслаждаться этим быстрым, увлекательным танцем, этими влюбленными звуками нежной итальянской музыки, им ли не глядеть в глаза друг другу и читать в них первые строки зарождающейся страсти…
А между тем и хорошенький, статный Федя, и хорошенькая Зося были рассеяны и только из приличия едва перекидывались несколькими фразами. Зося глядела по сторонам, не мелькнет ли где черная, высокая фигура бледного человека. Несмотря на всю свою молодость, она сегодня не могла наслаждаться балом, она даже не замечала весь день обращенных на нее влюбленных взглядов более чем десятка красивой молодежи, не слушала самых лестных комплиментов. Ей хотелось уйти из этих залов в самую глубь покоев княгини Беаты, в тихую каплицу, где одетая в белое атласное платье, с длинным шлейфом, с золотою маленькою короною в волосах стояла точенная из дерева, раскрашенная статуя Мадонны. Ей хотелось у ног этой статуи слушать тихие речи прекрасного исповедника, чувствовать его тонкую руку на голове своей… Ее страсть к Антонио разгоралась все сильнее и сильнее… Федя тоже следил за кем-то, за далекой, светлой фигурой, от которой весь день не мог он отвести своих глаз и своего сердца.
Эта светлая фигура, эта царица праздника, чудная княжна Гальшка теперь танцевала в стороне с князем Дмитрием Андреевичем Сангушко. Весь день она была предметом всеобщего внимания и восторга. Вокруг нее образовалась блестящая свита самых красивых и знатных девушек, приехавших из литовских и польских замков. Но вся их красота, молодость и свежесть совершенно терялись перед ее неслыханной красотою. Она возбуждала зависть, но в то же время влекла к себе неодолимо. Ее обращение со сверстницами было полно искренней доброты и ласки.
Знатные и богатые молодые поляки, несмотря на свою тайную ненависть к князю Константину Острожскому, собрались из Кракова в его замок, забыли придворных красавиц и не отрываясь следили жадными глазами за Гальшкой. Все они бессовестно льстили князю Константину, прикидывались друзьями русской национальности и воображали, что могут обмануть его.
Но больше всех льстил, больше всех лгал, больше всех увивался за Гальшкой граф Гурко, воевода познанский, поляк и лютеранин. Это был человек еще молодой, но невзрачный с виду, с темнокожим, усеянным веснушками лицом, с зеленоватыми глазами, с черною, жесткой, как войлок, подстриженной щетиной волос. Он давно приглядывал себе подходящую невесту. Его безалаберное управление своими поместьями, неслыханные жестокости с крестьянами, от которых они приходили в крайнюю нищету и массами бежали в непроходимые дебри Полесья, мало-помалу сильно расстроили дела его. У него были большие связи в Кракове, за него стояли Радзивиллы, ему сродни приходились многие польские магнаты. Он добился назначения познанским воеводой и тотчас же приступил к системе всевозможных лихоимств и вымогательств; говорили даже, что он не стыдился входить в сделки с жидами. Но и это еще не могло дать ему таких средств, о которых мечтал он…
И вот вельможный граф Гурко решился искать невесты, которая бы обладала огромным состоянием. Он уже давно наметил Гальшку и твердо решился добиться руки ее. Разумеется, он не мог не видеть всей красоты ее, он сознавал всю ее прелесть; но холодное его сердце молчало. Ему были нужны только деньги и деньги; он даже заранее рассчитывал, что и из красоты Гальшки можно будет извлечь многие выгоды при изнеженном, сластолюбивом Сигизмунде-Августе. Теперь он преследовал Гальшку своими довольно пошлыми любезностями и хвастливыми рассказами, правдивость которых даже для самого наивного слушателя представлялась весьма сомнительной. Он притворялся безумно влюбленным и в то же время выслеживал – нельзя ли кого-нибудь подкупить в интересе затеваемого им дела.
Он не мог себе представить ни одного предприятия без подкупа.
Не в натуре Гальшки было кого-либо ненавидеть – она ко всем обращалась с одинаковой добротою. Но граф Гурко был ей инстинктивно противен. И она никак не могла победить в себе этого чувства.
Другим явным искателем ее руки был родственник Острожских, князь Олелькович-Слуцкий, один из знатнейших вельмож литовских. Он представлял из себя совершенную противоположность Гурке.
Это был высокий, толстый увалень лет тридцати пяти, с бесцветным и добродушным лицом, не обличавшим особенных умственных способностей. Он чистосердечно был влюблен в Гальшку и даже говорил об этом с князем Константином. Тот дал ему ответ очень уклончивый, сказал, что не станет вмешиваться в это дело и вполне предоставляет выбор самой Гальшке. Князь Константин не мог ничего иметь против ближайшего родства с Олельковичами-Слуцкими. Такая партия даже и для Елены была прекрасной. К тому же князь Слуцкий оставался верен православию. Но он был слишком безличен, слишком недалек, и не о таком женихе мечтал Константин Острожский для своей любимой племянницы.
Тут же, в числе гостей находился еще один горячий поклонник Гальшки, богатый польский пан Зборовский, храбрый рубака и кутила, весельчак и говорун. Но он хорошо сознавал, что несмотря на все свое богатство, все же он недостаточно знатен, чтобы смело явиться искателем руки княжны Острожской. Его не без основания пугала возможность отказа со стороны ее родственников. А потому он и решился действовать прямо на Гальшку, покорить ее своею удалью, своими веселыми шутками.
Расчет его, однако, был неверен. Гальшка слушала его, иногда только слабо улыбаясь, и то из приличия и чтоб не обидеть самолюбивого пана…
Гальшка весь день была в сильно возбужденном состоянии, чего с ней прежде никогда не случалось. Ей было скучно среди многочисленных смелых и робких поклонников. Она рассеянно слушала болтовню подруг… Но только подходил Сангушко – и сердце ее начинало усиленно биться, и не могла она одолеть волнения. К вечеру между ними установилось безмолвное общение, они видели в толпе только друг друга и при всякой возможности оказывались рядом.
Теперь они танцевали вместе.
Они остановились, переводя горячее дыханье, и пропускали мимо себя несущиеся пары.
Музыка то замирала, почти обрываясь, то вдруг новые, страстные звуки рождались на месте прежних и лились с хоров, возбуждая усиленную быстроту в танцующих.
Гальшке начинало казаться, что она несется куда-то, в каком-то безбрежном, блестящем пространстве… а, между тем, Сангушко тихо говорил ей, указывая в окна:
– Взгляни, княжна, уж разноцветные фонари горят в саду, там прохладно, сегодня такой славный, душистый вечер в честь твоего Ангела… А здесь стало жарко и душно, голова кружится от этой толкотни и шума… Не сойти ли нам в сад, освежиться немного?..
VII
В цветнике и по аллеям сада была зажжена блестящая иллюминация. Разноцветные фонари, узорчатые щиты с замысловатыми девизами, сверкали и переливались огнями. Высоко били фонтаны. Толпы гуляющих теснились на площадке перед замком, откуда была видна внутренность золотого зала. Здесь многочисленная прислуга разносила воды и всевозможные прохладительные напитки. Несколько пар удалились в потемневшую глубь парка.
Гальшка повела Сангушку к своему любимому маленькому гроту, едва заметному сквозь густо разросшиеся ветки сирени.
В гроте было поставлено две мраморные скамейки. В глубине его из пасти каменного дракона сочились струйки прозрачной ключевой воды, стекавшие в большую вазу, сделанную в виде раковины. Здесь было прохладно и в самый жаркий полдень. Теперь же замечалась значительная сырость.
Но молодые люди были слишком далеки от подобных наблюдений. Гальшка оставила руку князя и опустилась на холодный мрамор скамьи. Она не могла дать себе отчета в своих ощущениях, но ей почему-то становилось страшно. Она предчувствовала, что наверное и сейчас должно совершиться что-то такое неизбежное и огромное своим значением. И эта уверенность подавляла ее, наполняла ужасом и каким-то восторгом. Она чувствовала себя слабой и дрожала, голова ее кружилась.
Один только фонарь бледно-розового цвета освещал внутренность грота.
Прелестное лицо Гальшки, мгновенно побледневшее, казалось еще прелестнее в тихом полусвете.
Сангушко безумными, восторженными глазами глядел на нее и не мог оторваться.
Он хотел говорить, хотел высказать ей все, но мысли его путались, язык не слушался.
Без слов упал он перед ней на колени…
– Гальшка! дорогая! когда бы ты только могла знать, как я люблю тебя! – вырвалось, наконец, из груди его.
Она приподнялась было, но не смогла и неподвижно сидела – только ее грудь высоко поднималась.
Как будто молния ударила в нее… Потом наступило затишье… потом вдруг прилив бесконечного блаженства наполнил ее душу. Она не могла вместить в себе этого блаженства, оно сдавливало ей дыханье, оно поднималось все выше и выше и разрешилось потоком слез, неудержимых и счастливых…
Сангушко с испугом взглянул на нее.
– Ты плачешь?! Я оскорбил тебя?!
Он взял ее похолодевшие, дрожавшие руки, он покрыл их поцелуями: она не сопротивлялась, а тихие слезы все лились по щекам ее.
– Не плачь, успокойся… скажи мне, любишь ли ты меня? скажи мне, моя ненаглядная красавица, – шептал князь, сознавая свое счастье, но все же еще боясь потерять его.
Люблю…
Гальшка сама не знала, как сказалось это слово. Оно вырвалось у нее бессознательно, помимо ее воли.
И тут она сразу поняла все, она поняла, что, действительно, любит его, что эта любовь и есть то счастие, выше которого нет на свете.
Он кинулся к ней. Он обнял ее. Она припала к нему на плечо и не нашла в себе силы сопротивляться его поцелуям.
Прилив так быстро пришедшего, такого полного счастья на несколько мгновений отрешил их от действительности. Они не могли понять, где они и что с ними. Первым очнулся Сангушко. Ему показалось, что он проснулся после какого-то чудного, волшебного сна. Но и пробуждение было чудно, так же блаженно.
Гальшка уже не плакала. Обессиленная и счастливая, она неподвижно сидела, прижавшись к плечу его, погруженная как будто в дремоту.
Сангушко начинал мало-помалу соображать, что эти минуты в полутемном гроте с тихо журчащей струйкой воды не могут продолжаться. Того и гляди войдет кто-нибудь из гостей. Исчезновение Гальшки из зала, наверное, было всеми замечено, наверное, ее уже ищут, и их продолжительное отсутствие, прогулка вдвоем Бог знает где сейчас же возбудят сплетни и, во всяком случае, покажутся неприличными.
Нужно как можно скорее вернуться в зал. Нужно показаться совсем спокойными. Нужно притворяться, тщательно скрывать ото всех свое счастье…
Это притворство, это скрывание казались ему тяжелы невыносимо. Уходить от Гальшки, оставлять ее, не глядеть на нее, говорить с другими – да разве это возможно! Он решился сейчас же помимо всех приличий и обычаев переговорить с князем Константином Константиновичем, сказать ему все и просить у него руку Гальшки. К тому же, казалось, что он будет спокойнее, когда все станет известно князю Константину, в согласии которого он не сомневался.
Нужно идти. Ему хотелось еще раз обнять Гальшку, но какое-то инстинктивное чувство остановило его. Он уже владел собою и всякая горячая ласка теперь, в этой обстановке, когда еще ни Острожский, ни княгиня Беата ничего не знают, казалась ему профанацией его чистого, благоговейного отношения к невесте.
Он нежно отстранил Гальшку и поднялся с места.
Она тоже очнулась. Она в смущении взглянула на него и зарделась ярким румянцем.
– Князь… Дмитрий Андреевич… это правда?! – прошептала она.
– Пойдем, моя дорогая… успокойся…Я отыщу князя Константина, я скажу ему, что ты хочешь быть моей женой. Ведь да? Ведь ты согласна?..
– Дядя! да, иди к нему, скажи ему… скажи ему, что я люблю тебя… Мне самой к нему хочется… он так любит меня, он так будет рад за меня. Я его знаю, моего дорогого, доброго дядю. Но теперь, сейчас – этот шум, эти гости – я бы убежала от них подальше…
Они сделали шаг к выходу из грота. Перед ними бледный, смущенный, с отчаянный и виноватым выражением в лице, стоял Федя.
А Он кончил свой танец с Зосей. Он всюду искал глазами Гальшку и нигде ее не видел. Рассеянно спустился он в сад, ушел от толпы и нечаянно набрел на маленький грот. Он слышал последнюю фразу Гальшки, видел ее со своим князем, видел, как они смотрели друга на друга, и вдруг как будто что ударило его в сердце – он понял все. Он понял, что чуждые друг другу люди никогда так не смотрят в глаза один другому…
Еще день, один только день тому назад, он бы всей своей преданной душой радовался за горячо любимого покровителя. Отчего же теперь не радость, а тоска смертная охватила его, и он вдруг почувствовал себя самым несчастным, самым погибшим человеком?..
А между тем, князь и Гальшка, узнав его, успокоительно переглянулись. Сангушко еще незадолго до этого указал ей Федю в зале и рассказал про него.
Она улыбнулась юноше своей чудной улыбкой.
– Я знаю тебя, Федя, – сказала она. – Я очень рада тебя видеть. Князь рассказывал мне, как ты его любишь и как ты спас его в Сорочах.
Федя молчал. Он не был в силах говорить в эту минуту. Ему показалось, что его грудь разрывается на части.
Гальшка заслышала чьи-то приближавшиеся шаги. Она пугливо прислушалась и, не отдавая себе отчета в своих действиях, быстро повернула к крутому извиву садовой дорожки.
С другой стороны показалось несколько человек гостей, весело и громко болтавших. Они узнали князя Сангушку и, почтительно обойдя его, прошли мимо.
Князь и Федя были одни.
– Федя, что с тобою? – спросил князь, ласково кладя свою руку на плечо юноши. – Отчего ты так смущен? Отчего ты не глядишь на меня? Ты что-нибудь слышал – говори!
– Да, я тебя знаю, негодный! – еще ласковей в обаянии своего счастья, в страстном желании поделиться им с близким человеком, продолжал князь, – ну, уж не хочу на тебя сердиться. Слушай – я тебе первому поведаю… Слушай…я женюсь скоро, княжна Елена – моя невеста…Только тише…до поры до времени ни гу-гу…никому; как есть никому – понимаешь?.. Ну, что же ты меня не поздравляешь?.. Разве ты не рад?.. обними же меня, мой добрый мальчик.
Федя бросился на шею князя и неудержимо, как малый ребенок, залился горькими, отчаянными слезами. Удивленный Сангушко не знал что и подумать. Он постарался его успокоить и спешил в замок разыскивать в толпе князя Константина, В другое время он очень заинтересовался бы слезами Феди, которого знал за далеко не слезливого юношу; он, может быть, даже отгадал бы истинную причину этих слез. Но теперь он был до того поглощен своим счастьем, что весь мир не существовал для него. Через минуту он уже и не думал о слезах Феди, совсем даже забыл их…
Пир продолжался. В просторных столовых делались приготовления к обильному ужину. Группы мужчин, не принимавших участия в танцах, с раскрасневшимися лицами и расстегнутыми кафтанами весело и шумно болтали и в то же время с явным любопытством и нетерпением посматривали в двери, откуда нарядная прислуга вносила кушанья и вина.
Князь Константин, уставший и недовольный своими наблюдениями, окруженный влиятельными магнатами, толковал о предстоящем сейме. Порою он недоверчиво взглядывал на графа Гурку, который был тут же и, почтительно выслушивая князя, каждую его фразу сопровождал одобрительным кивком головы или льстивым восклицанием.
Сангушко, долго искавший хозяина, обрадовался, заметив его, и тотчас подошел к говорившим. Речь шла о предмете, близком его сердцу и до сих пор его чрезвычайно волновавшим. Еще на днях он решил, что нужно серьезно и обстоятельно переговорить с князем Острожским о делах литовских, действовать с ним заодно и руководиться его советами. Он вспомнил, что хотел сообщить князю о своем решении учредить в многолюдных Сорочах, бывших его любимой резиденцией, русскую школу, а, если можно, то и типографию; хотел просить князя помочь ему в выборе учителей для этой школы и указать мастеров типографского дела… Он и теперь постарался вслушаться в разговор, в горячие доводы князя Константина. Но он был удивительно рассеян и даже едва ответил на какой-то вопрос, ему предложенный. Ему вдруг показалось, что все эти дела, такие существенные и настоятельные, теряют для него свое прежнее значение. У него было только одно теперь дело, и от успеха этого дела зависела вся дальнейшая жизнь его.
Он улучил удобное мгновение и шепнул князю Константину, что ему нужно поговорить с ним, наедине и немедленно.
Князь с удивлением взглянул на Сангушку. Что за дело такое? Лицо крестника выказывало все признаки сильного волнения. И он, воспользовавшись первой возможностью прервать разговор, положил свою руку на плечо Сангушки и вышел с ним из комнаты.
Они прошли целую анфиладу освещенных и людных покоев и вышли на слабо озаренную матовым фонарем веранду. Тут никого не было.
– Ну, говори, что такое вдруг так загорелось? – с недоумением спросил Острожский.
Князь Дмитрий Андреевич не знал как и начать. Это объяснение несколько минут тому назад казалось ему таким простым, легким. Теперь же вдруг появилась мысль о возможности отказа со стороны князя Константина. К тому же его строгое и вдобавок еще утомленное и недовольное лицо не располагало к нежной откровенности.
– Да не мямли ты, ради Христа, крестник! – раздражительно торопил князь. – С утра уж я замечаю, что с тобой неладное что-то – ну так и говори все прямо и по ряду…
Сангушко тряхнул кудрями и открыто взглянул в глаза крестному. Чего ему было, в самом деле, робеть этого грозного человека, перед которым все трепещут? Он пришел не за худым делом. Он пришел за своим счастьем, на которое имел полное право.
– Князь, – сказал он, – не откажи мне в своем благословении. Я и княжна Елена любим друг друга…
Константин Константинович никак не «ожидал такого объяснения. Оно отвечало его душевным желаниям, но его, как человека старых нравов и обычаев, невольно смутила его форма. Он сдвинул свои густые брови.
– А ты как это знаешь, что Гальшка тебя любит? Видно, отец учил, да мало… Вот какое нынче время! Литовским князьям трудно и посвататься по дедовскому обычаю! Они теперь плевать хотят на опекунов и родителей… Им с руки смеяться над стыдом и честью девичьей…
Сангушко весь вспыхнул. Гнев подступал ему к сердцу и душил его.
– Замолчи, князь, замолчи, ради Бога! – вскричал он, хватая за руку Острожского. – Тебе, как отцу крестному, как другу отца моего, я позволяю бранить меня сколько душе твоей угодно. Но оскорблять меня я и тебе не возволю. (так – Д.Т)
– А меня оскорблять, оскорблять мою племянницу ты можешь? – сдержанно проговорил князь, тоже краснея.
– Я люблю Гальшку, я жизнь готов отдать за нее – где же тут оскорбление?
– А вот где, – еще сдержаннее продолжал князь Константин Константинович. – До сих пор мы, литвины, пуще глазу берегли честь и стыдливость дочерей наших. Снаряжая невесту под венец, мы знали, что она войдет в дом мужа непорочною даже в своих помыслах, сохраненною от всяких соблазнов. Человек, честно искавший руки нашей дочери, приходил к нам за согласием и, если мы давали его, то он лишь тогда сближался с невестой, да и то на глазах наших. Брак – дело Божие, и к нему надо относиться свято, надо в чистоте душевной приступать к великому таинству. Постой, не перебивай меня… Вот ты говоришь, что Гальшка тебя любит. Значит, ты сам говорил с ней о любви, сам смущал ее, просил ответить. Тебе и не жалко было ее чистоты и невинности!
Да взгляни на нее – ведь она еще почти ребенок. Она доверчиво тебе ответила… и поверю ли я, что за этот ответ, если только была возможность, если кругом никого не было, ты не поцеловал ее?.. Ну, а если я, ну, а если ее мать, у которой над нею больше прав, чем у меня, не захочет ее отдать за тебя? Если сама Гальшка поплачет да и успокоится, и поймет, что ошиблась в себе – ведь она тогда во всю жизнь не смоет с себя твоего поцелуя…
Сангушко сам был воспитан в подобных взглядах, и они не показались ему ложными.
– Прости меня, князь, – сказал он, – быть может, я точно не прав; но уж дурного умысла во мне не было. Я просто не мог разбирать, не мог владеть собою… Да и то скажу тебе: мой поцелуй не опозорит Гальшки – я твердо верю, сердце говорит мне, что ни мне, ни ей не идти под венец с другими…
– А коли так – зачем же ты и пришел ко мне? – все еще с суровой миной, но уже внутренно смягчаясь, заметил князь. – Ну и решайте промеж себя все дело – пожалуй, хоть на свадьбу не зовите…
Сангушко понял, что гроза миновала.
– Преложи гнев на милость! – радостно улыбаясь, протянул он к князю руки.
– Что уж с тобой делать – теперь некому на тебя жаловаться, – просветлев взором и обнимая его, сказал Острожский. – А уж покойник батюшка задал бы тебе гонку. Только вот что я скажу тебе, крестник. Гальшка мне как дочь родная и расстаться мне с ней трудно; но уж коли отдавать ее кому, так, по крайности, своему православному литвину. Я твоему делу противиться не стану… Но ведь я не отец ей… иди, говори с матерью…
В тоне этих последних слов Сангушке послышалось что-то, что заставило его тревожно вздрогнуть.
– Князь, скажи мне по душе, – быстро спросил он, – неужели мне нужно бояться отказа княгини Беаты Андреевны? Я ее так мало знаю, да кто ее, кроме тебя, и знает хорошенько…
– И я ее не лучше других знаю, – мрачно проговорил князь. – Не она откажет, так, пожалуй, ее духовник, это черное римское пугало, застращает ее муками ада… Чай норовят Гальшку за католика выдать, а то и в монастырь упрятагь… Ну, да уж коли на то пошло, так мы еще посмотрим – чья возьмет… Завтра утром я сам буду говорить с княгиней. А ты пока молчи, да веди себя как подобает мужу, а не бабе.
Уверенный и решительный тон Острожского успокоил молодого человека. Ему хотелось горячо обнять и поблагодарить отца крестного. Но князь не любил излишних нежностей – он сдержал его порыв, и они молча вернулись в парадные покои замка.
Сангушко бросился отыскивать Гальшку, но ее нигде не было. Танцы кончились. Вереницы гостей парами проходили в столовые.
– Куда же это делась красавица Гальшка – ее не видно! – говорил один из гостей своей нарядной и утомленной даме.
– Ваша красавица вдруг почувствовала себя нездоровой и ушла спать. Как вы думаете, что должно скрываться под этим нездоровьем? – не без ядовитости спросила дама.
– Я думаю – ничего, просто усталость.
– А я так этого не думаю. Тут непременно что-нибудь да есть. Святая да святая – все только и знают. А я своими глазами видела, как эта святая мелькнула в темную аллею рука в руку с молодым князем Сангушкой. А теперь вдруг это нездоровье…
И нарядная дама выразительно подмигнула.
Сангушко все слышал. Ему хотелось растерзать эту женщину, которая представилась ему отврательной фурией. Он едва сдержал себя, едва сообразил, что всякое его слово, всякое движение с его стороны только повредят Гальшке. На его счастье спутник наблюдательной гостьи молчал и этим помог ему вовремя остановиться.
– Подлые, грязные люди! – думал он. – Да, князь Константин прав был, когда бранил меня за поступок. Но, с Божьей помощью, скоро я буду прямым и законным защитником моей Гальшки.
VIII
Тихо теплились лампады в каплице княгини Беаты. Прямо перед входом стояла фигура Богоматери с розовым лицом, в золотой короне и белом атласном платье. На возвышенном мраморном пьедестале и кругом, по ковру, были разбросаны венки и букеты свежих и душистых цветов. У маленького, открытого и блестевшего драгоценной парчей алтаря из резной серебряной курильницы медленно и едва заметно уносилась вверх ароматная струйка дыма. Странное и таинственное впечатление производила каплица в мягком полусумраке лампад. Последние краски догоравшего вечера едва проникали в темные, расписные витрины. Несмотря на точеное из слоновой кости распятие, поставленное на алтаре и теперь едва видневшееся из-за пышных гирлянд и букетов, трудно было вообразить себя в христианской молельне. Каплица княгини скорее походила на языческую божницу, посвященную какой-нибудь богине.
Особенно неприятно поражала фигура, стоявшая на пьедестале и составлявшая гордость княгини Беаты. Это была присланная ей из Италии кукла, почти в рост человеческий, необыкновенно искусно вылепленная из какой-то плотной массы, художественно раскрашенная со всеми оттенками человеческой кожи. Из-под длинных, полуопущенных ресниц глядели стеклянные глаза своим неподвижным взглядом. Настоящие, пепельного цвета и удивительной длины волосы просвечивали сквозь легкую ткань покрывала.
Белое с огромным шлейфом платье, сшитое самой княгиней, было богато отделано золотым кружевом и сверкало драгоценными камнями. Лицо было нежной, идеальной красоты, с несколько бледными и полуоткрытыми губами. В полусумраке эта фигура казалась призраком. При свете дня всякий посторонний непременно принял бы ее за покойницу, роскошно убранную и кощунственно поставленную на пьедестал. Первым и невольным движением каждого было отшатнуться от этой фигуры с чувством ужаса и жалости. Самая красота лица, самая художественность работы усиливали сходство с мертвецом…
И эта страшная кукла называлась Богородицей, и княгиня Беата гордилась ею и не замечала ее святотатственного безобразия. Князь Константин как-то вошел в каплицу, увидел куклу и тотчас же вышел вон, полный негодования.
Еще далекие звуки музыки слабо доносились с противоположной стороны замка. Уже более часу как княгиня Беата скрылась из зала и удалилась на свою половину. Она прямо прошла в каплицу, опустилась на мягкие подушки и стала горячо молиться. Ее щеки пылали, во всех чертах видно было возбуждение. Молитва не успокаивала, да и как могла успокоить ее молитва? Она молилась какому-то Богу злобы и мести, она призывала его гнев и кару на этот пир еретиков и схизматиков, один вид которых возбуждал в ней ненависть. Она во весь день не заметила ничего особенного между Гальшкой и Сангушко; но верила наблюдательности Антонио и теперь посылала все проклятия на голову молодого князя.
Если уж должен совершиться этот ненавистный брак, пусть лучше погибнет дочь – и ей начинало казаться, что дочь не достойна любви ее, что она ее враг и мучитель. Ее сердце разгоралось все больше, в голову стучало; члены онемели в коленнопреклоненной позе… Подняв свою похолодевшую руку, она била себя в грудь, обливаясь слезами. С нею начинался нервный припадок.
В это время она услышала за собою шаги. В каплицу входил Антонио. Она с трудом поднялась с колен и бросилась ему навстречу.
Он стоял спокойный и холодный, только губы его едва заметно дрожали.
– Отец мой, что нового? Не случилось ли еще чего? – страшно волнуясь заговорила княгиня,
– Нового много, – тихо ответил Антонио. – Я все время следил за княжною, и все ее поступки подтверждали мою догадку. С полчаса тому назад она танцевала с князем Сангушко… Они вышли в сад… Я последовал за ними… Вы знаете любимый грот княжны… с каменным драконом… Там, в этом гроте…
Антонио остановился. Казалось, что-то сдавило ему дыхание. Во рту у него было сухо, язык не слушался. Княгиня смотрела на него с ужасом.
– Там… они признались в любви друг другу… – наконец прошептал он.
Он прислонился к стене… его ноги подкашивались.
– Боже мой! – вскрикнула княгиня, обливаясь слезами.
Она не могла думать и соображать в эту минуту. Ей показалось, что случилось худшее и уже непоправимое.
Антонио спешил ее успокоить. Его собственного волнения как не бывало. Проговорив страшную для себя фразу, звуки которой терзали его, он уже снова овладел собою.
– Разве я для того сказал вам это, чтобы вы пришли в отчаяние и поддались слабости? Именно теперь вам нужно быть как можно более спокойной и твердой. Особенно дурного еще ничего нет. Напротив – чем кажется хуже, тем лучше. Теперь пора действовать, пора показать вам князю Константину, что вы не раба его, что у вас есть своя воля и что вы никому не позволите распоряжаться судьбой вашей дочери.
– Нет, теперь кончено! – вся волнуясь и останавливая свои слезы, заговорила княгиня. – Я слишком долго терпела… я постою за себя…
– Тем более, что все права на вашей стороне. Помните это. Но я все же боюсь… мне иногда кажется, что князь Константин опутал вас какими-то чарами… я боюсь, что вы даже в таком решительном деле не успеете поставить на своем и уступите. Но знайте, что если теперь уступите, если отдадите княжну за схизматика, то мало того, что это будет вечная погибель ее души, – это будет смертный грех на вас самих, и его вы ничем и никогда не замолите. Бог не простит этого… святой отец отвернется от вас… и я сам прощусь с вами!
Последние слова он произнес громко и торжественно как судья и прорицатель.
Княгиня снова опустилась на подушки перед статуей.
– Матерь Божия пошлет мне силы… она внемлет моей молитве… она спасет мою душу…
– Клянитесь же не уступать, клянитесь разорвать опутавшие вас оковы… Клянитесь в случае упорства князя и его самовольности немедленно уехать и увезти с собою княжну. Вы явитесь к королю в Краков. Он заступится за оскорбленную мать… он не даст вас в обиду… Клянитесь!..
– Клянусь Господом Иисусом и Пречистой Девой Марией! – торжественно и набожно произнесла Беата, крестясь и целуя конец платья мадонны.
Эта была жалкая сцена. Но главный актер ее знал, что делал.
– Amen! – воскликнул он.
И вдруг он вздрогнул, вспомнив что-то позабытое им и очень важное.
– Но знайте, княгиня, – внушительно сказал он, – что дочь ваша не должна подозревать моего участия в этом деле. Ее не следует вооружать против меня. Напротив, пусть она видит во мне друга… До сих пор она избегала бесед со мною. Теперь мне нужно получить возможность заслужить ее доверие, и только при этом доверии я сумею раскрыть ее сердце и разум к принятию истины. Понимаете вы меня, княгиня?
– Да, вы правы, отец мой, я ничего не скажу ей о том, что вы следили за нею. Она сама мне во всем признается, а если и не признается, так ведь не сейчас же ее обвенчают, ведь придут же за моим согласием хоть для виду…
Отец Антонио убедился, что княгиня настроена как следует и что с этой стороны опасаться нечего. Разумеется, он все же будет следить за каждым ее шагом, будет подливать масла в огонь, если надо.
Он простился с Беатой и ушел к себе, в свою скромную, чисто монашескую келью, помещавшуюся в одной из башен замка. Он почувствовал себя утомленным и взволнованным, ему нужно было отдохнуть и осмотреться…
Княгиня не ошиблась, предположив, что дочь сама к ней придет и все скажет. Вернувшись в зал, молодая девушка тщетно старалась казаться спокойной. Молодежь то и дело подходила к ней, приглашая на танцы. Со всех сторон ее снова обступила толпа мужчин и женщин. Ей приходилось выслушивать ненужную и скучную болтовню, отвечать на вопросы, говорить и смеяться. Это было свыше сил ее. Она кое-как дождалась сигнала к ужину, сказала кому-то, что нездорова и устала, и быстро направилась длинными коридорами и переходами к себе, на половину матери.
Все тяжелое и мучительное, что лежало между ней и княгиней Беатой, теперь забылось. Она была так счастлива, что кроме самой нежной любви ко всему и ко всем ничего и не было в ее сердце. Она ушла теперь прямо к матери, поделиться с ней своим счастьем, без всяких тревог и сомнений. Только лютый зверь мог теперь восстать на нее и пожелать разбить ее счастие. А мать разве зверь? Нет, если она и странная, все же она хоть немного да любит Гальшку.
Она иногда бывает так нежна и ласкова… вот и сегодня утром…
Княгиня уже раздевалась в своей спальне, когда к ней вошла Гальшка. Она тотчас же отпустила дежурную шляхтянку и трех прислужниц и по их уходе обратилась к дочери.
– Ну что, Гальшка, веселилась? – спросила она почти ласковым голосом, сдерживая себя насколько возможно.
Княжна безо всякого ответа, повинуясь невольному внутреннему движению, бросилась к ней на шею и залилась слезами.
– Что с тобой? о чем ты плачешь?
– Матушка, родная моя, поцелуй меня, благослови меня… я вырвалась оттуда, я бежала к тебе сказать, что случилось со мною…
– Что? говори! говори!
Княгиня уже дрожала от волнения и гнева.
– Князь Дмитрий Андреевич просил меня быть его женою… и я люблю его! – с врожденной ей простотой и искренностью прямо сказала Гальшка, глядя в глаза матери.
Красивое лицо княгини Беаты исказилось и сделалось страшным… Порывистым движением она оттолкнула от себя пораженную и ничего не понимавшую дочь.
– Князь Дмитрий Андреевич! Кто это такой? а! – должно быть Сангушко… Это он тебя прислал ко мне за тебя же свататься! А ты его, верно, от моего имени уж и за честь поблагодарила?.. Скажи мне, давно ли ты выучилась позорить свое имя, заводить любовные истории? Или, может быть, ты все это не сама выдумала, а заранее получила позволение от дяди?.. А о матери позабыла?..
Испуганная, оскорбленная Гальшка не хотела верить ушам своим. Того ли она ждала?.. Она еще ни от кого не слыхала таких речей… и вот ей говорит это мать родная… Дрожа и захлебываясь слезами, постаралась она передать все как было.
Княгиня, несмотря на все свое бешенство, ее выслушала.
– Ну что ж! Ну так и есть! Позор и срам… Бежит с пиру, при всем народе, на глазах у всех, с молодым мужчиной в темный грот… выслушивает признание… сама отвечает… быть может, целуется…
– Да, он целовал меня, и я его тоже, – сказала Гальшка.
Ярость княгини дошла до высшего предела. Она не помнила себя, она забыла все приличия. Она не могла понять, что перед нею чистая и невинная девушка, не привыкшая ко лжи и обману, не видевшая преступления в поцелуе любимого человека, которому беззаветно решилась отдать всю жизнь свою.
– Прочь от меня, негодная! – закричала княгиня. – Я должна краснеть за тебя, ты меня позоришь. А твоему Сангушке, неотесанному литовскому медведю, я покажу, как издеваться надо мною! Знак, что тебе не бывать его женою, я не допущу этого! Я мать твоя, слышишь, мать, и ты должна мне повиноваться… А! тебя твой дядя научил пренебрегать мною, – но я положу предел этому. Довольно…
Гальшка бросилась на колени. Она пробовала говорить, умолять, она обливалась слезами. Но все было тщетно. Княгиня даже ее не замечала. Переводя дыхание, она заговорила снова, несколько сдержаннее, но еще с большей жестокостью:
– Вот мое последнее тебе слово – одумайся. Тебе еще слишком рано распоряжаться собою. Рано еще и замуж. Выбрось из головы Сангушку – он тебе не пара, я не отдам тебя за него – клянусь тебе в этом Богом… Оставь меня и ложись спать – я тебе приказываю – слышишь?!
Гальшка горько взглянула на мать и ничего не увидела в глазах ее, кроме злобы и решимости. Она слабо вскрикнула и, шатаясь, вышла в соседнюю комнату, которая была ее спальней.
Всю ночь напролет проплакала она горькими, отчаянными слезами. Только утром вздремнула и поднялась с надеждой на помощь и заступничество дяди Константина.
Около полудня князь Константин вышел к своим гостям сумрачный и молчаливый. Он посылал за Гальшкой, но княгиня Беата ее не пустила – так и велела передать ему. Посланный шляхтич убежал со страху к себе и не смел вернуться, не смел передать князю такой ответ. Второй посланец доложил, что княжна нездорова и не выходит из комнаты.
Теперь князь Константин спешил показаться гостям, а затем решился идти сам к Беате.
Между ними давно уже не было родственных и искренних отношений, но все же она до сих пор соблюдала внешнюю любезность и даже некоторую почтительность. Но на этот раз она необыкновенно сухо и холодно встретила князя.
– Что с Гальшкой? мне сказали – она больна?.. – спросил Константин Константинович.
– Нет, она не больна, но наделала глупостей, и я сочла нужным не пускать ее туда, где только потворствуют этим глупостям.
Князь рассудил, что самое лучшее не обращать внимания на тон и резкости взбалмошной женщины. Он решился говорить спокойно и обстоятельно. Он передал о предложении Сангушки и стал доказывать все выгоды подобной партии. Он, по возможности, старался сдерживать княгиню, но скоро увидел, что с нею нелегко справиться. Она решительно объявила, что и слышать ничего не хочет об этой свадьбе, что Гальшка еще молода, что Сангушко не по сердцу ей, княгине Беате, что, наконец, она мать и вправе одна и по-своему решить это дело.
Кончилось тем, что князь разгорячился. Объяснение это привело к полному разрыву. Княгиня Беата сказала, что не намерена больше вставать в Остроге, что теперь, разумеется, не станет делать шуму, во время празднеств в замке, но только что разъедутся гости, возьмет с собою Гальшку и переселится в Вильну, где у нее был свой дом и поместья. Если же князь Константин вздумает делать какие-нибудь затруднения, то она увидит себя вынужденной вмешать в их семейные дела короля и просить у него зашиты.
Это были речи, совсем не похожие на прежнюю Беату. Князь увидел, что она хорошо обучена ловким учителем, и легко ему было догадаться, кто этот учитель. Он понимал, что со стороны закона – она права, что как опекун он может вмешаться в распоряжения относительно состояния Гальшки, наследства его брата, но удерживать силой Беату в своем доме, не выдавать матери родную дочь – он не может. Правда, Илья Острожский перед смертью поручил ему жену и дочь, наказывал Беате жить с семейством брата, взял даже с нее торжественное обещание. Но, во всяком случае, закон тут не причем, и если нельзя будет подействовать убеждением, то нельзя также действовать и силой.
Между тем, не мог же он отдать Гальшку на верную погибель, равнодушно смотреть на ее мучения. Чтобы спасти ее, он решился на смелый поступок.
– Ну, если так, то делай, как знаешь, – сказал он Беате. – Разумеется, если ты смотришь на меня как на врага, то нам нельзя жить вместе. Только помни, что ты ответишь перед Богом за несчастие Гальшки.
– Это уж мое дело, – резко заметила княгиня. Константин Константинович вышел от нее, едва сдерживая бешенство. Если б теперь с ним встретился Антонио, то бывшему рыцарю, наверное, пришлось бы узнать на своей спине силу могучего кулака литовского князя. Но Антонио был осторожен – не из трусости, а из благоразумия, он давно уже тщательно избегал встреч с Острожским.
В одной из соседних комнат Гальшка, бледная и заплаканная, бросилась к дяде.
– Родной мой, голубчик, спаси меня! – шептала она, с надеждой глядя ему в глаза.
Он не мог видеть эту бледность, эти слезы на прелестном лице ее. Он не мог подумать, что так или иначе, а скоро ему придется расстаться со своей любимицей.
У него дрогнули губы, и вдруг все мужественное, грозное лицо выразило умиленность и слабость.
Он нежно, каким-то даже почти женским движением обнял племянницу и нетвердым голосом шепнул ей:
– Сделаю все, что могу, моя девочка. Положись на меня, будь спокойной и молись Богу. Не противоречь матери…
И он быстро прошел мимо, подавляя свое волнение.
Он спросил первого попавшегося из придворных, где отведено помещение князю Сангушке, и велел проводить себя к нему.
Сангушко был один. Он ждал, по условию, известий от князя, ждал его зова. Взглянув на лицо входившего Константина Константиновича, он вздрогнул – оно не предвещало ничего доброго.
– Ну, крестник, был я плохим сватом. Не только что дело твое пропало, да и себе нажил горе большое.
И князь рассказал все, как било.
– Что же теперь делать? – спросил бледный, как полотно, Сангушко.
– А самое лучшее тебе позабыть Гальшку, да поискать другую невесту…
– Не время, князь, смеяться! Как отца спрашиваю – что прикажешь делать?
– Крепко ты любишь Гальшку? Будешь ей добрым мужем? Будешь как следует беречь ее?
Сангушко даже и не ответил – он только рукой махнул на бесполезность подобных вопросов.
– Так вот что, – продолжал Острожский. – Видел ты мой замок, видел укрепления? Крепкая, надежная защита! А сколько, примерно, воинов можешь ты вести на приступ?
Сангушко сразу и сообразить не мог, зачем это говорит князь.
А князь с улыбкой смотрел на него.
– Много не нужно. Человек триста, четыреста за глаза хватит. Время мирное, я нападений не ожидаю. Люди мои спать горазды, особенно коли вечером хлебнут чарку, другую. Караульщик боковые ворота иной раз плохо запирает. Можно совсем врасплох застать, даже без особого шуму…
Сангушко бросился на шею князю.
– То-то вы, молокососы – все учить вас нужно – самому бы и в ум не пришло – признайся! – ласково отстранил его князь.
– Сразу точно что не пришло, спасибо тебе; отец родной – и тот не мог бы мне большего сделать.
Затем они порешили, как всему быть, и князь взял на себя успокоить и уговорить Гальшку. Он только наказывал Сангушке, чтобы тот заранее сговорился со священником где-нибудь в дальнем селе, чтобы ни на час один не откладывать венчанья.
Сангушко отправил своего преданного Галынского в Сорочи, вооружить отряд, а сам, чтобы не подать никакого виду, еще на сутки остался в Остроге.
Ему так и не пришлось увидеться с Гальшкой. Всем говорили, что она больна и не выходит из комнаты.
IX
Из Острога, по различным направлениям, тянулись более или менее многолюдные поезда гостей княжеских.
Многие из приглашенных были встревожены известиями о разбойничьих шайках, появившихся в разных местах Полесья. И как нарочно, зная об огромном съезде в замке, большинство гостей явилось только с необходимой свитой. Женщины надоедали отцам и мужьям своими страхами и толковали об опасностях возвратного пути. Князь Константин Константинович, заметив эти толки и волнения, любезно предлагал всем своих ратных людей в провожатые до безопасного пункта.
Кончилось тем, что весь почетный караул князя был распределен между гостями. Через несколько дней замок сравнительно опустел и в нем воцарилось какое-то уныние. Все ясно видели, что недоброе что-то творится в княжеском семействе. Гальшка почти все время проводила у себя в комнатах и немногие, видевшие ее, рассказывали, что она очень грустна и кажется нездоровой.
Княгиня Беата решительно приготовлялась к отъезду, но никто не знал, куда она собирается.
Константин Острожский понемногу и незаметно делал свое дело. Ему удалось наедине переговорить с Гальшкой. Он и не ожидал от нее сопротивления его плану, но все же был поражен ее спокойствием и решимостью. Вообще он видел, что перед ним уже не прежняя робкая и наивная девочка. Она, очевидно, многое пережила в несколько бессонных ночей. Она хорошо понимала свое положение. На другой день после сцены с матерью, она снова пробовала уговорить ее и умилостивить, но встретила еще более жесткий отпор и увидела, что с этой стороны не остается никакой надежды.
Тогда и в Гальшке проснулась энергия и решимость. Она знала о ссоре матери с дядей, знала, что Беата хочет увезти ее в Вильну. Ей было страшно подумать о том, что с нею там будет. Лучше смерть, чем такая жизнь, вдали от всего родного и близкого, без всякой надежды на счастье. Разумеется, будучи еще ребенком, совершенно не знакомая с историями о разных романических приключениях, она никогда не могла бы придумать для себя плана спасения. Она, несколько успокоенная дядей, ждала от него и от Сангушки себе помощи. Дядя объяснил ей ясно и во всех подробностях, что другого исхода ей нет, кроме побега и тайного венчанья. Нападение на замок, увоз Гальшки силой, снимали и с него, как с опекуна, всякую ответственность. А уж если она будет обвенчана с Сангушкой, то ее трудно будет разлучить с ним, и вряд ли король вступится в это дело. Долго толковали они. Гальшка решилась. Она любит князя Дмитрия Андреевича. Только с ним и может быть ее счастье. А если дядя сам ее благословляет, так что же ей сомневаться. К назначенному часу она будет готова.
Разумеется, ей страшно перед этим неизвестным будущим, перед грозящими опасностями. Ей больно, что мать родная стала врагом ее… Но пусть будет, как советует дядя, пусть будет, что угодно Богу.
Княгиня Беата изумлялась, видя спокойствие дочери. Она ждала сцен, отчаяния, плача. А тут ничего такого не было, только строгое, побледневшее лицо, молчаливость и покорность. Она советовалась с Антонио. Он сам был удивлен не меньше. Он не сомневался, что князь Константин успел успокоить Гальшку и подал ей надежду. Но в чем состояла эта надежда? Что замышляют Острожский и Сангушко? Монах останавливался на всевозможных предположениях, но до истины, как это всегда почти бывает, не мог дойти. Он только торопил Беату отъездом. С переездом в Вильну все планы противной стороны становятся неопасны. И в то же время Антонио писал подробные донесения Лайнецу. Его миссия была исполнена; он уже сообщил все, чем интересовались в Риме, он успел совратить в латинство многих из жителей замка, завел тайные сношения с некоторыми из шляхтичей, сильно подействовал на душу сыновей князя Константина. В Остроге при решительном характере владельца, при его враждебном расположении к иезуиту трудно было сделать больше, и дальнейшее пребывание даже оказывалось опасным. Вырвав Беату из-под влияния Острожского, забрав в руки Гальшку, следовало непременно ехать как можно дальше. Вильна была удобна во всех отношениях. Кроме того, он уже знал, что с этого пункта начнется деятельность в Литве его орденских собратий.
Отъезд Беаты был назначен через три дня. Княгиня не решалась запирать дочь, и Гальшка все это последнее время проводила на половине князя, с теткой и двоюродными братьями. Мальчики не могли понять ее слез и ужасно завидовали ей, что она уезжает из Острога, который под влиянием дружбы Антонио начинал казаться им скучным и ненавистным…
Вечером, перед закатом солнца, Константину Константиновичу доложили, что приехал гонец с письмом от князя Сангушки. Он велел его звать. Вошел Федя, разгоревшийся от скорой езды, взволнованный и смущенный. Он подал князю письмо.
Вот что писал Сангушко:
«Стою со своими людьми на час расстояния от Острога. Если все ладно, буду о полуночи. Обо всем передай на словах моему Феде, Он малый толковый».
Князь помнил Федю еще маленьким мальчиком в Сорочах. Не без изумления он взглянул на него.
– Видно, мало людей у твоего князя, что он тебя с таким делом посылает, – проворчал он.
Феде было очень обидно слышать слова эти. Он чуть не на коленях умолял Сангушку послать именно его. Посвященный во всей тайны, он находил теперь мучительное наслаждение способствовать счастью Дмитрия Андреевича и Гальшки. Ему хотелось умереть за них обоих…
– Делать нечего – приходится и с тобою вести дело, – все так же сурово заметил Острожский.
И он передал ему, что нужно. Калитка у боковых ворот замка, со стороны леса, будет открыта. Люди Сангушки должны входить, как можно тише. Пусть захватят с собой лестницу, княжна будет ожидать на своем балконе.
Через четверть часа Федя уже мчался из замка. Сознание его важной роли несколько помогало ему забыться. Он свернул в лес и внимательно изучал все тропинки.
А в это время князь Константин Острожский прощался со своей Гальшкой. Несмотря на вероятный успех дела, он знал, каким случайностям она подвергалась. Долго не мог он от нее оторваться. Набожно крестил он ее и шептал молитву. А светлые глаза его застилали непослушные слезы.
– Да хранит тебя Бог, Гальшка, – наконец сказал он. – При первой возможности присылай вести, иначе не буду спокоен. И так уж много беру на себя, но другого тебе спасения не мог придумать.
Княжна, вся в слезах, обнимала его и с дочерней нежностью целовала его руки. Они расстались. Князь мерными шагами отправился на свою обычную вечернюю прогулку. Все в замке знали, что он любил гулять перед сном в ясный вечер, и встречные почтительно давали ему дорогу. Он подошел к зданию, в котором помещались люди его отряда. Большая часть их еще не вернулась с провод гостей. Князь остановился и прислушался. Доносились веселые песни и шумный говор. Воины пировали, и на этот раз не без ведома князя. Константин Константинович доверился старому, преданному слуге, занимавшему в замке должность главного почетного ключника; тот горячо вошел в интересы Гальшки и теперь отлично обделывал дело. Храбрые воины и многие из «придворных» самым мирным образом «пробовали» только что полученные вина и старый мед из погребов замка…
Князь видел, как несколько фигур сходило, пошатываясь, с крыльца и разбредалось в разные стороны восвояси. Он пошел дальше и скоро очутился у так называемых «лесных ворот». Солдат караульный спал крепким сном мертвецки пьяный. Константин Константинович осторожно отодвинул тяжелые засовы и медленно вернулся к себе. Через час мертвая тишина водворилась в замке. Все спали…
Княжна Гальшка вышла на балкон своей спальни. Душистая влажная ночь обступила ее сумраком. Она оперлась на холодные перила балкона и не замечала, как слезы ее капали одна за другою. Ей было и горько, и страшно. Она пробовала молиться, но мысли ее не могли сосредоточиться на словах молитвы. Тоска щемила ей сердце. Она ждала и слушала, и минуты казались ей часами.
Между тем у опушки бесконечного девственного леса, подходившего почти к самому замку, заметно было осторожное движение. На небольшую полянку, с которой виден был замок, с двух сторон съезжалась тесная толпа всадников. Вот почти половина их, человек триста, спешились и отдали коней товарищам. Все уже заранее было условлено между ними. Сангушко отдавал последние приказания.
Спешившиеся воины стали строиться в ряды и попарно выхолили из лесу, направляясь к воротам замка. Все было тихо. Пропустив мимо себя человек двести, Сангушко выехал вслед за ними с Федей и Галынским.
Передовые воины были уже у калитки. Они почти неслышно отворили ее и стали проходить во двор замка. Караульный даже и не пошевелился – он храпел на все лады, растянувшись поперек тропинки, так что воинам приходилось обходить его. Они потом отпускали на его счет шутки. Стараниями предусмотрительного ключника кругом не было ни одной собаки, а огромный волкодав, постоянно привязанный на цепи у калитки, лежал без дыхания в конуре, попробовав чего-то странного в своей вечерней пище.
Сангушко и два его спутника оставили коней по ту сторону калитки. Вошедшие воины заняли назначенные князем места и приготовились, если нужно, защищаться.
– Лестницу – и за мною! – сказал Сангушко.
Пятьдесят человек окружили его.
Гальшка, еще более бледная и трепещущая, стояла, прислонившись к перилам балкона. Она слышала шаги, шорох, лязг оружия. Ее голова кружилась… Шаги становились слышнее. С мягкой травы первого двора люди перешли на каменные плиты. Ближе, ближе… Вот уже она различает движущиеся тени. Она закрыла глаза и прижала руку к сердцу, – так оно сильно, даже больно, билось…
Шум и шепот уже под самым балконом. Что-то слабо стукнуло внизу перил, у самых ног Гальшки. Она едва подавила невольный крик…
– Гальшка, дорогая… – услышала она шепот знакомого голоса.
Она открыла глаза. На верхних перекладинах приставленной к балкону, неуклюжей, но крепкой, только что сделанной в лесу, лестницы, стоял Сангушко.
Он протягивал к ней руки,
Радость свидания с любимым человеком, быстро мелькнувшая мысль, что теперь, для них не будет больше разлуки, заставили Гальшку очнуться и собрать последние силы. Она протянула Сангушке свои холодные, дрожащие руки и поднялась на стоящий у самых перил табурет. Крепкая рука Дмитрия Андреевича помогла ей перешагнуть за перила. Они стали тихо спускаться с лестницы, которую внизу поддерживали Галынский и Федя.
Громкий, отчаянный крик раздался с высоты одной из башен замка, откуда виден был весь внутренний двор и балкон Гальшки.
– Вставайте, к оружию! К оружию! – неправильно произнося слова, кричал сильный мужской голос. Еще несколько мгновений – и этот крик слышался уже внизу, и ему вторил другой, третий голос.
В некоторых зданиях замка хлопнули и растворились двери. Где-то послышался женский плач и визги. Тревога, крики и движение быстро распространились по замку.
Елена и Сангушко были уже на земле. Тяжелая лестница грузно упала на каменные плиты.
Воины тесно сомкнулись вокруг князя и его почти бесчувственной невесты. Все обнажили сабли и быстро двинулись к калитке. Наперерез им бежала толпа почти раздетых людей, вооруженных чем попало.
– Княжну увозят – видите… не пропускайте, рубите! – дико ревел голос, поднявший тревогу.
При этих словах люди Острожского окончательно очнулись и стремительно бросились на телохранителей Сангушки. Весь двор наполнился народом. Майская ночь светлела.
Сангушко поднял на руки обезумевшую Гальшку. Федя, Галынский и десятка два ближних воинов составили кругом них живую стену. В нескольких шагах уже рубились… оружие звенело, послышался стон…
Воины Сангушки, оберегавшие калитку, подали сигнал. Из лесу раздался конский топот.
Сангушко уже переступил со своей ношей через два тела. Калитка была близко. Черная фигура бледного Антонио с саблей наголо стремилась прямо к князю. Сверкая глазами, монах железной рукой отбрасывал от себя воинов, забыл все и видел только Гальшку. Вот уж он близко. За ним прочищают себе дорогу и другие.
Федя, стиснув зубы, махнул своей саблей – и рука монаха опустилась, выронив оружие.
Еще мгновение – и Сангушко был за калиткой. Его конь бил копытами и храпел. Одной рукой охватив Гальшку, князь с помощью Галынского вскочил на седло и стрелой помчался к лесу. Молодая девушка крепко обвила его шею руками и окончательно потеряла сознание.
Только минут через десять первые всадники показались из замка. Они бросились в лес. Там нестройный гул доносился издали и слабел с каждой минутой. Скоро они поняли, что погоня невозможна.
В замке царило необычайное смятение. Беата кинулась к князю Константину и прямо обвиняла его во всем. Она рвала на себе платье, проклинала, грозилась. Он едва вырвался от нее и вышел на место схватки.
Человек двадцать мертвых и раненых лежало на плитах.
С мрачным и бледным лицом князь Константин велел скорее убрать их и осмотреть раны.
Со всех сторон стояли замковые люди, ожидая страшной вспышки княжеского гнева.
Два-три человека дрожащим голосом передавали ему подробности нападения.
Он упорно молчал. В его крепкий замок, наполненный хорошо вооруженным и дисциплинированным людом, крепко запиравшийся каждый вечер, с караульными и лихими собаками прокрался чуть ли не целый полк, украли его племянницу, княжну Острожскую, – и все это было замечено только случайно, когда уже враги сделали свое дело. И княжну не отняли, не отбили вовремя, когда она еще была в стенах замка. А князь Константин, гневный и грозный, молчал, опустив глаза в землю. Он не в силах был играть комедию. Он махнул рукою и вернулся в свои покои…
Придя несколько в себя, княгиня Беата приказала звать к себе отца Антонио. Он явился с только что перевязанной рукой. Кровавые пятна во многих местах покрывали его платье.
Беата даже и не заметила его раны. Она призывала гнев Божий на князя Констактина и кончила тем, что упрекнула даже Антонио.
– Я положилась на вашу бдительность, я поступала по вашим советам, – и вот у меня украли дочь, погубили мою Гальшку, насмеялись надо мною!
– Всего невозможно предвидеть, – уставшим, глухим голосом проговорил монах. – Если б я не подошел к окну, заслышав какой-то подозрительный шум, до утра никто бы и не знал о похищении. Здесь, наверное, все было заранее и хорошо устроено: даже собаки не лаяли…
– Но как же вы могли отдать ее, как вы ее не отняли?! – рыдала княгиня.
– Я сделал, что мог, я, наверное, и убил бы Сангушку, если бы какой-то проклятый мальчишка не ранил мне руку так, что я невольно выронил саблю. Удивляюсь только, как они меня не убили, – а я уложил троих на месте…
Только тут княгиня заметила рану Антонио. Она бросилась к нему, увидела, что рука дурно перевязана, позвала своих женщин и сама помогала им делать перевязку.
Это занятие на несколько минут поглотило ее, но когда было все кончено, она снова предалась отчаянию.
– Где дочь моя?! Вот мы здесь сидим, а этот изверг теперь уже далеко с нею! Боже праведный! Неужели так мой позор, мое горе и останутся без отплаты? Неужели я должна молчать и не могу отнять у них мою дочь?!
– Я только что хотел сказать вам, – начал Антонио, – что нам с вами нужно сейчас же ехать в Краков и принести жалобу королю. И нечего терять времени, нечего ожидать здесь новых оскорблений…
Княгиня с жадностью ухватилась за этот совет, и так как у нее все было почти готово к отъезду, то часа через три, в сопровождении Антонио и небольшого числа слуг, она уже была на дороге в Краков.
X
Если замок князя Константина Острожского и жизнь его двора поражали своей роскошью и широтою, то, по крайней мере, в Остроге нельзя было заметить распущенности нравов, царившей в тогдашнем обществе. Князь Константин, человек благочестивый и нравственный, строго относился к окружавшему. Разумеется, он не мог переделать людей, не мог искоренить порчу нравов; но, во всяком случае, все темное и грязное пряталось подальше от его взоров и страшилось его гнева. В бесчисленных закоулках его огромного замка, обитаемого сотнями мужчин и женщин, не обходилось без пороков и двусмысленных историй, но стоило только какой-нибудь истории достигнуть его слуха, – и виновные или наказывались, или, если они не подлежали наказанию, навсегда лишались княжеских милостей и изгонялись из замка.
Только подчиняясь неизбежной крайности, князь Константин делал уступки. Так, например, его глубоко возмущали вошедшие в моду балы с новыми, и как ему казалось, непристойными танцами, с полной свободой обращения между мужчинами и женщинами, свободой, доходившей до непристойности. Он вырос в семействе благочестивом, свято хранившем традиции, гордившемся своими предками, берегшем родовую честь пуще зеницы ока. Он еще хорошо помнил патриархальную жизнь старого времени, и такая жизнь была его идеалом. Отчего же и не попировать с друзьями и соседями, – но в мужском обществе не место женщине. Не годится и мужчинам вечно торчать в женских покоях. Новые обычаи только соблазн заводят, вселяют раздоры и непотребства в честные семьи… А попробуй жить по-старому, попробуй завести строгость – все отшатнутся, никто и глаз не покажет, разведутся недоброжелатели. Тогда будет трудно иметь влияние на дела, и на сеймах, как дома, очутишься одиноким. Вот и приходилось поневоле задавать пиры на новый лад, допускать несколько раз в год в своем доме вавилонское столпотворение…
Но только что гости разъезжались, раз заведенная, строгая жизнь начиналась снова. Всеми живущими в замке соблюдались посты, исправно посещалась церковь, неутомимо преследовалось пьянство. Князь Константин видел только скромных женщин, приличных и почтительных мужчин. Он не мог не понимать, что многие его обманывают и тяготятся его присутствием и надзором: но он знал, что им употреблены все меры, что он сам подает добрый пример, и что даже враги его не могут сказать, что в доме князя Острожского безнаказанно и открыто терпится разврат и бесчинство.
Не то было у других вельмож литовских: носились самые соблазнительные рассказы о том, что творится в их резиденциях. Но даже и все это было ничто сравнительно с распущенностью нравов королевского дворца в Кракове.
Король первый подавал пример своим подданым. Сигизмунд-Август воспитывался под влиянием матери, королевы Боны, честолюбивой интригантки, бывшей во всех отношениях достойною соотечественницей Катерины Медичи. Она, ради своих целей, для обеспечения за собою власти всячески постаралась ослабить в сыне мужество, энергию и твердость характера. Она удаляла его от серьезных занятий и окружала только женщинами. Вступив на престол после Сигизмунда I, он явился новым Сарданапалом. Он проводил жизнь в пирах и забавах, в любовных интригах, постоянно откладывал дела и медлил в решении важных вопросов – его прозвали за это «король-завтра». Только раз в жизни король выказал удивительную энергию и настойчивость. Он страстно полюбил молодую красавицу, вдову Гастольд, урожденную Радзивилл. Схоронив свою первую супругу, он тайно обвенчался со своей возлюбленной. Такой брак казался неприличным, к тому же, не без основания, боялись влияния семьи Радзивиллов. Сенат и сейм стали настойчиво требовать развода. Постоянно слабый и малодушный Сигизмунд Август не только не подчинился этому требованию, но заставил торжественно признать свой брак и короновать Варвару. Впрочем, его счастье длилось недолго: королева скоро умерла, и после ее смерти он снова предался самой распущенной жизни. Третья жена его, принцесса австрийского дома, для него как бы не существовала. Многочисленные фаворитки царили в Кракове и держали в своих руках все правительственные нити.
Понятно, при таком короле государство не могло процветать и крепнуть. Скоро оказалось полнейшее внутреннее расстройство. Роскошь и изнеженность овладели поляками. Знаменитый князь Курбский записал о тогдашних польских вельможах и короле такие строки: «Здешний король думает не о том, как бы воевать с неверными, а только о плясках да о маскарадах; также и вельможи знают только пить да есть сладко, пьяные они очень храбры: берут и Москву, и Константинополь, и если бы даже на небо забился турка, то и оттуда готовы его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к полудню проспятся, встанут чуть живы, с головною болью. Вельможи и княжата так робки и истомлены, что, послышав варварское нахождение, забьются в претвердые города и, вооружившись, надев доспехи, сядут за стол за кубки и болтают с своими пьяными бабами; из ворот же городских ни на шаг. А если выступят в поход, то идут издалека за врагом, и походивши дня два или три, возвращаются домой, и что бедные жители успели спасти от татар в лесах какое-нибудь имение или скот – все поедят и последнее разграбят…» Отношение высших сословий к сельскому населению было ужасно – крестьянин почитался наравне со скотом, шляхтич безнаказанно убивал его и говорил, что убил собаку.
Во дворце краковском балы сменялись балами, постоянно придумывались новые и разнообразные увеселения. Король с каждым днем все меньше и меньше обращал внимания на дела государственные. Когда близкие люди, выведенные, наконец, из терпения, спрашивали его, почему он не займется делами, он постоянно отвечал: «Ради этих соколов (т. е. придворных женщин-любимиц) ни за что не могу взяться». Он особенно пристрастился к маскарадам и по целым дням придумывал себе и приближенным костюмы. Безумная роскошь поражала приезжих иностранцев. Деньги лились рекою и совершенно истощались королевские средства. В сокровищнице Сигизмунда-Августа не оставалось почти ни одной драгоценности – все было раздарено фавориткам. К тому же, с некоторого времени во дворце стали появляться какие-то темные люди. Это были колдуны и колдуньи, всевозможные шарлатаны, которые брались своими чарами вернуть королю здоровье, восстановить его разрушенные силы. Сигизмунд-Август, как малый ребенок, верил их россказням, осыпал их деньгами и делал над собою всевозможные нелепости…
В такую-то обстановку и к такому-то королю мчалась за судом и помощью княгиня Беата. Загнав до смерти не один шестерик лошадей, она, наконец, приехала в Краков и остановилась в доме одного из многочисленных своих родственников. Был уже вечер, но отдыхать княгиня не хотела – дело ее нельзя было откладывать ни минуты. Ей необходимо было немедленно увидеть короля и уговорить его принять все меры для возвращения Гальшки. Доступ к королю не представлял никаких затруднений. Княгиня Беата, мать которой была приближенной и любимицей Сигизмунда I, почти все свое детство и девичество провела во дворце, росла вместе с Сигизмундом-Августом и пользовалась его дружбой. Он не иначе называл ее, как своей маленькой сестрою. Правда, вот уже несколько лет, как она с ним совсем не видалась, но он очень добр и ласков – он непременно должен принять участие в старом друге…
Беата, едва переодевшись, отправилась во дворец. Антонио пошел к папскому послу, кардиналу Коммендоне, который знал его лично. Коммендоне, энергичный и настойчивый, умел заставлять короля делать по-своему и мог в данном случае очень помочь своим влиянием.
Дворец был ярко освещен. На площадке перед главным въездом толпился народ и медленно подвигалась вереница тяжеловесных экипажей. Княгиню впустили без всяких затруднений, и она в первых же комнатах встретила многих знакомых. Ей тяжело было рассказывать посторонним о своем горе, и она старалась скрыть настоящую причину своего приезда.
В этот вечер был назначен блестящий маскарад. Приглашенные в пестрых и причудливых костюмах уже съехались. Король не выходил еще из внутренних покоев. Княгиня просила доложить ему о ней и сказать, что она умоляет его принять ее наедине, по очень спешному делу. Ей довольно долго пришлось дожидаться ответа. Она постаралась найти более уединенный уголок и проходила через все муки ожидания и нетерпения. Наконец к ней подбежала очень странная фигура. Это была молодая женщина в маске и костюме амура. Высоко взбитые белокурые волосы, перевитые жемчугом и алмазами, голая шея и руки, коротенькая и почти прозрачная юбочка, низкий корсаж, обтянутые шелком телесного цвета ноги, беленькие крылышки за спиною, лук и колчан со стрелами на золотой перевязи. Амур снял маску и оказался молоденькой двоюродной племянницей Беаты. Княгине стало противно и стыдно за почти обнаженную девушку, но она подавила в себе эти чувства и любезно отвечала на приветствия амура.
Амур, свободно вертясь и болтая без умолку, объявил, что король готов принять княгиню и поручил проводить ее к нему.
Беата, не обращая никакого внимания на проходившие толпы гостей, быстро направилась чрез длинный ряд знакомых ей с детства, сверкавших огнями и дорогим убранством покоев.
В небольшой комнате, устроенной в виде какой-то фантастической беседки, амур остановился.
Перед княгиней стоял человек, далеко уже не молодой, но, очевидно, подрумяненный, с довольно красивым, утомленным и несколько дряблым лицом. Он был одет, или, вернее, раздет каким-то мифологическом божеством. Его полное, обтянутое шелком тело, местами прикрывали складки пурпурной, театрально накинутой тоги. Венок из зелени украшал его голову. Вся фигура была крайне комична. Несколько Венер и нимф окружали его, весело и шумно болтая, сверкая драгоценностями и роскошными, обнаженными формами.
Это был король Сигизмунд-Август и свита его фавориток.
Княгиня на мгновение остановилась, пораженная и смущенная. Когда-то она была очень привязана к королю как другу детства. Когда-то она была поверенной его любви к Варваре Гастольд. Она знала его человеком слабым, но добрым, любезным и остроумным. Еще несколько лет тому назад она видела его, хотя постаревшим и несколько истомленным, но все же сохранившим свою привлекательность. Кроме того, даже во всех своих слабостях, среди пиров и вечного ухаживания за женщинами он умел оставаться королем и сохранял внешние признаки своего величия. Он избегал всего вульгарного и смешного. Княгиня, вспоминая о нем, всегда представляла себе истинного короля и, как королю, готова была простить ему многое.
Теперь же – разве это король был перед нею? На дряблом и нарумяненном лице едва сохранились прежние черты. В своем безобразном, шутовском костюме он напоминал старого уличного фигляра.
Но он, очевидно, никак не мог заметить производимого им впечатления. У него явились замашки старой кокетки. Ему казалось, что никто не видит его румян, его преждевременной дряблости, которая так ужасала его перед зеркалом. Никогда еще, даже в самые лучшие дни своей молодости, не считал он себя таким красавцем, как именно теперь, когда он становился безобразен. Одевшись мифологическим божеством, выставив свои жирные руки и ноги, он был уверен, что все красавицы восхищаются им. А они все, разумеется, тотчас бежали бы от него, если б он не назывался Сигизмундом-Августом, если б он не помогал их интригам и не позволял себя грабить…
– Добро пожаловать, княгиня Беата, – сказал король, становясь в грациозную позу. – Я думал, что ты уж в монастырь пошла, хотел писать тебе, просить, чтоб ты молилась за меня грешного. Да, признаться, ты и то на монахиню стала похожа… Это нехорошо, княгиня; жизнь нам дана для веселья, нужно пользоваться ею… Но, однако, мне сказали – у тебя до меня дело? Жаль. Я смерть не люблю дел, мне кажется, всякое дело отнимает у меня день моей жизни… Но уж если дело, так говори скорее – и лучше будем веселиться…
– Есть у меня большое дело, государь; но я хотела бы передать его наедине вашей милости, – ответила княгиня, чувствуя на себе насмешливые, недоумевающие взгляды всех этих нимф и Венер.
– Наедине? Зачем же? Да меня и не пустят эти соколики с тобой шептаться – ревновать станут! – кокетливо улыбнулся король, указывая на окружающих женщин. – К тому же я от них ничего не скрываю, и мы все дела решаем вместе. Все это мои лучшие друзья и советники…
Делать нечего – Беата рассказала о похищении Гальшки.
Король слушал ее с видимым интересом.
– Молодец князь Сангутко! – воскликнул он. – Я на его месте непременно сделал бы то же! Говорят про твою княжну, что она хороша, как день Божий. Ну вот тебе и наказание за то, что ты держала ее взаперти, не привезла ее к нам в Краков. Отсюда бы ее уж не украли, да и сама бы бежать не захотела. Здесь, слава Богу, не то, что этот ваш Острог с волками да медведями. Удивляюсь, как еще там такая красавица не утопилась с тоски да скуки!
– Государь, мое сердце обливается кровью от позора и обиды!.. Я пришла просить у вас суда и наказания моему оскорбителю, просить, чтобы мне вернули дочь мою, вы, – вы смеетесь? – отчаянно и не скрывая негодования, произнесла княгиня.
– Я не смеюсь, клянусь Иисусом и Марией, не смеюсь! – заторопился король, пуще всего боявшийся слез и отчаяния. – Напротив, я сочувствую твоему горю, я готов сделать для тебя, что хочешь… Но погоди – что ж бы такое сделать?.. Как вы думаете, соколы мои ясные, что теперь сделать? – обратился он к нимфам…
– Сейчас же запрягать лошадей и ехать всем маскарадом отнимать княжну! – улыбнулась одна полная и красивая блондинка.
Беата смерила ее горделивым и в то же время яростным взглядом. Она бы с радостью растерзала ее на части.
– Ну, нет, это не годится – к ужину опоздаем, – весело заметила другая красавица.
Княгиня Беата быстро повернулась и направилась к двери. Она вся дрожала…
– Куда ж ты, куда ты, сестрица? – закричал Сигизмунд-Август.
Беата обернулась.
– Когда-то в присутствии короля меня бы оскорблять не посмели… Но теперь уж верно здесь позабыли, что я дочь Катерины Тельничанки, – проговорила она.
– Ну, полно, полно, зачем сердиться… Они добрые, они вовсе не хотели оскорбить тебя – им просто весело, – успокаивал король, останавливая ее за руку.
В это время в комнату вошел маршал – все было готово, королю следовало открыть маскарад. Сигизмунд-Август засуетился.
– Меня ждут, мне давно пора, – сказал он княгине. – Погоди, мы протанцуем только один танец. – Я не забуду о тебе, я посоветуюсь с кем надо и что можно сделать – будет сделано…
И он быстро вышел, нежно взяв под руку какую-то юную богиню.
Беата в отчаянии остановилась на пороге. Ей хотелось бежать отсюда. Ей хотелось проклинать этого короля, превратившегося в старого фигляра. Но куда бежать, у кого просить помощи? Если король не поможет, кто же поможет? И она пошла, опустив голову, туда, куда шли и другие. На нее смотрели с любопытством и недоумением. Иные ей кланялись. Многие ее знали. Ее бледное, печальное лицо, с мрачно горевшими глазами, казалось каким-то пятном среди этой толпы – шумной, нарядной и веселой.
– Покажите мне, пожалуйста, где здесь княгиня Острожская? – донеслось до ее слуха.
Она оглянулась. К ней направлялась живая, энергичная фигура кардинала Коммедоне.
– Радуюсь случаю лично познакомиться с вами, княгиня, и только мне грустно, что приходится видеть вас при таких тяжелых для вас обстоятельствах, – заговорил изысканно любезный итальянец. – Я сейчас виделся с отцом Антонио – он все передал мне… Что же король… На чем вы решили?
Тщетно Беата искала в свою очередь любезной фразы. Она только проговорила:
– Король? Королю, кажется, не до меня – он теперь занят танцами.
Кардинал сделал жест, выражавший, что он вполне понимает ее и разделяет ее взгляд на короля.
– Да, вы правы, он занят танцами, но это ничему не мешает. Сегодня, во всяком случае, уже поздно приступать к действию, но я вам ручаюсь, что все будет сделано своевременно. Вашу жалобу нужно представить сенату, сенат не откажет издать на Сангушко декрет Captivationis, по которому он будет арестован, где бы он ни находился…
– Но, Боже, сколько времени ждать! Он завезет мою дочь Бог весть куда… они будут иметь время двадцать раз обвенчаться…
– В таком важном деле нужно постараться рассуждать хладнокровно, княгиня. В то время как вы ехали сюда, они уже, вероятно, успели обвенчаться. Дело сделано. Но как я понял из слов отца Антонио, вы не желаете признавать этот брак ни в каком случае, желаете вернуть к себе княжну, наказать ее похитителя…
– Да! Я хочу вернуть мою дочь, хотя бы ее обвенчали разом все еретические попы в мире.
– В таком случае декрет сената сделает свое дело, Сангушку арестуют, а брак его, как основанный на преступлении, насилии и вопреки вашей родительской воле, будет признан недействительным. Успокойтесь, княгиня: можно сделать, только то, что можно…
И Коммендоне, сказав еще несколько любезных фраз, откланялся Беате.
Она вернулась к себе, пылая местью и проклиная Сангушку.
Коммендоне отлично обделал дело. Он подговорил известного Станислава Чарнковского, и тот в первом же собрании сената сказал пламенную речь, где в самом ужасном виде выставлял поступок Сангушки и красноречиво толковал о поруганных правах княгини Беаты. Сенат издал немедленно декрет Captivationis. Сангушко объявлялся преступником и подлежал строгому осуждению. Только один из сенаторов, Волович, старый друг князя Константина Острожского и покойного отца Сангушки, пробовал было образумить расходившееся собрание. Но его голос одиноко замер. Король был вполне согласен с решением сената.
Беата добилась правосудия, но все же оставалось самое главное – отыскать и захватить Сангушку, отнять у него княжну Елену. Где были для этого средства? У князя Сангушки было много имений в самой глубине Полесья. Много было у него ратного люда. Наверное, он даром не дастся. Требовалось войско и хороший предводитель… Беата не пожалела бы, разумеется, никаких средств, но найти войско тогда было трудно – поляки не любили драться.
Сообразительный Антонио помог в этом. Он вспомнил о пане Зборовском, который также ухаживал за Гальшкой в Остроге. Он отправился к нему и объявил, что княгиня готова выдать свою дочь за человека, который отнимет ее у Сангушки. Услыхав это, загрустивший Зборовский воспылал новой надеждой и отвагой. У него был свой собственный очень значительный отряд, отлично вооруженный и обученный. Он сам был завзятый рубака. Принять решение было для него делом минуты. Он просил Антонио передать княгине Беате, что или в скором времени ей будет возвращена дочь, или он, пан Зборовский, никогда уже больше не увидит не только Кракова, но даже и солнца небесного.
В то же время старик Воловнч писал Константину Острожскому: «А о том, что ты просил известить тебя о действиях княгини Беаты Андреевны, уведомляю: сенат приговорил князя Дмитрия, а отпетая голова Зборовский собрал уже своих молодцов в погоню. Народ все – не трус и числом их изрядно. Твори как ведаешь».
С этим письмом скакал гонец по дороге к Острогу.
XI
Во времена глубокой древности на обширном пространстве, занимаемом Полесьем, было море. Об этом море упоминает и Геродот, о нем ходят рассказы и в народе. Еще до сих пор по вязким и опасным болотам, запрятанным в глубине лесов, время от времени находят обломки костей морских животных, янтарь, якоря и тому подобные предметы.
Но точных сведении относительно этого моря не сохранила история. От него осталась только низкая, громадная впадина да страшные, непросыхающие болота. Многочисленные реки в различных направлениях опоясывают Полесье. Среди болот рассеяны большие и малые острова – роскошные оазисы. Здесь растет трава выше роста человеческого, родится хлеб отборный, здесь много груши, яблони, различных ягод. Трудна дорога к этим оазисам – до них добраться можно только на волах, да и то не всегда безопасно. В самое жаркое, сухое лето не просыхают полесские болота, а среди них предательски белеются сыпучие, наносные пески, медленно и неизбежно засасывающие в себя все, попадающее на их поверхность.
В последние годы топор безжалостно прошелся по Полесью и образовал огромные просеки. Картина края начинает изменяться. Но в XVI веке необозримые леса тянулись на сотни верст и скрывали в своей непроходимой чаще дикую жизнь природы и местного люда.
А люд был совершенно дикий. Он сохранил в себе нетронутыми все черты первобытных нравов. Неприступный в своей лесной чаще, самою природою отделенный от возможности всяких благотворных влияний, он жил только охотой да рыбной ловлей и жарко молился своим лесным и речным божествам, чтоб они послали ему удачу.
Ленивый и добродушный, этот люд был способен, однако, на самые зверские преступления, к которым побуждали его суеверия и глубоко почитаемые им колдуны и колдуньи.
Немало страшных, отвратительных тайн хранит в себе Полесье…
Но много было и поэзии в этой дикой жизни, среди мрачной величественной природы…
Был вечер 22 июня, канун праздника Купалы, одного из самых любимых и торжественных праздников языческого славянства.
Солнце давно уже скрылось за лесами. Звезды одна за другою загорались на потемневшем небе. Не слышно было ни легкого дуновения ветра. Без движения торжественной громадой стояли вековые деревья. И все это – деревья и мигающие звезды – отражалось в водах реки, будто приостановивших свое течение. Соловьи – исконные обитатели Полесья, оканчивали свои песни. Среди болот, на обширном, покрытом дивной растительностью острове-оазисе, мелькали огоньки в маленьких хатках-шалашах. Это были не оседлые жилища, а только летнее пребывание нескольких полесских семей, перебравшихся сюда для того, чтоб запастись на зиму хлебом, овощами и плодами. До сих пор еще так поступают белорусы: весною они покидают свои бедные, бесплодные деревни и перебираются в оазисы, где все произрастает в изобилии.
Осенью жизнь среди болот, вступающих во все свои права, становится окончательно невозможной, и тогда они возвращаются восвояси…
Время близилось к полуночи; с острова по болотистой дороге к речному берегу что-то подвигалось, какое-то шествие. Доносилась тихая, заунывная песня. В одном месте лес доходил до самой воды, постепенно редея. Образовалась небольшая поляна. Сочная, роскошная трава, цветы и причудливые листья папоротника покрывали ее.
У этой полянки остановилось шествие. Не прошло и полчаса, как уже ярко пылало десятка два костров, озаряя людские лица. Вокруг костров расположились группы мужчин и женщин, молодых девушек и детей. У каждого на голове венок из листьев.
Вот поднялось несколько девушек и направилось в чащу. Здесь они в глубоком молчании соберут девять различных цветков, свяжут их вместе и, ложась спать, положат их себе под голову. Тогда они непременно увидят во сне всю судьбу своей жизни.
Вот молодой парень пробирается глубже в лес. Там, в темноте и тишине, он найдет куст папоротника и станет смотреть на него, не отрываясь. Этой ночью папоротник непременно зацветет ясным цветом, светлым и блестящим, как звездочка. Нужно сорвать этот цветок и бежать, не оглядываясь. Добежишь – цветок даст тебе все, чего ни пожелаешь. Оглянешься – заест тебя дед-лесовик, защекочут светлые, холодные русалки.
Вот парни и девушки, высоко подвязав рубашки, которые составляют всю их одежду, собираются прыгать через огонь…
Из дальней группы отделяется молодая девушка, за ней следуют другие. Они направляются по речному берегу. Все в венках, у всех в руках цветы…
Некрасива, вообще, белорусская женщина; но иной раз и там можно встретить красавицу. Девушка, шедшая впереди всех, была чрезвычайно красива. Высокая и стройная, с бледным лицом и глубокими карими глазами. С круглых плеч спускалась длинная, белая рубашка. Распущенные темные волосы падали ниже колен. Она вся, с головы до ног была убрана цветами.
Медленно подошла она к реке и остановилась.
Ее глаза были опущены. Она бросила в воду венок, заломила руки и запела.
Грустные, надрывающие душу звуки «купальной песни» огласили тишину леса.
Если бы знал ты, Купало, Как я по Гриде тоскую, Сколько уж слез моих горьких Кануло в землю сырую. Ты такой добрый, Купало. Ты бы помог мне, девице, Все про меня рассказал бы Злому мучителю Грице. Глянь, кругом вода и лес, Глянь, Купало милый! Мою хатку ветер снес, Меня кинул милый! Бели бы знал ты, как бьется Сердце, что птица на ветке — Ты, такой добрый, ты б не дал Грица злодейке-соседке. Я ведь сиротка, Купало, Нет ни отца, ни милого! Кто же меня приголубит, Скажет сердечное слово?! Глянь, кругом вода и лес, Глянь, Купало милый, Мою хатку ветер снес, Меня кинул милый![2]Далеко, далеко, в самую глубь вековечного леса уносились эти звуки, повторяясь на бесчисленных отголосках и постепенно замирая. Они уносились туда, в светлое жилище Купалы, где за высоким тростником, за непроходимыми болотами, топями и бочагами раскинулась благоухающая вечнозеленая поляна. Густые тени невиданных деревьев обрамляют ее; огромные седые звери стерегут ее. Там никогда не заходит солнце, там земля так же прекрасна, как и небо…
Купальные игры оживлялись. Уже началось прыганье через костры, пляска и громкие крики, визги и веселый хохот… Но что это?.. В лесу какой-то гул, будто конский топот. Все блике да ближе. Старики и женщины стали унимать расходившуюся молодежь и прислушиваться. Точно: приближается что-то огромное, как будто какой-то ураган ломает сучья. Вот, запыхавшись, вне себя от волнения, из лесу выбежал парень, ходивший наблюдать за папоротником. Он громко кричит и объявляет, что в лесу конные, много конных и мчатся они прямо сюда, к речному берегу.
Все в смятении. Что это за люди: по своему делу какому или враги лютые – разбойники? Все вспоминают, как третьим летом наехали тоже всадники, человек с сорок, накинулись на островок, обобрали все дочиста, последнюю рубашку отняли, захватили с собой трех молодых девушек – да и были таковы. Уж и теперь не те же ли злодеи?!
Еще встревоженный люд не знал на что решиться, как из-за деревьев показались всадники. И было их видимо-невидимо, несколько сотен. Но с виду они не были похожи на прежних разбойников. Те оборванцы, с грязными, страшными рожами, на неоседланных, шаршавых лошадях, с топорами да разным дреколием. Теперь же перед дрожащими, обезумевшими от страха поселянами храпели лихие, взмыленные кони. Всадники блестели разным невиданным оружием, красивой, чудною одеждой.
Многие из поселян бросились бежать через болота на свой остров. Другие не шевелились, будто оканемев со страху. Вот из толпы, тесно прижавшейся друг к другу, робко вышло несколько стариков. Они приблизились к всадникам и бросились им в ноги, моля пощадить животы их.
– Дурачье! Дурачье! – крикнул на них только что слезший с коня и привязавший его к дереву тучный человек с огромными усами. – Никто вас и пальцем не тронет; но только, чур – все вон отсюда! И без вас нам места мало на этой полянке…
Старики быстро встали на ноги, вернулись к своим и скоро вся праздничная, обвитая цветами толпа молчаливо двинулась по подсохшему болоту.
– Эки, прости Господи, места окаянные, – ворчал между тем толстяк. – Эки проклятые болота! Во весь-то день первое удобное место сыскалось.
– Ну, что ж, Иван Петрович, здесь ночевать нужно, а то и кони наши, да и мы сами из сил выбьемся, – сказал, подъехав к нему, молодой всадник.
– А то как же, князь, разумеется – ночевать. Сейчас прикажу тебе с княгиней шатер изготовить, да и ужин найдется, – ответил толстяк.
Князь спрыгнул с коня и быстро подошел к сопровождавшему его всаднику. Это был юноша, почти ребенок. Его лицо, насколько можно было разглядеть сквозь сумрак едва побелевшей ночи и потухший огонь костров, поражало необычайной красотою. На юноше был красивый бархатный костюм, какой обыкновенно носили тогда пажи вельмож литовских.
Князь ловкой и сильной рукою помог юноше сойти с коня и нежно обнял его за талию.
– О, какое мученье! – отчаянно проговорил он. – Как ты должно быть устала, как ты разбита, моя Гальшка…
– Нет, ничего… теперь отдохнем, – стараясь улыбнуться, прошептали прекрасные, побледневшие губы…
Скоро воины устроили нечто вроде шатра под огромным, развесистым дубом. На мягкую траву положили несколько ковров. Князь Сангушко делал распоряжения. Он приказал небольшому отряду воинов рассыпаться в разных направлениях по лесу и чутко прислушиваться. Лошади у всех пусть останутся оседланными, никто не должен снимать оружия.
Вернувшись в шатер, князь увидел Гальшку, лежавшую на ковре и спавшую крепким сном. Она не притронулась к ужину. Ее лицо было бледно, губы пересохли. Он склонился над нею и молча сидел, смотря на нее не отрываясь и думая свои нерадостные думы.
Уж около месяца прошло с тех пор, как он похитил ее из Острога, а ни одного еще дня спокойного не выдавалось за все это время. Выбравшись из замка, скакали они тогда несколько часов в густоте леса. Ехать в Сорочи князь не решался, но у него было небольшое поместье, затерявшееся среди лесов и болот, верстах в семидесяти от Острога. Там стояла старая деревянная церковь и ветхая усадьба. Отец его наезжал иногда в это поместье для охоты. Здесь решился Сангушко обвенчаться с Гальшкой и провести первое время, не прерывая сношений с князем Константином.
Он привез Гальшку почти полумертвую от волнения и усталости и сдал ее на попечение своей старой няньки, которая приехала из Сорочей и теперь представляла собою все женское население позабытой усадьбы. К вечеру княжна несколько отдохнула и няня провела ее через запушенный, весь заросший густою травою сад, в низенькую, покосившуюся на бок церковь. Старик священник, робкий и запуганный, с грубыми мозолистыми руками, привыкшими к земледельческой работе, встретил невесту. Он взглянул на нее и потупил глаза свои. Никогда еще не видал он такой красавицы, даже не думал, что и бывают такие.
А она стояла бледная и трепещущая, в своем простом, домашнем платье, с душистыми белыми розами в волосах, принесенными ей из саду старухой-няней.
Через несколько минут в церковь вошел Сангушко. За ним Галынский и Федя. Тяжелые, ржавые двери, ведшие на паперть, со скрипом и визгом затворились за ними. Старуха няня поместилась в уголку и, упав на колени перед иконой, горячо молилась, бия себя в грудь и обливаясь тихими, умиленными слезами. Жених и невеста взялись за руки и подошли к аналою. За ними следовали Галынский и Федя. Священник, надев почерневшую от времени ризу, начал молитву.
В открытые окна вливались длинные, косые лучи вечернего солнца, прорезывали бедную церковь от стены до стены и дрожали и искрились мириадами тонких, мечущихся пылинок. Густые, зеленые ветки смотрелись в окна. Тихо было кругом, только звонкие птицы перекликались в кустах, реяли в синеве ясного вечера. Издали доносилось мычание стада, возвращавшегося с пастбища. Слабо и тускло мигали желтые восковые свечи; тихий, разбитый голос священника медленно произносил слово за словом.
Склонив головы, не глядя друг на друга, Сангушко и Гальшка внимательно, всею душою вслушивались в то, что читал священник. Гальшка не плакала; ее чудное лицо было серьезно; она чувствовала усталость, а внутри ее водворялось глубочайшее, торжественное спокойствие. Галынский едва сдерживал проклятое желание громко откашлянуться и сплюнуть в сторону, которое всегда преследовало его в самые неподходящие минуты. Федя думал только о том, как бы ему не разрыдаться. Он сам: не мог отдать себе отчета в своих чувствах. В нем перемешивались и жгучая боль отчаянья, и блаженство любви, охватившей его всецело. Никогда еще он не любил так Гальшку, никогда еще не любил так и князя. О, пусть они будут счастливы, пусть только будут счастливы, а он всю жизнь свою посвятит им и никогда они не узнают, как он их любит и как разбилось его сердце…
Так совершилось венчание одного из знатнейших вельмож литовских и красавицы Гальшки, о которой мечтали все лучшие женихи Литвы и Польши.
Первые дни после свадьбы прошли быстро, в тишине укромной усадьбы, в душистой тени запущенного сада. Но почти каждый день приносил тревожные известия. Князь Константин уведомлял, что Беата уехала в Краков… Что будет из этого? Чего опасаться? Через неделю Острожский прислал гонца с письмом, в котором советовал князю бежать на время за границу. Это бегство оказалось неминуемым, когда получилось известие о декрете сената и предприятии Зборовского. Гальшка выказала необычайную решимость. Она объявила, что оденется в мужское платье и будет сопутствовать мужу верхом, чтобы не затруднять бегства и не возбуждать во встречных подозрений. На разведки Зборовского будут отвечать, что видели всадников, но между ними не было женщины. Она так убеждала князя, так мило, краснея, доказывала ему, что ей будет очень удобно и ловко превратиться в пажа, что он, обдумав все, согласился. Гальшка была от природы очень крепкого здоровья. К тому же она с детства любила лошадей и считалась отличной наездницей. Решено было снова собрать надежный отряд, изрядную казну и пробраться в Богемию. Сангушко уже прежде был в стране этой и знал, как ему там устроиться.
Перед самым отъездом князь Константин прислал сказать, что мешкать нечего, что Зборовский недалеко и с ним большое войско. Опасность становилась близкой.
Выехали рано утром и стали пробираться глухими дорогами, в лесах и болотах. Вот уже три дня как ехали неутомимо, останавливаясь только чтобы покормить коней, ночуя под открытым небом. На вопросы встречных давали осторожные ответы. Впрочем, и встречных било мало. Дикий полешук, завидев толпу всадников, быстро сворачивал с дороги и скрывался в лесу. Повстречались один раз с толпой людей подозрительного вида, сильно смахивавшей на шайку разбойников; но эти люди, увидя превосходство сил и отличное вооружение отряда Сангушки, предупредительно объяснили дорогу и поскорее скрылись. От разведчиков, посылаемых князем во все стороны, не получалось тревожных известий. Авось пройдет благополучно и эта ночь, а завтра к вечеру они будут уже далеко. Только усталость Гальшки сильно тревожила князя. Как ни храбрилась его дорогая красавица, но он ясно видел ее бледность, ее волнение. Она сама признавалась, что у нее болят руки и ноги. Мужское седло и три дня пути в связи с душевной тревогой не могли не оказать на нее своего действия.
Сангушко думал обо всем этом и с горячей любовью глядел на спящую Гальшку.
Прошло два часа, а может и больше. Он не мог заснуть. Какая-то странная тоска, что-то давящее, тяжелое заползало в его сердце. Он еще никогда не испытывал такого ощущения. Ему становилось душно, даже страшно.
На поляне все было тихо. Только временами храпели кони и били копытом, да кое-где позвякивало оружие воинов. Уже совсем светало. Глаза князя стали смыкаться…
Вдруг он быстро вскочил на ноги. Что это? Шум, голоса, торопливые шаги… В шатер вбежал Федя.
– Князь, – говорит он, запыхавшись, – сейчас прискакал наш Никита. Верстах в трех отсюда они видели большой отряд поляков… Нет сомнения, что это войско Зборовского – оно напало на следы наши.
Сангушку кольнуло в сердце. Он с отчаянным ужасом взглянул на свою Гальшку.
– Скорей подавать мне лошадь! – крикнул он. – А коня княгини пусть кто-нибудь возьмет с собою.
Он разбудил Гальшку. Она взглянула на его взволнованное лицо и сразу поняла все.
– За нами погоня? Да? Они близко? – прошептала она.
Князь хотел ее успокоить.
– Еще нельзя сказать, что погоня. Видели только какой-то отряд, не очень далеко отсюда. Но мало ли кто это может быть, да еще по какому направлению поедут эти люди – может, совсем в другую сторону.
Но его голос дрожал. Он не обманул Гальшки.
– Не успокаивай меня, мой милый, – печально сказала она. – Лучше скажи прямо, что за нами погоня. Я не боюсь ничего, покуда ты со мною… Если суждено нам умереть, так и умрем вместе. Только вот о чем прошу я тебя – не оставляй меня одну, возьми меня к себе на седло. Твой гнедой так силен – он меня и не почувствует. А я хочу быть с тобою: и в двух шагах от тебя мне будет казаться, что я одна, и станет мне страшно.
– Я уж так и распорядился, – отвечал, обняв жену, Сангушко.
Конь был подведен, и минут через десять весь отряд снялся с места. Скакали быстро, насколько позволяла густота леса; старались держаться вместе, объезжали болота. Проводник был отлично знаком с местностью. Он обещал часа в два вывести на хорошую дорогу. По временам останавливались и прислушивались к лесному гулу.
Федя первый заслышал зловещие звуки. Отряд Сангушки оставлял за собою помятую траву, сломанные ветки. Погоня становилась не только возможной, но и легкой. Кони мчались быстро. Лес то редел, то снова сходился в труднопроникаемую чащу. Необходимы были некоторые остановки. Повернули направо – болото. Одна из передовых лошадей стала сильно вязнуть, так что ее пришлось вытаскивать.
А между тем гул приближался. Проводник объявил, что он немного ошибся в повороте. Нужно вернуться назад, а то тут все пойдет болото, а с другой стороны такая чащоба, что не только конным, да и пешему нельзя пробраться.
Гальинский задыхался от бешенства.
– Что ж это ты, предатель, собака! Губить нас вздумал?! – кричал он. – Братцы, топить его в болоте, пускай себе околевает!
Сангушко едва удерживал своих людей, которые уже кинулись на проводника, побелевшего со страху. Возвращаться назад не стоило – погоня была близко, уйти от нее теперь не представлялось возможности. Нужно было защищаться. Князь приказал своим людям занять позицию у леса, перед болотом. Но они еще не успели исполнить этого, как за ними показались всадники.
Не оставалось никакого сомнения – это было войско Зборовского. Слышался польский говор. Начались переговоры. Вот и сам пан Зборовский, весь закованный в железо. Он издали узнал Сангушку. Он требовал, чтоб ему отдали княжну Острожскую, – объявил, что он послан княгиней. Ему отвечали звуком обнажаемых мечей. Завязалась ожесточенная битва.
Поляки с паном Зборовским во главе старались прорваться к Сангушке. Литвины обступили его плотной стеною и отражали нападение. С обеих сторон дрались ожесточенно и стойко. Но поляков было много, по крайней мере, раза в три больше, чем всех людей Сангушки.
Князю Дмитрию Андреевичу оставалась одна надежда – пробраться в лес и бежать одному, в сопровождении только двух-трех всадников. Он и попытался сделать это, еще крепче охватив Гальшку, которая с ужасом глядела на битву и горячо шептала молитвы.
Но движение Сангушки было замечено врагами. Он не успел отъехать и тридцати сажен, как со всех сторон послышался треск ломавшихся веток. Его окружили поляки.
Он крикнул своим. Приспела подмога. Битва перешла в глубь леса. Раздались отчаянные крики, проклятья… Все смешалось. Ветки хрустели. Кони всадников ржали и метались. Слышались стоны раненых и умиравших.
Сангушко не знал, что делать. Он был окружен со всех сторон. На каждом шагу грозила встреча с врагом. Он выхватил саблю и остановился. Перед ним, за деревом, как бешеный, рубился Галынский. Глаза его налились кровью и, казалось, готовы были выскочить. Шапка слетела, по красному лицу струился пот. Он был один – а на него наступало несколько человек. Оглянувшись, он заметил Сангушку.
– Князь, назад! – крикнул он охрипшим голосом. – Отсюда эти черти, как горох посыпались… Назад, говорю тебе… авось Бог поможет…
В это время подоспели два литвина, а из кустов показалось несколько всадников в кольчугах и между ними пан Зборовский.
Галынский кинулся на него и ударил со всего размаха саблей. Но сабля не пробила кольчуги. Зборовский только покачнулся и нанес меткий удар противнику. Оружие выпало из рук толстяка. Еще удар, другой – и Галынский, свалившись с лошади, тщетно силился подняться. Он обливался кровью. Раны его были смертельны.
– Прости, князь, – привел Господь умереть за тебя и княгиню, – едва внятно прошептал Галынский.
Но князь не слыхал предсмерных слов своего пестуна и друга – перед ним мелькнула фигура Зборовского. Одной рукой держа Галыпку, другою он отбивался от яростного противника. Он звал к себе на помощь; но в горячей схватке никто не расслышал его зова. Какой-то глухой удар потряс его. Все закружилось перед его глазами. Ему казалось, что он летит куда-то… Вот как будто пронзительный крик Гальшки, вот еще что-то, как будто гул колоколов или бурные всплески моря…
Князь Сангушко лежал на траве без движения, с закрытыми глазами. По его бледному лбу стекала струйка крови. Зборовский, крепко охватив метавшуюся и безумно кричавшую Гальшку, мчался из чащи. К нему со всех сторон приставали его поляки. Среди кустов и деревьев валялись трупы, слышались стоны раненых. Почти все литвины были перебиты. Остальные бежали в ужасе и падали, изнемогая от усталости. Из войска Зборовского осталось не больше четверти. Литвины дорого продали жизнь свою.
Разноцветные, красивые бабочки летали над мертвыми и полуживыми. Здесь и там были сломаны сучья, смята трава, свежие цветы обагрены кровью. Солнце лило свои жаркие, отвесные лучи и сушило лужи крови.
Разлетавшиеся со страху птицы снова слетались и заводили свои песни. Проворная белка перескакивала с ветки на ветку и изумленно, недоверчиво поглядывала блестящими, зоркими глазами.
XII
В то время как Сангушко отражал Зборовского и упал, раненный в голову, оставляя Гальшку в руках противника, Федя также выдерживал сильное нападение. На него наступало два поляка, которым, очевидно, очень нравилось его богатое оружие, – они хотели поделить его между собою. Уже лошадь Феди, тяжело раненная, не в силах была его сдерживать. Он соскочил на землю и ловко увертывался от ударов. Поляки, наступая, загоняли его все дальше и дальше, в глубину леса.
Эта травля, наконец, истощила все терпение Феди. Он решился или умереть, или убить своих врагов и спешить на помощь князю. Ловким движением он вдруг сделал оборот и в свою очередь напал на поляков, Они, никак не ожидая этого, сразу растерялись. Федя быстро воспользовался их замешательством и в одно мгновение уложил одного из них. Борьба с другим не была особенно затруднительна. Поляк, видя силу и ловкость противника, очевидно, трусил – это его погубило. Федя отбросил свою саблю, выхватил кинжал и набросился на него с бешенством. Они оба упали на землю. Борьба длилась несколько мгновений. Поляк выпустил Федю, застонал и опрокинулся навзничь, извиваясь всем телом и хватаясь за грудь, – кинжал попал ему почти прямо в сердце.
Федя поднялся, тяжело дыша, и нашел свою саблю. У него только на руке была небольшая царапина. Его платье было разорвано. Смоченные потом волнистые волосы прилипали к щекам.
– Теперь бежать к князю! Быть может, ему плохо! Что с ним? Что с Гальшкой? И как это он мог отойти от них, как мог допустить себя увлечься битвой?! Скорее, скорее – времени терять нечего…
И Федя бросился назад по тому направлению, откуда он бежал, как ему казалось. Одно его удивляло – тишина леса. Разгоряченный борьбою, он не заметил времени, не сообразил, как далеко преследовали его поляки. Он прислушался. Вон, кажется, какой-то шум – что-то похожее на ржание коней, на человеческий голос. Нужно бежать туда. А между тем такая густота леса! Нет, он здесь не был – ни одна былинка не примята. Трава почти в рост человеческий, какие-то невиданные им цветы и растения. Кусты переплетаются. Могучие древесные ветви низко, низко наклоняются и загораживают дорогу. Что-то зашипело под ногами, какое-то длинное, тонкое тело, быстро извиваясь, шмыгнуло в сторону. Нет, он решительно здесь не был, да тут и не проберешься – только время потеряешь.
Назад, назад, а там, верно, направо – вон, кажется, редеют деревья. Федя бросался из стороны в сторону. В иных местах он даже саблей обрубал ветки и таким образом расчищал себе дорогу. Но все усилия его били напрасны. Он попал в какую-то заколдованную чащу, из которой не было выхода. Прошло немало времени. В лесу стояла тишина. Юноша отчаянно боролся с обступавшими его врагами – деревьями и уже начинал чувствовать сильную усталость. Наконец, он вырвался на поляну. Перед ним лежало болото, скрывавшееся между деревьями и пересеченное песчаной полосою. Кажется, он видел это болото – оно должно быть очень близко от места битвы. Только странно, что ничего не слышно. Неужели уж все кончено? Кто победил? Спасен ли князь и Гальшка? А что, если они убиты, а что, если Зборовский отнял княгиню? При этой мысли отчаянье захватило душу Феди. Он пустился бежать по болоту, держась ближе к песчаной полосе, чтобы не так вязли ноги…
Вот как будто опять что-то слышно – да, это точно людской голос. Скорее!
Однако, как он устал! Он не может бежать скоро, он с трудом поднимает ноги… какая тяжесть в ногах, как трудно идти… Федя на мгновение остановился. Что это? Нога ушла в землю. Да, это топкое болото. Нужно идти по песку. Он своротил на песчаную полосу, ярко залитую светом солнца. Ноги все также вязнут, вязнут еще больше… Мелкий блестящий лесок посыпался в сапоги…
Федя вспомнил что-то ужасное и даже вскрикнул. Уж не наносный ли это песок, о котором он слыхал столько страшных рассказов. Под этим песком всегда бездонная топь и из нее нет никакого спасения.
Назад, в сторону, опять к болоту, к тем деревьям, откуда он вышел!
Он повернул, ступил шаг, нога ушла в песок по колено; в другую сторону – еще того хуже. Что теперь делать, где искать спасения? При каждом движении немая, беспощадная пучина все глубже и глубже всасывает свою жертву. А кругом тишина, только знойно светит солнце, только, едва шевеля вершинами, стоят вековые деревья, а на их ветках чирикают и заливаются птицы. Неужели смерть, неужели нет пощады?!
Холодный пот струился по лицу несчастного Феди. Черты его обезобразились ужасом. Он попробовал не шевелиться и потом медленно, медленно приподнял ногу. Может быть, тут, в этой вот стороне, не так вязко. Но нет, при первом движении ноги ушли глубже: холодная, влажная, отвратительная бездна тянула в себя с новой силой. Федя отчаянно зарыдал, ломая руки. Он стал громко молиться, впиваясь взором в голубое, глубокое небо; он звал Божью помощь, просил оттуда, с высоты, спасительной руки, которая бы вырвала его из бездны. Он просил чуда, и была минута, когда он верил жадно и отчаянно, что чудо это совершится. Он приметил в синеве маленькое, белое облачко. Ему казалось, что облачко сейчас станет спускаться, спускаться, что он за него ухватится и полетит выше и дальше от этого ужасного места. Но облачко расплылось, растаяло. Федя стал молиться еще громче, еще отчаяннее. Он собрал все силы, подпрыгнул и ушел в песок почти по пояс. Стон и проклятие вырвались из груди его. Он кричал, звал к себе на помощь, он сбросил все оружие, сбросил кафтан, чтобы легче было…
Песок делал свое дело медленно, но беспощадно.
Федя понял, со всем ужасом этого создания, что он обречен гибели, что никто уже не спасет его. О! зачем не убили его поляки, зачем, наконец, он сам отбросил от себя кинжал, вместо того, чтобы заколоться. Самая мучительная смерть, но смерть быстрая, представлялась ему теперь высочайшим блаженством. Что такое минута страданий перед той отвратительной смертью, которая его ожидала. Быть может, пройдут еще целые часы, прежде чем песок его окончательно задушит. Он будет стоять здесь, в этой холодной, густой могиле, будет стоять здоровый, сильный, зная, что никакая сила не спасет его.
На него стало находить оцепенение. Мысли одна за другой, сбиваясь и переплетаясь, роились в голове его. Он слышал, как колотилось его сердце, как кровь стучала в висках. Его горло пересохло от отчаянного крика и томившей его жажды. В глазах мутилось.
Вот мысли стали обрываться, наплывали грезы, проносились отрывки воспоминаний. Вспоминались Сорочи – красивое богатое поместье князя Сангушки, в котором Федя провел все свое детство. Он рано лишился родителей, принадлежавших к шляхетскому и далеко не бедному роду. Старый Сангушко был крестным отцом и опекуном Феди. Он взял его к себе в замок и обращался с ним, как с сыном. И Федя любил его, но больше всех на свете любил он молодого князя Дмитрия Андреевича. Это было какое-то обожание. Ему казалось, что в князе соединились все доблести человеческие. Подражать ему во всем, заслужить его внимание и ласку, было для Феди высочайшим счастьем.
Ему вспомнился один летний вечер прошлого года. Он вышел тогда погулять на берег озера. По гладкой поверхности воды тихо качалась лодка. Князь Дмитрий Андреевич сидел в ней, едва шевеля веслом, погруженный не то в задумчивость, не то в полудремоту. Федя издали глядел на него и думал: «вот он едет мимо меня и не обращает на меня никакого внимания. Он не знает, как я люблю его, да и любовь-то моя ему ни на что не пригодна. Ах, если б сделать что-нибудь такое, чтоб доказать ему эту любовь, чтобы понадобиться ему, спасти его от какой-нибудь опасности. Вот если б поднялась теперь буря – вон ведь какая туча с той стороны заходит – если б князь стал тонуть, я бросился бы в воду и спас бы его»… Так думал Федя, а лодка удалялась от берега. Тишина наступила полная – вода не шелохнется. Становилось душно. Вдруг пронесся ветер, туча, казавшаяся сначала только далекой, темной полоской, стала быстро расти и надвигаться. Не прошло и десяти минут, как сильный вихрь промчался по озеру. Федя в ужасе остановился, ему казалось, что он накликал эту бурю, и должен принять на себя все последствия.
Между тем, князь повернул лодку к берегу и греб изо всех сил. Волны заходили, озеро покрылось пеной. Легкую лодку подбрасывало, как щепку. Вот она уже довольно близко, но ее постоянно относит в сторону, очевидно, князь не может справиться… Федя сбросил кафтан и кинулся в воду. Немалого труда ему стоило бороться с волнами: буря разыгрывалась с каждой минутой. Он смотрел все вперед, на лодку. Она взлетела кверху, потом нырнула, почти стоймя, в воду, сильная волна плеснула, и лодка в одно мгновение опрокинулась. С минуту ничего не было видно – князь не показывался. Потом оказалось, что его ударило в голову краем лодки и ошеломило. Федя был отличный пловец, он напряг все усилия и был возле лодки. Между тем, князь очнулся от удара и, захлебнувшийся, едва сохранявший сознание, показался на поверхности. Федя схватил его и поплыл к берегу…
С тех пор самая тесная дружба завязалась между ним и князем – они стали неразлучны. Даже образ Гальшки, овладевший юношей, не мог изменить его чувства к Дмитрию Андреевичу. В последнее время Федя только тогда и был несколько спокоен, когда мог оказать им какую-нибудь серьезную услугу. И вот теперь – где они, и что с ними? Не удалось даже умереть за них честной смертью храброго воина, а приходится медленно задыхаться здесь, в этом ужасном болоте. И никто даже не передаст им его последнее прощальное слово…
А что там внизу, под ногами? Бедный Федя весь задрожал от ужаса и отвращения… Песок, какая-то полувода, дальше липкая, черная грязь, жидкая и зловонная, – и конца ей нет, и уходит она в самую середину земли… О! какой ужас!..
Снова отчаянный, пронзительный вопль огласил пустынное болото. Федя опять стал биться в песке, ломать руки, кричать и звать на помощь. Он пробовал ложиться, садиться, скакать и выпрямляться – ничто не помогало: песок беззвучно, неопределимо тянул его в бездну… Вот неподалеку, у крайних деревьев показалось несколько всадников. В сердце Феди проснулась надежда. Он закричал изо всех сил и замахал им руками. Они услышали его, они придут к нему на помощь… Они остановились, оглядываются во все стороны.
– Я здесь, здесь, в наносном песке, я гибну, он мне подходит уже под плечи. Спасите, спасите, Христа ради, спасите, добрые люди, не дайте мне погибнуть, сжальтесь надо мною! – кричал Федя.
Всадники его увидели. Они что-то говорят, очевидно, совещаются. Один из них поехал в его сторону. Но конь стал вязнуть… Всадник взял направо, взял налево – везде топко! Он махнул рукой и вернулся назад.
Федя замер от ужаса. Потом горькие, отчаянные слезы полились из глаз его. Он рыдал как безумный, он кричал диким, хриплым голосом.
– О, Боже, Боже! Неужели в вас нет и капли жалости! Неужели вы так и оставите меня околевать как собаку? Братцы, голубчики, родные мои! Помогите, наломайте хоть веток да свяжите их покрепче. Не близко подъезжайте, а только бросьте мне конец этих веток… я ухвачусь за него, авось меня можно будет вытащить…
Но всадники уже не слышали. Они решили, что спасать его, значит, самим погибнуть, и быстро уезжали от страшного, тяжелого зрелища.
Федя задыхался. Он рвал на себе волосы, царапал себе лицо, кричал и визжал в исступлении.
Песок был уже близко. Вот он щекочет ему шею. Несчастный отгребает его руками, корчится, силится прыгнуть. Ноги и все тело поледенели. Как будто гири привешены к ногам, как будто чьи-то тяжелые, холодные руки тянут их вниз…
А солнце все светит, птицы поют, наступает тихий, душистый вечер. Так хорошо, так чудно хорошо там, среди этих деревьев, на сочной траве, где пестреют цветы, где жужжат пчелы… Так чудно хорошо на свете, так сладка жизнь со всеми своими радостями, со всем своим горем. Феде безумно, отчаянно захотелось жизни – хоть день один, хоть час один… Только бы еще пожить, еще посмотреть на солнце…
Песок уже у рта, несчастный запрокинул голову… лицо посинело, глаза, широко открытые, выражают безумство и ужас. Он ревет, как зверь, он в кровь искусал себе губы и руки… Песок посыпался в рот и задушил крик. Вот и глаза исчезли. Виден только лоб… волосы стоят дыбом. Еще две, три минуты – и ничего не видно. Из глади песка вырвалась рука с искривленными пальцами, но и она бессильно исчезла…
Все тихо… только птицы-рыболовки с жалобным писком кружатся над страшной могилой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В конце шестидесятых годов XVI столетия столица Литвы, Вильна, была одним из знаменитейших городов в Европе. Ее население превышало двести тысяч. Кроме того, сюда стекались люди со всех краев Литовского великого княжества.
Расположенный в красивой местности, широко раскинувшийся город представлял самую оживленную и пеструю картину. Роскошные замки вельмож, дома богатой шляхты и горожан просвечивали сквозь листву садов, освежавших городской воздух. По праздничным дням разноплеменное население стекалось в многочисленные церкви, соборы, костелы, кирки, мечети и синагоги. Богатые рынки кипели движением и торговлей.
Хорошо и мирно жилось в Вильне – как будто какая-то благодетельная рука удалила отсюда все смуты и страсти, все религиозные волнения и вражду, бушевавшие в то время во всех центрах Европы. Пришелец с запада, навидавшийся всяких ужасов, поражался неожиданной картиной: русские, поляки, литвины, греки, армяне, татары, евреи и немцы, представители самых различных вероисповеданий, не питали друг к другу никакой вражды: не ссорились, жили дружно и спокойно предавались своим занятиям. Всех соединяла самая широкая веротерпимость. Город процветал и богател с каждым годом. Мирные жители ниоткуда не ждали себе напасти. Только однажды, именно осенью 1569 года, они были встревожены слухом о том, что в город должны въехать отцы-иезуиты, о которых составилось в народе самое ужасное представление. Этот слух не замедлил подтвердиться. Действительно, эпископ виленский, Валериан Проташкевич-Сушковский, просил прислать ему надежных помощников в деле распространения и утверждения шатающегося католицизма. Иезуиты, уже давно наметившие Вильну, поспешили откликнуться на этот зов. Пять избранных отцов известили епископа о своем приезде. Проташкевич, видя народное настроение, побоялся допустить их въезд открыто, и они пробрались в город тайно, в темный ненастный осенний вечер, в епископской карете, посланной к ним навстречу с надежным конвоем.
Жители Вильны только через несколько дней узнали о пребывании в их городе новых гостей и пришли в крайнее смущение – нельзя же было силою, без всяких достаточных улик, выгнать их из епископского замка, где они поселились на первое время. Положено было тщательно следить за ними и при первом же незаконном их действии настоятельно требовать их удаления. Но иезуиты отлично понимали свое положение. Они почти никогда не показывались на улицах, а если выходили, то поражали своим необычайным смирением и скромностью.
Вильна снова успокоилась и перестала обращать на них внимание. Черт оказался не так страшен, как его малюют…
Тогда по одиночке, так же тихо и незаметно, стали являться новые отцы с удивительными комплиментами епископу, с хитро подготовленными, красноречивыми фразами, от которых Проташкевич проливал слезы умиления. Скоро для отцов-иезуитов был приготовлен заранее купленный епископом дом напротив его собственного замка. Дом был большой и вполне удобный для устройства в нем коллегиума. Тут же, через улицу, находилось два других прекрасных дома с обширными плацами. И эти дома купил для иезуитов растроганный епископ. Здесь должна была произойти в скором времени закладка иезуитского костела. На содержание отцов Проташкевич обязался ежегодно выдавать 2 000 коп литовских грошей и обеспечил эту сумму одним из своих имений. На устройство школы он подарил несколько деревень, так что сразу можно было содержать сорок воспитанников. Кроме того, для ловли рыбы в постное время все тот же благодетельный епископ пожертвовал иезуитам большое и прекрасное озеро Рыконты.
Скоро и многие частные лица последовали примеру Проташкевича, и месяца через четыре у первых виленских иезуитов оказались богатейшие имения с весьма внушительною цифрою доходов.
Отцы не дремали – они сразу выказали удивительную, всестороннюю деятельность. Для управления коллегиумом приехал Станислав Варшевицкий, человек замечательный по уму, энергии и учености. Еще недавно Варшевицкий был посланником Сигизмунда-Августа в Турции, потом, в должности королевского секретаря, он пользовался при дворе огромным влиянием и был любимцем сестры короля, Анны Ягеллонки, будущей жены Стефана Батория. Но он не удовольствовался своим блестящим положением, он жаждал другой деятельности. Три года тому назад он отказался от всех своих должностей и званий, явился в Рим и поступил в иезуиты. Здесь его оценили, и генерал ордена, помимо всех долгосрочных испытаний, сразу сделал его профессором. Варшевицкий начертал превосходный план для виленского коллегиума и быстро принялся приводить его в исполнение.
Меньше чем в год коллегиум был готов, и происходило его торжественное открытие. Знаменитый иезуит Магиус, провинциал австрийских и польских иезуитов, приехал благословить начинавшееся дело. В день открытия епископ Проташкевич был встречен отцами торжественною речью. Роскошная обстановка, смирение и ученость наставников поразили не только епископа, но и весь капитул, духовенство и многочисленных приглашенных. Все видели в этом открывающемся коллегиуме восходящую звезду литовского просвещения, некоторые из присутствовавших тут же решились отдать своих сыновей иезуитам. Провозглашенный ректором коллегиума Варшевицкий был именно таким наставником, о котором только и могло мечтать чадолюбивое литовское шляхетство.
Между тем остальные отцы-иезуиты делали все, чтобы заслужить любовь обитателей Вильны. В это время над городом разразилось страшное бедствие. Неурожай и голод последнего года породили моровую язву (чуму – Д.Т.). Народ в огромном количестве погибал от ужасной болезни. В городе царило всеобщее уныние и паника. Кто мог – бежал, запирая свой дом и покидая почти все имущество. Скоро уехал епископ с капитулом, за ним потянулось и остальное духовенство. Дошло до того, что некому было совершать богослужения, отпевать и хоронить мертвых. Одни только иезуиты были все налицо. Они ходили по улицам с крестом, евангелием и Святыми Дарами, входили в дома, лечили и утешали больных, помогали бедным, исповедывали и приобщали, некоторые из них погибли от заразы во время исполнения священных обязанностей у одра умиравших. Такие поступки, такое удивительное самоотвержение не могли не подействовать на народ. Его подозрительность и ненависть, покуда ни на чем не основанные, исчезли и уступили место полному уважению. Немало православных людей, получивших от них денежную помощь и духовное утешение, спасшись от моровой язвы, перешли в католицизм и сделались их ревностными учениками. Только немногие продолжали относиться к ним с недоверием.
Когда ужасное бедствие и народная паника миновали, когда город снова зажил своей здоровой и деятельной жизнью, иезуиты очутились совершенно в новом положении. Они уже не скрывались, не избегали народа; они мало-помалу начинали явно проповедывать на площадях, устраивали торжественные процессии, поражавшие и увлекавшие воображение. Иезуитские средства для достижения своих целей прежде всего были: школа, исповедь, проповедь, обрядность и приобретение денег и имений. Из этих средств обрядность приносила им великую пользу. Никогда еще виленские жители не видали такого блестящего богослужения, как в иезуитском костеле. Роскошное убранство храма, драгоценные ризы и утварь, чудные иконы, выписанные из Италии, торжественная музыка, благоухание фимиама, поразительная, вдохновенная речь проповедника – все это доводило присутствовавших до самозабвения и религиозного восторга.
В первое время действия иезуитов, главным образом, были направлены против реформатов. Для успешнейшего достижения цели отцы вздумали даже давать нечто вроде представлений, собиравших толпу праздного люда…
Перед нами один из населеннейших кварталов Вильны. Весь рынок запружен всевозможными сельскими продуктами, привезенными из ближних деревень. Солидные литвины, закусывая свои длинные усы, медленно прохаживаются по рядам и прицениваются к предметам, необходимым для домашнего обихода. Женщины льнуть под навесы, где черномазые греки и армяне разложили свои пестрые товары и различные сласти. Юркие, быстроглазые евреи с длинными пейсами и в ермолках шныряют между народом, треща на своем жаргоне, прищелкивая и похлопывая себя по полам длинных, засаленных кафтанов. Они носятся с какою-то дрянью, которую в конце концов им все же удается продать за возмутительно высокую цену. Несчастный покупщик, оглушенный градом уверений, россказней и отчаянных клятв с биением себя в грудь и подниманием глаз к небу, только тогда приходит в себя, когда негодная вещь уже у него в руках и за нее заплачены бешеные деньги. Он понять не может, где был его разум, где были глаза, когда он покупал эту дрянь и платил за нее такую цену. Но дело уже сделано – еврей позвякивает полученными деньгами и теперь его можно исколотить, оплевать, вырвать все его пейсы и бороду, но денег он уже не вернет ни за что в мире.
В крайнем случае он возьмет их в рот, он готов проглотить их с явной опасностью для своей жизни; он клянется Богом и всеми своими чадами и домочадцами, призывает на себя самые невероятные и неслыханные бедствия в доказательство того, что проданная вещь – перл создания и что он продал ее себе в убыток. Легкомысленному покупщику остается только плюнуть и крепкою бранью отвести себе душу…
Вот приезжие немцы собрались в небольшую кучку. На них широкополые шляпы с перьями, кургузые темные куртки, перехваченные толстым кожаным ремнем, в который зашита казна и из-за которого выглядывает оружие. На ногах крепкие башмаки и длинные чулки в обтяжку. Они лопочут между собою на непонятном для толпы диалекте. Они посматривают кругом себя с видом превосходства и даже презрения; но обращаясь к кому-нибудь, выказывают большую любезность. Несмотря на то, что Вильно прекрасный, живописный город, с большими зданиями новейшей европейской постройки и богатыми церквами, им кажется, что они находятся в совершенно дикой стране, среди дикого люда, едва отличающегося от животных. Но этот люд богат и сговорчив, радушен и хлебосолен, в городе много всякого дела, всякой выгодной работы – и немцы решаются жертвовать собой и наживать деньги. Они хвастаются друг перед другом своими родными городами и блестящим положением, которое там занимали. И в то же время мысли их невольно возвращаются к покинутым на родине семействам, к черной нужде и обидам, от которых они бежали в далекие литовские земли…
Жар безоблачного полдня спал. Длиннее становятся тени от навесов. Оживленнее идет торговля, больше и больше разного люда прибывает на рынок. При входе на площадь в прохладной тени каменной церковной паперти появляется фигура кальвинского сеньора. Этот сеньор как две капли воды похож на иезуитского патера, который прошлое воскресенье говорил проповедь в костеле и отчаянно нападал на учение Кальвина. Теперь же у него все ухватки, все манеры сурового кальвиниста. К нему навстречу сквозь самую густоту толпы пробирается другой иезуит, направо и налево объявляя, что он идет к церкви, чтоб завести спор с кальвинским сеньором и оспорить все его доводы, разъяснить чистоту веры.
Народ, жадный до всяких сцен и бурных прений, отрывается от своих делишек и следует за иезуитом.
Отцы подходят друг к другу и важно раскланиваются.
Разноплеменная толпа, перешептываясь, обступает их со всех сторон и приготовляется слушать.
Иезуиты, отличные лингвисты, уже хорошо познакомились с литовским языком и начинают свой спор на общепонятном наречии. Они относятся друг к другу с видом глубочайшего уважения.
Говорить начинает иезуит непереодетый. Он униженно кланяется мнимому кальвинисту и спрашивает вкрадчивым голосом:
– Пресветлый учитель новейшего богословия! Верите ли вы в предания церкви и св. отцов?
– Веруем, – отвечает сеньор. – А вы, отче, скажите мне где Христос?
– Христос везде, – звучным голосом провозглашает иезуит, набожно крестясь и поднимая взоры к небу. – Везде Христос – и на небе, и на земле, и в алтаре, по Его же слову «сие есть тело Мое».
Кальвинист приводит тексты из св. Писания. Но в устах иезуита на один текст противника появляется пять, шесть текстов, целая фаланга красноречивейших фраз, образов, сравнений, произносимых одушевленным, вдохновенным голосом, с блеском глаз и театральными, эффектными движениями.
С каждою минутою усиливается внимание слушателей. Католики не могут воздержаться от громких возгласов одобрения.
Кальвинисты окружают сеньора и жадно прислушиваются к словам его.
Прение продолжается. Отец-иезуит то как будто начинает уступать противнику, сдается на некоторые его доводы, то вдруг ловко нападет на него и одним словом разбивает его красноречиво запутанное положение. Вот мало-помалу кальвинист как будто утомляется и затихает. Он возражает вяло, заикается, смущается. Он волнуется, и всем очевидно, что он начинает себя чувствовать побежденным. Иезуит уже громко, торжественно нападает и громит его самым неопровержимым образом. Сеньор окончательно не в силах защищаться – он должен молчаливо признавать справедливость доказательств патера, ошибки своего учения и торжество истины в лице католицизма…
В толпе поднимается волнение. В нескольких шагах от патера и сеньора католик горожанин с торжествующей миной наступает на своего соседа кальвиниста. Тот весь побагровел и сверкает глазами. Они силятся перекричать друг друга. Еще минута – и завязывается кулачная потасовка.
– Нет, так нельзя! – с сердцем говорит толстый шляхтич кальвинист, подходя к переодетому сеньором иезуиту. – Спорить так спорить. Этак всякий тебя побьет словами, отче, коли ты сам поддаешься нарочно. Не о том совсем говоришь, о чем нужно, да и слова-то твои словно у неразумной бабы. Этак нельзя, говорю, – этак только срамота на нас и на веру нашу!
– Чего кипятишься, старина! – останавливает расходившегося шляхтича молодой его единоверец. – Это не в церкви, не всерьез… люди так себе, толкуют забавы ради, а ты сейчас в обиду! Отчего же и поспорить отцам – тоже ведь не зазорный спор какой, а все от божественного… Умную речь умно и послушать…
Толстый шляхтич отходит, увлекаемый товарищами, но продолжает ворчать и даже ругаться.
Некоторые от души смеются, глядя на смущенную фигуру и ужимки побежденного сеньора.
Он уже окончательно разбит по всем пунктам и только руками отмахивается от потока красноречия, извергаемого противником.
Толстый шляхтич не в силах больше вытерпеть. Он снова подвигается к спорящим и вдруг бросается с кулаками на сеньора.
Перепуганный сеньор пятится и старается оттолкнуть наступающего шляхтича.
Но тот уже вошел в азарт и себя не помнит. Он замахивается кулаком, и звучная затрещина оглашает воздух.
– Ратуйте! ратуйте! – кричит сеньор. Собравшиеся ребятишки, на радостях подняв целое облако пыли, начинают орать и визжать невыносимо.
Несколько человек схватывают шляхтича за руки, но у него оказываются защитники. Начинается возня и драка. Раздается несколько крупных ругательств, обращенных против иезуитов. Отцы, воспользовавшись суматохой, благоразумно скрываются за церковной оградой.
Долго еще волнуется толпа и не хочет расходиться. Одни смеются, другие наступают друг на друга.
И снова ожесточенная драка, подбитые скулы, изорванное платье,
И нет уже прежней тишины и спокойствия, нет прежней веротерпимости, которою так отличалась и славилась Вильна. Бывало, и еще так недавно, всяк знал свое дело и дружески сводился с соседом. Никто не спрашивал друг друга о вере, никто не спорил и не злобствовал. Всяк шел в свою церковь, молился своему Богу, как понимал Его, но в то же время с уважением, без насмешки, относился к чужой церкви. Правда, под влиянием Радзивиллов и их клевретов совершалось немало переходов из православия и католичества в протестантство; но все это делалось тихо, это было дело совести обращаемых и не возбуждало против них всеобщей ненависти.
Недаром, видно, боялся народ иезуитов, предчувствовал недоброе при их появлении. Пришли эти смиренные служители церкви, солдаты Иисусова, воинства, стали действовать не страхом и трепетом, а добротою, кротостью, наукою и милосердием. Стали для досуга народного, ради умственной пользы устраивать зрелища, примерные споры, а зло ядовитое так сразу и брызнуло во все стороны из всего их добра лицемерного.
Не смущались отцы-иезуиты, что толпа иногда смеялась над ними и даже их била. Они продолжали свои уличные драматические представления и неустанно делали свое дело. Что ж такое, что иные бранились и дрались – зато немало разного люда вслушивалось в их прения и делалось верными сынами католицизма, удобным орудием в руках их благоразумных. Не по дням, а по часам прибывало новообращенной паствы. Заводились широкие сношения, учреждалась деятельная, тайная иезуитская полиция. Таинственной, несокрушимой сетью опутывался человек, поддавшийся иезуитам. Для него уже не было возврата… Время от времени в Вильне стали ходить слухи о пропадавших людях. В водах Вилии находили обезображенных утопленников, сохранивших все следы страшной пытки.
В одном месте между иезуитским костелом, быстро разраставшимся в большой монастырь, и речным берегом по ночам слышались как будто глухие, подземные стоны… Но ни одной явной улики не было против отцов. Народное мнение успокоилось на том, что, мол, мало ли о чем сдуру брешут люди.
II
Так быстро создавшийся вилленский коллегиум помешался в прекрасном здании, устроенном со всеми удобствами. Здесь было собрано все, что только могло благоприятно действовать на воображение, ум и чувства. Громадный транспорт различных предметов прибыл из Италии: большая библиотека, коллекция прекрасных картин и статуй, лаборатория, физический кабинет, музей редкостей – все это обязательно показывалось и разъяснялось многочисленным посетителям коллегиума. Светлые, высокие классные комнаты, столовые и дортуары сулили поступающим ученикам всевозможные удобства и полное довольство. Серьезные, но ласковые лица наставников, их любезное, мягкое обращение сразу располагали к себе и внушали доверие.
Но была и непоказная половина дома, куда не допускались посетители. Там помещались покои самого отца ректора и прочих иезуитов. Все эти покои выходили в сад с заднего фасада здания. Высокие окна с разноцветными стеклами скрывали от непосвященного взора эти уединенные кельи. В них царствовала вечная тишина, говорившая о серьезных научных занятиях, размышлениях и молитве. Однако внутренность монашеских покоев не соответствовала всем этим внешним признакам. Здесь царствовала еще большая роскошь, чем на лицевой стороне дома. Уже прошло то время, когда первые последователи Лойолы считали своим главнейшим долгом умерщвление плоти, строгий пост и даже самоистязания. С тех пор нравы и привычки иезуитов значительно изменились. Человек, прошедший школу испытаний и лишений и торжественно принятый в лоно ордена, получал разрешение на многое такое, что никак не допускалось ни в одном из орденов монашеских. Иезуиты отлично поняли, что успех их дела не в посте и молитве, не в чистоте жизни, а в одном лицемерии. Монахи только по имени, они были искуснейшими дипломатами и администраторами, могущественной политической силой, охранявшей престол римского первосвященника. Их труды на пользу латинства, их заслуги были действительно так велики, что они считали себя за все это вправе пожить в полное удовольствие. Всюду, где ни устраивались они, сейчас же появлялась роскошь. Они любили хорошо поесть и выпить, держали отличных поваров, а в погребах их хранились лучшие вина. Они могли удовлетворять всем своим прихотям, лишь бы это делалось прилично и без шума. Все допускалось без исключения, не допускался только скандал, явное бесчинство, за которое виновный подвергался строгой каре. Всякая тайна, все, могущее хоть сколько-нибудь компрометировать орден, портить его репутацию, замирало и скрывалось, не выходя из среды иезуитской. Если же находился иезуит, способный выдать орденскую тайну, приподнять пред посторонними завесу внутренней жизни ордена – он немедленно подлежал изгнанию, а в более важных случаях должен был проститься даже с жизнью. Святые отцы никогда не задумывались над убийством, если оно было в видах ордена.
Виленекий коллегиум был окончательно устроен. Все было отлично распределено, одного только недоставало – достаточного количества учеников. Православные и протестанты сначала не пускали туда детей своих. Виленский капитул запрещал и католикам отдавать детей к иезуитам, боясь чтобы не упало его кафедральное училище. Однако Варшевицкий и отцы-наставники не унывали. Они убедительно приглашали всех: присутствовать на их уроках, наглядно доказывали превосходство своего преподавания пред остальными школами, указывали на богатство и удобства коллегиума, проникали в богатые дома иноверцев, неутомимо обращали в латинство. Мало-помалу коллегиум стал наполняться. Принимали всех бесплатно – и богатых и бедных, и знатных и простолюдинов. Только отношение наставников к этим детям было далеко не равное.
Гулко раздался звонок по высоким, просторным комнатам и коридорам коллегиума. Звонок этот возвещал об окончании классов. Десятка три мальчиков от двенадцати до шестнадцатилетнего возраста вышли, сопровождаемые надзирателями, в залу рекреации. Ученики, одетые в черное, красивое и удобное платье, держали себя чинно и не заводили шалостей. Они знали, что в это время обыкновенно коллегиум показывается посетителям и им было строго внушено вести себя примерно. Вечером, по окончании всех занятий, они могли делать что угодно; но теперь, при возможности появления посторонних, они должны выказывать удивительное послушание и скромность. Отцы-наставники заранее приучали детей к лицемерию и быстро достигали своих целей.
На этот раз ректор дал знать надзирателям, чтобы они особенно позаботились о порядке, так как он ожидает посещения одной знатной и очень богатой женщины, которая уже много пожертвовала в пользу иезуитов и от которой ожидаются еще более крупные пожертвования.
Мальчики ходили парами по огромному залу и тихо разговаривали. Трое из них под наблюдением учителя в соседней комнате собирались делать копию с только что привезенной из Италии картины, изображавшей св. Семейство.
Массивные двери, ведшие в залу, растворились и вошел Варшевицкий в сопровождении двух женщин и высокого, бледного иезуита, не принадлежавшего к коллегиуму. Одна из посетительниц была уже не молода, но сохранила еще следы красоты. Что-то порывистое, экзальтированное замечалось в ее движениях. Это была княгиня Беата Острожская. За нею следовала Гальшка. Кто не видал красавицы в продолжение двух лет, непременно должен был поразиться происшедшей в ней перемене. Куда девалась ее свежая юность, ее веселая детская улыбка?! В девятнадцать лет она казалась старше своего возраста; на бледных матовых щеках лежала тень неизменной, сосредоточенной грусти, даже страдания. Глаза стали как будто еще больше, еще глубже. Она безучастно останавливала загадочный, ушедший в себя взор на окружающих предметах. Очевидно, ничто не интересовало ее, ничто не нарушало печальную нить ее мыслей. Она похудела и как бы выросла. Но вся эта перемена нисколько не уменьшала красоты Гальшки; напротив, красота ее получила теперь еще высшее, поразительное обаяние. Это была красота не ребенка, не ангела, а женщины, много страдавшей и пережившей.
В долгие бессонные ночи до сих пор все грезилась Гальшке страшная сцена в густоте леса. Как сейчас, раздавались в ушах ее стоны раненых, звук мечей, дикие крики. У самых глаз своих видела она лезвие оружия, постоянно направляемого Зборовским в грудь ее любимого мужа, который, крепко обняв ее, ожесточенно защищался. Не могла забыть она его искаженного ужасом лица, его тщетных усилий или убить противника, или как-нибудь от него отвязаться. Что-то ужасное творилось тогда с нею – потом она понять не могла, как не умерла в те минуты, как не сошла с ума… А дальше?! Воспоминания становились все страшнее и невыносимее: она закрыла глаза, чтобы ничего не видать больше, она кричала, сама себя не помня, но никто не являлся на помощь. И вдруг обнимавшая ее рука князя как будто дрогнула и ослабела. Горячая кровь брызнула ей в лицо… Она взглянула – князь выпустил ее и, покачнувшись на седле, готов был упасть. Вся голова его была в крови… Он падал. Она хотела к нему кинуться, хотела убить себя его кинжалом; но уже чьи-то сильные, будто железные руки, обвились вокруг ее стана. Ее схватили… она кричала и билась, хотела задушить себя собственными руками. Ей осторожно, но крепко связали руки. Дальше она уж ничего не помнила…
В ближайшем городе Зборовского дожидались княгиня и Антонио. Гальшка не узнавала матери. Она бредила и стонала. Ее болезнь продолжалась мучительно долго. Выписанный из Кракова медик-немец только пожимал плечами. Всякий день ожидали смерти. Княгиня дни и ночи не отходила от постели больной, плакала и молилась. Она просила у Бога выздоровления дочери; но ни разу не созналась себе самой, ни на минуту не поняла, что сама причиной всего несчастья. Она призывала Антонио, требовала, чтоб он умолил Бога спасти Гальшку, чтоб он утешил, успокоил ее разрывающееся от горя сердце. Но Антонио не мог найти слов утешения. По целым часам сидел он молча, с бледным и страшным лицом, и не отрываясь смотрел на мечущуюся, стонавшую и бредившую Гальшку.
Она все говорила, отрывисто и задыхаясь, о черном, страшном, бесконечном лесе, о деревьях с косматыми, длинными руками. Ей казалось, что железные когти вырастают на руках этих. Страшные руки тянутся к ней со всех сторон, острые когти впиваются в ее тело…
Она вскакивала, дико озираясь широко раскрытыми, неестественно блестевшими глазами.
– Кровь! Кровь! – кричала она. – Вот здесь, здесь, у меня на лице! Это его кровь? Что они с ним сделали? где он, где он? Пустите меня к нему! отдайте мне его, дайте мне умереть, с ним!..
Но иногда ее горящее, осунувшееся лицо вдруг преображалось. Выражение ужаса и отчаяния сменялось радостью. Сухие, запекшиеся губы счастливо улыбались. Она глядела пристально перед собою и протягивала вперед свои тонкие, обессилившие руки.
– Это ты?! ты! – шептала она сладким, ласкающим шепотом. – Тебя не убили, ты жив… я знаю, что ты жив, что ты придешь ко мне… Зачем ты не приходил так долго? Зачем ты так долго оставлял меня одну, в этом ужасном, ледяном лесу, с этими страшными мертвецами?! О, если бы ты знал, как они отвратительны… Вот, посмотри, посмотри, вот этот все на меня смотрит, все смотрит прямо в мое сердце… какие у него глаза! И знаешь ли – он не мертвец, он дьявол!.. Спаси меня от него, убей его, а то он скоро загрызет меня до смерти!..
Она с ужасом впивалась глазами в Антонио, закрывала лицо руками и, изнеможенная, упадала на подушки.
Княгиня рыдала и молилась, Антонио опускал глаза. Его пальцы судорожно сжимались и разжимались. Капли холодного пота выступали на лбу его.
Гальшка снова силилась приподняться, снова манила к себе кого-то. Снова раздавался ее слабый шепот:
– Милый мой, милый! Ведь уж теперь ты не уйдешь от меня? Ведь уж теперь все кончено и мы навеки с тобою! Что это такое было? Скажи мне, что сон! О, как во сне мне было тяжело и душно, как было страшно! Мне казалось, что тебя нет со мною, что тебя убили!.. Но теперь все прошло… пойдем в сад – знаешь мою любимую яблоню – я покажу тебе, как быстро на ней растут яблоки, они уж и теперь больше самого крупного ореха. Федя говорил, что это очень вкусные яблоки – сладкие и с янтарным наливом… Федя добрый, славный мальчик, только отчего он все так печально на меня смотрит? Верно, у него есть какое горе – спросил бы ты его, он тебе скажет…
Митя, голубчик мой, как мне хорошо с тобой… одно меня мучит – матушка. Но неужели она так и не простит меня?! Нет, простит, простит – не может быть, чтоб она была такая злая, – ведь я не виновата, что всей моей душою люблю тебя, что жизнь мне без тебя хуже самой смерти… А знаешь что? – Я видела нынче во сне отца Антонио, и будто он такой бледный, бледный и страшный, еще страшнее чем на самом деле. Будто он подходит ко мне, а глаза у него горят как огонь, и будто говорит, что мать моя отдала ему мою душу, что он не монах, а сам дьявол…
Антонио не может вынести. Он поднимается и шатаясь выходит из комнаты…
Наконец, здоровый организм Гальшки справился с болезнью. Внутренний жар, паливший ее, уменьшился, бред прошел. Больная пришла в себя. Сначала она ничего не помнила из происшедшего с нею; но когда сознание окончательно вернулось, положение ее сделалось опаснее, чем в страшные минуты горячки. Невозможно изобразить того горя, которое охватило бедную Гальшку. Она была окончательно подавлена тяжестью своей потери. Она не проклинала своих врагов, из которых первым была ее родная мать. Она не выказывала ненависти к княгине Беате, но относилась к ней совершенно безучастно. По целым дням она молчала и лежала, не шевелясь, слабая и изнуренная. Ее едва можно было уговорить принимать пищу. Выздоровление подвигалось медленно; но когда она уже стала ходить, первой ее мыслью было умолять мать пустить ее к дяде Константину. Княгиня и слышать не хотела об этом. Напротив, она и Антонио употребили все старания, чтобы предотвратить всякую возможность сношении Гальшки с Острогом. Князь Константин ездил в Краков и требовал возврата в Острог племянницы, основываясь на завещании князя Ильи и на православии Гальшки. Красноречивый Чарыковский, по поручению короля, доказал ему незаконность его требований. В городе ходили слухи, что князь вышел из себя и даже ударил Чарыковского.
Как бы то ни было, верно одно, что он уехал из Кракова с большими неприятностями и ничего не добившись. Княгиня, очевидно, успела привлечь на свою сторону и всю партию Радзивиллов, всегда враждовавших с Острожским, и влиятельных фавориток Сигизмунда-Августа. Такое неприятельское войско было не по силам князя Константина. Он был герой в открытом бою, но не был в состоянии интригой победить интригу. Он пробовал посылать своих людей разыскивать место битвы, приказал им во что бы то ни стало найти труп князя Сангушки, чтоб предать его честному погребению. Одни из этих людей пропали без вести, другие вернулись и объявили, что в глухом лесу, среди болот, напали на множество разлагавшихся трупов. Задыхаясь от смрада, эти люди обошли всех мертвецов, но князя Сангушки не было между ними. А его легко было бы отличить по многим признакам.
Это известие подало князю слабую надежду. А что, если Сангушко жив, что, если он спасся каким-нибудь образом, находится где-нибудь в безопасном месте и вот-вот явится?.. Правда, декрет Captivationis был в своей силе, но только бы явился Дмитрий Андреевич, только бы жив он был – тогда еще можно многое сделать! Князь Константин сам поехал к Гальшке, чтобы внушить и ей свою надежду; но Беата заперлась и наотрез отказалась принять его. Он бы не задумался, пожалуй, и силой увидаться с племянницей, да к нему выбежала вся в слезах панна Зося и рассказала о том, что княжна все еще без памяти (Гальшку все продолжали называть княжной). Старик Острожский не решился шумом тревожить больную и уехал, оставив Зосе записку, которую просил ее тайно и осторожно передать Гальшке, когда она будет поправляться. Молодая полька, любившая Гальшку, исполнила эту просьбу. Записка князя Константина была единственным светлым проблеском в невыносимой жизни Гальшки. Теперь она знала, что добрый дядя не забыл ее, заботится о ней по-прежнему; она создала себе целый мир мечтаний, основанный на возможности возвращения ее дорогого мужа. Она только хотела скорее увидеться с дядей, выплакать перед ним свое горе… Но это свидание было невозможно. Княгиня, Антонио и все в доме по пятам следили за нею. Только одна надежда и оставалась на Зосю. Гальшка передала ей письмо к князю Константину, прося ее уговорить кого-нибудь отвезти его в Острог. Зося через два дня таинственно и с сожалением объявила ей, что исполнить ее поручения невозможно, так как князь уехал воевать с турками. Бедная Гальшка и не заметила, что Зося краснела и потупляла глаза, говоря это.
Это уже было в то время, когда княгиня Беата со всем домом переселилась в Вильну. Скоро явился сюда и пан Зборовский за получением награды, т. е. обещанной ему руки Гальшки. Княгиня даже и не сказала об этом дочери. Она любезно приняла жениха и объявила ему, что, к несчастью, Гальшка не может быть его женою. Она все еще не поправилась, но, главное, не может даже и слышать имени Зборовского, клянется наложить на себя руки, если ее станут принуждать выходить за него замуж. Княгиня не в силах неволить дочь, да и вряд ли сам пан Зборовский захочет иметь жену, которая его ненавидит. Храбрый воин объявил на это, что ему нет никакого дела до ненависти Гальшки – он убил Сангушку, доставил княжну матери и требует исполнения условия. Тогда Беата несколько изменила тон и сказала, что в таком случае он может жаловаться королю, а дочери она ему и не покажет. Зборовский понял, что пойман в ловушку, и уехал, разражаясь проклятиями и клянясь местью Беате.
Гальшка никому не показывалась, да мать и не неволила ее к этому. Она понимала, что теперь нужна осторожность, что только время исцелит Гальшку. Она никогда не позволила себе ни одного намека на прошлое и упорно не признавала дочь княгиней Сангушко. Этого имени никто никогда не слыхал в доме.
Была княжна Острожская, которую похитили было какие-то разбойники и которая теперь едва-едва поправлялась от тяжкой болезни. И все бережно обращались с княжной, старались ничем ее не тревожить.
И жила красавица Гальшка жизнью затворницы, подолгу молясь и от молитвы переходя в мир своих грез, где только и была ее отрада. Она внутренне как-то все больше и больше начинала веровать в то, что князь Дмитрий Андреевич жив, что, в конце концов, он приедет за нею и спасет ее от ее лютого горя. Такая уверенность иногда доводила ее даже до оживления. Но проходила светлая минута и снова весь мир покрывался мраком. Оставалась одна молитва. И Гальшка молилась горячо и спасала себя этой молитвой.
А между тем время шло; проходили недели, месяцы. Прошел год, начался другой. Князь Константин как в воду канул: ни письма от него, ни весточки. И спросить-то не у кого – о нем, как и о Сангушке, шепнуть никто не смел в доме. Идет время… и начинает чувствовать Гальшка, что надежды ее и грезы были тщетны – не вернется муж ее любимый, убит он и тлеет под вековыми деревьями Полесья. В душе ее уже нет жгучей боли, ядовитого, разрушающего страдания. Время и молитва спасают ее. Горячая вера в Бога и чтения житий святых отгоняет ее черные мысли, соблазнительные мысли о самоубийстве. Нет, нужно жить, коли Бог не хочет послать смерти, нужно стараться безропотно нести свою долю, несмотря на всю ее тяжесть. И Гальшка живет день за днем. Она не ропщет. Только уж ничто в мире не занимает ее – жизнь потеряла всякое значение. Хотелось бы уйти куда-нибудь подальше, в какой-нибудь уединенный монастырь, где никто и ничто не потревожило бы ее уединения.
Но и это невозможно. Княгиня слышать ничего не хочет. Напротив, с некоторого времени она стала приставать к ней, уговаривая ее бросить замкнутую жизнь. Не век же быть больной, не век от людей прятаться. Вот скоро соберется она в Краков, повезет с собою дочь, представит ее ко двору. И кто знает, какая еще судьба ожидает Гальшку. Княжна Острожская не кто-нибудь – и женихи королевской крови не погнушаются ею. Но если Гальшка не хочет до конца губить мать свою и заслужить ее справедливое проклятие, она должна присоединиться к истинной, римско-католической церкви…
Чаше и чаще заводятся подобные разговоры. Неизменно сопровождающий княгиню отец Антонио изощряет перед Гальшкой весь свой ум, все свое красноречие, чтоб убедить ее в истинах латинства. Он старается постоянно возбудить в ней интересы к религиозному спору и вооружается всеми аргументами своих богословских знаний. В последнее время его тактика изменяется. Он очень ловко доказывает Гальшке, что все ее спасение в католицизме. О, он отлично понимает, как должна страдать она; если бы он тогда мог думать, что она, действительно, любит Сангушку, он, конечно, никогда бы не допустил княгиню жаловаться королю. Но ведь теперь уж дело сделано, прошлого не воротишь. Она никогда не забудет своей утраты, она хочет навсегда удалиться от мира, посвятить себя Богу. Решение естественное и похвальное, и уж, конечно, он может только уважать его. Но ведь она знает, что княгиня никогда не позволит ей уйти в монастырь православный. Может быть, очень плохо, может быть, и даже наверное, мать вздумает ее выдавать замуж, а пользуясь своей властью и выдаст насильно… Так не лучше ли ей перейти в католицизм и обратиться к папе. Он ей поможет. Мать не осмелится запретить ей идти в католический монастырь. Только этим способом она и будет иметь возможность исполнить свое задушевное желание…
Так соблазнял Антонио свою жертву.
Матери Гальшка отвечала слезами. Иезуиту она отвечала негодованием. Она давно уж видела в нем врага, она понимала, что он главнейший виновник ее горя, что княгиня Беата послушное орудие в руках его. Она помнила, как он поднял тревогу в ночь похищения, помнила, как он мчался, рубя направо и налево, как он жаждал сделаться убийцей ее князя. К чему ей его оправдания, его уверения, что он не знал чувств ее, что он думал только о ее спасении. Его присутствие было для нее пыткой, она отшатывалась от него с ужасом и отвращением.
А между тем и он, и мать мучили ее все больше и больше. Беата лишила ее православной церкви, стала почти силой, угрозами и сценами брать ее с собою в костел иезуитский. Вот и теперь ее заставили приехать осматривать этот новый коллегиум, о котором бредили все у них в доме. Зачем это? Как будто ей не все равно, как будто что-нибудь может развлечь ее, показаться интересным…
Гальшка молча следовала за матерью и не слыхала объяснений Варшевицкого. Когда он обращался к ней, почтительно склоняясь и называя ее княжною, она удивленно взглядывала на него и почти не отвечала. Разве ей не все равно, что ее почтут дурой или сумасшедшей, разве есть ей какое дело до мнения людского…
В большом рекреационном зале княгиня остановилась. Варшевицкий представлял ей учеников коллегиума.
Гальшка машинально прошла в соседнюю комнату, где занимались живописью.
В комнате было пусто – учитель и мальчики вышли в зал по зову ректора. Только один из учеников в уголку спешно оканчивал свою работу.
Гальшка подошла к нему. Он поднял свою кудрявую голову и смущенно взглянул на нее светлыми глазами.
Она слабо вскрикнула и отшатнулась в сторону. Ее поразило сходство этого мальчика с князем Дмитрием Андреевичем.
– Кто ты? как зовут тебя? – задыхаясь спросила Гальшка.
– Лев Сапега, – тихо ответил мальчик, краснея и изумленно смотря на эту бледную красавицу, почему-то так его испугавшуюся.
– Сапега! – повторила Гальшка, И ока вспомнила, что Сапеги были в родстве с Сангушками. Неодолимое чувство влекло ее к мальчику. Она жадно всматривалась в черты его лица, ища в нем намеков на милый образ. Но сходство поражало только сразу, это было простое фамильное сходство.
– Скажи мне, мой милый мальчик, только скажи скорее и тише, не слыхал ли ты чего про князя Дмитрия Андреевича Сангушку?..
Бедная Гальшка вся дрожала, произнося это имя. На глазах ее выступали слезы.
А мальчик, пораженный красотой молодой женщины, спешил исполнить ее желание, то есть заговорил как можно тише и скорее:
– Дмитрий Андреевич? Я его помню… Бедный дядя – он умер, его убили… Он украл себе жену, король рассердился и велел убить его…
– Но может быть… может быть, он жив… никто не говорил тебе, что он жив, что он как-нибудь спасся?!..
– Нет, где ж жив – ведь уж давно его убили… я знаю, что и Сорочи – отличный такой дом и сад, и город – я был там – теперь уже достались другому моему дяде… Да, дядя Дмитрий умер, моя мать по нем панихиды служила – все знают, что он умер… это правда…
Гальшка и сама уж потеряла всякую надежду. В последнее время она даже не мечтала; она знала, что на земле ей не видать своего милого мужа. «Убит! убит! и нет его могилы!» – часто повторяла она в бессонные ночи, тщетно борясь со своей безысходной тоскою. Маленький Сапега не сказал ей ничего нового и неожиданного. Но она еще ни от кого не слыхала такого прямого, решительного слова: «где ж жив – ведь уж давно его убили… все знают, что он умер».
И, видно, до сих пор еще, несмотря на всю ее уверенность, помимо ее воли, помимо ее сознания, жила в ней безумная надежда.
«Все знают – его давно убили»! Она сама себе часто повторяла эта. Но это сказал посторонний, сказал так уверенно, тем грустным спокойным тоном, каким говорят о давнем, почти позабытом покойнике.
Безумная надежда, неизвестно чем жившая и питавшаяся уже больше года, улетела в один миг от одного слова. И только теперь, когда уж воротить ее не было возможности, Гальшка поняла, что значила для нее эта надежда.
Она отчаянно вскрикнула, зашаталась и без чувств упала на пол.
Из зала услышали этот крик. Княгиня, Антонио, Варшевицкнй, иезуиты и ученики бросились в рисовальную комнату.
Гальшка лежала без движения. Маленький Лев Сапега стоял над нею перепуганный, дрожащий, заливаясь слезами.
– Я не знаю, что это! – шептал он сквозь рыдания. – Она только спросила, правда ли, что убит дядя Дмитрий Сангушко. И я сказал, что правда… Ведь это правда, ведь все знают…
Варшевицкий сделал недовольную гримасу. Как мог он так оплошать – он знал все подробности семейной истории Острожских, знал о родстве Сапег с Сангушками. Он должен был все предвидеть, должен был на этот день удалить мальчика. Неприятная история… скандал в коллегиуме… сплетни…
Но вот Гальшка пошевелилась. Он велел всем выйти и скорее увести Сапегу.
III
Холодная, снежная зима стояла над Вильной. Морозная бурая мгла глядела в высокие окна палат княгини Беаты Острожской. По временам доносился откуда-то слабый благовест, далекие отзвуки затихавшего городского шума.
Гальшка сидела одна в своей комнате. Она закрыла тяжелую книгу, которую читала, пока не смерклось, и теперь в долгих, медленно наползавших сумерках отдавалась своей грусти. Она мысленно упрекала себя за то, что вчера в коллегиуме не сумела совладать со своим ужасом… Как бы горько ей ни было, люди не должны знать об этом. Она твердо решилась отныне все хоронить в себе и казаться спокойной при посторонних. Но чего стоит это притворство, эта необходимость, на которой так настаивает княгиня, выходить к приезжающим гостям, говорить с ними, быть любезной. Все люди казались Гальшке такими скучными, такими ненужными. Но скучнее и ненужнее всех были для нее некоторые знатные вельможи, очевидно, искавшие ее благосклонности, желавшие на ней жениться.
Выйти замуж!.. Не только теперь, но когда-либо, за кого бы то ни было – эта мысль представлялась Гальшке самой невероятной бессмыслицей. Она не могла смотреть на брак иначе, как на союз по сердцу, а ее сердце было уже раз навсегда и беззаветно отдано ее князю. Князя погубили, погубили из-за нее, самым страшным, несправедливым образом. И с тех пор ее сердце разбито, и никогда оно не забудет свою потерю, потому что больше этой потери ничего быть не может. А между тем мать все чаще и чаще заговаривает с ней о замужестве. Еще счастье, что все наезжающие в Вильну женихи кажутся ей недостойными Гальшки. Она говорит, что княжна Острожская, обладающая необыкновенной красотой и огромным богатством, должна сделать самую блестящую партию. Она не хочет и знать, что вот уже больше года, как нет никакой княжны Острожской, а есть только безутешная вдова убитого князя Сангушко.
Но главное, чего требует Беата от будущего мужа Гальшки, – это его принадлежности к римско-католической религии. Она ни за что не выдаст дочери ни за православного, ни за лютеранина, ни за кальвиниста.
И все знают решение княгини, да никому не мешает бывать у них в доме, преследовать Гальшку любезностями, мучить ее влюбленными взглядами, прозрачными намеками. Больше всех ее мучают и преследуют два старых, неизменных ухаживателя – князь Слуцкий и граф Гурко. Вот уже год, как от них нет проходу. У Слуцкого огромное богатство и родство с домом Острожских; но он православный. У Гурки связи в Кракове, блестящее положение, но он лютеранин.
Князь Олелькович-Слуцкий добрый, простой и недалекий малый. Гальшка, пожалуй бы, ничего против него не имела, если бы он являлся в дом как родственник. Но он ухаживает, он, очевидно, страстно влюблен, он всякую речь оканчивает вздохом – и Гальшке тошно с ним, невыносимо его слушать. Гурко еще того хуже – что-то фальшивое, что-то злое в нем видно и вдобавок он еще ко всем ее ревнует, будто не видит, что может ревновать только к тяжкому ее горю… А что же впереди? Впереди Краков, двор, опять женихи, шум, невыносимая жизнь, в которой видят такое блаженство все люди. Попадется человек, который покажется подходящим княгине Беате, – и выдадут Гальшку замуж, выдадут насильно, в силу того, что они называют своим правом…
Страшные, черные мысли! И эти мысли стучались долго, долго в голову Гальшки. Эти мысли, с каждым днем все более страшные и томительные, сделали, наконец, свое дело. Гальшка стала доходить до состояния полной апатии, полного безучастия к внешней судьбе своей. Она отказывалась от борьбы, для которой не была создана. Она знала только одно – что никому и ни за что в мире не отдаст своей веры, своего православия и своей горькой, священной памяти о погибшем муже. А затем пусть делают с ней, что хотят, пусть распоряжаются ею. Она даже и на замужество стала смотреть иначе – и в этом заключалась последняя степень ее отчаяния, ее безнадежности. Она думала: ну что ж – если мать непременно хочет по своему распорядиться ею, пусть приходит этот жених, кто бы он ни был, и чем он хуже, тем даже лучше. Она скажет ему, что он берет не ее, не ее сердце, которое безучастно к жизни и радости, которое давно умерло и никогда не воскреснет – он возьмет только бедное, больное тело. И если он будет таким зверем, если мать будет настаивать, прикажет ей венчаться – что ж! она и замуж выйдет… Разве не все равно, Боже! разве не все равно – лишь бы жизнь кончилась скорее…
И она была одна, одна, и некому было ей открыть свою душу, не с кем было поплакать. Все же ей было девятнадцать лет и хоть бессознательно, а искало участия ее сердце. Из всех окружающих только одна Зося к ней ласкалась, выражала свою преданность.
Но Зося какая-то странная девушка – сегодня одна, а завтра совсем другая. То утешает, успокаивает, совсем, кажется, понимает ее, то вдруг начинает давать такие советы, что не лучше отца Антонио.
Зосю, действительно, разобрать было трудно. Сам проницательный иезуит ошибся в ней и последствия были для него горьки. Панна Зося чувствовала себя очень несчастной. Мучительный бес поселился в ней и не давал ей покою. Этот бес – была ее страсть к отцу Антонио. Где бы она ни находилась, что бы она ни делала – прекрасный монах был в ее мыслях и сердце. Не было такой затруднительной задачи, такого даже преступления, на которое бы она не пошла, закрыв глаза, по одному его требованию. Но ее чувство было далеко не бескорыстно – ей нужна была награда, ей нужна была любовь монаха, его ласка. И она решилась, во что бы то ни стало, этого добиться. Оставаясь с ним наедине, приходя к нему исповедоваться во всех грехах своих, она пускала в ход все уловки кокетства.
Но Антонио был закован в броню неуязвимую – нося в душе своей чудный образ Гальшки, весь ушедший в свои мысли, поглощенный своими целями, он не был уже в состоянии отзываться на другие чувства. Хорошенькая Зося, несмотря на все свое кокетство, на всю страсть, только надоедала ему. Она рассчитала очень дурно – ей следовало бы носить маску величайшей неприступности, чистоты и святости. Тогда она, быть может, обратила бы на себя внимание Антонио, расшевелила бы застывшую кровь его. Только то, что представляло ему решительное, могучее сопротивление, чего постигать нужно было с тысячами преград, трудной и запутанной борьбою, – только то и было достойно его внимания. Он давно уж убежал от легких побед, и игра в любовь надоела ему даже прежде, чем он надел платье иезуита.
Но Зося была ему полезна и нужна – все считали ее любимой наперсницей Гальшки. Он выпытывал от нее на исповеди все, что Гальшка ей поверяла. Таким образом он узнал и о доставленном Зосей письме князя Константина. Это обстоятельство указало ему на необходимость несколько измениться в отношении к Зосе. Молодая девушка могла быть очень полезной, но могла принести и большой вред, причинить много затруднений. Следовало забрать ее в руки совершенно, следовало отнять или купить у нее ее привязанность к Гальшке…
И вот отец Антонио начал ласковее глядеть на духовную дочь свою. Выслушивая ее исповедь и благословляя ее, он как будто забывал свою руку на горящей голове ее. Иногда в его глазах она замечала нежность. Обмануть Зосю было нетрудно. Она была вполне уверена, что ее красота и кокетство подействовали, наконец, на сурового монаха. Она не только забыла Гальшку и ее интересы – она забыла весь мир при этом сознании. Немало писем, переданных ей тайно посланными от князя Константина, перешли к Антонио. Кончилось тем, что месяца через три, не получая никакой вести от Гальшки, Острожский понял, что Зося его обманула и прекратил с ней всякие сношения. Между тем Зося все больше и больше сближалась с Гальшкой, уверяла ее в любви своей и испытывала ее мысли. Скоро она стала внушать ей то же, что и отец Антонио. Она красноречиво описывала ей прелести жизни в католических монастырях, уверяла, что скоро сама пойдет в монастырь, что решила это неизменно…
– Уйдем вместе в монастырь, коханая моя княгиня, – сладко говорила Зося, засматривая в глаза Гальшки. – Ведь в русские, православные, тебя все равно не пустят, да у нас и не в пример лучше – а Бог один, и молимся мы ему одинаково… Ну что тебе стоит, золото ты мое ненаглядное, хоть для виду одного перейти в католичество – и матушку свою успокоишь, и желанию твоему найдешь исполнение… Не упрямься, голубка моя, не мучь себя понапрасну…
Гальшка строго приказывала ей замолчать и не заводить подобные речи.
Зося замолкала, но только до первого удобного случая.
Вдруг с ней произошла перемена. Она стала говорить совсем другим тоном. Причина такой перемены заключалась в том, что Зося, наконец, убедилась в холодности к ней Антонио. Он не только не сказал, что любит ее, но даже упорно избегал всякого решительного объяснения. Удивительно скучна и несносна казалась ему эта ластившаяся, нескромная Зося. Он еще не предвидел от нее настолько важной услуги, чтобы решиться на нежные отношения с нею…
Но он жестоко ошибался, несмотря на всю свою хитрость и мудрость. Если б он мог предвидеть то, что скоро приготовит ему Зося, он забыл бы всю свою к ней антипатию, забыл бы свое положение, свои обеты, и был бы у ног ее, и целовал бы ее руки, и клялся бы ей в вечной любви и верности…
Мучительная страсть Зоси, разжигаемая сопротивлением Антонио, достигла своего высшего предела. Если б Антонио полюбил ее, она сделалась бы его рабою, умерла бы по первому его знаку. Но он ее не любит, он ее обманывает, смеется над нею – и в кипевшую страсть стала вливаться дикая ненависть. И Зося под конец сам не знала – обожает ли она или ненавидит Антонио. Когда она замечала его ласковый взгляд, она замирала от блаженства, она рвалась к нему всем существом своим. Но вот светлый луч исчезал с его бледного, таинственного лица: он, может быть, сам того не замечая и не желая, делался рассеян, уходил в свои мысли. От него так и веяло ледяным холодом на трепещущую в волнении Зосю… И отчаянная тоска схватывала ее сердце, порыв ожесточенной ненависти потрясал ее, душила глухая злоба. И вот Зося начинала… начинала понимать, что все это неспроста… Не рассудок, не наблюдения, а инстинкт уязвленного сердца выдал ей тайну отца Антонио. «Он любит Гальшку!» – вдруг открыла Зося и удивилась этому открытию, и все же не задумывалась, сразу в него уверовала…
«Да, иначе и быть не может! А если так, если так – что же делать ей?!» Сотни планов мщения, один другого нелепее и неожиданнее, роились в голове ее. Когда она пришла в себя, то стала видеть яснее. Она без затруднения поняла все, что таил в своих мыслях Антонио. Она поняла, что замужество Гальшки будет для него жесточайшим ударом. Она готова была теперь хоть ценою собственной жизни воскресить Сангушку. Но он умер – и Гальшка должна выйти замуж за кого бы то ни было.
Зося стала пристальнее вглядываться в постоянных посетителей и наметила Гурку. Он, с своей стороны, тоже обратил внимание на молодую девушку.
Решение во что бы то ни стало жениться на Гальшке было принято им неизменно. Ему нужна была очень богатая невеста. До ее любви, равнодушия или даже ненависти к нему, ему не было никакого дела. Но, разумеется, следовало постараться расположить в свою пользу кого-нибудь, кто бы имел влияние на Гальшку. Панна Зося, хитрая, ловкая, сговорчивая и, очевидно, более остальных близкая к неутешной красавице, была совершенно по мыслям Гурки. Он переговорил с нею наедине и сразу убедился в ее согласии действовать в его пользу. Он обещал ей в случае удачи свою неизменную благодарность, роскошную и веселую жизнь в его замке. Но ей вовсе и не нужны были его обещания. Она бы и говорить с ним не стала, если бы не заметила, по многим признакам, его непоколебимую настойчивость завладеть рукой Гальшки. Она думала только о том, как бы отплатить хорошенько иезуиту, насладиться его неудачей, его отчаянием. И вот Зося повела новые разговоры с Гальшкой. Она перестала намекать на монастырь и переход в католичество. Она теперь толковала о том, что самое лютое горе проходит с годами, что в девятнадцать лет нельзя отказываться от жизни, что вся жизнь еще впереди и самое лучшее для «ее золотой княгини» уйти от домашних сцен и утеснений, найти себе доброго, хорошего мужа…
– Мне? Замуж? – воскликнула Гальшка. – Ты не знаешь, что говоришь, Зося!.. Мне идти замуж, когда я без тоски и тошноты не могу смотреть на всех этих женихов постылых?!
– Эх, княгиня моя, княгиня, – ластилась Зося. – Да ведь все равно найдут тебе жениха и не спросят тебя, а силой выдадут. Так уж лучше сама выбери…
Бедная Гальшка плечами только пожимала, удивляясь на Зосю.
А та не унималась.
– Ну, вот, возьмем для примера хоть графа Гурку…
– Гурку?! Да он самый ужасный, самый противный изо всех этих мучителей…
– Не знаю, княгиня, почему он тебе противен, а замечаю одно, что он больше всех тебя любит…
– Оставь это, оставь, Зося… И так – тоска, а ты про графа Гурку…
Так постоянно кончались их разговоры. Зося ничего утешительного не могла передать Гурке. Одно только она видела – это, что на Гальшку все больше и больше находит равнодушие. Она хорошо запомнила, как та один раз безнадежно сказала ей: «Ах, да мне, право, все равно, – пусть делают со мною, что хотят. Ни хуже, ни лучше не будет». Зося советовала Гурке действовать решительно и просить согласия княгини Беаты – если мать прикажет, Гальшка не станет перечить.
Гурко так и сделал.
Зимние сумерки совсем сгустились, когда в комнату Гальшки вошла Зося и объявила, что княгиня поскорей зовет ее к себе, в приемные покои.
– Опять гости, кто такие? – устало спросила Гальшка.
– Только граф Гурко да князь Слуцкий.
Зося была в большом смущении. По раздражительному тону княгини Беаты, которым та ее кликнула и приказала позвать Гальшку, она поняла, что происходит что-нибудь особенное. А она, как нарочно, только что вернулась домой из гостей и даже не успела узнать, кто первый приехал – Гурко или Слуцкий. Не зная обстоятельств, она решилась лучше промолчать теперь, чтоб как-нибудь не испортить дела.
Она только последовала за Гальшкой и остановилась, притаив дыхание, в темном углу соседней комнаты, чтобы все видеть и слышать.
Когда Гальшка вошла к матери, та порывисто ходила по комнате, как она всегда это делала в неприятные минуты. Гурко и Слуцкий сидели тут же. Гурко казался спокойным, он только побледнел немного, и на лице у него была какая-то неприятная, злая мина.
Толстяк Слуцкий не скрывал своего волнения. Он тяжело дышал и свирепо глядел на Гурку.
– Я позвала тебя, – сказала Беата, увидя дочь, – для того, чтобы ты сама решила дело, которое до тебя касается. Эти паны просят у меня твою руку… что ты им ответишь на это?
Княгиня злорадно взглянула на женихов. Она была уверена в ответе дочери. Она знала, что Гальшка станет говорить о том, что вовсе не хочет идти замуж.
Гальшка молчала, едва держась на ногах. Ее сердце ныло. Тоска и скука давили ее. И вдруг она почувствовала, совершенно ясно и решительно, что ей все равно, что бы ни случилось с нею…
– Что же ты ничего не говоришь, Гальшка? – повторила Беата. – Скажи им сама, а то ведь меня считают какой-то тигрицей… Не хочу я, чтоб думали, что я тебя принуждаю или отказываю женихам, которые тебе любы…
Гальшка взглянула своим равнодушным взором на Слуцкого и Гурку и слабо улыбнулась совсем растерянной, полупомешанной улыбкой.
– Мне все равно, – тихо сказала она, – я выйду за того, за кого прикажет матушка.
Беата быстро обернулась.
– А! За кого прикажу! Ну, так я тебе ничего не приказываю… А вас, мои дорогие гости, я не хочу обидеть, – оба вы обладаете такими достоинствами, что мне нельзя выбирать между вами. Ищите же себе других невест – мало ли их здесь, и в Кракове… а я… я всегда рада вас видеть в моем доме.
– Княгиня, это решительное слово? – шипящим голосом спросил Гурко.
– Решительное. Извините меня, паны, мне нездоровится, и я должна вас оставить.
И княгиня, взяв Гальшку за руку, вышла из комнаты.
Женихи поневоле должны были последовать ее примеру. Они и не взглянули друг на друга, только Гурко пропустил вперед пыхтевшего, смущенного Слуцкого, а сам замешкался в комнате. Он поджидал, не пробежит ли Зося.
Она тихонько вышла из своего угла.
– Я все слышала, – прошептала она, – успокойся, граф, еще можно кое-что сделать.
– Что такое можно? – проскрежетал Гурко. – Можно одно: собрать войско и поступить так, как поступил покойный Сангушко. Вряд ли этой безумной бабе удастся и на меня добыть декрет сенатский – в Кракове меня не выдадут…
– Ничего этого не нужно, – все так же тихо шепнула Зося, сверкая глазами. – Не нужно войска, не нужно битвы, без крови и шума достигнешь ты цели… мне кажется, я что-то придумала…
– Что такое? Говори скорее!
– Нет, теперь не скажу: дай срок… все нужно хорошенько обдумать… дня через три, много четыре, я дам тебе знать, а покуда ничего не предпринимай и не выезжай из Вильны.
Гурко хотел допроситься, узнать непременно, в чем дело, но Зося покачала головой и, чутко прислушавшись, скрылась в полутьму пустых комнат.
IV
Рождественский мороз заглянул в Полесье, да так расходился, что даже земля в ином месте вдруг с гулким треском лопалась от его напора. Закутаны вековые деревья в хрустальный иней – и стоят, не шелохнутся. Непробудная мертвая тишь легла повсюду. Короткий день быстро побледнел, нахмурился и расплылся в морозном тумане. На черное небо высыпали звезды и запестрели, замелькали, замигали переливчатым блеском. Только и свету, что от этих звезд далеких да от яркого, густо выпавшего, снега. Перед глазами ходят какие-то красные круги, то удаляясь, то приближаясь. Пробыть одному в этой тиши морозной – покажется, что остановилось время, замерзла жизнь, а соблазнительный, опасный сон так и клонит…
Посреди высокого снега слабо виднеется полоса дороги. Какая-то темная масса быстро движется по ней к раскинувшемуся недалеко селению. Ближе, ближе – вот уже можно распознать несколько широких, самодельных пошевней, запряженных маленькими, лохматыми, но бойкими лошаденками. Вот уж на бледном фоне снега выделяются закутанные фигуры. Визг и смех наполняют ледяное, безжизненное пространство. То святочный поезд молодых крестьянок, отправляющихся повеселиться в соседнюю деревню.
Весело, удивительно весело девушкам; они перекликаются, переговариваются и никак не могут удержаться от безумного, раскатистого хохота, вспоминая, как парни хотели, было, увязаться за ними, навалиться к ним в сани… А они их и давай хлестать заранее приготовленными, спрятанными до поры до времени за пазухой жгутами!.. Инда взвыли парни – жгут не разбирает: хлещет себе по чему попало – лицо попадает, так и по лицу – уж не прогневайся. Теперь девкам своя воля – святки. Наработались, насиделись – довольно. Надо теперь свое взять – досыта нагуляться, досыта натешиться в две святочных недельки.
– Нет, парни, теперь шалишь! – не пустим вас в сани. А хотите, ступайте за нами рысцою на своих на двоих – авось перегоните…
И лихие девушки изо всей мочи погоняют лошадок.
– Аленка! держи правее – не то прямо на тебя так и наеду! – кричит здоровенная, курносая Аниска, стоя в пошевнях и обгоняя передовую тройку.
За Аниской целая куча девушек – штук семь – навалились в пошевни. А посреди них какая-то мужская фигура.
Аниска гаркнула, передернула вожжами, хлестнула своих лошадок и перегнала Аленку.
– Ха, ха, ха! – залилась Аленка и ее спутницы. – Ишь, как жарит, того гляди в сугроб угодит – не вытащишь! А вы бы вот что, девки, вы бы своего дурачка править поставили, все же мужчина…
– Нет, ты дурачка не тронь, дурачка мы не дадим в обиду; мы вот его промеж себя посадили, да укрыли, чтоб тепленько ему было. Что, хорошо тебе, родненький, тепло?..
– Хорошо, тепло, спасибо вам, девушки! – раздался из саней мужской голос.
– А мы вот тебе и песенку споем. Послушай-ка, хорошая песенка, святочная… Запевай-ка, Маруська!..
Маруська была красивая, бледная девушка, известная всему окрестному населению запевала, которая вот уже два года с ума сводила всех парней; но ни за что в мире не хотела покидать своего девичества. Отец даже бил ее за это сначала, да ничего не поделаешь с упрямой девкой, к тому же и одна она у него – других детей нет, старуху тоже похоронил; да и любит он Марусю – по-своему, грубо любит, а крепко.
Маруська подняла голову, блеснула в полумраке своими карими глазами, глянула на звезды небесные, на дурачка, сидевшего рядом с нею, и запела звонким, чистым голосом.
И еще звонче, еще чище понеслась ее песня по морозному воздуху:
За Припятью, за быстрою Леса стоят дремучие, А в тех лесах огни горят, Огни горят великие. Кругом огней все пни стоят, Все пни стоят дубовые; На пнях тех хлопцы-молодцы, Молодки, девки красные Поют колядки-песенки. В средине их старик сидит, Сидит себе, на всех глядит — И сам запел колядочку!..– Вот и ты, мой пригожий, погляди, погляди на нас, да и сам запой тоже колядочку… А то что хорошего – все молчишь, да смотришь так жалостно, ажно жутко становится…
Так говорила красивая Маруська, окончив песню и наклоняясь к своему дурачку-соседу. И откуда только взялся у этой дикарки полесской такой сладкий, ласкающий шепот, такая женственная грация?.. Но дурачок как будто ее и не слышал – он запрокинул голову и, не отрываясь, не мигая, смотрел в высокое небо.
Быстро мчались пошевни, и вот в стороне зачернелась деревня, запахло дымом. Поезд подкатил к одной из казанок-избушек. Она была обширнее и выше остальных. У маленькой двери виднелись люди. Вынесли ярко пылавшую лучину. Громкие веселые голоса и крики приветствовали приезжих.
Девушки выпрыгивали из пошевней, здоровались, смеялись и, перебивая друг друга, рассказывали все о том же, как они отделали парней.
Несколько мужчин взяли вожжи и, отворив ветхие ворота, заводили тройки на обширный двор под соломенные навесы.
– А! И дурачок ваш с вами! Ну, хорошо, что привезли, чего ему со стариками оставаться, пускай и он повеселится на святки, – говорил какой-то молодой голос.
Все стали входить в избу, освещенную несколькими лучинами. Неприглядна была обстановка избы этой. Бедно и печально жилище полесского крестьянина. В наши дни, как и триста лет тому назад, совершенно первобытна эта жизнь, скудны средства… Прошли века, не тронув и не изменив лесного захолустья. Сменился целый ряд поколений, все кругом преобразилось и зажило новой жизнью, а здесь – те же люди, тот же глубокий мрак невежества, диких суеверий, тот же от пращуров сохранившийся быт, те же убогие лачуги. Но, несмотря на всю свою дикость, народ полесский – самый добродушный народ в мире. Он ничего не видал, кроме своей тяжелой доли, совершенно доволен ею и в редкие минуты отдыха предается беззаветному веселью. Он свято хранит все древние обряды и обычаи и никак не может понять того, что эти остатки языческого культа несовместимы с исповедуемым им христианством. Да и христианин-то полешук только по имени. Вся природа кажется ему населенной добрыми и злыми духами. И он отдает себя под покровительство первых: и ведет ожесточенную борьбу с последними. В своем сердце он бессознательно хранит один клад, который красит его тяжелую жизнь. Клад этот – поэзия. Прекрасны полесские песни, и много говорят они душе человека. Они затрагивают лучшие чувства, питают и возбуждают жалость ко всему несчастному, угнетенному, больному.
Именно с этой жалостью и добротою отнеслась молодежь к дурачку, привезенному девушками. Его очень редко видали в этой деревне. Знали только, что он уже второй год живет у отца Маруськи, все больше молчит, не любит показываться на люди. Полно, да уж дурачок ли это? Может, просто какой больной, порченый человек… И откуда он взялся? О том дядя Семенко никому не говорит – просто, мол, подобрал на дороге. Дядя Семенко знахарь, человек зажиточный, хлеба вдоволь, – богаче всех он в деревне. Ему человека прокормить нетрудно, да и дурачок-то, говорят, стал всякую работу исполнять, помогать хозяину.
Ну, вот теперь и посмотрим, что за дурачок такой, может и не дурачок совсем, а так только слава прошла такая. А вдруг, это, прости, Господи, не человек, а лесовик в образе человеческом – ведь и такое бывает! При этой мысли не то, что девки, а даже парни, и те побаивались дурачка и тихонько от него сторонились. Но при внимательном взгляде на него всякий страх проходил, поднималась жалость.
Дурачок был молод и статен. Его красивое, тонкое лицо резко отличалось от типа местного населения. Все девки в один голос говорили, что такого пригожего парня они и во сне не видали. Даже завидовали Маруське, что живет с ним под одним кровом. Не будь он дурачок, наверное, сплели бы целую историю, да и была бы история. Маруська всех парней от себя отгоняет – а девка уж на возрасте. Но нельзя же чего подумать про дурачка, да и Маруську стыдно обидеть. Всякий видит, какой он, – и слова-то от него трудно добиться.
– Ишь, Маруська-то, – скажет кто-нибудь, – словно за малым ребенком, за своим дурачком ходит.
– Известно, жалко небось, ведь тоже человек, да пригожий такой, тихий – как и не пожалеть-то.
И на том успокаивались люди.
Теперь дурачок стоял среди избы и безучастно глядел на всех своими светлыми, грустными глазами. Его грубая, сермяжная одежда была опрятна. Густая русая борода еще больше отличала его от этих полешуков с жидкими, почти белыми бороденками. В лице не замечалось того ужасного, отталкивающего выражения, которое так поражает в настоящих дурачках, в несчастных идиотах от рождения. Только глаза смотрели слишком пристально, слишком странно. Дурачок на задаваемые ему вопросы иногда вовсе ничего не отвечал, иногда ограничивался словом, другим. Но этот краткий ответ всегда показывал, что он все понимает. Только когда его спрашивали, кто он, откуда – с ним делалось что-то странное. Он начинал говорить какие-то несообразности, на каком-то непонятном даже наречии. Иное слово и скажет, как следует, да что в том толку – все равно сообразить ничего не могут добрые люди.
Вот теперь посадили его на лавку, потчуют лепешками, заговаривают с ним. Ответит он: да! нет! – да и замолчит. А лепешки ест исправно. Скучный такой, право… а все же его жалко…
Молодежь начинает затевать гаданья и игры. Подоспели и парни – хохочут, в шутку ругаются.
Только один дурачок не принимает ни в чем участия, молча сидит в углу, да посматривает равнодушными глазами.
Есть тут одна молодка – Настюха. Взял ее недавно себе в жены со стороны откуда-то Павлюк – сын хозяина избы этой. Настюха – «молодица» славная, и пришлась она по сердцу Маруське. Ушли они теперь из большой избы. Настюха ее повела к себе – тут, в двух шагах, Павлюхина избенка. Подобрались они к огню, от холода разведенному, и беседуют обе втихомолку.
– А что я тебя спросить хотела, – говорит молодка. – Скажи ты мне все правду про дурачка вашего: что он за человек, откуда вы его взяли? Спрашивала я, спрашивала, да ни от кого толку не добиться. Право, чудные у вас люди – ни до чего им дела нету – был бы кусок хлеба во рту, а там хоть трава не расти…
– Вот что! – таинственно начала Маруся. – Напрасно его все дурачком кличут – совсем он не дурачок, а думаю я так, что это болесть у него такая. А отчего она ему приключилась – вот послушай… Давно это было уж – позапрошлым летом, в самый Купальный вечер. Мы тогда с нашего островка болотного ходили к реке игры справлять, венки в воду кидали. Как сейчас помню – пропела это я купальную песенку, бросила в воду венок, смотрю, потонет он али поплывет в свою сторону… Вдруг, откуда ни возьмись, наехали ратные люди на конях. Мы перепугались, было, да они ничего нам не сделали, только прогнали нас – так мы и побросали наши костры, игр не кончили… Со страху едва добежали до дому, забились в шалашики, всю ночь глаз не сомкнули. А из лесу под утро гул шел. Должно тут сеча недалеко – бьются, говорили наши.
Прошел день целый – никого не видно, ничего не слышно… И собрался это батька мой под вечер в лес. Чай, знаешь ты – батька-то знахарь – от трясовицы да от колтуна травы такие знает. А растут эти травы в лесу далеко, в одном только месте, и сбирать их надо на закате, на другой вечер после Купалы… Жутко мне было пускать батьку, да он не послушал, говорит: травы все вышли, на весь год запас нужно сделать… И пошел. Жду я, жду – нету батьки. Стала я плакать. Сижу себе и плачу. Вдруг вижу – батька: согнулся весь, а за спиной у него человек. Обмерла я. Ну, думаю, лесовик это вскочил ему на спину… не отпускает…
– О, что ты, родная! Ой, страшно! – не вытерпела Настюха, с ужасом озираясь, будто боясь увидеть лесовика вот тут, сейчас, перед собою.
– Да ты слушай – чего бояться, – слабо улыбнулась Маруся. – Не лесовик то был, а дурачок наш…
Вошел батька тихонько и мне головой замотал: молчи, мол. Свалил он человека, меня подозвал. Уж светать начинало – ночь-то короткая… глянула я – ахти мне! Парень молодой, голова вся, лицо в крови, одежа чудная, алая да мягкая – тоже в крови, изодрана. Сам парень еле дышит, глаз не раскрывает. Приказал мне батька за водой сбегать, да как принесла воды, он уж и раздел парня, зипун свой на него накинул – и грозно так говорит мне: «никому, Маруська, не моги сказывать того, что видела… Одежу я эту спрячу до поры до времени, а как поставлю молодца на ноги, так он нам с тобою большое спасибо скажет». Я и молчала; что соседи спрашивали – у меня один ответ: не знаю.
– Ну, и что же парень?
– Парень лежит да слабо так, жалобно стонет. Батька ему лицо и голову вымыл, кровь стал заговаривать, травы прикладывать. Много ден лежал парень – куска хлеба съесть не мог, только пил все. Умаялась я, его сторожимши. Вот и голова зажила: встал парень на ноги, да дурачком и вышел. Страшен он мне сначала показался: ничего не говорит, только упрется глазами в одно место, да вдруг как захохочет! Ажно мороз по коже подирает… И батька с ним говорить пробовал: бывало сидит, сидит, толкует – нет никакого проку. И сказал мне тогда батька, что это с ним от крови, да от раны в голову такое приключилось… Как ударили, говорит, ему в голову, так у него мысли и спутались… Може, говорит, пройдет, а може и нет – Бог его ведает, только травами поить его надо каждый вечер…
– Ну, и что ж, и ничего, так дураком и остался? – с соболезнованием спросила Настюха.
– Так и остался – чай, сама видела! – горько прошептала Маруся. А уж я ли не ходила за ним, я ли не берегла его… по вечерам травы настаивала – горькие такие травы… Стал он тише, перестал страшно смеяться… Иной раз и слово молвит, и понимает все, что его ни спросишь, а все ж таки порченый, порченый, и о себе ничего не знает – забыл видно все, совсем забыл…
Маруся опустила голову и смигнула набежавшие слезы.
– Да как же звать-то его?
– Кто же его знает – что сам говорит – не разберешь. Мы с батькой Ванюшей его прозвали, а народ дурачком величает – при том он и остался… Теперь, никак уж с осени, кажись, другое стало. Начал он работать, батьке во всем помогать, каждое дело справить умеет, иной раз сам заговорит со мною… Вон вчерась подошел, по голове стал гладить: добренькая ты, говорит, добренькая…
И Маруся вдруг залилась слезами.
– Что ты, что ты – о чем? Чего плачешь? – встрепенулась удивленная Настюша.
– Жалко мне его, жалко; сердце болит на него, бесталанного, глядючи…
– Вестимо, жалко…
– И вот думаю я, думаю, – сквозь слезы продолжала Маруся, – неужто ж этому и конца не будет, неужто так он дурачком навсегда и останется?.. Ведь вот разве мало времени прошло – а все то же! Да хоть бы знать – кто он такой, откуда…
– Я так смекаю – не из тех ли он ратных людей, что к вам тогда в купальную ночь понаехали, – заметила Настюха.
– Это-то верно, что из тех, – и одежа на нем была такая же, как на них, и даже, мне думается, не набольший ли он ихний… Може, кралевич какой – уж больно пригож… А руки-то у него, руки! Как лежал тогда – гляжу я – белые да нежные такие руки, ровно у ребенка. А на шее крест у него большой, золотой, на золотой же толстой нитке… Батька на нем так этот крест и оставил… Кралевич, как есть кралевич!
Маруся замолчала, охваченная своими мыслями о заколдованном королевиче.
– Ишь дела-то, дела какие! – шептала Настюха, глубокомысленно качая головою.
И она стала торопить Марусю в большую избу – после этих рассказов ей не терпелось, хотелось скорее посмотреть на дурачка, взглянуть на его руки. «Може, и впрямь кралевич!» – думала она и начинала чувствовать к дурачку и жалость, и какое-то благоговение.
В большой избе дым стоял коромыслом. Парни и девки, очевидно, помирились и сидели попарно. Хором пели песни и под шумок перешептывались друг с дружкой. Многие девки хоть и не гадали еще в этот вечер, а уж заранее и наверно знали, кто их суженый-ряженый.
Тепло, даже душно было в избе. Ярко горели лучины, рдели румянцем щеки девушек. Только дурачок в своем уголку был бледен и грустен по-прежнему. К нему подсаживались и девки, и парни, заговаривали с ним, угощали его своими незатейливыми лакомствами. Но ничто не выводило его из задумчивости.
Настюха и Маруся были встречены шутками и догадками – тятька – знахарь. А Настюхе не годилось бы – и чего Павлюк смотрит, не учит, как надо, свою бабенку.
Настюха удовлетворила свое желание – рассмотрела дурачка, убедилась в красоте его рук; но заговорить с ним не посмела.
– А дурачок-то твой ведь тебя спрашивал, – сказали Марусе. – Сидел это он, молчал, молчал, да вдруг: Маруся, – говорит, – спой песню!..
Девушка взглянула на своего любимца. Он ничего не слышал – если и были у него какие мысли, то видно они ушли далеко.
Она вошла в кружок и приготовилась петь. Все замолчали. Маруся запела:
Не цветок в лесу душистый Рано увядает, А меня, дивчину, горе, Горе сокрушает. Ясным утром выйдет солнце, Цветик приголубит… А меня, меня, дивчину, Милый мой не любит…Никогда еще не певала так полесская дикарка. Недаром некоторые парни начинали считать ее чаровницей. Ее песня сразу всех заворожила, никто не решился подтянуть ей… Все слушали, не переводя дыхания, боясь пропустить хоть один звук чудной песни. И плакали, плакали звуки, и говорила в них безысходная боль души девичьей…
Чудно хороша была и сама певица. В этой душной, закоптелой избе, среди не особенно красивых, грубоватых лиц, в грязи и бедности, еще более поражало ее вдохновенное лицо, ее глаза – глубокие и темные.
Вдруг дурачок поднялся с своего места и стал жадно слушать. Он тяжело дышал, выражение безжизнености, безучастности, поражавшее в нем, пропало.
Вот кинулся он к Марусе и впился в нее глазами.
– Не то, не то! – прошептали его губы.
V
Что же такое случилось с дурачком? Отчего на него так подействовала песня Маруси? Никогда еще, ни разу во все эти долгие месяцы он не плакал, ни разу не вышел из своей апатии. А тут вдруг волнение, отчаяние, слезы и рыдания!..
Уж, конечно, не полесский знахарь Семенко мог ответить на эти вопросы. И в наши дни, при развитии науки и тончайших, добросовестнейших наблюдениях психиатров, такие вопросы остаются без ответа. Душевная болезнь, поражающая человека, составляет самое изумительное, таинственное явление…
Как бы то ни было, что-то могущественное потрясло дурачка, когда он вслушивался в горькие, страстные звуки; эти рыдания и стоны, раздавшиеся в них, пробудили какое-нибудь далекое, заснувшее воспоминание. Быть может, самое лицо певицы, преображенное силой поэтического вдохновения и душевного порыва, напомнило ему другое лицо, черты которого, едва пронесшись перед ним, должны были вызвать к деятельности его пораженную умственную жизнь и жизнь его сердца.
Он упал и так долго не мог прийти в себя, что Маруся, а за нею и остальные, стали думать, что он уже умер. Всеобщее веселье было нарушено. Маруся плакала, стараясь привести в чувство своего дурачка. Наконец он пошевелился и открыл глаза. Он быстро, жадно стал всматриваться в окружавшие предметы, как будто видел их в первый раз; не узнавал Марусю, не понимал – где он и что с ним такое.
Старики и старухи, призванные на совет молодежью, взглянули на дело очень просто. Они прежде всего выбранили девушек за то, что те привезли с собою порченого. Если дядя Семенко взял его к себе, пусть за ним и смотрит. А тут, чего доброго, случится с ним что-нибудь… Нет, уж лучше подальше от беды, везти его скорее обратно… На том и порешили.
Павлюк заложил пошевни и обещался доставить дурачка к дяде Семенке. Марусю упрашивали остаться, но она и слышать ничего не хотела – живо собралась и тоже уехала. Потужили парни, да нечего делать. Ну и Бог с ней, с этой Маруськой – славная девка и поет, что твой соловей, да больно что-то мудрена, с ней не сговоришься… Аниски да Аленки лучше – эти не отвертываются от парней…
Когда Маруся и Павлюк привезли дурачка, дяди Семенки не было дома – он тоже отправился попировать куда-то по соседству. Павлюк спешил вернуться восвояси. Маруся заперла за ним дверь хатки, развела огонь и подошла к куче соломы, на которую прилег дурачок. Она села с ним рядом, приподняла его голову и положила ее к себе на колени. Он не сопротивлялся. На него нашло как бы забытье, только нервная судорога иногда пробегала по лицу.
Маруся гладила его мягкие волосы; ее грудь высоко поднималась, а из глаз то и дело капали тихие слезы. Она никогда не задумывались над вопросом: дорог он ей, или нет, и как дорог?.. Она просто любила его всею жалостью своего сердца. Теперь, когда его голова лежала у нее на коленях, когда она слышала его горячее дыхание, смотрела на его бледное, прекрасное лицо – ей было и сладко, и больно.
Минуты шли за минутами. Отец не возвращался. Все было тихо в хатке – только трещали зажженные сухие сучья. Маруся вполголоса запела длинную, жалобную песню. Она сама забылась. Она не замечала, как дурачок приподнял голову с ее колен, с каким изумлением смотрел он на нее.
– Кто ты? кто ты? – вдруг спросил он, хватая ее руки.
Она вздрогнула. Она взглянула на него и отшатнулась – перед ней был совсем новый человек. Неуловима была перемена, происшедшая с ним, но она поразила Марусю. Теперь уж никто не назвал бы его дурачком – в его глазах была мысль, был огонь.
– Кто ты? кто ты? – повторил он.
– Ванюша, что с тобой? Разве ты не узнаешь меня, Ванюша? Посмотри хорошенько – ведь я Маруська…
– Маруська!.. Я не знаю Маруськи… Боже мой, да где же я? Скажи мне, где я?.. Что это такое?
– Как где? Дома, дома ты, Ванюша…
– Ты меня называешь Ванюшей… постой, постой…
Он схватил руками свою голову и силился что-то вспомнить. Он ужаснулся тому мраку и туману, который был в его мыслях… Маруська! – да, эта молоденькая крестьянка как будто ему знакома, да, он знает ее грустное, красивое лицо… и эта бедная хата, и все – тоже знакомо… Но отчего она его называет Ванюшей?! Он стал жадно припоминать. В его голову разом стучалось столько мыслей, столько воспоминаний…
И вдруг одно страшное, ужасное воспоминание поглотило все остальные. Его мысли разом прояснились. Он вздрогнул всем телом.
– Гальшка, Гальшка! – крикнул он диким голосом, бросился к двери и почти выбил ее одним ударом.
Клубы морозного пару хлынули на него… ночь непроглядная, снег, зима!
Он попятился в ужасе.
И вот человек, к которому только что вернулся рассудок после долгого сумасшествия и беспамятства, подумал, что он с ума сходит.
Он подбежал к перепуганной, трясущейся, как в лихорадке, Марусе и схватил ее за руку так, что у нее кости затрещали.
– Кто ты, кто ты? – человек или дьявол? Кто ты – ведьма, чаровница проклятая?! Это ты, видно, опоила меня зельем каким, что все у меня в глазах мутится?! Что это? что это? Говори – ведь это зима?!
– Зима! – едва прошептала Маруся.
Он, себя не помня, метался по хате. Он схватился за пояс, хотел выхватить кинжал и убить заколдовавшую его, превратившую лето в зиму ведьму. Кинжала нет… Что это?! При вспышках угасавшего огня он увидел, что на нем надета какая-то грубая, хлопская сермяга…
Еще несколько таких мгновений, и он, может быть, вторично сошел бы с ума… но испуганное, умоляющее, жалкое лицо Маруси утишило его бешенство. Она кинулась перед ним на колени, обливаясь слезами.
– Сядь, родной мой, сядь, успокойся… Что я тебе сделала?! Слыхал ли ты когда от меня дурное слово… разве зиму и лето не ходила я за тобою, как за малым ребенком?! – рыдала и причитала Маруся.
– Зиму и лето! Зиму и лето! – и ему, точно, начинало как будто казаться, что он здесь уже давно. Но ясно он ничего не помнил. Он только невольно как-то отказался от своей мысли, что перед ним ведьма. Он знал уже теперь почему-то, что эта девушка близка ему, но только никак не мог понять, не мог вспомнить, кто она и почему он с нею.
– Когда я пришел сюда, что со мной было? Расскажи мне все – я ничего не помню…
Маруся сразу и понять не могла, что дурачок, действительно, пришел в себя. Она видела только, что с ним делается что-то страшное… Он чуть не убил ее, бранить стал; но вот теперь утих и задает такие удивительные вопросы. И она принялась ему рассказывать, как ее отец принес его, раненного в голову, как он был болен, а она за ним ходила…
– Да когда ж это было?..
Услышав ее ответ, несчастный застонал в невыразимом отчаянии. Его ноги подкосились, и он почти упал на солому.
«Боже мой! Боже мой! – думал он, – за что Ты так наказал меня? Полтора года я был, значит, как во сне, и вышло из моей памяти все, что было за это время. Полтора года прошло с тех пор, как мы бились в лесу, как у меня отняли мою Гальшку. Что теперь с нею? Жива ли она? Что мне делать?!»
Он стал расспрашивать Марусю о том, что неужели никто не искал его, не спрашивал о нем?.. Нет – никто! Все считают его, значит, убитым, и она – его Гальшка! Куда бежать? Где теперь искать ее?
Он был еще полон своим ужасом и не мог справиться с возникавшими один за другим вопросами, когда в хату вошел дядя Семенко. Добродушный старик в себя не мог прийти от радости, убедившись в чудном исцелении спасенного им человека. Он тотчас же принес ему его платье и оружие, его пояс с зашитой в нем казною.
Он рассказал ему, как напал, бродя по лесу, на место битвы, как осмотрел все трупы…
– Все до одного побывшились – один ты только шевелился, да стонал полегоньку. Поглядел я тебе голову – здорово тебя рубанули, сердешного… Знаю я одну траву такую – всякие порезы, обжоги, как рукой снимает… Вот я и взвалил тебя на плечи, да и до дому с тобой добрался… Думал – поправишься ты через неделю, другую, ан у тебя Господь разум и отнял! Ну, да что теперь толковать об этом…
И старик снова радовался и спрашивал, как по настоящему звать-величать их богоданного Ванюшу.
– Дмитрий Андреевич – вот мое имя, – ответил князь Сангушко.
Он не знал, как и выразить свою благодарность этим людям. Он предложил Семенке всю его казну, зашитую в пояс, просил оставить ему только на дорогу. Но старик упорно отказался от этого. Не из корысти взял он к себе умиравшего воина, не объел тот его, не обездолил – и своего добра довольно; да и куда здесь деваться с деньгами, на что они в глуши полесской, где ничего не покупается и не продается, где живут люди только тем, что дает земля-кормилица. Одежда – так и ту Маруська изо льну да из овечьей шерсти сама мастерит…
Обещал Семенко и коня добыть Дмитрию Андреевичу.
Только куда теперь поедет добрый молодец? Тоска навалилась ему на сердце – и давит, не отпускает. Чай, в лесу теперь только кости белые остались от его храбрых ратников, за него живот свой положивших. Где жена-голубка, ненаглядная красавица? Надругалась, натешилась над нею и мать злодейка, и злодейка кручина… Быть может, и она уж в земле сырой… А старый пестун, Галынский?.. а Федя?! Болело, болело бедное сердце Дмитрия Андреевича, лютая тоска к самому горлу подступала, душила – а слез нет, не вылились они, не выплакались, а камнем тяжелым канули в глубину душевную…
Одна надежда – князь Константин Острожский: к нему теперь ехать – он и правду скажет, и наставит, и поможет.
Заторопился Дмитрий Андреевич, спрашивает дядю Семенко про дорогу к Острогу. А старый знахарь никогда из своего лесу и не выглядывал… Правда, слыхал он от прохожих людей про Острог-город, но этот Острог-город представляется ему чем-то сказочным, далеким.
Как бы там ни было – положил Дмитрий Андреевич на другой день выехать. Он сообразил, что Острог не может быть уж очень далеко отсюда – дня в четыре, в пять, может, и найдет его.
Посмотрел коня – конь неказистый, но крепкий, надежный…
Всю ночь напролет горел огонь в хате знахаря Семенки. Не до сна было ее обитателям. Судьба тесно сблизила этих двух дикарей темных и литовского князя. Для Семенко и Маруси он был все тот же их Ванюша бесталанный, а он в них видел не грязных, презренных холопов, а лучших своих друзей и благодетелей. И хоть никак не мог он припомнить подробностей всего этого времени, когда Господь отнял у него и разум и память, но все же он чувствовал горячую привязанность к старику и девушке. Он даже изумился, как ему вдруг жалко их стало… А они! Семенко был старик, путем долгой жизни и близости к природе выработавший в себе своеобразные философские взгляды и необычайное душевное спокойствие. Раз убедившись в неизбежности чего бы то ни было, он молчаливо и покорно принимал эту неизбежность. Так он отнесся и к отъезду своего Ванюши. Ведь так оно и нужно было, чтобы парень пришел в себя и вернулся восвояси. Так чего же тут кручиниться… вестимо жалко, и свыклись тоже… ну, да ничего не поделаешь с этим, а теперь скорее снаряжать его надо в путь-дорогу.
Не то было с Марусей – она ни о чем не рассуждала. Она знала только, что ее Ванюшка уезжает и навсегда уезжает, что она теперь остается одна-одинешенька. Вот и батьку-старика она любила, и песни свои любила и хатку свою бедную, и ночку морозную, звездную… А теперь вдруг как будто ни батьки, ни песен, ни хатки, ни звезд небесных не стало. Все куда-то пропало – никого и ничего нет. Пусто вокруг Маруси, постыло ей все на свете…
Бледная, бледная, с затуманившимися глазами, сидит она тихонько на пыльной, старой соломе. Глядит она на своего Ванюшу, то бишь Дмитрия Андреевича, и не может от него оторваться.
Запало ей в сердце слово его, которое он крикнул: «Гальшка! Гальшка!» Что такое? Кто такая Гальшка? Неужто он так и уедет, ничего не сказав про себя, не поведав им правды?!
Она решилась спросить его. К ее просьбе присоединился и знахарь. Князь не стал от них таиться. Стараясь говорить как можно проще, яснее для их понимания, он рассказал им свою историю.
Они молча слушали этот рассказ из далекой, неведомой им жизни. Многое так и осталось для них непонятным. Маруся хорошо поняла одно, да и то не рассудком, а сердцем, что только будучи дурачком, он и был ее Ванюшей, а теперь он так же далек от нее, так же высок, как и светлый Купало, живущий на своей заколдованной, вечно зеленой поляне. Но еще лучше поняла она, что у него есть милая жена, которая, должно быть, краше солнца небесного, которая для него дороже всего мира и которую отыскивать он теперь так спешит, что не хочет пропустить и часочка…
Он уедет и забудет Марусю, и никогда о ней не вспомнит… А она как же? Как жить будет без своего пригожего кралевича? И быстро, быстро переживала она в мыслях и в сердце все эти полтора года. И чем больше она думала, тем милее казалось ей прошлое, тем более щемило ей сердце.
Ей хотелось, хоть напоследок, приласкать да приголубить своего любимца; но не смела она этого… Горькие, долго подавляемые слезы полились из глаз ее.
Дмитрий Андреевич печально взглянул на девушку. Он знал теперь, что она была ему заботливой, доброй сестрою, что она ходила за ним, поила, кормила, берегла его во все время его несчастного состояния. И вот она плачет, ей жалко расстаться с ним, она к нему привязалась…
Он попробовал ее успокоить, взял ее руки, заговорил с ней нежно и ласково. Он обещал ей и Семенке, если только Бог поможет ему найти свою жену и побороть вражеские козни, взять их к себе, не разлучаться с ними до смерти. Он говорил о том, как добра и прекрасна его Гальшка, как она полюбит их за то, что они для него сделали.
Старик сидел молча и как-то загадочно, слабо улыбался – видно, он никак не рассчитывал покидать своего леса, в котором родился и где умереть ему следовало.
Маруся тоже слушала рассеянно – не то, чтоб она не верила Дмитрию Андреевичу, но ей просто казалась невозможной эта новая, обещанная им жизнь. Она чувствовала, мучительно чувствовала, что вот он сядет на коня, уедет – и в этот миг все кончится, порвется всякая связь между ними.
И ей хотелось бы, чтоб как можно, как можно дольше тянулось время. А время, как нарочно, шло быстро, и наступил час отъезда.
Сангушко настоял на своем и оставил часть зашитых в поясе денег хозяину. Лошадь нужна в хозяйстве и не даром же добудет ее Семенко.
Забелелось морозное утро – пора было ехать. Маруся приготовила князю на дорогу все, что только было у нее съестного. Семенко снарядил лошадку. Потеплее запахнул Дмитрий Андреевич овчинный тулупчик, прицепил свое оружие. Помолились Богу, стали прощаться…
Не выдержала Маруся – с отчаянным воплем бросилась она на шею своему кралевичу и покрывала его поцелуями, и мочила слезами горькими. Семенко стыдить ее пробовал, да и махнул рукою – сама не в себе Маруся. Под конец силой пришлось оторвать ее от князя. Тогда она упала лицом на солому и вся трепетала от глухих, сдавливаемых рыданий.
Расстроганный, грустный и смущенный сел Дмитрий Андреевич на коня и выехал на лесную дорогу. За ним оставалась темная, бедная жизнь, из которой он невольно унес единственную отраду. Перед ним была такая страшная неизвестность, такая возможность неисходного горя и несчастия, что его сердце заранее содрогалось от ужаса. Но он твердо решился отгонять от себя мучительные мысли и думать теперь только том, как бы не заблудиться, как бы скорее добраться до острога. Указаний, данных Семенком, было достаточно на первое время – верстах в пятидесяти был небольшой городок – там, авось, укажут ему прямую дорогу.
Он ехал на мохнатой лошаденке, в домодельной одежде крестьянина полесского. И никто во всей земле Литовской не ведал, что так едет убитый в кровавой битве и вновь воскресший князь Дмитрий Сангушко. Родовыми его поместьями, всем его огромным состоянием владел его брат двоюродный. Несколько его добрых родственников да друзей-товарищей давно служили по нем панихиды и поминали его в своих молитвах как усопшего.
VI
Уныло и пасмурно глядел Острожский замок – не было уже в нем заметно прежнего оживления. Состояние духа хозяина отражалось на всех многочисленных придворных. Только во время отлучек князя Константина и дышалось привольно жаждавшей удовольствий челяди. Тогда по вечерам в широко разбросанных строениях раздавались звуки музыки; в цветнике и по аллеям виднелись толпы гуляющих, слышался веселый смех, завязывались ссоры, а иногда даже и драки. Но стоило появиться в замке князю Константину, как все это куда-то исчезало, лица у всех вытягивались, все прятались по домам. В обширных палатах и коридорах замка люди молчаливо и неслышно скользили, как тени, и у каждого была только одна забота, как бы не попасться на глаза князю.
А Константин Константинович и не замечал всего этого, не подозревал внушаемого им и довольно неосновательного страха. Он и не думал налагать обета тишины и молчания на свой двор, не думал запрещать веселья. Он только сам не был способен веселиться. Он весь ушел в свои разнообразные заботы, в свои печальные мысли и чувства.
После похищения Гальшки и отъезда княгини Беаты, ему удалось открыть в Остроге многое такое, относительно чего он и не имел никаких подозрений. Некоторые из приближенных, молчавшие, как это всегда бывает, когда еще было время принять меры, вдруг решились и донесли ему, что в замке не совсем благополучно: эта римская вешалка – духовник княгини Беаты понастроил немало каверз. Он сманил в латинство некоторых придворных, а те теперь, в свою очередь, смущают кого могут. И все это подтверждалось самыми очевидными доказательствами и убедительными рассказами…
Князь Константин пришел в ужас. Недаром он с самого начала стал глядеть на Антонио, как на вредного гада. Но как мог он ничего до сих пор не заметить, как мог допустить в своем доме торжество вражеских козней! И нет, значит, у него надежных друзей и помощников, всем лишь бы наживаться на его счет, лишь бы жить в свое удовольствие его милостями, а там хоть трава не расти, никому ни до чего нет дела. Не догляди он, не дослушай, так чего доброго и его самого изведут, в пищу ему подсыплют отраву. А где ж ему одному за всем усмотреть, все предвидеть – ведь только два глаза, две руки только, одна голова на плечах, да и та от забот и черных мыслей к земле клонится. Со всех сторон приходят недобрые вести: рознь, полное равнодушие к вере, к старым литовским нравам и вольностям царствуют в государстве. И приходится князю работать рук не покладая, всеми средствами, и головою, и деньгами поддерживать, оживлять свое заповедное дело. Не работай он, не будь он лично и там и здесь, везде, где нужен его пример, его влияние, его казна неистощимая – так что же от всей Литвы православной останется?! Ведь и так уж всех его трудов и усилий оказывается далеко недостаточно, да иной раз и самым ясным разумом невозможно взвесить всех последствий своих действий… Для примера взять хоть Люблинскую унию: как он для нее работал, сколько надежд возлагал на нее. А вышло совсем не по его мыслям, вышло так, что того гляди, все чаемое благо превратится во зло и ни к чему окажутся все положенные в дело усилия.
Такое сознание тяжелой грустью ложилось на сердце князя Константина. А тут еще в своем собственном доме, в его любимом Остроге, заводятся и торжествуют латинские козни. Нельзя этого терпеть, нужно вырвать зло с корнем! Князь нарядил строгое следствие, сам вел его без отдыха и не успокоился до тех пор, пока не уличил всех совращенных отцом Антонио. Под конец они сами не стали запираться. Они уже находились под влиянием религиозного фанатизма, который постоянно с таким успехом развивает в своих неофитах римская пропаганда. Все эти шляхтичи и шляхтенки вдруг почувствовали величайшее блаженство в сознании, что они гонимы за правую веру, что они мученики…
Немало труда стоило князю Константину воздержаться от гнева, не злоупотреблять своим положением могучего и почти безответственного властелина. Он заперся у себя в покоях на целый день и отдал приказ, чтобы в 24 часа все семейства, значившиеся по его списку, выехали из Острога и остальных княжеских владений. Приказ был немедленно приведен в исполнение – все знали, что князь повторять своих слов не любит.
Но этою бедою не ограничились домашние невзгоды Константина Константиновича. Его ожидало новое, ужасное испытание. Как-то, улучив добрую минуту и взяв с мужа обещание, что он отнесется к словам ее по возможности благоразумно и хладнокровно, добродушная княгиня передала ему некоторые свои опасения. Со слезами на глазах рассказала она о том, что их два старших сына, Януш и Константин, совсем от рук отбились. Они пользуются всяким предлогом и даже решаются явно лгать, чтоб только не ходить в церковь. Если же пойдут, то не молятся как следует, а глядят по сторонам, шепчутся друг с другом и ежеминутно жалуются на усталость. Януш недавно так прямо и говорит ей: «Отчего, – говорит, – отец не прикажет поставить в церкви скамеек и стульев – разве не все равно Богу, что молятся ему стоя или сидя? Человек не может не устать, когда служба наша так долго тянется. А если устанешь, так какая тут молитва на ум придет – только досадно становится. Нет, – говорит, – у католиков не в пример лучше; в их костелах только и можно молиться как следует». Досказав слова Януша, княгиня взглянула на лицо мужа – и сердце у ней упало.
Уж лучше бы она молчала, сама попробовала бы как-нибудь образумить детей…
Князь страшно побледнел. Все черты его исказились от страдания и ужаса.
– Боже! Боже! Только этого еще недоставало! – прошептал он каким-то бессильным, старческим жалким голосом.
Но вдруг кровь ударила ему в голову, залила все лицо его, лоб и шею багровым румянцем. Он поднялся во весь рост и с сжатыми кулаками кинулся к двери.
– Где они, где они, эти щенки негодные?! Дайте мне их сюда, дайте! Я убью их своими руками прежде, чем они уложат меня в могилу! Позор, позор всему нашему роду!..
Он кричал, не помня себя, задыхаясь от бешенства и отчаяния. Он мог вынести и победить в себе все. Но одна мысль о том, что его собственные дети готовятся сделаться отступниками православия, подавляла его и разрывала болью его сердце.
Княгиня, вся в слезах, упала перед ним на колени, вцепилась руками в его платье, не пускала…
– Убей, убей лучше меня! – рыдала она. – Я не могу слышать твоих слов. Подумай, что ты сказал, что ты хочешь сделать! Вспомни, ведь что бы ни было, они еще дети… ведь Янушу всего пятнадцать лет… На них можно подействовать лаской, образумить их… Успокойся, князь, не гневи Бога, не испытывай Его…
Но князь ничего не видел и не понимал. Грубым движением он готов был отбросить жену… Она выпустила его, стремительно бросилась вперед и вся бледная, дрожащая, с остановившимися слезами и решительным, строгим, непривычным ей выражением в глазах, прислонилась к запертым дверям.
– Я не пущу тебя! – сказала она.
– Прочь! – крикнул князь диким голосом.
– Убей меня, но я не пущу тебя! – почти даже спокойно повторила княгиня.
С неестественно расширившимися глазами, весь багровый и страшный, он кинулся было на нее… И остановился… его руки опустились, глаза наполнились слезами…
– Прости меня, прости! – прошептал он, бессильно опускаясь на стоявшую возле парчевую скамейку.
Княгиня подошла к нему и положила ему на плечи свои руки. На ее лице и следа не осталось от недавнего ужаса, отчаяния и сменившей их строгой решимости. Вся она олицетворяла собою любовь и жалость. Она всем сердцем своим понимала, что должен испытывать князь в эти минуты.
А ему было стыдно за свой безумный порыв, ему было совестно поднять глаза на нее. Давящая тоска овладевала им больше и больше.
– Оставь меня одного, – чуть слышно сказал он.
Княгиня припала к нему и поцеловала его седеющую, смоченную холодным потом голову.
– Успокойся, Бог поможет! – нежно и одобрительно сказала она и быстро вышла из комнаты.
Она хорошо знала своего князя: теперь ей уж нечего бояться: его страшный, но минутный гнев прошел, он не сделает ничего жестокого и неблагоразумного. Но все же – как он встретится с детьми, что нм скажет, какие меры примет?..
А князь Константин опустил голову и долго сидел неподвижно. Если б его теперь увидели его враги и сподвижники, все, кто знал его на сеймах, во дворце королевском и в ратном поле – с каким бы изумлением они на него взглянули. Это был не могучий, грозный и гордый вельможа литовский, «великий князь», как звали его в народе. Это был не муж совета с честным, горячим и смелым словом, не сановник, всю жизнь свою не унизившийся до лести, в глаза прямо и резко говоривший королю горькую правду; не бесстрашный военачальник – герой, пример которого возбуждал мужество и отвагу в воинах. Это был жалкий, как-то в один миг опустившийся старик, подавленный страшным горем и сознающий свое бессилие…
Всякий, даже самый посторонний и равнодушный человек, взглянув на него теперь, почувствовал бы к нему сожаление. Не могло быть для него большего несчастия как то, о котором возвестила ему княгиня. Она говорит – Януш и Константин еще дети… Так что же, что дети! – тем хуже, тем хуже, что с этих лет они уже так испорчены, способны на такие мысли… И откуда берется все это? Опять тот же проклятый иезуит?! Но ведь ничего общего не могло быть между ними – он никогда не показывался на эту половину замка, а дети не ходили к Беате. Разумеется, они где-нибудь могли встречаться – мальчики резвы, бегают всюду, нельзя же следить по пятам за ними… Но в таком случае это были тайные сношения… И если ни отец, ни мать, никто из приближенных и приставленных к детям до сих пор ничего не знал об этих сношениях и разговорах, так, значит, мальчики скрывались, прятались… Они должны были прийти к отцу с матерью, ну, наконец, к дядькам и мамкам, что ли, и сказать, что этот монах заговаривает, учит совсем не тому, чему учат родители…
– Боже мой! За что мне такое наказание? – думал князь Константин, – разве я не люблю детей своих, разве я не забочусь об их благе, разве не старался я постоянно внушать им добрые правила, развивать в них благочестие. Разве они видели во мне или в жене дурной пример? – И вспомнились ему те тихие, вечерние часы, когда в присутствии мальчиков, Гальшка читала вслух Евангелие, или Жития Святых, или другие выбранные им книги. Он постоянно прерывал Гальшку и делал разъяснения, и постоянно говорил, приноравливаясь к детскому пониманию. Он всегда и неустанно следил за собою, чтоб при детях не сказать лишнего слова, чтоб не дать им возможности превратно истолковать смысл и истинное значение слов своих. Он был вполне уверен, что и княгиня поступала точно так же… да и может ли она что-нибудь сказать или сделать такое, что было бы для детей дурным примером! О! он не хочет величаться и фарисействовать – он знает и чувствует, что во многом грешен перед Богом, грешен и гневом, и гордостью, и ропотом… Но все же он всю жизнь свою боролся с собою и старался поступать так, чтоб уважать себя и по праву требовать от людей к себе уважения. Никто не может указать детям такой его поступок, за который им краснеть пришлось бы. В этом отношении чиста его совесть… За что же, за что ему такое наказание, за что через детей Бог хочет покарать его?!
И вот откуда-то, с самого дна глубины душевной, почти бессознательно для него и неясно шептал обвиняющий голос: да, он любит детей, он всегда старался заботиться об их благе, он оставит им в наследство, кроме богатства земного, свое ничем незапятнанное имя, громкую память о себе, как о честном, мужественном деятеле, бойце за святое дело… Всего этого много, но все же недостаточно для отца, желающего исполнить относительно детей все свои обязанности. Правда, он подавал им добрый пример, он старался наставлять их словом и говорил перед ними так, что они могли понимать его… Но старался ли он убедиться, произвел или нет его пример на них впечатление, действительно ли, доступно им его слово и горячо ли оно принято? Знал ли он мысли и чувства своих детей, ясна ли была для него их глубина душевная, врожденные особенности их характеров, указывающие на необходимость тех или других средств для того, чтобы влиять на них? Установил ли он с первых лет между собою и детьми то сердечное, откровенное и невольное общение, при котором только и возможно полное понимание друг друга и благотворное влияние старшего на младших?
Ведь вот – объясняя прочитанное, рассуждая о догматах православия, говоря о нравственных обязанностях человека, он хоть и имел в виду присутствие своих мальчиков, но все же преимущественно обращался к Гальшке. Ему необходимо было парализовать влияние Беаты, утвердить племянницу в православии. Он вслушивался в ее вопросы и ответы, следил за ее мыслями. Между ними велась живая, откровенная беседа. Иной раз Гальшка выказывала и некоторое непонимание, но это его не раздражало. Ему достаточно было взглянуть на ее чудное лицо, на ее светлые глаза, устремленные на него с доверием и любовью – и раздражение мигом проходило… А мальчики были в стороне, и они отлично понимали себя простыми слушателями. Он говорил понятно и для них, но никогда не убеждался, следят ли они за его словами, заинтересованы ли они ими, все ли понимают и со всем ли согласны. Он редко обращался к ним с вопросами, и если они чего не понимали или не знали, он сердился и не старался скрывать этого. Поэтому они краснели и путались, когда им говорить приходилось. Они боялись его гнева. Они не знали его ласки, потому что ласка была не в его характере. Если он ласкал кого, так только Гальшку. А с мальчиками что за нежности, к чему эти лизанья да по голове глажение – не в них любовь выражается. Да, не в них выражается любовь, но ведь дети не могут жить без ласки. Они охотно забудут всякий гнев, всякую грозу, простят всякую обиду, если знают, что и до гнева была нежная ласка, и после гнева ее опять заслужить можно. Но гнев никогда не ласкающего отца возбуждает только страх, поселяет в сердце ребенка тяжелое, нездоровое чувство. При таких отношениях немыслима откровенность, немыслимо полное понимание друг друга…
Зачем же считает он себя невинным перед детьми и ропщет на Бога?!
Ему невольно и ясно вспоминается теперь, как часто он замечал, что мальчики прекращали свой смех и живой говор при его появлении. Тот же Януш, бывало, не раз подходил к нему с явным желанием приласкаться, рассказать о каком-нибудь своем детском горе или своей детской радости. И всякий раз отец, занятый своими мыслями и заботами, сухо отстранял его ласку, не выслушивал его лепет. И Януш уходил, не высказавшись, уходил униженный, оскорбленный в своем лучшем чувстве и самом естественном порыве. Он даже не знал, что этот Януш необыкновенно впечатлителен и самолюбив. Теперь уж он не придет больше к отцу, он горько плачет и жалуется брату, что отец его не любит. «Да, он нас не любит – он любит только сестрицу Гальшку – она шутит с ним, смеется, целует его, и он ей все позволяет, сам ее ласкает!» – Так решают мальчики и между ними и отцом встает непреодолимая преграда. И вот пройдут года, и они отлично поймут, что поцелуи и ласки не всегда служат доказательствами любви, но никогда не поймут, что мальчики должны расти в почтительном отдалении от отца и не помнить ни одной его ласки, ни одного его горячего, невольного поцелуя.
И если когда-нибудь им придется ошибаться и падать, и если в трудную, критическую минуту жизни они не решатся прийти к нему за советом и помощью, боясь, что он холодно, по обычаю, отстранит их откровенность или, еще того хуже, легко, с высоты своего седого благоразумия, отнесется к их скорбям и сомнениям, неосторожно, неумело прикоснется к их ранам – разве он будет вправе винить их за это, разве будет вправе, без всякого упрека себе, карать их за их ошибки?!
– Но что же ему делать? Нельзя же ему разорваться на части! Кипучая, священная деятельность, в которую он погружен, наполняет почти все его время; он часто должен отлучаться из замка, да и дома всегда много всякой работы. Ему нет времени, решительно нет времени заниматься детьми, следить за ними, изучать их характеры, сближаться с ними. Он живет не для своего удовольствия, не пирует, не бражничает. Он живет для всей страны, для святого дела православия; своею деятельностью он ведь и детям же своим расчищает широкую дорогу!.. Все это так, и его труды не пропадут даром, и история почтительно запишет его имя на свои страницы. Но ведь человек, совершающий даже самое великое дело, не вправе отговариваться этим делом от исполнения своих первых, неизбежных, непреложных обязанностей. Если же у него не хватает на это ни сил, ни сознания, то он должен одного себя винить в последствиях и ниже опускать свою голову…
И ниже, ниже опускается голова князя Константина, и внятнее, понятнее звучит для него внутренний обвиняющий голос. Ему тяжело, ему горько, но он уже не ропщет, не негодует на детей, а горячо молится. И вот к мысли о детях примешивается мысль о дорогой, несчастной Гальшке.
С ней он не мог быть суровым. При одном взгляде на это светлое Божье созданье разглаживались его морщины и теплело у него на сердце. И она знала это, и доверялась ему, и любила его откровенной, дочерней любовью. Она не боялась его гнева и смело требовала от него ласки. И у него находилась для нее ласка. Он едва-едва сдержался от рыданий, от отчаяния, расставаясь с нею, благословляя ее на неизвестную будущность. Эта будущность оказалась непредвиденно страшной и печальной. И он не мог и не может спасти ее. Его многочисленные враги сделали свое дело – они поставили между ним и племянницей такую непреоборимую преграду из своих жестоких прав и законностей, что ему пригодится положить оружие. По решению короля и сената, ее не признают княгиней Сангушко и как несовершеннолетнюю отдают в полную власть матери. Приходится ждать еще так долго до тех пор, пока можно будет вырвать ее от мучителей… И что они теперь делают с нею?.. Ему невыносима была эта неизвестность. Много раз пытался он письменно уговаривать Беату – допустить его свидание с Гальшкой, но та каждый раз отвечала ему, что между ними все кончено, что она хозяйка у себя в доме и принимать его не намерена. Если же он захочет ворваться силой, то встретится с ее вооруженными людьми. Вильна не Острог – здесь разбойничать и затруднительно и опасно. Беата, действительно, содержала вооруженный отряд и неусыпно следила за Гальшкой. Все попытки тайных сношений оказывались неудачными. Отец Антонио учредил безупречную, бессонную тайную полицию в доме княгини.
Острожскому оставалось только со стороны следить за Гальшкой, и в случае какого-нибудь насилия над нею, вмешаться в дело – все равно будет ли это законно или не законно…
Но как же быть с сыновьями, как предотвратить ужасное несчастие? Порыв дикого гнева давно утих и под влиянием жены, и под влиянием собственных, неожиданных мыслей… Наказания, строгие меры не приведут ни к чему, только, пожалуй, окончательно погубят дело. Нужно узнать все правду, все подробности и действовать убеждением кротостью. В этом поможет княгиня.
И действительно, она скоро узнала про многое.
Она узнала, что у детей под великой тайной и в сокровенном месте хранится резное католическое распятие и некоторые книги, подаренные им на память отцом Антонио. Точно, дети как-то и где-то встречались с ним, беседовали и считают его святым человеком и своим лучшим другом. Он им насказал о Риме, о папе, чудесах и блаженстве, которые ждут их, если они откажутся от православия и сделаются сынами католической церкви. Они уже строят разные планы и продолжают мечтать о своем иезуите…
Получив такие сведения, князь Константин чуть было опять не предался бешенству; но теперь его справедливый гнев был направлен на Антонио. Князь поклялся умертвить его собственными руками, если когда-нибудь встретит. Мальчиков же он призвал к себе и долго, внушительно, спокойно беседовал с ними. Они слушали его внимательно и даже казались растроганными… Они торжественно обещались посещать церковь и молиться Богу. Затем князь приставил к ним священника, на которого мог положиться. Он должен был следить за ними и наставлять их в Законе Божием.
Устроив все это и успокоившись, князь снова и всецело отдался своей общественной деятельности. Время было кипучее, тревожное. От него требовалось все больше и больше усилий; борьба становилась труднее. Чаще и чаще приходилось выезжать из Острога, действовать то там, то здесь, то в Кракове, то в какой-нибудь глуши литовской.
Среди забот и трудов князь забывался от своей грусти, но возвращаясь в Острог, он чувствовал невыносимую сердечную тяжесть.
Время шло, проходили месяцы, прошло полтора года с тех пор как опустела половина замка, занимавшаяся княгиней Беатой. В замок редко наезжали гости; о пирах не было и помину. Все, что прежде тщательно скрывало свои враждебные чувства к князю ради возможности видеть княжну Гальшку и добиваться руки ее, – все это теперь стремилось в Вильну, осаждало дом Беаты. Да и, кроме того, нерадостно было теперь посещать острожский замок. Все в нем как-то пусто и мрачно. Хозяйка – женщина добрая и радушная, но она не умеет оживлять общества, очевидно, даже тяготится им, она вся ушла в домашние хлопоты и заботы, всю отдала себя младшему сыну, который еще был на руках у нее. Хозяин редко дома и кажется таким мрачным и грозный.
А князь был очень доволен этой тишиной и спокойствием. Он всегда приезжал в Острог утомленный и раздраженный. Он полюбил теперь в зимнее время бродить по опустевшей половине замка. Здесь все ему напоминало Гальшку; здесь, невидимо для посторонних взоров, выступала наружу вся нежность, на какую только было способно его сердце. Он иногда заставал себя на самых несбыточных грезах: то мечтал он о том, что Гальшка снова и навсегда переселится к нему, и не расстанется он с нею до самой смерти; то начинало ему казаться возможным появление Сангушки… Но он быстро останавливал свою расходившуюся фантазию и горько усмехался. Действительная жизнь вступала во все права – он начинал строить возможные планы, он задумывал издание в своей типографии полной Библии, помышлял воздвигнуть новые православные храмы в местностях, где это могло помешать распространению латинства и реформатства…
Незаметно набегали ранние зимние сумерки, а он все ходил одиноко по опустевшим покоям. Только в случае особенно важного дела приближенные решались тревожить его уединение…
В один из таких дней, когда особенно тяжело было у него на сердце, когда вьюга особенно злилась, и снежные хлопья так и бились, так и бились о стекла, ближний шляхтич смущенно доложил князю, что в замок явился какой-то хлоп. Он ни за что не хочет сказать, чего ему надо, и настоятельно требует, чтоб его немедленно провели к князю…
– Что за вздор! – раздражительно крикнул князь Константин.
Шляхтич замялся.
– Прости меня, князь государь, – волнуясь и даже заикаясь начал он, – дело такое, что и ума приложить трудно… Или всех нас бес попутал и глаза нам отводит, или… этот хлоп – сам покойный князь Дмитрий Андреевич Сангушко…
– Что? Что! Где он, где он, где?! Веди скорее, веди…
И князь, боясь верить, боясь радоваться, следом за шляхтичем бежал, забыв свои годы, бежал, как мальчик…
– Скорей, сюда, ко мне… Живо!..
Он остановился и нетерпеливо стал шагать по комнате.
Двери растворились.
Сомнения не оставалось – в грязной, мокрой от снегу, заскорузлой одежде, бледный, изменившийся, постаревший – но все же это был Сангушко.
Они бросились друг к другу, обнялись и, не выдержав, оба зарыдали, как отец с сыном, свидевшиеся после долгой, казавшейся вечной, разлуки.
– Голубчик, голубчик! Жив ли ты, жив? – мог только выговорить князь Константин, с радостью и счастьем вглядываясь в лицо Сангушки…
VII
Недели через две после неудачного сватовства Гурки и Олельковича-Слуцкого, княгиня Беата собралась на богомолье в монастырь Св. Мартина, находившийся в городе Вилькомире. Эта поездка была ею предположена уже недели две тому назад и все о том знали в доме. Монастырь Св. Мартина был построен в конце XVI столетия, в царствование Ягайло, который, женившись на Ядвиге, стал употреблять все усилия, чтобы вводить католичество в Литовском крае. Беата особенно почитала этот старый монастырь и делала на него большие пожертвования. Она ездила туда несколько раз в год в сопровождении Антонио. Гальшка тоже сопутствовала ей, если княгиня уж очень настаивала на этом. На поездку обыкновенно полагалось недели две, а иногда и больше – ехали медленно и в монастыре проводили с неделю.
Экипаж княгини сопровождала большая свита.
Теперь решено было не брать Гальшки – она, действительно, кажется нездоровой, да и опасаться нечего. Из верных источников известно, что князь Константин в Остроге. Княгиня не замешкается в дороге, а, вернувшись, станет немедленно приготовляться к переезду в Краков. Да, Гальшка должна остаться дома, а то она слишком утомится перед большим предстоящим путешествием.
Гальшка была очень довольна таким решением. По крайней мере, ее хоть на неделю оставят в покое, ей можно будет запереться у себя и никого не видеть, ничего не слышать.
Утром, перед самым отъездом, княгиня призвала Зосю, которая обыкновенно спала рядом с комнатой Гальшки.
– Как провела эту ночь княжна? – спросила она.
– Плохо, очень плохо! – с соболезнованием ответила Зося. – Вот уже три ночи как княжна совсем почти не спит, а заснет, так во сне стонет… Нынче два раза вставала, зажигала огонь, читать принималась… только утром заснула – я и будить ее не велела…
«Нет, решительно ей не следует ехать!» – подумала Беата, отходя от зеркала, перед которым кончала свой туалет.
Зося почтительно и неподвижно стояла, ожидая приказаний.
Что-то выпало из рук княгини и покатилось по полу.
– Подними, пожалуйста, Зося, – рассеянно проговорила княгиня.
Девушка быстро нагнулась, нашла кольцо и подала его Беатe.
Та взяла его, даже не поблагодарив, машинально положила на маленький столик и сама села возле.
– Ты, кажется, собралась ехать с нами, Зося? Нет, уж лучше останься с княжною – и пожалуйста, чтоб все было тихо, чтоб никто ее не беспокоил…
Зося сама хотела просить позволенья остаться с Гальшкой. Княжна не совсем здорова, скучать будет; она постарается развлечь ее, станут вышивать вместе… Княгиня Беата доверяет Зосе больше чем другим; но все же она болезненно мнительна, каждое слово взвешивает, во всем какой-нибудь умысел подозревает – с ней нужно быть очень осторожной. А тут она сама избавляет от всяких затруднений, сама велит остаться,
– Хорошо, я останусь, – тихо произнесла Зося, делая грустную мину, как будто бы ей очень хотелось ехать, и она теперь огорчена не на шутку.
Княгиня заметила эту мину.
– Ах, да поезжай, если так уж тебе трудно исполнить мое желание! – раздражительно заметила она.
– Разве я что-нибудь сказала, княгиня? Я останусь, я очень рада остаться с княжною… А теперь пойду к ней, посмотрю – может быть, она проснулась.
И она поспешно вышла из комнаты.
Через час княгиня выезжала.
Отец Антонно, встретясь с Зосей, шепнул ей:
– Хорошо, что ты остаешься, не отходи от княжны… За Вилией, в лесах, говорят, стаи волков показались – княгиня весь отряд берет с собою, в замке остаются только слуги.
– Чего ж нам бояться, отец мой? – пожала Зося плечами, пристально глядя в глаза иезуиту. Неужто ж в Вильне нападать станут?! – ведь и двери крепки, и соседи услышат… А если кто захочет пробраться к княжне, чтоб напугать ее, так опять я говорю: двери крепки… Благословите меня, отец мой!
Зося низко наклонила перед ним свою хорошенькую голову.
Он, благословляя ее, не видел ее лица, но если бы он теперь заглянул ей в глаза – то, наверное, заставил бы Беату отложить поездку и остаться дома.
Княгиня перед самым отъездом зашла проститься с дочерью и нашла ее, действительно, очень бледной и слабой. Когда она, обнимая Гальшку, положила свою руку ей на плечо, то Зося, стоявшая возле, так и впилась глазами в эту руку. Какое-то неуловимое выражение пробежало у ней по лицу; но она тотчас же справилась с собою и снова казалась совершенно спокойной.
Экипажи были поданы. Вооруженный отряд, на конях и в красивых костюмах выстроился на обширном дворе, приготовляясь провожать княгиню.
Минут через десять все выехали, и сторож запер засовами тяжелые ворота.
Зося стояла у окна, нетерпеливо дожидаясь. Только что закрыли ворота, она поспешила в уборную княгини.
Служанка еще не успела прибрать комнаты.
Зося подбежала к маленькому столику. Кольцо, поднятое ею и в рассеянности позабытое княгиней, лежало на прежнем месте. Она жадно схватила это кольцо и пристально, пристально рассматривала его. Глаза ее горели, она вся покраснела от волнения и тяжело дышала. Что-то решительное, злое, торжествующее выражалось в лице ее.
Ей хотелось хохотать, петь. Она спрятала дрожащими руками кольцо в свой корсаж и, даже не зайдя к Гальшке, поспешно оделась и вышла из замка черным ходом.
Глухими закоулками и задворками спешила Зося.
В одной из отдаленных от центра улиц Вильны стоял старый дом, окруженный высоким забором и густо разросшимся садом. За углом, где начинался узенький, грязный переулок, в сад была проделана маленькая калитка, которую сразу даже трудно было приметить. Но Зося, очевидно, была здесь уже не в первый раз. Она оглянулась во все стороны, убедилась, что кругом никого нет, вынула из кармана ключ и отперла калитку. Шмыгнуть в нее и плотно захлопнуть ее за собою было для нее делом одной секунды.
Она очутилась в саду, среди высоких глыб ярко горевшего на солнце снега. От калитки шла прочищенная, но уже занесенная ночною метелью тропинка. Снег забивался в башмаки Зоси – она даже стала ворчать и браниться! Но вот тропинка вывела ее из сада, и она очутилась перед стеной дома. Тут была запертая дверь. Зося постучалась. Никто не отворял ей. Она подождала немного и стала опять стучаться, но уже громче. «А вдруг никого нет, а вдруг он не дождался и уехал?!» – подумала она и даже побледнела при этой мысли. «В последний раз он так сердился, что ему надоело ждать попусту… Ну, уж и человек! Трудно с ним поладить… А ведь если уехал, так что же теперь?! Ведь тогда все пропало!» Она стала просто приходить в отчаяние и принялась стучать еще громче.
Наконец ее услышали. Изнутри раздались шаги. Кто-то спускался с лестницы, повозился с дверью. Дверь подалась и отворилась.
– Кто тут? А, это вы, паненка, – пожалуйте!
– Что же не отпирали? Стучала я, стучала… Тут у вас можно замерзнуть и никто не услышит… Граф дома?
Голос ее дрогнул – а вдруг скажут, нет его – уехал. Что тогда?
– Дома, дома – войдите.
Зося глубоко вздохнула и нетерпеливо, радостно побежала по крутой каменной лестнице. Отворивший ей слуга литвин едва поспевал за нею.
Войдя наверх, она прошла ряд пустых, довольно плохо меблированных и пыльных комнат. Литвин стукнул у запертой двери и, услыша голос, сказавший «можно!», впустил Зосю.
С низенького восточного дивана ей навстречу поднялся граф Гурко.
– А, наконец-то ты заглянула, моя милая пташка, наконец-то обо мне вспомнила. Ну что? Опять ждать? Да ведь пойми – ты сказала: дня три, четыре, а уж теперь две недели прошло – и все нет никакого толку; ведь я в это время успел бы съездить в Краков и вернуться… Только водишь ты меня за нос и ничего больше…
Гурко начал говорить с большой досадой, но кончил довольно ласково и шутливо. Он взглянул на Зосю – разрумяненная, с лицом, еще застывшим от мороза, с блестящими смелыми глазами она показалась ему очень хорошенькой и заманчивой.
– Садись, садись, птичка; сказывай, с чем пожаловала?
Он взял ее за руки, посадил на диван и сам сел рядом с нею, не выпуская ее рук и пожимая их своими худыми, жилистыми руками…
– Ишь ведь озябла – холодные какие ручки… Он начинал глядеть на нее очень нежно.
– С того бы начать надо, граф, спросить, с чем пожаловала, а не накидываться с попреками, ничего еще не узнавши. Хорошую весточку принесла я тебе, даже сама не чаяла, что так оно выйдет.
– Что такое? – говори скорее!
Зося была теперь почти уверена в торжестве своем, в полной возможности исполнения своего плана – недаром она его обдумывала и так и этак, ломала свою хитрую голову. А тут еще сама судьба дает ей оружие в руки, да такое оружие, о котором она даже и не мечтала. В последнее время она решительно не могла дать себе отчета в том, что творилось с ее сердцем. Ей казалось, что ее безумная любовь к Антонио совсем прошла. Когда она встречалась с ним, она чувствовала только одно желание – измучить его, посмеяться над ним, насладиться его отчаянием.
Сознание, что она способствует его горю, тайно хитро расставляет ему сети в то время, как тот и не подозревает об этом и совершенно полагается на ее преданность, – доставляло ей бесконечное наслаждение. Ее мучений, ее тоски как не бывало. Она вся, всеми своими помыслами и чувствами, ушла в интригу и жила ею и в ее удаче находила счастие. Относительно Гальшки она успокоила себя тем, что та сама же объявила, что ей решительно все равно, что бы ни сделали с нею – хуже ей не будет.
Теперь в этой огромной, пыльной комнате графа Гурки, на нее нашел просто припадок ребяческого веселья. Ей хотелось шалить, хотелось вполне насладиться предстоящей сценой, выдавать Гурке свой план понемногу, подразнить его, поиграть с ним…
– Нет, граф, постой – я устала, дай отдохнуть сначала, рассказать все подробно еще успею…
Она кокетливо прислонилась к шелковой подушке дивана.
– Ну, не дурачься, панночка, говори скорей!
– А чем отплатишь за это? Я дорого ценю каждое свое слово.
Она смеялась, сверкала глазами и показывала на розовых щеках самые соблазнительные ямочки.
Гурко просто загляделся на нее.
«Да она прелесть какая хорошенькая! – думал он. – Будь у этой девочки миллиона три-четыре приданого, и не посмотрел бы я на то, что она простая шляхтянка – сразу бы предложил ей руку и сердце… Ну, а теперь не взыщи, коханка, только сердце и могу предложить тебе…»
– Чем отплачу? – шутливо заговорил он, улыбаясь своим большим ртом с неровными, широкими зубами. – Проси чего хочешь, только не томи, говори скорее.
– А мне лень придумывать плату – сам придумай.
– Ничего я не пожалею для таких глазок… Ну, скажи же, моя коханочка, свою новость.
Он наклонился к ней, заглядывая ей в глаза, опять взял ее маленькие, красивые ручки и стал целовать их.
– Ого, граф! Так вот ты как! – вскрикнула она, вырывая руки и смеясь во весь голос. – На мне начинаешь учиться ухаживать за красавицей Гальшкой! Стыдись – ну зачем ты целуешь мои дрянные руки, когда скоро, может быть, будешь целовать самые прекрасные ручки в мире… Или ты так влюблен, что тебе всюду мерещится твоя красавица. И теперь чудится, что перед тобою не я, а она?
Гурко, действительно, начинал немного забываться, по своему обычаю. Он нежно ответил Зосе:
– Ничего мне не чудится, птичка, а вижу я только одно – что ты прелесть, что ты ничуть не хуже Гальшки… Отчего же мне и не целовать твои маленькие, славные ручки.
Зосе даже стало неловко. Ей невольно было стыдно за него. Но это продолжалось только секунду. Он сравнил ее с Гальшкой, сказал, что она ничуть ее не хуже. Она была большого мнения о своей красоте и тщательно и ежедневно изучала ее перед зеркалом. Но все же ей никогда и во сне не снилось, чтобы кто-нибудь мог сравнить ее с Гальшкой. Ведь Гальшка неслыханная, невиданная красавица, ведь на нее молиться хочется… Что ж это он, насмехается что ли над нею? Нет, он не смеется, он глядит так нежно и сладко – этот противный Гурко… Ведь вот нашелся же человек, который считает ее прелестной даже рядом с Гальшкой!..
И Зосе невольно представился Антонно – и в эту минуту она ненавидела не его одного, она ненавидела и Гальшку…
Она взглянула на Гурку, и Гурко показался ей далеко не таким противным, как прежде. Сознательно или бессознательно, но лучшего он и не мог придумать, как сказать ей, что она не хуже Гальшки.
– Зачем ты так зло смеешься надо мною? – проговорила Зося, надувая губки и грациозно притворяясь обиженной. – Только в насмешку и можно сравнить меня с такой красавицей. По всей Литве и Польше говорят, и говорят справедливо, что никогда не родилась еще такая красота на свет Божий… Я ничего тебе не сделала дурного, граф, я за тебя же хлопотала изо всех сил моих… но после обиды и насмешки, не взыщи – я для тебя ничего не стану делать…
Она даже приподнялась с дивана и сделала вид, что хочет уходить…
Гурко удержал ее и схватился за ее платье.
– Что ты, что ты, Господь с тобою! Я над тобою насмехаюсь?! Видно мало ты глядишься в зеркало, что такого плохого о себе мнения… Да, княгиня Острожская, или, как ты ее называешь, княгиня Сангушко – для меня это все одно – хороша; но, право, о ней гораздо больше кричат, чем есть на самом деле. К тому же у всякого свои глаза и свой вкус – я, признаюсь, не очень люблю таких бледных святых лиц, как у Мадонны… Я не молиться хочу на женщину – я живой человек и жизнь люблю. По мне, то ли дело эти черные хитрые глазки, эти розовые щечки и веселые на них ямки…
Гурко окончательно забылся. Иногда он делался нахально, откровенно циничен, и теперь на него нашла именно такая минута.
Зося далеко не прочь была выслушать такие комплименты. Он говорил так убедительно и красноречиво. Ей самой уж начинало казаться, что, пожалуй, он и прав. Точно, Гальшка слишком похожа на святую, в ней мало жизни… и теперь она так бледна и худа! Высокое мнение о своей красоте с необычайной быстротою разрасталось в Зосе. Она так хороша, она лучше знаменитой, всеми прославляемой красавицы! У нее голова закружилась от гордости и счастья…
Но все же она остановила Гурку.
– Если б даже это и была правда, что ты говоришь, – а это неправда – то все же, разве ты смеешь, граф, говорить мне это?! Ты собираешься жениться на княгине Гальшке, я хлопочу для того, чтоб устроить тебе это дело, а ты вдруг такой вздор болтаешь… Я думала – ты влюблен в Гальшку – иначе не стала бы помогать тебе…
– Послушай, коханая Зося, – ответил Гурко. – Ты девушка умная – разбери же хорошенько: разве я должен непременно быть влюбленным, чтоб хотеть жениться? Посмотри на всех магнатов наших, разве они по любви женятся? Женитьба должна приносить богатство, упрочивать связи. Что же бы сталось со всеми нашими старыми родами, если б мы женились без всякого расчета? В каких-нибудь сто лет ничего не осталось бы от родовых богатств, и все мы превратились бы в нищих. Нет, нам брак не любовь сулит, да иначе и быть не может, пока мы будем заботиться о себе и о детях наших, пока не захотим хлопского царства… Так не смотри же так сурово, моя ласточка, сердце не камень, а от твоих глазок и камень теплее станет.
Хорошо и разумно говорил «пан грабя». Если б он был покрасивей да помоложе, да если бы сердце Зоси не устало теперь от всех своих волнений, не наполнено было жгучей, страстной ненавистью к Антонио, он, пожалуй, победил бы ее, сумел бы внушить ей свои мысли и чувства… Но в настоящую минуту Зося могла плениться только одним – могуществом красоты своей – сам же «пан грабя» и не существовал для нее.
Она вспомнила, что слишком засиделась, что ей пора домой, к Гальшке.
Она решительно поднялась с дивана, оставляя Гурку на почтительном от себя расстоянии.
– Может быть, ты и прав, только бросим все это, – серьезно сказала она. – Вот ты, кажется, совсем забыл, что сам же торопил меня говорить скорее мою новость. Мне уж и домой пора, а я еще не сказала ни слова…
На Гурку подействовала ее серьезность. Он сообразил, что она права. Дело, дело, прежде всего дело. Перед ним соблазнительно мелькнула цифра огромных доходов Гальшки и возбудила всю природную его алчность, при которой немедленно замолкали остальные чувства… Ведь Зося не уйдет от него, будет еще время – она такая рассудительная, сговорчивая девочка…
– Ну, хорошо, хорошо! – сказал он, откидываясь на подушку. – В чем же дело…
– Княгиня Беата уехала недели на полторы в Вилькомир, на богомолье…
– А Гальшка?
– Гальшка осталась дома, и с я с нею.
– А отец Антонио?
– Разумеется, с княгиней, и на этот раз их сопровождает весь наш отряд, да штук семь рыдванов, человек по шести в каждом.
– Вот это хорошо, вот это хорошо! – даже вскочил и заволновался Гурко. – Так значит, украсть можно невесту? Да? Ты мне в этом поможешь, Зося?
– Не больно торопись, пан грабя! Все же мы в Вильне, а в доме остались люди. Тихо, без шуму и драки можно украсть невесту только тогда, когда она сама согласна, чтоб ее украли. А разве ты сговорился с княгиней Гальшкой, разве она потерпит новый срам и убежит с тобою?.. Плохо, видно, ты ее знаешь!
– Ну, так как же? Я и ума не приложу…
– А вот как: при тебе она сказала, что выйдет за того, за кого прикажет княгиня?
– Да.
– Она от слов своих не отопрется. Уж больно измучила ее матушка родная, да и тоска-кручина. Не раз она мне говорила: «прикажет матушка – за кого хочет, за того и пойду, мне все равно, хуже не будет!» Ну уж, граф, отказалась бы я от такой невесты! – невольно докончила Зося.
– А я не откажусь, – резко заметил Гурко.
– Твое дело… Так вот что: значит, ее надо уверить, благо уехала княгиня, что та поладила с тобою и тебя выбрала в мужья ей.
– А если она не поверит? Нет, это что-то неладно, Зося!
– Я и сама думала, голову ломала, как бы такое выдумать, чтоб она не сомневалась. Положим, она не то, что другие… Бог ее ведает, где иной раз ее мысли: ясное, как день белый, дело, всем видно, а ей и невдомек, она и не замечает… Уверить да обойти ее нетрудно, а все же, в таком случае, и с ней нужно ловко придумать…
– Вот то-то и есть! – задумался Гурко. – Разве сказать ей…
– Ничего не сказать! Лучше и не придумывай – все равно пустое скажешь. Все уж без тебя придумано, да так придумано, что лучше и быть не может… Недаром я бежала к тебе, ног под собой не слышала…
И Зося опять стала кокетничать, дразнить Гурку.
Он бросился к ней, силою ее обнял и прежде, чем она успела опомниться, звонко поцеловал ее в губы.
– Говори, говори, не томи – не то я тебя насмерть зацелую, дьяволенок ты этакий!
– Что же это в самом деле! – возмутилась и даже отплюнулась Зося. – Если ты еще хоть пальцем меня тронешь, то – вот клянусь тебе Иисусом и Девой Марией – замолчу я, и не услышишь ты от меня ни одного слова…
– Ну, прости, не буду! И ведь сама же ты виновата – зачем меня мучишь…
– Так-то! Садись-ка, пан грабя, смирно и слушай. Только вот что, наперед уговор: делать все так, как я знаю, и мне ни в чем не перечить. Послушаешь меня, не станешь торопиться, так ровно через полторы недели, слышишь – через полторы недели, не раньше, не позже, княгиня Гальшка будет твоею женою.
Она стала передавать ему свой план. Он слушал молча, и удивлялся ее хитрости, и любовался ею. «Вот так бесенок! – думал он. – Ну нет, такую Зосю и с миллионами взять за себя страшно. С нею всякий день опасаться нужно… И обманет, и проведет, и отравит, чего доброго, если захочет… а сама и бровью не поведет! Бесенок!..
VIII
Тихо стало в доме княгини Беаты – никто не решался посещать Гальшку в отсутствие матери, да и трудно было предположить, что она кого-нибудь примет. Между женщинами у нее не было друзей, она ни с кем не сближалась. Ее тоскливый, сосредоточенный вид, полная апатия ко всему окружавшему, избавляли ее от женской навязчивости. Об ней было много толков и под конец все решили, что если так будет продолжаться, если что-нибудь не оживит ее, то вряд ли она долго проживет на свете. Она слишком тоскует, она чахнет, бедняжка! Почти всем, конечно, была подробно известна ее история. Многие обвиняли Беату. Передавались даже россказни и слухи, что и теперь она всячески мучит дочь, бьет и запирает. Вообще княгиня не пользовалась почти ничьим расположением, да она, по правде, и не заботилась об этом. Если она поддерживала знакомства, то только по необходимости и иногда слишком явно показывала, что тяготится гостя.
Как бы то ни было, все жалели Гальшку и считали ее жертвой. Но никому и в голову не приходило серьезно вознегодовать на Беату и открыто выразить презрение, которого заслуживали ее поступки. Княгиня была слишком знатна и богата, и раздражать ее не приходилось. Почти каждый мог ожидать от нее себе выгод и должен был бояться зла, на которое она была способна, по общему мнению. И все как-то осторожно сторонились от Гальшки, за исключением холостых магнатов, видевших в ней необыкновенно богатую невесту…
По отъезде матери Гальшка заперлась в своих комнатах и допускала к себе только Зосю. Она чувствовала себя очень утомленной и телом, и душою. Страшная безнадежность и апатия, охватившие ее в последнее время, усиливались в ней с каждым днем, с каждой минутой. Прежде она все-таки жила, отмечала жизнь и время хоть бы по своим страданиям, слезам и грезам. Теперь же как будто жизнь для нее остановилась – не было уже ни грез, ни мучений. Она не плакала, ее сердце не тосковало по погибшем муже, ее мысль не возвращалась к прошлому. Ничто ее не волновало и не тревожило. Она совершенно машинально пила, ела, читала и занималась какой-нибудь ручной работой. Высшее для нее благо был сон; если б она могла только, она бы спала целые сутки; но сон ее не слушался – она часто и по ночам страдала бессонницей. Она рада была, если проснувшись утром, замечала, что уже довольно поздно. Иногда по целым дням единственной ее заботой было отсчитывать часы и ждать приближения ночи. Но в такие дни, как нарочно, время тянулось ужасно долго. Сначала она часто думала о князе Константине и даже строила одно время планы как бы убежать к нему или, по крайней мере, тайно с ним увидеться. Теперь она и о нем перестала думать. Она убедилась, что все ее планы неосуществимы, что ее стерегут, как дикого зверя, и малейшая ее попытка будет сейчас же обнаружена. Если дядя не является, если он до сих пор не увидался с нею, значит, и для него это невозможно – при первой же возможности он, наверное, будет здесь – в этом она не сомневалась. Но когда это будет?! Она ждала, ждала, но теперь и ждать перестала, как будто даже забыла своего любимого дядю. Острог и ее жизнь там представлялись ей ужасно далекими, как будто даже и не бывшими совсем в действительности.
Такое душевное состояние, пожалуй, со стороны могло показаться лучше, чем слезы, мученья и острое отчаяние.
Но что-то страшное, что-то невыносимое было в этом мертвом спокойствии, в этой бессознательно охватившей Гальшку жажде смерти. Если б не ее вера, если б не молитва, вызывавшая иногда облегчающие слезы, она бы, не задумываясь, убила себя самым жестоким образом. Смерть была для нее высочайшим и, как ей казалось, недостижимым блаженством…
Прошло уже полторы недели со дня отъезда княгини Беаты. Давно смерклось. Гальшка велела растопить большой очаг в одной из комнат, присела к огню, да так и замерла, глядя на огонь, следя за его движением и переливами. Зося, еще недавно бывшая с нею, ушла куда-то. Вот мало-помалу глаза Гальшки стали смыкаться. Ах, если бы заснуть! – и она, действительно, скоро забылась в полудремоте…
Между тем Зося скользнула узеньким, длинным коридором, спустилась с темной лестницы и почти неслышно отодвинула небольшие, но крепкие засовы наружной двери. Большие дома в то время строились непременно с разными замаскированными, потайными ходами. Мало ли что могло случиться, мало ли на что могли понадобиться такие ходы.
Зося уже заранее подготовила все, что ей было нужно. Она озабоченным голосом объявила всем, что княжна сегодня нездорова и просит не тревожить ее весь вечер, велела даже запереть двери, ведущие в ее покои. Таким образом, она могла быть совершенно уверена, что никто ничего не услышит и не увидит, что бы ни творилось у Гальшки. Дом был огромный, а «покоями княжны» называлась целая анфилада комнат. Потайной коридорчик шел именно отсюда, комнаты за четыре от той, где теперь сидела Гальшка, следовательно, в него невозможно было проникнуть, не нарушая мнимого, но весьма правдоподобного запрещения княжны. Да и кто, за какою надобностью, пойдет сюда?!
Одна только тревога и была у Зоси – это сторож в дальнем закоулке заднего двора, где находилась калитка, откуда можно было пробраться к потайной дверке. Но и со сторожем оказалось немного хлопот. Гурко расщедрился и вручил Зосе изрядную сумму денег. Сторож, увидев блестящие монеты в огромном, по его мнению, количестве, пришел в дикий восторг. Он поклялся, что будет нем, как рыба, и впустит в калитку хоть целую Вильну. Да лучше вот что: он отопрет калитку, а сам, чтоб не быть в ответе, убежит – земля велика, а с такими деньгами он так запрячется, что и в жизнь его не сыщет княгиня… Зося отперла дверку и прислушалась. Пусто на дворе, тихо. Ночь черная – зги не видно. Она кинулась к калитке – отворена. Сторожа нет. Издали понеслись мерные удары, каждый час отбиваемые с вышки виленской ратуши. Условленное время – теперь они скоро явятся!..
И точно – за калиткой послышались тихие голоса, скрипнул снег. Калитка отворилась. Зося тихонько кашлянула три раза, ей ответили тем же… Они? Уж можно различить несколько крадущихся фигур…
– Зося! Где ты? – прошептал голос Гурки.
– Здесь, здесь, тише…
Она одного за другим стала вводить таинственных гостей в открытую калитку…
С Гуркой было семь человек. В числе их находился и пастор.
Все они медленно, бесшумно поднимались по темной лестнице. Зося провела их через коридор и остановила в слабо освещенной комнате. Тяжелые занавеси были спущены на всех окнах. Двери, ведущие в эту часть, были на запоре.
– Постой, я доложу Гальшке; она здесь недалеко, – шепнула Зося Гурке.
Гальшка сидела, по-прежнему, перед огнем и дремала.
– Княгиня, ты спишь? Вставай, вставай…
– Что такое? – очнулась Гальшка, изумленно взглянув на нее своими чудными глазами,
Зося невольно потупилась перед этим взором. Что-то похожее на упрек совести кольнуло ее в сердце. Она не могла не сознавать, что коварно, безбожно предает эту беззащитную, убитую горем женщину. Но другие побуждения заговорили сильнее совести. Зося быстро справилась с собою и начала тревожно и скоро:
– Я не знаю, что случилось, только граф Гурко откуда-то приехал, прямо с дороги к нам, говорит, что встретился с княгиней и привез тебе от нее какое-то поручение.
Она уже две недели тому назад успела сообщить Гальшке, что Гурко уехал из Вильны тотчас же после своего неудачного сватовства и отправился, кажется, в Краков.
– Где же он мог видеть матушку? Какое поручение? – усталым голосом проговорила княгиня.
– Он просит тебя принять его, сейчас все узнаешь…
– Ах, разве он не может передать через тебя… скажи ему, что я больна, что я раздета, что я никого не принимаю…
– Я так уж ему и сказала, – мне не хотелось будить тебя, княгиня. Но он говорит, что должен объяснить все тебе самой и что дело спешное – иначе он бы не осмелился тревожить тебя вечером, до завтрашнего дня бы дождался.
– Так неужели ж я в самом деле должна принять его?..
– Что же делать!.. Верно, важное что-нибудь… еще княгиня, пожалуй, сердиться будет…
– Ну, хорошо, попроси его в голубую комнату – там, кажется, светло… Только, пожалуйста, будь тут же и не отходи от меня, Зося… Я сейчас выйду…
Гурко отослал четырех из своих сообщников обратно в темный коридор; пастора и двух других оставил в комнате, а сам последовал за Зосей.
Гальшка встретила его молча, одним только изумленным взглядом.
Он почтительно к ней приблизился и заговорил очень бойко, даже с улыбкой:
– Княгиня, я расстался с вами в очень печальную для меня минуту – ваша матушка отказала мне в руке вашей, а вы прямо объявили, что полагаетесь на ее выбор.
– Да, и опять повторяю это: если моя мать непременно будет настаивать, чтоб я вышла замуж – я выйду, но только по ее приказу… Да к чему все это?! Вы, граф, имеете ко мне поручение от матушки?! Где и когда вы ее видели?
– Позвольте, княгиня, – я даже не извиняюсь перед вами за ту одежду, которую вы на мне видите – я к вам прямо с дороги… Мчался во весь дух, лошадей загонял до смерти… Я прямо из Кракова.
– Но матушка в Вилькомире… что все это значит?!
Гальшка растерянно взглянула на Зосю и хотела выйти из комнаты.
– Ваша матушка не в Вилькомире, она в Кракове, во дворце королевском, – поспешно сказал Гурко. – Выслушайте меня, княгиня… Когда мне отказали в руке вашей, я сообразил только одно: не вы мне отказали, а княгиня Беата Андреевна. Я знал, что все это оттого, что я не католик… католичество, простите меня, это печальная слабость княгини, но из-за такой слабости, смею сказать каприза, я не мог же отказаться от счастия всей моей жизни. Я решился бороться. Я сейчас же отправился к королю в Краков. Наш добрый король принял во мне горячее участие и согласился помочь мне. Он послал нарочного гонца к княгине с приказом, чтобы она немедленно приехала в Краков. Он присоединил к этому формальному приказу свою письменную, собственноручную просьбу. Гонец встретил княгиню на дороге, только случайно узнал ее, вручил ей королевский приказ и письмо, и она, вместо Вилькомира, приехала прямо в Краков.
Король был моим сватом, а княгиня Беата Андреевна не решилась отказать его настоятельной просьбе и желанию…
Гальшка не казалась пораженной, услышав это, она только тихо проговорила:
– Но, граф, я все же ничего не понимаю… Где моя мать теперь? Когда она приедет? Если она прикажет мне, я сказала уж, что не ослушаюсь ее воли… А до тех пор я прошу вас, граф, меня оставить. Я не могу говорить с вами, я не буду вас видеть до ее приезда.
Гурко не смутился.
– Я снова прошу позволения докончить, – сказал он. – Княгиня хотела ехать за вами, но король удержал ее при себе. Мне кажется, он был прав, полагая, что дорогой она снова поддастся убеждениям своего духовника, этого итальянца-иезуита, который возбуждает в ней такую… печальную ненависть ко всему некатолическому. Княгиня уже не раз доказывала королю, что от нее можно ожидать самых быстрых и непредвиденных поступков. Одним словом, было решено так: княгиня останется во дворце, а я поеду за вами. Но для того, чтобы вам не было неловко и неприлично со мной ехать, нас должны немедленно обвенчать тут же, у вас в доме… ведь лютеранское венчание не требует церкви и очень просто, а пастора я привез с собою из Кракова. Таким образом, мы явимся к королю и княгине уже мужем и женою…
Гурко и Зося впились глазами в Гальшку. Что она скажет?!
Она вздрогнула и еще больше побледнела. «Что же это? – мучительно подумала она. – Неужели уж пришло время, и теперь, сейчас, ее будут приносить в жертву. Или все это обман безбожный и расставленные ей сети?!»
Она собрала все свои силы и дрожащим голосом сказала:
– Граф, я не хочу сомневаться в истине слов ваших; но все, что вы говорите, так неожиданно, так странно, что я не могу решиться. Без самых верных доказательств, что такова именно воля матушки, я ни за что не выйду замуж ни за вас, ни за кого другого… Если вы даже письмо ее покажете – я и ему не поверю. Мне нужно слышать этот приказ из уст ее или иметь такое доказательство, которое подозревать невозможно… Простите меня – но иначе говорить и поступать я не вправе…
Выражение нескрываемого торжества изобразилось на лице Гурки, Зося притаила дыхание и то бледнела, то краснела. Приближалась роковая минута – сейчас все должно решиться…
– Конечно, вы можете мне не верить, княгиня, – с достоинством сказал Гурко. – Ваш ответ предвидел и я, и Беата Андреевна, и сам король. Я просил вашу матушку дать мне в руки именно такое доказательство, чтобы вы никак уже не могли сомневаться. И она дала мне его…
Он протянул Гальшке какой-то маленький предмет.
Она взяла его, взглянула и слабо вскрикнула.
Это был заветный, старинный перстень ее матери.
Ей ли не признать его! Она помнила, как еще маленькой девочкой, сидя на коленях у княгини, она часто любовалась этим перстнем. Потом мать не раз рассказывала ей о его происхождении. Он был вывезен из турецкой земли каким-то их предком. Там он считался талисманом, мусульмане думали, что в нем заключены сверхъестественные чары. Кругом на золоте мелко-мелко были вырезаны непонятные знаки. Посередине был вделан большой камень, которому никто не знал названия. Это был чудный камень – он постоянно изменял цвет свой и казался то голубым, то розовым, то зеленым. Если человек, носивший его, был здоров, то камень светился ясным, веселым блеском; коли человек заболевал – камень тотчас же тускнел и делался темным. Княгиня Беата необыкновенно дорожила им и всегда его носила. Гальшка не могла ее себе иначе представить, как с этим кольцом на пальце.
Бывало, давно уж, в Остроге, Беата говаривала Гальшке: «Когда я умру, мне кажется, в этом кольце я оставлю тебе частицу меня самой – оно будет говорить с тобою обо мне, передавать тебе мои мысли».
Гальшка понимала и чувствовала, что теперь она уже никак не может сомневаться. Это кольцо Гурко мог получить только из рук ее матери, только это кольцо и могла прислать княгиня как неопровержимое, хорошо известное дочери доказательство своего участия в деле.
Бедная Гальшка еще раз взглянула на перстень. Он показался ей чем-то живым и страшным. Таинственный камень был темен и мрачен, слабо светился синевато-зеленым цветом.
Итак, решено! Она должна стать женою этого чуждого ей, производившего всегда на нее такое томительное, неприятное впечатление человека… Женою!.. Какая жестокая, последняя насмешка над ее положением… Но ведь все равно, ведь мать не оставит ее в покое, ведь рано или поздно, сегодня ли, через две ли недели, через месяц, а должно это случиться. Не он, так другой… У этого Гурки такое злое лицо – он не может быть добрым, хорошим человеком… Вероятно, ее ожидают новые муки… Да разве брак уж сам по себе не будет для нее жесточайшей, невыносимой мукой!.. Авось она не выдержит этого, авось Бог сжалится над нею и скорее пошлет ей смерть… Пусть же будет, чего они желают…
– Этот перстень для меня достаточное доказательство, – сказала она Гурке слабым голосом. – Я знаю, что его нельзя подделать и что моя мать должна была послать именно его, чтоб убедить меня… Я поклялась ей исполнить ее волю – теперь делайте, что хотите. Но прежде, чем вы станете моим мужем, вы должны узнать, кого вы за себя берете. Садитесь и выслушайте меня, граф.
И она сама села, так как ноги отказывались держать ее.
– Но только одно – мы не можем терять времени, – заметил Гурко, боявшийся, что кто-нибудь или что-нибудь помешает исполнению его намерения теперь, когда все устроилось так скоро и без всяких затруднений. – Пастор и два моих свидетеля здесь, со мною, а после венчанья мы сейчас же и отправимся в Краков. Экипаж приготовлен и, если вам угодно, вас будет сопровождать панна Зося…
– Ах, не бойтесь – я не задержу вас, но я непременно должна сказать вам два слова…
Гурко приготовился почтительно слушать.
– Здесь почти все называют меня княжною, – начала Гальшка, задыхаясь и едва выговаривая слова. – Но ведь вы должны знать, что я вдова князя Сангушки. Моего мужа убили на моих глазах, мне не дали умереть с ним, связали мне руки и полумертвую привезли к матери. Я жива, но во мне все умерло – знайте это… Жизнь мне несносна, и люди несносны – мне бы умереть только, вот все, чего я желаю. Посмотрите на меня – разве я гожусь вам в жены: я больна, слаба, со мною ведь тяжело жить – я иногда по целым дням не в силах сказать слова… Мне нечего говорить вам, что я не люблю вас – вы это и так, я думаю, видите. Но знайте, что никогда, никогда я не полюблю вас, ни вас, никого на свете. Если в вас есть хоть капля жалости – вы откажетесь от меня и оставите меня в покое… Если у вас нет ни сердца, ни совести – берите меня и замучьте меня скорее…
Она зарыдала… она кажется умерла бы на месте, если б не вылились эти слезы, которые ее душили. Зося бросилась к ней и обняла ее. Она сама дрожала и плакала. Она не в силах была смотреть на несчастную Гальшку. Ей хотелось признаться во всем, молить себе прошенья, выгнать Гурку.
Но разве это возможно? А ее собственное горе, ее обида, жажда мести, сосавшая ей сердце… Отказаться, и теперь, теперь, когда все готово, все устроено так смело и ловко… Нет, это невозможно!
И она только плакала и покрывала поцелуями холодные руки Гальшки.
– Успокойтесь, успокойтесь, моя дорогая Елена, – вкрадчивым голосом заговорил Гурко, – я не могу отказаться от своего счастья… Вы теперь нездоровы и все вам кажется так мрачно. Новая жизнь спасет вас… Я сделаю все, чтобы успокоить вас, облегчить ваш недуг, излечить вас от него… Вы так еще молоды, рано думать о смерти, нужно жить… успокойтесь!
– Я спокойна! – вдруг сказала Гальшка, отстранив Зосю и вставая.
Лицо у нее помертвело, глаза были сухи.
– Берите меня… ведите!
Она прошептала это страшным, не своим голосом.
Гурко бросился к ней и хотел обнять ее. Она отшатнулась.
– Я еще не жена ваша!.. Вы сказали, что пастор здесь, с вами, что по вашей религии можно венчаться без всяких приготовлений дома… Так зовите его сюда, зовите скорее…
Гурко только этого и желал – он поспешил за пастором.
Зося решительно не понимала, что с нею. Ее била лихорадка, зубы стучали, а неудержимые слезы так и катились.
Гальшка это заметила.
– Ты плачешь, моя добрая Зося, – сказала она. – Тебе меня жалко… Не жалей… так лучше, все лучше. Разве ты не видела Гурки?.. Да, ты правду говорила, когда советовала мне выбрать его в женихи… Он в самом деле самый лучший жених для меня… Теперь я вижу, чувствую, что с ним скоро успокоюсь… так чего же ты – не плачь, не жалей… поздравь меня!
Зося закрыла лицо руками и уже громко рыдала.
Гальшка подошла к ней, обняла ее.
– Не плачь, не плачь, моя дорогая. Пойди, собери скорее, что нужно для тебя и для меня. Ведь мы вместе поедем, сегодня же, скоро… Не оставляй меня…
В это время входил Гурко с пастором и своими двумя свидетелями.
Зося взглянула на них страшными, покрасневшими от слез глазами и выбежала из комнаты.
IX
Гальшка как будто преобразилась. Она не казалась уже больше подавленной горем, безнадежной и беспомощной женщиной. Даже усталости и слабости в ней не было заметно. Если она что-нибудь чувствовала, то разве только нетерпение, чтобы скорее все кончилось, чтобы скорее вырваться отсюда и уехать – все равно куда, только чтоб была ночь кругом, холодная, черная ночь, с завыванием ветра и снежной вьюгой. Ей отвратительны казались эти комнаты, стены ее как будто давили.
Только бы скорее отсюда!
Пастор, человек очень сдержанный и холодный, всецело преданный интересам Гурки, поразился, увидя Гальшку. Как и все, он много слышал о красоте ее; но он не мог себе и представить ничего подобного.
Она просто, с врожденной ей величественной грацией, ответила на его поклон и вопросительно взглянула на Гурку. Тот взял ее за руку и подвел ее к столу, на котором пастор уже разложил бумагу для подписи и открыл молитвенник.
Пастор начал говорить мерным голосом, с заученными ударениями на некоторых словах. Гурко, набожно склонив голову, казалось, внимательно слушал. Но это не мешало ему, то и дело, искоса взглядывать на Гальшку. Ему с трудом верилось, что все обошлось так благополучно. Он ожидал сцен, слез, рыданий, боялся, что кто-нибудь услышит их и станет стучаться в комнаты…
Но ничего этого не случилось. Гальшка только назвала его человеком без сердца и совести, да и то в такой приличной форме, что ему нечего было обижаться. Она сама торопила венчанье, она так спокойна, так удивительно спокойна… И как хороша она! Нет, он до сих пор, значит, еще не разглядел ее как следует. Ему казалось, что она подурнела после болезни. Правда, она очень худа и страшно бледна… но что это за чудная мраморная бледность, как к ней идет это величавое спокойствие и полное равнодушие ко всему, которое так и бросается в ней в глаза с первого разу!..
Нет, из нее выйдет отличная жена… О! он сумеет заставить ее отказаться от всяких причуд и капризов… Только бы ему вступить во все права, так или иначе закрепить за собою ее огромное приданое. Она нездорова теперь, но это пройдет – она столько вынесла, у нее, должно быть, железное здоровье. Он в первое время будет заботиться о ней… он заставит ее часто бывать при дворе… С такою женою можно многое сделать: все будут ему завидовать, для того, чтоб он сквозь пальцы смотрел, как у нее целуют ручку. Все влиятельные люди станут исполнять всякое его желание. «Что ж, пускай увиваются, пускай целуют ручки – с такой женой это не опасно: в этом отношении, кажется, на нее можно положиться… А король-то, король – старый волокита – как увидит, так сейчас и обезумеет… Да за то только, чтоб поглядеть ей в глаза, он готов будет всю Польшу отдать ему аренду!.. Только отчего она так спокойна? Это даже неестественно… А вдруг она что-нибудь замышляет?.. Но что же? Ведь вот, минут через пять, она станет его законной женою и он ни на минуту не отпустит ее от себя… они сейчас же уедут… Нет, ему нечего бояться…
Пастор продолжал говорить. Он перешел в декламацию и с театральными жестами обращался к жениху и невесте.
Гальшка не слышала ни одного слова из того, что говорил он. Как ни велико было оцепенение, в которое она погрузилась, но все же невольно припомнилось ей ее первое венчание, в маленькой деревенской церкви, в ясный, душистый летний вечер.
Это было так еще недавно; но казалось ей так страшно давно, так бесконечно далеко. Невыносимая боль и тоска заключались для нее в этом воспоминании; но она не заплакала, не убежала в ужасе и гневе от этого отвратительного жениха, от декламировавшего и воздевавшего к потолку руки пастора. Она продолжала стоять неподвижно, опустив голову и стиснув зубы.
На нее находило забытье, свинцовый сон охватил ее сердце…
Ей все продолжала мерещиться старая деревенская церковь. Но она не видела возле себя любимого, дорогого князя, не слышала за собою тяжелого дыхания Галынского, не чувствовала над головой своей венца, по временам вздрагивавшего в руке Феди. Не видела она и добродушного, грубого лица старика-священника… Ей виделось только одно, виделось ясно, ясно, как будто бы это было теперь в действительности перед нею – ей виделся косой, вечерний луч солнца, перерезавший пополам всю маленькую церковь и поднявший столб бесчисленных пылинок… Пылинки сверкали, искрились и метались в непрерывном движении…
Зачем это теперь так живо, так ясно вспомнилось? Зачем она так жадно следит за игрою этих воображаемых пылинок, как будто во всем мучительном, бесконечно тяжелом воспоминании самое главное – мечущиеся пылинки… Как будто можно об этом думать теперь, теперь!
Но она не задавала себе никаких вопросов, она просто, в своей душевной дремоте, следила за непрерывным движением мертвых пылинок, озаренных солнцем…
Голос Гурки вывел ее из забытья. Венчанье было кончено, пастор благословил новобрачных и приветствовал их высокопарной фразой. Все, что требовалось, было исполнено. Гальшка стала законной женой познанского воеводы, графа Луки Гурки.
Он был настолько умен, что, почтительно поцеловав у нее руку, не стал ее тревожить разговором. Она спросила, скоро ли они должны выехать и, получив в ответ, что это от нее зависит, пошла в дальние свои комнаты поторопить Зосю.
Зося, запыхавшись, увязывала необходимые вещи.
Увидя Гальшку и поняв, что все кончилось, она не посмела подойти к ней и ее поздравить. Она смущенно наклонилась над ящиком, в котором разбиралась.
– Поторопись, Зося, пора ехать; да что ж ты одна, позови же кого-нибудь помочь тебе! – спокойным голосом выговорила Гальшка и прошла в маленькую комнату, где находилась ее образная.
Несколько лампад горело перед образами в богатых ризах, осыпанных дорогими каменьями.
Гальшка упала на колени и, наконец, зарыдала горько и отчаянно…
Она не слыхала, как в соседней комнате Гурко говорил Зосе:
– Нужно торопиться… мне и во время венчания послышалось, что кто-то громко кричал в дальних комнатах и стучался… теперь опять стук… слышишь… может быть, что-нибудь случилось в доме… Мешкать невозможно.
Зося побледнела. Она бросила свою работу и почти неслышно пробежала ряд комнат.
Да, стучатся.
Она чутко прислушалась к голосам, говорившим у двери.
– Не слышит никто, да и полно! – сказал мужской голос. – Доложи княгине, что княжна еще в сумерки приказала запереть эти двери… теперь она, должно быть, с панной Зосей в спальне, может, спят обе, так где им услышать…
От дверей отошли. Все смолкло.
У Зоси от ужаса подкашивались ноги. Она едва добежала до комнаты, где был Гурко.
– Княгиня, княгиня вернулась! – задыхаясь, проговорила она.
Гурко вскочил, как ужаленный. Что теперь делать?
– Что ж ты, что ж ты – продала меня что ли? – заскрежетал он на Зосю, сжимая кулаки и багровея от гнева.
Зося даже и внимания на это не обратила. Ее мысль деятельно работала.
– Еще есть время, – поспешно заговорила она, сообразив. – Я слышала – пошли докладывать княгине, что дверь заперта на ключ. Покуда вернутся, мы еще успеем сойти потайной лестницей…
И она бросилась к Гальшке.
– Пора, пора, все готово, едем!
Гальшка поднялась вся в слезах и, шатаясь, вышла из образной.
Зося поспешно подала ей меховую шубку. Гурко уже ждал у двери потайного хода.
– Зачем же отсюда? – удивленно спросила Гальшка. – Зачем тайком, как будто я бегу из дома?!
Никто не предвидел подобного вопроса. Гурко на минуту замялся.
– К чему же терять время, – сказал он. – Все захотят прощаться, а ты и так утомлена. Выйдем скорее отсюда и поедем.
– Но я именно и хочу со всеми проститься. Я не могу так уехать…
– Нет, решительно ни к чему все эти пустые проволочки. Все уже знают в доме, в чем дело. Пастор еще до венчания объяснил всем вашим домашним… Едем!
– Зося, позови мою мамку, я прощусь хоть с нею…
Из дальних комнат раздался сильнейший стук в дверь.
Гурко быстро обхватил Гальшку и готов был силой увлечь ее в коридор к лестнице.
– Что это значит? Что? Стучат?! Вот трещат двери! – воскликнула она, оттолкнула Гурку и бросилась навстречу поразившим ее звукам.
Все двери были настежь. Княгиня входила в комнату.
– Ты здесь! Меня обманули! – простонала Гальшка и упала на пол.
В это время Гурко с пастором и с провожатыми был уже в коридоре. Их догоняла Зося. Они быстро, толкая друг друга, спустились с лестницы и выбежали на двор. В этой части двора никого не было, но близко раздавались голоса, скрип шагов по снегу. Мелькал свет от фонарей, с которыми ходили люди. За калиткой Гурку дожидались два крытых рыдвана на полозьях.
Зося подбежала к Гурке.
– Ведь я погибла, граф, если ты меня оставишь… Возьми меня! – прошептала она.
Он обернулся.
– А! Вместо одной жены другую!.. Ну, да и та не уйдет – вот завтра еще увидим… Поедем Зося, поедем, я от тебя не отказываюсь.
Он посадил ее в рыдван, вскочил сам и велел кучеру скорее ехать к своему дому…
Княгиня Беата пришла в неописанную ярость, когда услышала от Гальшки о том, что случилось. Недаром она поспешила домой раньше срока. Чуяло недоброе ее сердце. Она даже хотела вернуться с дороги, спохватившись, что забыла дома перстень, с которым никогда не разлучалась. Но потом сочла это малодушием. Однако она все время не была спокойна, да и отец Антонио торопил ее… И все-таки они опоздали – опоздали несколькими минутами!
Какое удивительное враждебное стечение обстоятельств, какой хитрый, смелый план! И кто же, кто устроил это ужасное дело? Девчонка, никому не внушавшая подозрений, втершаяся в доверие и к Гальшке, и к княгине, и к Антонио! Счастлива она, что успела скрыться; но княгиня найдет ее, отдаст в руки инквизиции. Пусть пытают ее, пусть замучают. Нет таких пыток, которые были бы достаточны для этой негодяйки…
Отец Антонио не предавался гневу и казался спокойным; но он лучше княгини понимал всю серьезность их общего положения. Он внутренно проклинал себя, он презирал себя за свою позорную неосмотрительность. Молоденькая девушка, воспользовавшись случайными, благоприятными обстоятельствами, разбила в прах его долгую, мучительную работу, смело и самоуверенно расстроила его планы!.. И он не сумел понять этой девочки, он, с своим опытом и пониманием людей, забыл, что страстная, неразборчивая на средства женщина всегда отыщет самый действительный яд, чтобы отомстить человеку, оскорбившему ее чувство и самолюбие…
Кто отнял у него его ум и наблюдательность, когда он осмеливался пренебрегать Зосей? Он должен был знать, что она не простит ему своих долгих и тщетных усилий покорить его сердце. Но он поступал как глупец, поступал вопреки мудрым правилам тайных иезуитских наставлений и теперь должен нести тяжкую кару. Зося отмстила ему так ловко, так жестоко, что теперь вряд ли удастся выпутаться из этих обстоятельств. Княгиня Беата в своем необдуманном гневе не видит и не понимает, до какой степени серьезно это дело.
Взвешивая и соображая все, Антонио чувствовал, что он сам готов дойти до полного отчаяния. Но он все же победил свои чувства и решился бороться до конца. А теперь следовало дожидаться, что предпримет Гурко.
Гурко не заставил себя долго ждать. На другой день он явился в сопровождении целой толпы своих сотрудников и единоверцев к дому княгини.
Его не впустили.
Тогда он послал Беате заранее составленное письмо, в котором требовал выдачи ему его законной жены, графини Елены Гурко, вопреки всем правилам и законам задерживаемой ее матерью.
Княгиня возвратила ему письмо и посоветовала удалиться.
Он, действительно, удалился; но скоро вернулся с городскими властями. Княгиня должна была принять их, а с ними вместе вошел в дом и Гурко. Власти объявили, что брак графа совершен законно, и что, не говоря уже о венчавшем пасторе, он может выставить свидетелей как с своей стороны, так и со стороны новобрачной (подразумевалась Зося), в том, что здесь не было никакого принуждения, а, напротив, полное согласие невесты.
Княгиня, подчинившись просьбам и советам Антонио, сначала старалась говорить сдержанно и хладнокровно. Но скоро она стала раздражаться. На ее обвинения Гурки в обмане и насилии, ей отвечали, что обман не доказан, и все свидетели в один голос его отрицают. Да, граф Гурко сознается, что он вошел в дом через задний двор и провел с собою пастора, но так у него было заранее условлено с невестой…
– Ты говоришь это? Повтори! – вся побледнев и приближаясь к Гурке, проговорила княгиня.
– Да, я говорю, что так было, – спокойно ответил он.
– Негодяй, лжец! – дико вскрикнула Беата и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, изо всей силы ударила Гурку по лицу.
Он хотел на нее броситься, но его окружили со всех сторон и удержали.
– Вы видите, вы видите! – в бессильной ярости и задыхаясь кричал он. – Вы видите, это зверь, а не женщина! Она помешана. Она всячески мучила свою дочь, запирала ее, отказывала всем женихам для того, чтобы силой упрятать ее в католический монастырь… Весь город, все это знают! Так разве можно верить ей… Она почти до смерти запугала несчастную, и, понятное дело, мы должны были обвенчаться тайно… Во имя закона и справедливости заставьте ее выдать мне жену мою!..
– Идите все вон из моего дома! – грозно и величественно сказала княгиня. – Или вы забываете кто я, что позволяете себе такое бесчинство? Я не только не отдам этому негодяю моей дочери, но и не покажу вам ее – она больна. И я посмотрю, кто решится на насилие, кто станет выламывать мои двери…
– А ты, – обратилась она к Гурке, – ступай и жалуйся королю. Я посмотрю, признает ли он твое право. Если он сам приедет и потребует ее у меня, чтоб отдать тебе, тогда другое дело, но иначе ты никогда ее не увидишь!..
И она удалилась, велела запереть все двери и расставила почти по всем комнатам вооруженных людей.
Городские власти не решались действовать силой, как ни упрашивал их Гурко. Он в тот же день помчался в Краков, уверенный, что его огромные связи и личное расположение к нему короля сделают свое дело. Зося отправилась с ним и ради собственной безопасности, и как могущая очень пригодиться свидетельница венчания…
Что же теперь оставалось делать княгине? Она чувствовала, что почва уходит у нее под ногами. Чем она согрешила, что на нее обрушиваются такие несчастия?! Наученная горьким опытом, она неотступно следила за дочерью целых полтора года. И все-таки это ни к чему ни привело. Простой, глупый случай обратил в ничто все ее усилия. Она уже вернулась, была дома, в своей комнате, и искала забытый перстень, а в это самое время, тут же, в доме, обманутая с помощью перстня Гальшка венчалась с Гуркой. К чему же все усилия, хитрости, строгий, даже жестокий надзор! Второй раз отнимают у нее дочь самым возмутительным, неслыханным образом. И ей приходится переживать не одно только горе, а и стыд, позор перед людьми, сделаться живою сказкой по всей Литве и Польше.
Зачем она родилась ей на мученье, эта Гальшка, зачем у нее такой непокорный, упрямый характер! И прежде все еще завидовали, говорили о том, какое счастие иметь дочь-красавицу… О, как бы она была счастлива, если б Гальшка была безобразна – тогда ничего бы не случилось… Но нет, и не в красоте тут дело, а в этом проклятом характере, в ненавистном влиянии князя Константина. Боже! была ли еще на свете такая несчастная мать и дочь такая непокорная! Где это видано, чтоб молоденькая девушка, едва выйдя из пеленок, ни во что не ставила матери, все делала по своей воле, хотела распоряжаться своей жизнью на свою погибель?!
Беата кончала тем, что во всем обвиняла только одну Гальшку. И она вдруг почувствовала к ней страшную злобу, даже почти ненависть.
Да, да, во всем виновата Гальшка! Это она нарочно срамит и себя и ее, чтобы причинять ей горе. Гурко сказал, что она сама была согласна с ним тайно обвенчаться, сама провела его через темную лестницу… Княгиня, возмущенная этим, назвала его лжецом и негодяем и ударила. Но почему она знает, может быть, он сказал правду. Действительно, трудно предположить, чтоб без ее ведома все произошло так шито и крыто…
Беата не задумалась явиться с этими подозрениями к дочери.
Та выслушала ее молча, только взглянула на нее изумленными глазами.
– А! ты молчишь – значит это правда! – закричала княгиня.
– Правда, если тебе нужно, чтоб это было правдой, если ты способна предположить, что это может быть правдой, – упавшим голосом проговорила Гальшка. Она даже не ужаснулась словам матери – казалось, ничто уже не может поразить ее.
– Оставь эти взгляды, эти ни к чему не ведущие хитрости! Говори мне сейчас: ты имела уговор с Гуркой, ты согласилась на венчание, ты обманула меня? – бешено, даже с каким-то шипеньем спрашивала княгиня.
– Я ничего не скажу тебе, матушка, – я еще вчера все сказала.
– А! ты запираешься! Ну, так знай же: как ни велика твоя хитрость – ты не будешь женой Гурки, ты не уйдешь из рук моих. Я не отдам тебя ему, хотя бы вы двадцать раз были обвенчаны… слышишь – не отдам, хотя бы сам Господь сошел с неба и приказывал мне это… Я отдам тебя за первого встречного, за первого хлопа; но Гурке ты не достанешься… А! тебе мало прежнего позору; ты хочешь на весь мир осрамить род свой, ты хочешь свести меня в могилу! Ты с семнадцати лет стала всем вешаться на шею, заводить любовные истории! Тебе нипочем бегать из дому с каждым нахалом. Позор, позор! Скоро все, во всем свете, будут называть княжну Острожскую блудницей! Да верно уж и называют! Но довольно, довольно… я не допущу тебя больше глумиться надо мною… я задушу тебя своими руками, если ты еще пикнешь, если хоть шаг сделаешь без моего ведома!..
И Беата разразилась истерическими рыданиями.
Гальшка упорно молчала, стараясь не слышать ужасных, безумных слов матери. Она только с отчаянием помышляла о том, что, видно, смерть никогда не сжалится над нею.
Очнувшись и несколько успокоившись, Беата призвала отца Антонио. Ей бы хотелось и его упрекать, и его обвинять в чем-нибудь; но она не посмела этого.
Что теперь делать, что он ей посоветует?
– Мне кажется, Гурко рассчитал верно, – сказал Антонио. – У него при дворе большая сила, ему легко будет убедить короля и выставить все в благоприятном для себя свете. Остается одно – постараться предупредить его – пишите сейчас же королю – я продиктую – и немедленно пошлите гонца в Краков. Нужно будет написать еще некоторым лицам… А покуда я бы посоветовал вам переехать из дома в наш монастырь… Я уже переговорил с Варшевицким и другими… мне обещали деятельную поддержку ордена… Наши отцы и в Кракове могут очень помочь, да и во всяком случае, в монастыре будет безопаснее… Теперь вы видите, что можно ожидать всего, самого невероятного и неожиданного…
Недаром иезуит говорил это. Еще одна мысль, одна надежда мелькнула в нем. Никакие ухищрения не помогли ему совратить Гальшку в латинство, добровольно заставить ее переменить веру и постричься в монахини, а между тем это было его единственной целью. Теперь же уж и невозможно было действовать убеждением – она не позволит ему сказать и слова. Теперь, в случае удачи Гурки, нужно сообща, соединенными усилиями иезуитов, уговорить княгиню допустить пострижение Гальшки…
Пусть насилие, пусть – но цель будет достигнута. Гальшка никому не достанется, а орден получит ее состояние. Только бы уговорить княгиню, которая и до сих пор еще и слышать ничего не хочет об этом, желает самым блестящим образом выдать дочь замуж.
Но, в крайнем случае, можно обойтись и без согласия княгини. У себя, в монастыре, иезуиты сумеют распорядиться. Быть может, даже и сама Гальшка из всех зол, обрушившихся на ее голову, выберет католический монастырь. Не он станет объясняться с нею, он предоставит это другим…
Антонио мучительно задумался о себе и о Гальшке. Какая страшная судьба его преследует! В последние два года какое-то проклятие легло на все его замыслы, на все поступки… Огромная интрига приведена в действие, совершено немало решительных дел, пролито немало крови. Убит Сангушко, отстранен князь Константин, Беата в Вильне – ее состоянием распоряжаются иезуиты. Но к чему повело все это – жизнь Гальшки разбита и еще удивительно, как выносит она свои страдания. Он имеет возможность ежедневно видеться с нею, говорить без помехи. Не было таких приемов, не было такой хитрости, которую бы он не пустил в ход с нею. Не только слабая, измученная и запутанная женщина, а и всякий сильный человек давно подчинился бы его влиянию, давно был бы в руках его. Но ничего не мог он сделать с Гальшкой. Всякое оружие ломается об ее неприступность. И чем тяжелее ее жизнь, чем ужаснее обстоятельства, чем невыносимее испытания, тем крепче и непоколебимее ее православие… За все эти два года он добился только одного: прежде она относилась к нему с равнодушием, теперь он ей страшен и ненавистен – она видит в нем не только своего врага, она видит в нем дьявола.
Вот что он сделал, вот чего он добился со всем своим умом и хитростью…
Так пусть же теперь конец всему – одним разом нужно разрубить этот страшный, замотавшийся узел. Пусть гибнет она, пусть последнее, ужаснейшее насилие совершится над нею: но он все же не отдаст ее жизни, не отдаст ее людям!
X
Недавно возникший, уже совершенно устроенный иезуитский монастырь в Вильне находился вблизи от замка епископа. Костел величественной итальянской архитектуры выходил на обширную площадь. За костелом начинались монастырские строения, расположенные квадратом. Снаружи были видны только высокие, крепкие каменные стены без всяких признаков окон и ворот. Очевидным казалось, что проникнуть в монастырь можно только через ворота костела.
А между тем очень часто отец-иезуит, вышедший утром из монастыря, вечером оказывался в своей келье, и два сторожа, день и ночь стоявшие у входа, могли чистосердечно поклясться, что они его не впускали. Это значило только, что для удобства сообщений и разных предвиденных и непредвиденных обстоятельств, иезуиты устроили подземный ход в монастырь, куда проникать можно было с нескольких пунктов. Ход этот тянулся на значительном расстоянии и доходил до самого речного берега, где заканчивался небольшим отверстием, тщательно скрытым в глухом и никем не посещаемом овраге. Остальные входы находились в домах, принадлежавших иезуитам.
Подземелье имело вид узкого коридора, выложенного камнем, и заключало в себе множество разветвлений. Следы его еще недавно находили в Вильне. В иных местах, где это было удобно и не представляло никакой опасности для сохранения тайны, коридор сообщался с поверхностью земли посредством труб, проводивших в него воздух и слабые проблески света. По временам на всем протяжении подземелья, в стенах попадались железные окованные дверки. Здесь помещались тоже кельи, но обитать в них приходилось, разумеется, не сподвижникам ордена. Здесь висели тяжелые цепи, большая часть которых в то время еще только ожидала несчастных жертв иезуитской таинственной инквизиции. Но все же некоторые из этих страшных подземных темниц уже были оглашены человеческими стонами.
Стоило человеку узнать какую-нибудь тайну ордена или так или иначе показаться опасным виленским отцам – его тотчас же заочно судили и через несколько дней он пропадал бесследно. Выследив его где-нибудь в глухом месте или заманив в монастырь, его схватывали и с завязанными глазами приводили в судилище. Когда снимали с его глаз повязку, он невольно должен был помертветь от ужаса – иезуиты, всегда любившие разные эффекты, постарались сделать из своего судилища какое-то подобие мрачной могилы. Оно помешалось под землею. Сводчатые стены и пол – все было черное. За черным столом сидели судьи, как страшные привидения, скрывая свои лица под масками. Украшение склепа составляли только человеческие черепа да кости. На столе лежали цепи и орудия пытки. И все это озарялось тусклым светом черных восковых свечей, вставленных в железные канделябры.
Угрозами, страхом, разнообразными пытками из человека выжимали все сведения, какие он мог доставить. Ему даже не говорили, в чем его обвиняют, не давали права защищаться. Он должен был только отвечать правдиво на задаваемые ему вопросы. Когда вопросы истощались, железная дверь скрипела на своих петлях; несчастного влекли в подземный коридор, приковывали к стене в душной, маленькой темнице и огромными замками запирали ее дверцу. Он оставался в спертом, удушливом воздухе, среди полнейшей темноты; он мог ощупать только холодные, мокрые стены, мог слышать только звук цепей, которыми был прикован. Его отчаянный вопль и стоны гулко оглашали низкий свод и замирали в мертвом подземелье… Проходили долгие, адские часы, и никто к нему не являлся, не приносил ему питья и пищи. Проходили еще часы, и к его душевным мукам, к его ужасу начинали примешиваться страдания голода и жажды… Тщетно кричал он и звал к себе на помощь – никто не мог услышать его, никто не мог явиться, на его зов, потому что голодная смерть была единогласно присуждена ему на судилище отцов-иезуитов…
И умирал человек в лютых муках, и долго еще его семья и родные ожидали его возвращения и никак не могли понять, куда это он девался. Быть может, кто-нибудь из них проходил над его головою, быть может, в глухую ночь, когда стихали дневной шум и движение, можно было расслышать из глубины земли его тяжкие, предсмертные стоны.
Изредка обезображенный, неузнаваемый труп всплывал на поверхность Вилии. Чаше же несчастных так и забывали в подземных могилах, пока еще оставались свободные цепи – всюду в развалинах иезуитских монастырей, на всей протяжении Литвы, и теперь еще, спустившись в подземелья, можно видеть целые груды человеческих костей, сваленных вместе, и отдельные скелеты под ввинченными в стены тяжелыми цепями…
А над страшным мраком этих коридоров и склепов, где замирали предсмертные стоны и разлагались прикованные трупы, в кельях монахов царила роскошь. Обширный внутренний монастырский двор был превращен в прелестный цветник. Кроме того, здесь были устроены оранжереи и парники, выращивались дорогие растения и всевозможные фрукты.
Таков был монастырь, куда по приглашению отцов-иезуитов переселилась княгиня Беата с Гальшкой и Антонио.
Гонец от княгини уже мчался в Краков, но невозможно было скоро ожидать его возвращения.
Несколько красноречивых монахов, пользовавшихся расположением Беаты, вполне одобрили план Антонио и тотчас же приступили к его исполнению.
Они неустанно, порознь и вместе, старались убедить Беату, что самое лучшее, особенно при настоящих обстоятельствах, и в случае успеха Гурки, посвятить Гальшку Богу. Отдать ее лютеранину Гурке – значит, согласиться на ее верную погибель. Если она сама так молода и неразумна, что не может понять этого, то мать имеет полное право решить за нее, силой принудить принять католичество и постричься. Есть обстоятельства, когда Бог разрешает насильственные действия – совершая их, нужно только постоянно иметь в мыслях ту благую цель, к которой они приводят. Если Гальшка упорно откажется произносить обеты и совершать все, что требуется правилами, то княгиня может это исполнить за нее.
За этими советами следовали потоки самого обольстительного красноречия. Отцы-иезуиты рисовали яркими красками последствия такого доброго дела. Если княгине тяжело отказаться от дочери, от своих материнских надежд видеть ее среди блестящей, светской обстановки – то тем угоднее будет Богу эта великая ее жертва. Пусть она обдумает все хорошенько, вглядится во все обстоятельства; не видимо ли перст Божий указывает ей, что она должна поступить именно так, и что к этому клонится судьба ее дочери?! Другая девушка вырастет, выйдет замуж, и все это совершится естественным порядком. С Гальшкой не то: вот она в короткое время уже два раза обвенчана, а между тем у нее нет мужа. К тому же она, очевидно, не создана для светской жизни – живя в доме матери, окруженная блестящим обществом и толпой поклонников и искателей, она не наслаждается жизнью, а тоскует и вянет. Она сама просится в монастырь… Но в русском схизматическом монастыре она не спасет свою душу. Княгиня как ревностная и благочестивая католичка сама понимает, что обязана привести дочь к истинной церкви… Да и кто знает, какие еще новые испытания судьба готовит Гальшке, если она останется в свете, какое новое горе, быть может, ожидает и княгиню… Сколько ежедневных волнений и опасностей! А в монастыре, благословенная папою, Гальшка успокоится, успокоится на ее счет и княгиня. Неужели так уж дорог этот весь мишурный блеск, успехи при дворе, пороки, искушения и ежеминутная вероятность падения, что нельзя отдать всего этого за жизнь, посвященную только Богу, молитве и святым помыслам. Да и сама княгиня – разве дорожит она светом, разве давно уж не отказалась от него, не отдала своей жизни делам благотворительности и молитве?! Зачем же не хочет она того же и для своей дочери?!
Княгиня Беата вслушивалась в эти речи и сознавала их справедливость. Ведь то же самое давно уж и постоянно твердит ей и Антонио. Но и тогда, и теперь, не возражая, она все же колебалась последовать благочестивым советам. В ее сердце жили иногда самые противоположные чувства, в ее голове гнездились противоречившие друг другу помыслы. Она искренно ненавидела свет и жила почти как монахиня, но в то же время она всякий раз, упорно и невольно, гнала от себя мысль видеть Гальшку в монашеской одежде. Все, о чем во дни молодости она мечтала для себя самой, все свои честолюбивые планы она перенесла на дочь – чудную, изумлявшую всех красавицу… Нет, такая красота рождена не для монашеской кельи. Пред такой красотой должен преклониться свет, она должна принести честь и славу всему их роду. Гальшка не может, не может ограничиться глухой, будничной долей! Что бы то ни случилось в прошлом – все это пройдет, пройдет; и в конце концов красавица Гальшка очутится наверху земной славы и земного величия… Так еще недавно думала и чувствовала княгиня – и нелегко было ей расстаться с этими мыслями.
Но последние обстоятельства, неожиданные и ужасные, довели ее до высшей степени раздражения. Она перестала мечтать о будущем Гальшки. Теперь в ней была только ненависть к дочери и Гурке. Дойдя до убеждения, что дочь сама устроила все дело, чтобы причинить ей горе, она поклялась обуздать ее и показать ей свою силу… Но ненавистнее всех и всего был для нее Гурко. При одной мысли о нем она доходила до бешенства и клялась, что несмотря ни на какие приказы королевские, он никогда не увидит Гальшки…
Во время одного из разговоров с отцом Антонио она сказала ему:
– Вот уж и время было бы возвратиться гонцу нашему, а его все нет… Боюсь, что дела плохи… Теперь пора действовать…
– Давно пора действовать, – ответил Антонио. – Здешние отцы только и ждут вашего разрешения – скажите слово – и завтра княжна будет монахиней. Вы немедленно отправите ее в Италию с надежными друзьями нашего ордена, я сам, наконец, берусь сопровождать ее. Тогда вам останется только устроить здесь свои денежные дела так, как уже было условлено между нами, и мы будет ожидать вас в Риме… Пора, пора, княгиня, – для всех нас должна начаться новая жизнь…
Беата заволновалась – в последнее время она не могла говорить спокойно и благоразумно.
– Нет, отец мой, нет – мы могли так мечтать и строить планы… Но теперь нечего и думать исполнять их… Пустить Гальшку в монастырь! Я думаю, она будет рада этому – она знает, что не к тому я ее предназначала… В монастырь! – для чего? Для того, чтоб обмануть Бога?! Мы два года бились с нею, всячески ее убеждали; но ведь вы знаете теперь, понимаете, что никогда она не будет католичкой… И потом, и потом – разве вы не видели ее в последнее время – ведь теперь она помышляет только об одном, чтоб от меня избавиться… Я теперь знаю, до чего она хитра – она, пожалуй, для виду, и примет католичество, и пострижется, а потом найдет способ убежать из монастыря к своим защитникам, к тому же Гурке… И будет кричать о насилии, и вооружит всех против нас… и доведет меня до могилы…
Антонио только пожал плечами. Он не мог считать Гальшку способной на все это. Он знал, что вольно или невольно попав в монастырь, она уже не уйдет оттуда…
Княгиня продолжала, волнуясь все больше и больше:
– Нет, мне теперь дела нет никакого до моей дочери… Я забываю о ней, она сделала все, чтоб уничтожить во мне материнские чувства. Мне теперь дело только до Гурки, я докажу ему, что безнаказанно нельзя глумиться надо мною! Я и королю скажу, с кем он имеет дело! А! Они увидят, что и я способна быть решительной, когда надо!
Она остановилась, сверкая глазами и задыхаясь. Антонио понял, что в голове ее внезапно созрел какой-то безумный план.
– Что вы еще задумываете? – усталым голосом спросил он.
– Что я задумываю?! – я задумываю такое, чего они никак не ожидают! Я буду их бить их же оружием… Пускай Гурко теперь является сюда с приказом короля за своей законной женой! Он не найдет здесь графини Гурко – Гальшка уж будет тоже законной женой другого.
Антонио взглянул на Беату как на сумасшедшую – этого даже от нее не мог ожидать он.
Но она жадно ухватилась за свою внезапную, сумасбродную мысль и с каждою секундою находила ее все более и более целесообразной. Она чувствовала какое-то наслаждение в сознании, что всех поразит своим поступком, запутает дело до невозможности… Что ж Гальшка?! Пусть пропадет теперь Гальшка, лишь бы ее враги растерзали друг друга.
– Да! – быстро заговорила она, – я знаю человека, который будет здесь по первому моему знаку и обвенчается с Гальшкой – ведь ей, видно, так уж суждено всю жизнь венчаться! Это – Олелькович-Слуцкий. Он православный… пусть… ничего… но у него знаменитое имя, богатство, родство с нами – он все же лучший муж, чем этот Гурко… Да я этим поступком заставлю лютого врага моего, князя Константина, способствовать моим целям, он станет хлопотать за Слуцкого… Они все там перегрызутся, как собаки… Слуцкий обожает Гальшку и ненавидит Гурку… Я знаю, чем бы ни кончилось у них там в Кракове, что бы ни постановили сенат и король – Гурко не увидит Гальшки. Если решат дело в пользу Слуцкого – Гурко должен будет замолчать и всю жизнь не забудет, что значит оскорбить Беату Острожскую. Если он добьется своего, и ему велят отдать Гальшку, то прежде, чем он ее увидит, Слуцкий уж убьет его – я знаю Слуцкого, он не отдаст Гальшки…
– Княгиня, да ведь это безумство! – вскричал Антонио. – Вы только погубите княжну и ничего не достигнете.
Он даже испугался. Он видел, что Беата теперь не способна ничего понимать. Уже не в первый раз, дойдя до такого состояния, она во что бы то ни стало приводила в исполнение первую безумную мысль, приходившую ей в голову. Отговаривать ее, убеждать – значило только подливать масла в огонь. Бывали минуты, когда для нее не существовало ничьего авторитета, ничьего влияния. Она не терпела тогда постороннего вмешательства и, несмотря на всю близость к отцу Антонио, вдруг доказывала ему, что он далеко не всецело завладел ее душою. Какой-то упорный бес сидел в этой женщине и мутил иногда ей разум.
Антонио замолчал. Он знал, что покуда они в монастыре, иезуиты не допустят ее до сумасбродного плана. Но ведь нельзя было силой удержать ее в монастыре, если она пожелает вернуться в свой дом. Княгиня Беата Острожская не могла пропасть в иезуитских подземельях. Это значило бы чересчур уж рисковать и приготовить ордену много неприятностей и бедствий. Но и это бы еще ничего – изобретательность и хитрость иезуитов, пожалуй бы, победили все улики и подозрения, сумели бы тщательно и безопасно для себя скрыть новую свою тайну. Княгиня Беата не могла бесследно исчезнуть по иным соображениям. Большая часть ее состояния, равно как и состояние Гальшки, были еще в ее руках. С ее исчезновением орден должен был бы упустить это богатство – а оно всецело предназначалось в его собственность.
– Да, делать нечего – придется обойтись без Беаты.
И вот, после таинственного совещания, один из иезуитов – почтенный, седовласый пастырь, пробрался в небольшую, но очень удобную и красиво убранную келью, занимаемую Гальшкой.
Гальшка все дни проводила почти не выходя отсюда. Сначала она чувствовала себя очень слабой. Ее забытье и обычная апатия сменялись порывами отчаянья. Но потом она стала находить даже некоторое успокоение в ничем не возмущаемой тишине этой кельи.
Мать к ней не показывалась. Молчаливая служанка, взятая из дому, поспешно исполняла свои обязанности и затем удалялась. Какой-то сгорбленный старик-итальянец приносил ей изысканную пищу на массивном серебряном подносе.
До каких же пор будет продолжаться эта тихая жизнь и чем она кончится?! Быть может, скоро явится Гурко, заявит свои законные права и увезет ее. При этой мысли она снова приходила в себя и содрогалась. То, на что она согласилась несколько дней тому назад, теперь представлялось ей чудовищным и невозможным. «Все равно, все равно! – пусть делают со мною, что хотят!» – говорила она недавно в полном упадке нравственных сил. Но вот новые ужасы, случившиеся с нею, не убили ее, а напротив, возбудили в ней всю жизнь, на какую еще была способна душа ее. Она в первый раз за все эти тяжкие полтора года взглянула на судьбу свою с негодованием и горечью.
До сих пор она только мучилась, тосковала и молилась, чтоб победить сердечный ропот. Она старалась никого не винить и подчинялась воле матери во всем, за исключением вопроса о православии. Под конец ее апатия и жалкая покорность стали переходить почти в тихое помешательство. Последнее потрясение, измена Зоси, страшные речи матери, дали ей толчок – и она очнулась. Здесь, в этой уютной келье, она поняла, что слабость, выказанная ею, была преступной, недостойной человека слабостью. У нее отняли все, что было ей дорого, ее отравили медленным ядом, а она и не пробовала бороться! Когда-то она горячо любила мать, она хорошо понимала свои обязанности перед нею; но ведь та целым рядом неслыханных, ужасных поступков доказала ей, что должен быть предел дочернему послушанию и смирению. Кто же, наконец, ее злейший враг, как не княгиня? Кто убил ее мужа, кто вытягивал всю ее душу, заставляя отказаться от веры, в которой она была воспитана, кто страшно оскорбил ее, ни в чем неповинную, такими словами, что она даже боится повторить их в своих мыслях?! Боже, прости ее, но она не может больше считать княгиню матерью!..
И теперь она будет бороться, покуда смерть не положит конца ее усилиям. Она не может и не должна больше так жить, она при первой возможности убежит из дому. Она найдет добрых людей, которые доставят ее к князю Константину, а он даст ей возможность – все равно где, в монастыре или у него в доме – запереться навсегда от света и отдаться одной молитве… Как могла она не сделать этого гораздо раньше? Что такое творилось с нею? Где был ее разум?!
Но что же теперь, если явится Гурко? Ведь она не может же быть его женою… Боже, что она сделала! Как могла она дойти до такого непонятного безумства?! Она не знает, как это будет, она знает только одно, что не пойдет к Гурке, не опозорит себя его прикосновением… Разве возможно подобное супружество, разве оно не равняется самоубийству?!
Ей становилось страшно и она начинала горячо молиться.
В одну из таких минут кто-то постучался у ее двери.
Она отворила и увидела старого монаха.
– Что вам нужно, отец мой? – с изумлением спросила она.
Иезуит взглянул на нее добродушно и ласково и просил позволения поговорить с нею о деле.
«Опять католичество»! – раздражительно подумала она и молча указала ему на стул.
Он сел и начала тихим, приятным голосом:
– Дочь моя, я знаю, что ты страдаешь, что жизнь твоя не радостна… И некому тебя утешить, и ты окружена врагами. Я знаю, что ты с предубеждением смотришь на религию, которую я исповедую, и невольно должна глядеть на меня как на недруга и навязчивого, непрошеного гостя… Но если даже горе и несправедливости людские ожесточили твое сердце, все же оно еще так молодо, что не может не понять естественных побуждений другого сердца. Прошу тебя – забудь, что я католический монах и смотри на меня просто как на человека… Когда-то у меня была тоже дочь там, далеко в Италии… И я схоронил ее… Видя твою молодость, зная о твоих несчастиях, я не могу о тебе не думать и не жалеть тебя… И вот я пришел к тебе, чтобы поговорить с тобою о твоем тяжелом положении и поискать из него выхода…
Он остановился в волнении. Он глядел на Гальшку как добрый отец и, очевидно, с трудом сдерживал слезы, уже блестевшие на глазах его.
«У него такой искренний, добрый вид, он даже плачет… Но, Боже, ведь и Зося казалась искренней и плакала!» – подумала Гальшка.
– Благодарю вас, отец мой, но я не вижу, что вы могли бы для меня сделать, – сказала она.
– Сделать я, конечно, могу очень мало, – ответил иезуит, – но позволь мне откровенно высказать свои мысли…
– Я вас слушаю.
– Чувствуешь ли ты влечение к жизни в свете, к земному блеску?
– Зачем вы меня спрашиваете об этом?! Если вы знаете мое прошлое…
– Да, да, – перебил иезуит, – прости меня, мой вопрос излишен… Следовательно, я не ошибаюсь, думая, что ты ищешь тишины и успокоения, желаешь посвятить себя Богу?
Бледные щеки Гальшки слабо вспыхнули, в лице изобразилось раздражение. Она уже была не та, что прежде, – теперь она умела негодовать и возмущаться.
Она поднялась со своего места и довольно резко ответил иезуиту:
– Я знаю, что вы хотите сказать мне… Вы хотите предложить мне это успокоение. Моя мать не пустит меня в православный монастырь, так я должна перейти в католичество и с вашею помощью постричься… Ведь так?! Но, отец мой, я уже давно все это слушаю, и нового вы мне ничего не скажете!
Монах даже вздрогнул и невольно смутился от такой неожиданности. Он никак не мог предположить от Гальшки подобного ответа – значит, ему ее плохо описали. Но ведь не уходить же!
Он горько вздохнул и печально посмотрел на Гальшку.
– Да, я это самое и хотел сказать тебе, потому что никто другого тебе и сказать не может. Но я хотел тебе сказать это, быть может, иначе, чем ты до сих пор слышала… Я католик и готов сейчас же принять мучения за свою веру… Если 6 я родился и был воспитан в православии, я думал бы так же, как и ты, и считал бы свой переход в иную религию грехом великим. И знаю, что я не стал бы слушать никаких увещаний, точно так же, как и ты это делаешь. Но, дочь моя, Господь милосерд и бывают в жизни человека такие минуты, когда Он разрешает невинный обман ради благой цели и спасения… Как слуга Божий, прихожу я к тебе, чтобы внушить добрую мысль и рассеять твои сомнения. Ты равно будешь служить Богу молитвой, безгрешной жизнью и добрыми делами как в русском монастыре, так и в монастыре католическом. Я настаиваю не на твоем переходе в нашу религию, я не стану доказывать теперь тебе твои заблуждения. Я просто хотел бы помочь твоему спасению. Подчинись только видимо воле твоей матери, только внешним образом прими католичество, а внутри себя, тайно обращаясь к Богу, скажи, что остаешься при прежней вере и вынуждена принять на себя словесный обман только в силу тяжких обстоятельств. И Господь разрешит тебе это, и не отвратит от тебя лица своего. Католичка только по внешности, ты останешься православной в душе своей… А крест и Евангелие, и святая молитва одни и те же во всех монастырях христианских – и ваших, и наших… Если в моих словах ты видишь что-нибудь кроме желания помочь тебе и указать единственный, возможный для тебя выход – суди меня, а я удаляюсь, сокрушаясь по тебе и моля за тебя Бога…
Он говорил с Гальшкой на своем родном, прекрасном языке и произнес эту речь кротким и несколько грустным голосом. Содержание ее было заманчиво, способ действий, предлагаемый им, действительно, мог привести Гальшку к ее цели. Но она возмущалась всем своим сердцем, вслушиваясь в слова его.
Он кончил. Что она ответит? Неужели он не сумеет убедить ее, неужели он не дал своими последними словами нового толчка ее мыслям?!
Отец мой! – ответила Гальшка спокойно и просто. – Я верю в ваше желание мне добра и пользы. Но откуда вы знаете, что ложь и обман, что ложная клятва разрешаются Богом когда бы то ни было? В этом я не могу вам верить – я знаю, что это неправда!
Иезуит постарался не смутиться. Он пробовал развивать свою мысль дальше, говорил долго, убедительно, красноречиво. Но все его доводы, основанные на слишком житейской, практической точке зрения, не могли поколебать Гальшку.
Они не понимали друг друга.
Он вышел из ее кельи таким же грустным и соболезнующим, каким и пришел, и только рассказывая в собрании отцов о своей неудаче, разразился негодованием на неразумное упрямство Гальшки.
XI
По всему Острожскому замку быстро расходился, на разные лады повторяемый, рассказ о приключениях Сангушки и весть о его приезде. Многие упорно отказывались верить всему этому; но вот им удавалось взглянуть на князя – и сомнениям не оставалось места. Да, это он, живой и невредимый… Но как же он постарел, как изменился! Видно, нелегко дались ему эти полтора года! Но, слава Богу, слава Богу! Вот уже просветлело мрачное лицо князя Константина и разом как будто новая жизнь пришла в замок. Все суетились, и толковали, и судили, что теперь будет…
Много было разного люда, в замке – попадались и добрые люди, попадались и негодные. Много было разноголосицы, споров и перекоров. Но в одном все сходились и стояли как один человек – в теплом, восторженном чувстве к прекрасной Гальшке. Она представлялась всем добрым ангелом замка, вечной и всеобщей заступницей перед князем Константином. Ее никто не забыл, о ней постоянно шли тихие, грустные разговоры. Ее горькую судьбу оплакивали. «Что-то теперь с нашей голубушкой, загубили ее друга милого, загубили и ее, сердечную!» – со слезами на глазах говорили женщины. И мужчины не смеялись над их чувствительностью, над этими причитаниями, а сами задумывались и угрюмо молчали. По Гальшке все полюбили и князя Дмитрия Андреевича и его оплакивали. Среди населения замка сложилась даже легенда о любви княжны прекрасной. Рассказывалось с поэтическими прикрасами и подробностями о том, как она и князь Сангушко на балу открылись друг другу – будто кто-нибудь мог знать это кроме душистой, летней ночи да подслушивавшего в кустах бледного иезуита…
Теперь все надеялись на счастливую развязку страшной истории и с нетерпением ждали событий.
Те же самые надежды питали в себе и князь Константин, и Сангушко. Острожский на время забыл все свои дела и заботы. Он быстро снаряжал значительное войско, и только что оно было готово, двинулся во главе его с князем Дмитрием Андреевичем в Краков…
Они остановились не въезжая в город. Константин Константинович отправился один во дворец королевский. Там шло обычное ликование; дряхлеющий Сигизмунд-Август наполнял свою жизнь всяким вздором. Однако же он тотчас принял Острожского, просившего аудиенции с глазу на глаз. Князь повел речь смело и решительно. Он сразу рассказал в чем дело и объявил, что Сангушко дожидается за городскими воротами с отлично вооруженным и значительным войском. Что-нибудь одно – или король поступит как государь добрый и справедливый, уничтожит силу сенатского декрета и прикажет возвратить мужу законную жену, или он, князь Константин Острожский, вместе с Сангушкою, тотчас же покинут пределы Польши и Литвы и перейдут на службу к царю московскому. Пусть король собирает свое войско и шлет его им в погоню. Настигнут их – войска сразятся и неизвестно еще за кем останется победа… Пусть король задержит теперь же князя Константина – и через несколько часов огромное войско добудет его из дворца королевского, из-под замков и дверей тюремных. Пусть король немедленно казнит его – но в таком случае ведь он знает, чем может кончиться дело.
Король был смущен и взволнован этой неожиданной речью. Он, действительно, понимал всю силу угроз князя Константина, а бороться с ним ему почти не предстояло возможности. Волнения в Литве, насильственные меры против ее главнейшего представителя – допустить это было бы весьма неблагоразумным шагом. Да и, кроме того, несмотря на всю свою пустоту душевную, король еще способен был отзываться на человеческие чувства. Он понял, что перед ним не дерзкий наглец, а мужественный человек, требующий от него справедливости. Но, видно, Острожский еще не знал того, что случилось с его племянницей. И король показал ему только что полученное письмо Беаты, передал о просьбе Гурки.
Князь Константин просто остолбенел на месте. Боже! Еще несколько дней и все было бы потеряно, и совершилось бы самое гнусное насилие! О, что они сделали с его несчастной Гальшкой, до чего довели ее! Но, слава Богу, еще есть время, Гальшка не вдова, ее первый муж жив – второе венчание незаконно.
Долго беседовал он с королем и под конец они совершенно поладили. Сигизмунд-Август был тронут рассказом о несчастьях Гальшки и приключениях Сангушки. Он обнял князя Константина и сказал, что от души прощает ему его грубые слова и угрозы. «Хорошо, что никто нас не слышал – забудем и мы об этом», – сказал он.
Он явился в сенат, чего с ним давно не бывало, и своими приемами и решительной речью напомнил окружавшим то время, когда он, забыв всю свою природную слабость, энергично защищал страстно любимую им Варвару Гастольд и принудил признать ее королевой.
После долгих прений, сенат согласился на королевское требование: князь Сангушко объявлялся свободным от всякого преследования и законным мужем Елены Острожской. Притязания Гурки падали сами собою – ему оставалось только удалиться в свое воеводство и постараться утешить себя панной Зосей. Он так и сделал. Зося долго потом проклинала тот день, в который она связала свою судьбу с этим жестоким, бессердечным человеком…
Скоро войско Острожского мчалось по дороге в Вильну. Князь Константин и Сангушко везли с собою приказ короля Беате, но нерадостны были их мысли. Какою еще застанут они Гальшку? До чего довела ее, что с нею сделала эта безумная мать – враг их лютый?! Князь Константин видел себе молчаливый упрек в глазах Сангушки. Но что же мог он сделать? Сколько раз пытался он хлопотать в Кракове, сколько раз пробовал увидеться с Гальшкой. Закон, холодный и неумолимый, заступал ему дорогу. Неисповедимы пути Божии; тяжелое послал Он испытание; но неистощимо Его милосердие, и положит Он конец всем мукам и бедам.
Сангушко с ужасом помышлял о том, что только день еще, быть может, – и он навсегда бы лишился Гальшки. Мелькнула было в нем и еще одна страшная мысль: а что если бы Гальшка забыла его и утешилась, что если она добровольно, по влечению сердца, обвенчалась с Гурко? Но с негодованием отогнал от себя мысль эту Дмитрий Андреевич. Разве он не знает Гальшку, разве он смеет подозревать ее! Нет, видно и вправду заслужил он тяжкие беды и горе, обрушившиеся на его голову, если допустил себя хоть на мгновение усомниться в жене своей. Когда же, когда они, наконец, доедут! Как они встретятся? Жива ли она, здорова ли?.. Боже, сколько выстрадала она за это время!..
Темно было и пустынно на улицах Вильны. Ненастный вечер давно загнал жителей по домам. Лавки с товарами были заперты. Только сторожа изредка перекликались друг с другом, да лаяли цепные собаки. С утра еще началась сильная оттепель – почерневший снег таял и образовывал мутные лужи. Порывистый ветер стучал о ставни и забивался в щели. Темной, унылой громадой глядели костел и монастырь отцов-иезуитов. По длинным, слабо освещенным коридорам мелькали черные фигуры. Иногда образовывались группы в несколько человек, оживленно разговаривали и передавали что-то друг другу.
В монастыре готово было совершиться насильственное пострижение Гальшки.
Княгиня Беата все время настаивала на своем плане и послала письмо к Олельковичу-Слуцкому, объявляя ему, что соглашается выдать за него дочь, если он немедленно явится в монастырь с изрядным количеством людей и священником. Сама же она боится вернуться домой, так как с часу на час может приехать Гурко и расстроить дело. Само собою, что письмо это не было передано князю. Иезуиты объявили Беате, что его нет в Вильне. Но вместе с ложью они принесли и правдивое известие: их шпионы, давно разосланные к городским воротам, объявили, что в город въезжает многочисленное войско. Время мирное – откуда же это войско? Невозможно было сомневаться; в том, что это Гурко во всеоружии закона и военной силы.
Княгиня побледнела. Она поняла, что времени терять нечего. Еще час, другой – и ее враг ворвется сюда и силой отымет Гальшку.
– Можно ли постричь ее теперь же, сейчас? – спросила она упавшим голосом.
Для отцов-иезуитов редко что казалось невозможным. Они ответили, что для этого нужно только привести Гальшку в костел и через полчаса все уже будет кончено.
Княгиня бросилась к дочери.
– Следуй сейчас за мною! – грозно сказала она ей.
Гальшка не шевельнулась.
– Я не выйду отсюда! – расслышала Беата ее тихий голос.
– Что? Что?.. Ты не выйдешь? Ну так я вытащу тебя силой.
Она стала звать Антонио и других монахов. Они были тут же, у двери.
– Моя дочь, должно быть, помешалась или она так слаба, что не может сама двигаться. Пожалуйста, возьмите ее и перенесите.
Несколько человек подошло к Гальшке. Она теперь поняла, куда хотят увлечь ее. Она видела, что ей невозможно от них вырваться, что только чудо может спасти ее. Ей оставалось одно – рыдать, стонать и защищаться до последних сил, до самой смерти.
И вот эта слабая, запуганная женщина сделалась страшной. Она вскрикнула диким голосом и неестественным усилием оттолкнула от себя двух монахов.
– Звери лютые, злодеи! – рыдала она. – Оставьте меня! Не прикасайтесь ко мне… Боже, защити меня!..
Но ни один из них не остановился перед ее ужасом и беззащитностью. На их лицах не выражалось ничего, кроме обычного, мрачного спокойствия – они действовали с разрешения орденского начальства, которому были обязаны безусловным послушанием. Они дерзко искушали Бога, призываемого этой несчастной, они в Него не верили – они делали из Него только пустую вывеску.
Гальшка не могла долго защищаться – ее схватили и понесли в костел, где уже все было приготовлено для церемонии.
Раздались торжественные и мерные звуки церковной музыки, слова латинской молитвы пронеслись и замерли в глубине темного купола. Гальшку крепко держали под руки, а она слабо билась и рыдала. Ей казалось, что ее опустили в страшную могилу. Великолепный костел, светлый и наполненный благоуханием в часы публичного богослужения, теперь при слабом мерцании свечей, представлялся мрачным и говорил о смерти. От стен его веяло холодом и сыростью; сквозь витрины высоких, узких окон доносилось завывание ветра.
Княгиня Беата, на коленях, напрасно силилась молиться. Она только жадно прислушивалась и мучилась продолжительностью службы. Рыдания Гальшки не производили на нее никакого впечатления – они замирали, не выходя за пределы костела, и с этой стороны она была спокойна. Никто их не услышит.
Отец Антонио прислонился к холодной стене и, не отрываясь, глядел на Гальшку своими сухими, блестящими глазами. Каждый звук ее рыдания, каждое ее конвульсивное движение производили в нем дрожь, боль и ужас. Но его совесть молчала, молчали его мысли. Он находил какое-то наслаждение, мучительное и страстное, во всем, что он теперь видел, слышал и чувствовал…
Гальшка все рыдала и металась. Вот уже скоро, должно быть, приступят к пострижению… вот уже что-то собираются делать с нею…
– Боже! – громко воскликнула она. – Пошли мне смерть, сжалься надо мною!..
Но что это?! Кто-то снаружи потрясал тяжелые двери костела.
– Именем короля! Отворите! – явственно расслышали все и вздрогнули, и музыка оборвалась, и патер опустил свои руки, воздетые к небу.
Из-за маленькой ниши, где скрывалась невидимая дверка, появился иезуит и спешно что-то говорил своим.
Ни Беата, ни Гальшка не расслышали и не поняли того, что сказал он. Их окружили монахи, повлекли в глубину костела, за алтарь. Еще мгновение – приподнялся почти без звука каменный квадрат пола, их спустили с лестницы и оставили в темном подземелье. Беата поняла в чем дело и свободно вздохнула. У Гальшки кружилась голова – она не могла больше ни рыдать, ни кричать, ни молиться.
А между тем над их головами, в костеле, продолжалась вечерняя служба. Несколько монахов, и в том числе Антонио, отперли двери.
Перед ними виднелась толпа вооруженных людей, грозная фигура князя Острожского и бледное лицо Дмитрия Андреевича Сангушки.
Антонио взглянул на это лицо – и что-то ужасное потрясло его. Его волосы встали дыбом. С искаженными чертами, дрожа всем телом, он протянул вперед себя руки, как бы желая защититься от страшного призрака.
Иезуиты, еще не зная, кто перед ними, не видя Гурки, с деланным негодованием изумлялись поступку людей, врывающихся в церковь во время службы. Здесь нет никакой княгини Беаты, здесь нет ее дочери.
– Они здесь! Вот духовник ее – разом крикнуло несколько голосов в толпе воинов.
Одним движением и Острожский, и Сангушко хотели кинуться на Антонио, но победили свой порыв и взглянули на бледного, потрясенного иезуита с полным презрением. Нет, они не осквернят своих рук… и к тому же они в церкви. Теперь только одно было в их мыслях и сердце – скорее увидеть, скорее обнять Гальшку.
– Моя племянница, жена князя Дмитрия Сангушко, княгиня Елена Ильинишна здесь, в стенах этого монастыря! – громко обратился князь Константин Константинович к иезуитам. – Я наверное знаю это. Мы с князем приехали за нею. С нами приказ короля и разрешение употребить в дело военную силу, если княгиня не будет нам добровольно выдана. Скажите же нам, где она, проводите нас к ней… Берегитесь, отцы-иезуиты, вы вмешались не в свое дело!.. Исполните немедленно наше законное требование, не глумитесь над королевской властью и подумайте о последствиях!..
Делать было нечего. Иезуиты знали, что им нужно быть крайне осторожными и всеми силами избегать огласки своих тайных действий. Они еще недостаточно укрепились в Литве, они еще не смели пренебрегать общественным мнением. Они знали, что Острожский не задумается привести в исполнение свою угрозу, а бесцеремонный осмотр монастыря не будет говорить в их пользу. Некоторые открытия возбудят против них по меньшей мере сильные подозрения. Делать нечего – приходится выдать Гальшку. Но во всяком случае в их руках останется княгиня Беата…
И вот они стали хитрить и оправдываться перед неожиданными гостями. Точно, две знатные княгини, мать и дочь, нашли в их смиренной обители приют, но зачем же было так стучаться в костел и нарушать тишину святого места! Они никогда не могут восстать против законных требований, они сейчас проведут князей в отделение монастыря, где помешаются их гостьи. Они не вмешиваются в семейные дела, но принимать у себя прибегающих под их защиту – это священное их право…
– Так она здесь! Она жива! Слава Богу! Скорее к ней, скорее!
Но иезуиты под всякими предлогами мешкали. Им нужно было время для того, чтобы вывести Беату и Гальшку из подземелья. Наконец после долгих переходов и остановок сопровождаемые несколькими монахами и сотнею своих воинов Острожский и Сангушко остановились у какой-то двери.
– Здесь! – сказал чей-то голос.
Князь Дмитрий Андреевич с замирающим сердцем отворил двери.
Перед ним стояла княгиня Беата.
Она еще издали слышала голоса, слышала бряцание оружия. Приведшие их сюда из подземелья монахи ничего ей не сказали. Она была уверена, что сейчас встретится лицом к лицу с Гурко. Обезумевшая от ярости и злобы, она готовилась на страшное дело. Уже давно она носила с собою кинжал с одной заветной мыслью. Судьба, очевидно, желает исполнения этой мысли. Кинжал сверкнул в руке ее. Прежде чем Гурко скажет слово, прежде чем он увидит Гальшку, она повалит его мертвого перед собою. А там пусть будет, что угодно Небу.
Дверь отворилась. Беата сделала шаг и яростно взглянула на входившего…
И вдруг она отшатнулась. Оружие выпало из руки ее.
– Мертвец! – дико взвигнула она и упала навзничь, теряя сознание.
Но князь Дмитрий Андреевич не видел всего этого, не заметил Беаты.
Там, в углу небольшой кельи, было что-то. Какое-то бледное, бледное лицо, с распухшими и потускневшими от слез глазами, вдруг выглянуло на него из полумрака.
Он вскрикнул и, шатаясь, протягивая вперед свои дрожавшие руки, кинулся в келью:
– Гальшка! Гальшка!
Она оставалась неподвижной, она глядела и не понимала.
– Гальшка! Гальшка! – повторял он, прижимая ее к груди своей и обливая ее чудное, помертвевшее лицо слезами.
Судьба сжалилась над нею: она очнулась и зарыдала, охватив его шею руками.
– Митя! Митя! Ты жив! Ты со мною!
И она поняла, наконец, что это не сон, что такое счастье может быть только наяву, в действительности.
Она рыдала, рыдала блаженными, спасающими слезами на плече мужа. И сквозь слезы она видела, что чье-то еще другое, родное лицо склоняется над нею и знакомый голос, прерываясь, шепчет ее имя…
А в это время в глубоком мраке монастырского подземелья медленно подвигалась человеческая тень и неровные, останавливающиеся шаги гулко отдавались под каменным сводом.
Зачем зашел сюда этот человек, чего он ищет без огня во тьме сырого коридора?! Вот он остановился, тяжело дыша. Только это дыхание и можно было услышать среди невозмутимой тишины, наполнявшей душное подземелье.
Прошло несколько минут. Человек стоял неподвижно. Вдруг он сделал быстрое движение рукою и, застонав, повалился на землю. И долго потом слышались стоны и страшное хрипение…
На другой день один из иезуитов, пробираясь подземным ходом, наткнулся на какое-то лежавшее тело. То был труп отца Антоиио. На несколько шагов виднелась широкая струя крови. Тут же нашли и кинжал, которым он нанес себе несколько ран дрожавшей рукою.
Имя княжны Гальшки до сих пор еще не забыто в юго-западном крае. Ее красота и необычайные несчастия вызвали целый ряд народных рассказов. Существуют свидетельства, судя по которым окончание ее приключений было печально. Но народ не любит печальных окончаний. Он верит, что после тяжких бедствий, после незаслуженного горя, приходит счастье. Он воскрешает своих героев и наделяет их светлой долей…
История красавицы Гальшки в том виде, как она здесь рассказана, передается из рода в род в далеких уголках Полесья. Ее можно услышать и на деревенских посиделках, и в скучные сумерки где-нибудь в маленьком домике на самом краю городской слободки…
«А что же сталось с княгиней Беатой?» – спрашивают обыкновенно слушатели по окончании рассказа.
«Что же с ней другое и могло статься, как не то, что отправилась она к своему папе римскому и стала раздавать деньги лысым патерам, пока еще у нее были деньги», – отвечает рассказчик.
«А что сталось с князем Острожским, его сыновьями и всем его родом?»
На такой вопрос не всегда можно дождаться удовлетворительного ответа.
Но за полесского рассказчика обстоятельно отвечает история. Князь Константин еще долго боролся, словом и делом отстаивал православие. Он учредил в Остроге академию, несколько типографий, издал множество книг, в том числе Новый Завет, Псалтырь и, наконец, Библию, известную под названием Острожской. Он умер столетним старцем, после деятельной и славной жизни, записанной в истории. Много разного горя перенес он; но не было для него пущего горя, как видеть сыновей своих католиками. Никакие увещания, никакие строгости не помогали с Янушем и Константином. Семя, посеянное иезуитом, созрело в душе их, и еще в ранней молодости оба они тайно перешли в католичество. Особенно мучился и негодовал князь Константин, глядя на Януша, обладавшего блестящими способностями. Он возлагал на него такие надежды, он мечтал увидеть в нем деятельного себе помощника, сильного представителя русской народности и православия. Немало пришлось вытерпеть молодому Янушу от вольного и невольного родительского гнева. Но он остался тверд в своем отступничестве и ушел из Острога ко двору Сигизмунда III. Здесь его ожидала блестящая будущность. Еще молодым человеком он уже был сенатором и в течение тридцати лет сидел в сенате выше отца своего. Без конца сыпались на него королевские милости, но он мало дорожил ими и даже принимал участие в восстании, предводимом Яном Радзивиллом. Он скоро усвоил все польские нравы и обычаи, позабыл все русское и роскошно жил в Кракове польским магнатом. Он женат был три раза, но оставил после себя только двух дочерей и ни одного сына. Его великолепный памятник еще до сих пор можно видеть в Тарнове. Из трех детей князя Константина один младший, Александр, остался верен православию. Это был человек прямой и энергичный, скоро ставший с отцом во главе русской православной партии. Но слишком рано, еще при жизни отца, он был отравлен любовным зельем, поданным ему в стакане с медом влюбленной в него девушкой. Два его сына умерли тоже в молодых летах и с ними прекратилась мужская линия рода князей Острожских.
Вдова князя Александра, Анна, ревностная католичка, поселилась в Остроге тотчас после смерти Константина Константиновича. Острожский замок, бывший еще так недавно центром литовского православия, превратился в иезуитский монастырь. Отцы-иезуиты управляли всеми делами, пользовались всеми доходами, владели всецело совестью княгини Анны и ее дочери Алоизы.
Содрогались кости князя Константина в его родовом склепе – но иезуиты не боялись выходцев из могил. Они неустанно работали всеми своими ужасными средствами и в немногие годы погубили и обезличили целый прекрасный край русский, подчинили его дряхлой и больной Польше.
Однако пришел конец и их владычеству. Они исчезли с оскверненной ими земли русской. Быстрее и быстрее исчезает и зло, посеянное ими. В развалинах стоят монастыри их со всеми своими страшными тайнами, с цепями и грудами костей человеческих, разбросанными в подземельях. А на этих развалинах созидается православная церковь и звучит русское слово. Добродушный, забитый народ полесский мало-помалу пробуждается от своей вековой спячки. Но все еще нетронута лесная глушь и в ней до сих пор живут в первобытном невежестве тихие, темные люди. Они продолжают боготворить природу, поют свои грустные песни, завивают венки светлому Купале и думают, что Полесьем управляет королева Бона.
Примечания
1
Выборные городские должности
(обратно)2
Это почти буквальный перевод старинной полесской «Купальной песни».
(обратно)



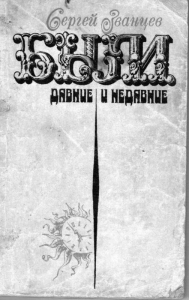

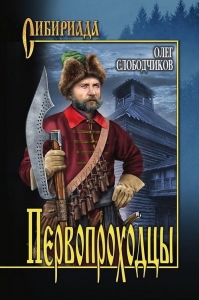
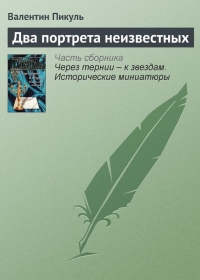
Комментарии к книге «Княжна Острожская», Всеволод Сергеевич Соловьев
Всего 0 комментариев