Вячеслав Иванович Шапошников К земле неведомой: Повесть о Михаиле Брусневе
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Яша! Ты погляди, кто приехал! — крикнул Гавриил в распахнутую настежь дверь хаты и, стуча ярко начищенными сапогами, позвякивая шпорами, сбежал с невысокого крылечка навстречу младшему брату, обнял его, громко приговаривая: — Вот это — да! Вот это — радость!..
Среднего брата, тут же выбежавшего на зов, тоже как ветром сдуло с крыльца; не дожидаясь, когда старший и младший разоймутся, обнял обоих.
— Отпустите, медведи! Я же весь пропыленный! Перепачкаетесь об меня! Вон вы какие оба с утра — парадные!.. — мягким баском говорил Михаил, похлопывая обнимавших его братьев по широким, тугим спинам.
На этот шум из дверей просторной клети высунулся молодой, крепко загорелый казак с кавалерийским седлом в руках. Усмешливо глядел на топчущихся у крыльца трех братьев, вроде бы затеявших борьбу меж собой: ничего себе казаки эти Бруснёвы[1] — один к одному, казаки что надо! Правда, этот, только что появившийся тут, был не в казачьей, не в офицерской форме, а в какой-то никогда прежде невиданной молодым казаком, темно-зеленой, заметно поношенной и порядком пропыленной, однако казачья стать в нем угадывалась.
То, что ранний гость — кровный брат сотникам Брусневым, при которых молодой казак состоял денщиком, — это для него сразу же стало яснее ясного: такой же свётло-русый, лобастый, широколицый, разве что серо-голубые глаза были у того чуть посветлее и сам взгляд их был мягче.
«Добряга человек, это — сразу знать!..» — с приязнью подумал о приехавшем молодой казак и снова исчез в клети, из которой слышались нетерпеливые фырканья, глухие буханья и переступы копыт.
— Ну, пошли в хату!.. — сказал Гавриил, подхватив стоящий на земле большой кожаный чемодан брата.
— Эх, незадача-то, Миш, какая… — Яков досадливо поморщился, — в аккурат сегодня у нас войсковой смотр!.. Высокое начальство пожаловало в Баталпашинск… Весь день надо быть нам обоим при своем полку…
— Да-а… Нескладно получается, — нахмурился и Гавриил, — нехорошо… Ладно еще, что ты пораньше приехал, а то вот еще через полчасика нас тут не застал бы… Мы уж оба — наготове: и побрились, и умылись, и припарадились, как видишь… — Он кивнул на клеть: — И кони наши сейчас будут готовы. Вот перекусим малость и — на весь день, на жаре печься!..
— Ладно уж, чего там… Вечерком посидим, потолкуем… — сказал Михаил.
Вслед за Гавриилом он оказался в чистенькой уютной хате, остановился у порога, огляделся, не умея согнать улыбку с лица. Вот и еще один год прошел у него вдали от всей этой бытности, такой родной для него с младенчества… Пусть и чужая эта хата, пусть она — всего лишь временное пристанище для его братьев, но так близко знакомо ему все тут…
На подоконниках — яркие цветы в глиняных плошках, два пестрых паласа на побеленных стенах — над двумя деревянными широкими кроватями, застланными темными шерстяными одеялами, зеркало в ореховой рамке — в простенке меж окон, глядящих в сад. В красном углу — большой стол под чистой домотканой скатертью, возле него, рядком — табуреты, покрашенные ярко-желтой охрой, в углу, у двери, — застекленный шкафчик с посудой, на полу — полосатые, тоже домотканые, половики-дорожки… Почти все такое же, как и в родительской хате…
— Степан! Самовар готов ли?! — весело спросил Яков денщика, тут же, вслед за ними, вошедшего в хату.
— Так точно! Внесу сей момент!
— Давай! Живым духом!
Молодой денщик братьев оказался расторопным малым. Пока Михаил умывался, на столе появился пошумливающий самовар, за ним поставлено было блюдо со свежеиспеченными сдобными лепешками и блюдопоменьше — с целой горкой кавказских сладостей — рахат-лукума.
— Эх, со встречей-то не помешало бы хватить чепурки по две чихирьку, да… — Гавриил только рукой махнул, не договорив.
— Ладно, ладно! Отложим до вечера! — сказал Яков. — Давайте быстренько за стол! Не опоздать бы!..
Уже отхлебывая горячий чай из блюдечка, Гавриил спросил:
— Ну что, Миш: окончил, говоришь, наконец-то свою Техноложку?..
— Шабаш! Одолел!.. — Михаил резко кивнул, так что влажные после умыванья русые волосы, зачесанные па правую сторону, «на пробор», свалились па лоб, приосенив крылом густые выгоревшие брови.
— Где теперь будешь служить? Место определилось? — спросил в свой черед Яков.
— Пока нет, не определилось… Пока записался в Общество технологов, есть такое в Питере, кандидатом на место…
Стало быть, надо ждать, когда откроется какая-нибудь вакансия… — то ли спросил, то ли решил вслух Гавриил.
— Стало быть, так… Но это — недолгая история. Думаю, к осени, если не раньше, все выяснится. Место будет. Наш брат технолог везде нынче нужен! Капитал по России широко начинает шагать! Ему без специалиста не обойтись!..
— Ну-ну, ну-ну… — Гавриил покивал над курящимся блюдечком, поднесенным к губам, и, отхлебнув, опять спросил: — Сюда теперь — как, на сколько?..
— Да вовсе не хотел этим летом приезжать… Думал, получу диплом в руки, дождусь какого-нибудь подходящего моста и — впрягусь… Однако вот и с местом не вдруг, и с дипломом не вдруг… Начальство институтское распорядилось иначе: отправило мой диплом сюда, в Баталпашинск, в здешнее войсковое управление, где мне теперь н предстоит его получить…
— С умыслом, надо полагать?.. — спросил Яков.
— Не без того… — Михаил усмехнулся. — Лишнийраз заставить человека покланяться, унизить его необходимостью протерпеть кураж местной власти предержащей, да еще такой, как наша, казачья, — это у нас умеют, когда хотят проучить… — он не договорил, заметив, как Гавриил при последних его словах насупился. Не любит старший брат разговоров об э т о м…
После короткой заминки Михаил перевел разговор на другое: расспросил братьев о родителях и сестрах, о родной станице, сказав, что намерен выехать туда на следующее же утро, если не случится какой-нибудь заминки с получением диплома.
— Ну ладно. Вечером наговоримся… — Гавриил первым поднялся из-за стола. — Нам с Яковом пора. Ну а ты отдыхай тут пока, сходи к атаману в правление насчет диплома, а сначала искупайся с дороги-то. Вон она — Кубань-то! Прямо садом к ней пройдешь! — он кивнул в сторону распахнутого окна.
Вскоре братья в сопровождении денщика ускакали на конях к своему 2-му Хоперскому казачьему полку, стоящему под Баталпашинском лагерем вместе с двумя полками пехоты и артиллерийским дивизионом.
Михаил отправился на Кубань, прихватив с собой полотенце, мыло и чистое белье.
Река тут, в верхнем течении, мелка, не покрывает местами крупных камней, усеявших ее ложе. Однако в яминах, вырытых паводковыми водами, искупаться вполне можно, не поплавать, конечно, нет, а лишь посидеть, погрузившись в воду по горло, поплескаться, понежиться.
Горная вода сделала свое дело: Михаил почувствовал себя легко и бодро, смыв с себя весь пот и всю пыль долгой многодневной дороги. В двадцать пять лет здоровому человеку немного надо для того, чтоб после самой скверной дороги прийти в себя.
Там же, у воды, в тени старой, дуплистой, разлапистой ветлы, он как следует перетряс и почистил свою студенческую форму. Другого платья у него пока не было.
День между тем разгорался, жаркое кавказское солнце пекло уже вовсю.
ГЛАВА ВТОРАЯ
С реки Михаил лишь на минуту зашел на квартиру братьев и тут же отправился в войсковое управление, находящееся рядом с базарной площадью.
Воскресный баталпашинский базар был в самом разгаре, потому все улочки и проулки, ведущие к нему, оказались запруженными пешими и конными, скрипучими возами и испуганно ревущим скотом. В жарком пыльном воздухе шум стоял большой. Топот, крики, громкие разговоры на ходу, в которых по-вавилонски перепуталось кавказское мпогоязычье, в котором то и дело прорывалось то, что принято называть кавказским темпераментом.
Трактиры и монополии были уже открыты, а потому попадались навстречу и пьяные. Впрочем, воскресная публика, при всем ее оживлении, имела довольно степенный вид, завидев пьяного, люди сторонились.
Михаил улыбался на ходу, поглядывая вокруг. Все это шумное многолюдство, все эти улочки и проулки, все эти напирающие па плетни, вроде бы ошпаренные жарой, густолиственные сады и зеленые лесистые горы, выглядывающие из-за них, и само ослепляющее, обливающее зноем небо — все это было его родиной, таким родным для него кавказским мирком. В самом имени этом словно бы сочеталось нечто болтливо-кипящее, жарко-оживленное и так по-доброму знакомое — Б а т а л п а ш и н с к.
Ему вспомнился вдруг первый приезд сюда осенью 1877 года, за год до окончания станичнойшколы, за год до поступления в Ставропольскую гимназию. Шел ему одиннадцатый год. Ездил он тогда в Баталпашилск с родителями и младшей из сестер — Дуней на осеннюю ярмарку. К той осени при родителях они остались лишь вдвоем: Гавриил и Яков учились в Ставрополе, в гимназии, две самые старшие сестры, Анна и Татьяна, были уже замужними казачками и жили не в родной станице. Дуня, вскоре после ярмарки, тоже покинула родительский дом, выйдя замуж за молоденького учителя станичной школы Долгова. На ярмарку тогда и ездили за свадебными покупками.
Незабываемая была поездка. Как поразила его баталпашипская ярмарка! Такого многолюдства, такого обилия всякой всячины он еще не видывал. На длинных тесовых прилавках, на возах-мажарах глянцевито посвечивали боками огромные полосатые арбузы, золотились дыни и тыквы, всюду развалом лежали груды виноградных гроздьев, грунт, слив, яблок… В воздухе стоял гогот гусей, визг поросят, в нем перепутано было ржание коней, блеяние овец, утробное урканье упитанных кабанчиков.
Все это, вместе с многоязыким гомоном кипевшей вокруг толпы, сливалось в один великий ярмарочный шум, от которого голова шла кругом. Глаза разбегались от пестроты нарядов казачок, желтые черкески казаков-новолинейцев ярко вспыхивали среди черных и коричневых бешметов и черкесок горцев — карачаевцев, абыдхезов, темиргоевцев… Он словно бы попал тогда в какой-то иной мир, в водоворот какой-то иной жизни, где только успевай смотреть и слушать… Осень стояла теплая, сухая, безветренная. Лесистые горы, подступающие к Баталпашинску с юга, млели под лучами яркого, но не жаркого солнца. Поблескивающие, лениво извивающиеся в теплом воздухе паутины текли куда-то на закат — за обмелевшую по-осеннему и по-осеннему сверкающую Кубань, за обрывистые известковые кручи ее левого берега, возвышающиеся невдалеке, над окраинными садами и крышами, будто какие-нибудь белокаменные исполинские степы, за которыми, чудилось, скрывался от его глаз еще более необычный, неведомый ему мир.
Той осенью, оставшись в родительском доме без обоих братьев, он так по-новому ощущал самого себя да и на все вокруг смотрел словно бы иными глазами…
У коновязи под окнами войскового управления не видно было ни одного коня, из чего Михаил заключил, что атамана не было на месте, а стало быть, и торопиться с визитом к нему не стоило. Он решил потолкаться в базарной толчее: авось встретится кто-нибудь из одностаничников, приехавших на базар, хотя и не надеялся на это. Время было — не для поездок на базары, да еще за такие большие версты. В разгаре был сенокос. Об эту пору обычно начинается и прополка кукурузы, да и жатва вот-вот должна была начаться, а там и до взмета паров рукой подать…
Михаил вспомнил, что об эту пору, то есть в конце июня — начале июля, в Баталпашинске, как и по всей казачьей Кубани, начинается наем работников, по-здешнему называемый н а й м к о и.
Проезжая утром через базарную площадь, он видел множество оборванных запыленных людей, лежавших и сидевших просто на траве, под плетнями, на длинных крыльцах лавок и лабазов, которые были еще заперты, на тесовых прилавках базара. Одни из этих людей ковырялись, починяя разбитую в долгой дороге обувь, другие нашивали заплаты на ветхую одежонку, больше же было просто спящих. Спали в самых разнообразных позах: тот — вверх лицом, раскинув ноги и руки, тот — свернувшись калачиком, другой — уткнувшись лицом в подложенную под голову сермягу…
Народу этого год от году все больше. Деревенские пролетарии, безземельное крестьянство: астраханские, царицынские, воронежские мужики и бабы… Немало приходит на Кубань таких работников и из Малороссии.
Теперь эти люди, измученные жарой и ожиданием, бесцельно слонялись по базару. Их нетрудно было узнать среди прочего толпящегося базарного люда. Они не подходили ни к какому товару, ни к чему не приценялись, просто бродили взад-вперед, бедно одетые, какие-то серые, угрюмо-молчаливые, просто толклись в базарной толчее, без всякой цели. В глазах у всех у них было одно: когда же начнется совсем другая торговля, в которой они сами будут товаром, когда же появятся их покупщики, покупщики совсем иного рода…
Наемки еще по было. По заведенному обыкновению начиналась она после обеда, после того, как схлынет базарная суета. К этой поре, истомленные ожиданием, рабочие становятся уступчивей.
Из Сторожевой на базаре и впрямь никого не оказалось. Потолкавшись в толпе, Михаил отправился в войсковое управление. Сквозь базарный гомон услышал вдруг: за городской окраиной, в луговой стороне, занимался другой шум… Слышны были громкие воинские команды, доносило оттуда рассыпающийся, дробящийся топот коней, слаженный, ухающий топот марширующих солдат…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На базарную площадь из войскового управления Михаил вышел, когда было уже далеко за полдень. Сначала долго пришлось протомиться в приемной управления в ожидании здешнего казачьего атамана, с утра уехавшего к месту войскового смотра, затем атаман все-таки появился в управлении, однако еще целый час пришлось ожидать приглашения к нему в кабинет — для беседы, затем была сама беседа… Атаман явно был оживлен после своего визита к прибывшему в Баталпашинск большому войсковому начальству, он, уже и в присутствии Михаила, с явным удовольствием продолжал делиться со своим помощником впечатлениями от этого визита. Наконец обратил внимание на посетителя… Михаил заранее готовил себя к длинному начальственно-наставительному внушению, к самому резкому и грубому, в духе казачьей прямоты, порицанию, однако ничего подобного услышать не пришлось. Даже улыбка не покинула холеного, красивого лица атамана, когда тот заговорил с ним. Начал с расспросов о столице, о столичных новостях, сообщив, между прочим, о том, что некогда служил в Петербурге, в гвардейском полку, «считался даже, так сказать, украшением правого фланга полка!..». Затем перешел к делу, ради которого Михаил и оказался в его кабинете. Закатил такую тираду, что аж задохнулся слегка, добравшись до ее конца. Мол, он весьма рад исполнить столь непривычную для него миссию, которая самим фактом своим свидетельствует, однако, что попечением и милостию войскового начальства кубанское казачество, пусть и в отдельных пока случаях, начинает достигать высот просвещенности; мол, он надеется, «что в лице сына казачьего офицера и личного дворянина Ивана Филипповича Бруснева, человека достойнейшего во всех отношениях, отечество найдет и своего надежного и верного сына…».
Ни намека на участие этого самого «сына» в студенческих сходках и волнениях, на казенном языке именуемых «беспорядками», ни намека на то обстоятельство, из-за которого диплом этому самому «сыну» вручал не директор института, а он сам — местный войсковой атаман…
«М-да… Прогресс!..» — Михаил усмехнулся, оглядев раскинувшуюся перед ним площадь.
Базарный люд уже почти весь разошелся и разъехался. Остались тут лишь те, кому деться было некуда, — все еще ожидавшие своих покупщиков пришлые работники.
Настоящих покупщиков-приказчиков от крупных экономии, рассеянных но округе, нанимающих в страдную пору до сотни и более работников сразу, видимо, все еще не было. Ожидавших их тут, на площади, не убыло…
Мимо замешкавшегося Михаила, обдав его пылью, запахами горячего дегтя и конского пота, промчалась новенькая тачанка, запряженная в дышло парой добрых вороных лошадей. Тачанка резко остановилась посреди базарной площади. На землю степенно сошел плотный господин лет сорока пяти с крепко загорелым широким лицом, одетый в черную чесучовую пару. Он по-хозяйски оглядел базарную площадь. По всей видимости, это и был один из тех, кого тут заждались.
«Приехал! Приехал!..» — залетало над площадью, и люди устремились к тачанке со всех сторон.
Михаил направился туда же: ему захотелось своими глазами увидеть, что такое наемка. Прежде он только слышал о ней.
Господина в черной чесуче обступила густая толпа.
— Ну как, ребятушки, пойдете к нам? — чуть ли не с веселостью огляделся он вокруг.
— Да что ж бы не пойти!.. А вы от кого?
— Разве не знаете? От Харлампьева!
— Да у вас, сказывают, харч плоховат…
— Ты про харч не толкуй, — загалдели другие. — Харч везде нынче один! Ты говори про дело! Какая работа, какая цена!..
— Работа есть разная, ребятушки! Работы у нас хватает! Человек двадцать — пахать, столько же — полоть подсолнухи… Человек сто мне надо бы всего-то!.. Можно и поболе!.. — бойко сыпал этот приказчик какого-то Харлампьева.
— А как цены? Цены говори!..
— Цены — как у прочих! Сами знаете!..
— Одначе — почем же?!
— Да толкую же вам: как у других-прочих!..
— Да ты говори! Не тяни!..
— Базарная цена, ребятушки! Базарная!.. Пахать — сорок копеек, полоть — тридцать пять…
— Дешево как будто…
— Так я ж толкую: цена нынче такая… Не мы — базар цену выставляет! Год-то вон какой! Везде, по всей Расее-матушке — сушь с весны!.. Везде — неурожай!..
— Знамо дело! Только ты надбавь! Но скупись! Нешто за такую цену можно робить?! Рубаха больше чем на четвертак сгниет!..
— Не могу, не могу, ребятушки! Дело у нас — полюбовное: хочешь — иди, не хочешь — тут сиди!.. Другие найдутся! Народу нынче — много!..
— Так-то оно так… А только прибавь малость…
— Не могу! Не могу, ребятушки! Не своя воля!.. Не свои деньги!..
Переговоры замялись. Приказчик молча поглядывал вокруг, постукивал кнутовищем по широкой потной ладони. Глаза обступивших его мужиков жадно следили за ним. Этот день истомил бедолаг. Хотелось бы и побольше выговорить плату, и упустить нанимателя было боязно: народу-то, ищущего работы, в Баталпашинск и впрямь понашла тьма-тьмущая…
— Ну пятачишко-то накинь еще!.. Не скупись!..
— Не могу, не могу, ребятушки!..
— А-а! Ладно!.. — решился, не сдержавшись, косматый молодой мужик. — Пиши нас! Мы — пахать! Нас — двенадцать человек артель.
— И нас, и нас пиши! Пахать! Десять человек!
— Пиши нас…
Кричали уже со всех сторон.
— Не все, не все разом! Не напирайте, ребятушки! — утираясь большим платком, говорил приказчик. — Не все разом! Не все!..
Он достал из нагрудного кармана пиджака памятную книжку, бестолково принялся листать ее. Глядя на него, нетрудно было увидеть, что он раздосадован тем, что поторопился объявить цену: можно было объявить ее ипоменьше на пятачок-другой… Глаза его бегали по колыхливой круговой стене, замкнувшей его, жарко дышащей на него, оглушившей его, краснолицего, потного, бестолково листающего памятную книжку.
— Нас пиши! Нас! — прямо в лицо ему летели хриплые крики. Всем хотелось пробиться, протиснуться ближе к нему, потому то и дело слышались и другие крики:
— Не при! Куда прешь?
— А ты один хочешь заработать?!
— Не лезь, говорю!..
Приказчика уже стиснули со всех сторон. Он затравленно озирался, раскачиваясь вместе со всей толпой, выкрикивая уже без первоначального задора:
— Но напирай! Кому говорю, не напирай! А то никого не возьму!..
— Нас! Нас запиши! — лезла, давила ого толпа.
— Никого не возьму! Не надо мне никого! — вдруг решительнопрокричал приказчик, и все прочие крики, как по какому-нибудь волшебству, мгновенно стихли вокруг него, и не сразу кто-то, опомнившись первым, спросил в наступившей тишине:
— Как… «не надо»?!
— Так вот! Никого не возьму… — пробормотал приказчик, захлопывая свою книжечку и засовывая ее в карман.
— Да ты ж, можно сказать, уж нанял…
— Никого я не нанимал… — глаза приказчика забегали.
— Как не нанимал? Ты же уж и цену объявил!..
— Это — не условие, это ничего пе значит! Кто хочет — идите все по тридцать копеек!..
Толпа опять затихла, замерла. Люди смотрели на приказчика, будто не веря, что это он сказал им всерьез, не пошутил над ними.
— Да ты, видать, шутник, дядя?! — наконец угрюмо, с расстановкой, в которой послышалась явная угроза, спросил худой, жилистый, крепко загорелый оборванец, стоявший с приказчиком почти лицом к лицу.
— Какие же шутки! Нашли шутника! — осклабился приказчик и, вытянув шею и стараясь не глядеть на злое, перекошенное лицо оборванца, закричал — Ну, кто хочет, — записывайся по тридцать копеек! Записывайся! — Он опять было полез в нагрудный карман за своей памятной книжкой, но тут за спиной у него взвился крик: «Ха! Ты издеваться над нами?!», и здоровенный кулак крепко хватил приказчика по шее. Тот покачнулся, картуз слетел с его потной головы, толпа мгновенно пришла в ярость, ее зашатало и закрутило над тем местом, где только что стоял приказчик, замелькали кулаки…
Конец этой базарной сцены для приказчика мог бы стать самым плачевным, если бы от войскового управления не подоспел урядник с казаками, отбивший его у разъяренной толпы.
Тут же подоспел и сам баталпашинский атаман в сопровождении своего помощника и еще нескольких казаков.
— Что у вас тут такое?! — врезался он в толпу. — Что за безобразия?!
— Так что вот — человека избили, ваше превосходительство! — козырнул урядник, придерживавший под локоть приказчика, размазывавшего по побледневшему лицу кровь, изрядно испачканного в пыли и вообще имевшего самый жалкий вид.
— Кто избил?! Почему?! — атаман грозно оглядел толпу.
— Было за что! Не издевайся над людьми!.. — негромко, но твердо ответил кто-то.
— Да! Мы тут голодные, весь день — на этакой жаре, а он, толстомордый, прикатил на вороных да пошел тут крутить! Вот и получил!..
Притихшая было толпа опять начала возбуждаться.
«Мы работы ищем, а они только и глядят, как нас объегорить!», «И урядник, и атаман — все за них!..» — слышались крики.
— Господа! Я прошу вас разойтись! — словно заклиная толпу, атаман даже правую руку вознес над собой.
— Ха! «Господа»! Нашел господ! — загоготала толпа. Она уже забыла о приказчике, трусливо укрывшемся за спинами казаков, все ее внимание было обращено теперь на белую, чистенькую, щегольскую фигуру атамана. — Живодеры! Кровопийцы! Все вы заодно!.. — послышалось из задних рядов.
Атаман побагровел так, будто вся кровь бросилась ему в голову. Он дико заозирался вокруг.
— Разогнать их! — крикнул он казакам.
Это лишь подлило масла в огонь.
— А-а! Разогнать нас! Для нас у вас — только «разогнать!» — напирала на атамана толпа. Особенно выделялся высокий дочерна загорелый хохол. В руках у него была крепкая суковатая палка, которой он потрясал перед собой, пробиваясь к атаману и выкрикивая:
— Геть! Пустыть! Пустыть меня до його!..
Пробившись вперед, он закричал прямо в лицо атаману:
— Мы цилый тыждень томылись, уси голодни! А воны — розогнать! А воны — розогнать!.. А ну — тронь! Тронь, кажу, тронь! — Он совсем уже вызывающе наступал на атамана со своей палкой, которой не переставал угрозно потрясать. — Тронь!..
Огромная толпа, воодушевленная его дерзостью, еще теснее сгрудилась, подалась вперед, вся словно бы закипела, напирая на атамана и растерянно топчущихся за ним казаков.
— Стой, туда вашу мать! Стой, не подходи! — сорванным, осипшим голосом кричал атаман, затравленно оглядываясь на своих оробелых подчиненных и хватаясь за кобуру. — Стой, стрелять буду! Стой, говорю! Войска вызову! Стой!..
— Га-а! Не испугаешь!
— Нам робеть нечего!
— Хуже, чем есть, не будет!..
Пятившийся нод напором толпы атаман был неузнаваем. Белое, перекошенное испугом и злобой лицо, хриплая матерщина… Куда и девались горделивая осанка с красивым перегибом в поясе и уверенно-широкие, плавные жесты, самодовольное, сытое похохатывание и бархатистые нотки в голосе… Михаил увидел словно бы какого-то другого человека, совсем не того, с которым разговаривал всего несколько минут назад…
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в эту минуту на базарную площадь не въехала eщe одна пароконная тачанка. За ней в клубах пыли показалась и еще одна…
Внимание толпы сразу переключилось на эти две тачанки, задние тут же заспешили к новым нанимателям, за ними хлынула и вся остальная масса.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Придя на квартиру братьев, Михаил выпил подряд две кружки воды, сбросил с себя форменный пиджак, в котором он как следует взмок, и подсел к распахнутому в сад окну.
Солнце уже зависло над самыми кручами левого берега Кубани, размотав всюду длинные тени, резко пронизывая косыми лучами душный пыльный воздух. Перед его заходом воробьи суматошно перелетали густыми стаями с места на место.
Слева, с луговой стороны, оттуда, где проводился смотр армейским и казачьим частям, откуда весь день доносило конское ржание, топот и протяжные крики команд, послышались по-вечернему звонкие звуки рожков и горнов, рассыпалась в той стороне сухая барабанная дробь. Все это вдруг оборвалось, и в наступившей тпгапне раскатился высокий взводистый крик:
— Ы-ы-рна-а-а! Равнение на средину!..
Затем послышался голос погуще. Не голос, а голосина. Голосище матерого, высокого чином и крепкого нутром и горлом служаки:
— Здорово, молодцы-ы-ы!..
И на зык этот тут же откликнулось, обрушилось, словно бы единой, непомерно мощной глоткой выдохнутое:
— Здра-я-жла-ем-ваш-ительство!..
Последовали новые команды. Затем раздалось: «А-агом арщ!..» И какой-то механический, как работа паровой машины, слаженный топот заколыхал, зараскачивал застойный, сиропно-густой пыльный воздух. Солдаты запели с присвистом веселую старинную песню про Дуню Фомину.
Отзвучала солдатская песня, утих слаженный, тяжко бухающий топот, и почти тут же рассыпалась по долине копытная дробь пущенных рысью коней, зазвучала казацкая песня.
Михаил вспомнил давний, такой же жаркий и безоблачный вечер в родной станице, среди которого казаки Сторожевой возвратились из Баталпашинска, может быть тоже — после войскового смотра… Наверное, это было году в семидесятом… Наверное, не больше четырех лет ему тогда было…
Все вдруг вспомнилось, будто было только вчера… Ею жадные по-детски ко всякому шуму жизни уши расслышали тогда отдаленный конский топот. Он играл, сидя на полу, на пестром кюринском ковре, рядом с матерью, что-то вязавшей или шившей (она всегда была занята какой-нибудь работой). Мать тоже прислушалась, отложив свое рукоделье, и вдруг, резко поднявшись, метнулась по-молодому к распахнутой настежь двери — в слепое сияние заката. Он выбежалк калитке следом за ней. И тут за станицей раздался протяжный веселый крик, послышалось ржанье коней, и они оба увидели, как среди деревьев, подступающих к каменистым берегам Кяфара, показались всадники. На рысях они спустились но пологому склону холма к садам западной окраины станицы, пропали, исчезли за ними и вскоре въехали в станицу под гуденье сопилок и сурм, сопровождавших лихую казачью песню, даже, кажется, ту же самую, которая звучала теперь. Оглашая радостными криками Улочки Сторожевой, ребятишки бежали со всех сторон им навстречу. Старшие братья Михаила тоже побежали— встречать отца. Его же не отпустила мать. «Стопчут еще конями! Мал еще!..» — сказала, ухватив за плечо. Она всегда опекала его, самого младшего, больше, чем других своих детей. И вот отец, вернувшийся из похода, на усталом, мокро блистающем кауром жеребце, в запыленной желтой черкеске, огромный, бородатый, подъехал к калитке, у которой стояли они, двое. Его левая рука привычно лежала на серебряной, черненой рукояти кавказской шашки. Лицо было спокойно, даже сурово-спокойно, будто высечено из камня. Он соскочил с коня, передал поводья подбежавшему Гавриилу, и тот стал вываживать коня по чисто подметенному двору, чтоб конь успокоился и остыл. Поддернув слегка обвисший на поясе кинжал, отец, не перешагивая порога, остановился в дверях хаты, подержался правой рукой за притолоку, затем переступил порог, сдернул с потной головы папаху и широко троекратно перекрестился. Потом он умывался во дворе, над медным тазом, сняв черкеску, подставляя темные широкие ладони под кувшин, из которого ему поливала мать, стоявшая рядом с домотканым суровым полотенцем на плече. Вымыв степенно, в полном молчании, лицо и руки и столь же неторопливо, степенно утершись, отец снова направился в полусумрачную прохладу хаты, и на этот раз все семейство вошло туда вслед за ним. Только Гавриил, явно подражавший степенности отца, не пошел вместе со всеми, а неторопливо принялся расседлывать остывшего коня…
Воспоминание отвлекло, рассеяло Михаила. Вернул его из того давнего вечера новый взрыв то ли солдатского, то ли казачьего уставного крика.
— Ррр-ады-старрраться-ваш-ительство!.. — рвануло луговой стороне, в полуверсте от сидевшего у окна Михаила.
Он усмехнулся про себя:
«Сильна машина! Как действует!..»
ГЛАВА ПЯТАЯ
Братья вернулись уже в сумерках, усталые, осунувшиеся, в добром расположении духа: высокое начальство осталось довольно проведенным смотром. Разговор то и дело сбивался на всяческие подробности в напряжении прожитого ими дня.
Почтительно-молчаливый денщик братьев в выгоревшей гимнастерке появился на пороге, ожидающе глянул на старшего из братьев.
— Кони — как, Семен? — спросил тот.
— Остывают, еще не поил…
— Ну, ладно… С ними — после. Нынче такой день, что и кони подождут!.. Давай шашлычок живо сготовь! Да помидорчиков нанизать не забудь! Чтоб все по-нашенски было, по-кавказски! Бадрижанов — тоже не забудь!.. Да не пережаривай!..
— Как можно?!
— Ну вот… А пока — кваску внеси холодненького, водочки да чихирька! Такое пекло сегодня было!..
Вскоре на столе появилась бутыль кизлярского чихиря, фляга с водкой, запотелый кувшин с квасом, три низеньких кубастеньких стакашка и три глиняные кружки, белый хлеб, блюдо с пунцовыми помидорами… Со двора уже наносило запахи жарящегося шашлыка.
— Семену нашему — цены нет! — похвалил Яков. Он первым подошел к столу, потер ладонью о ладонь. — Ну! Давайте — и со встречей, и с благополучным завершением всех сегодняшних мук!
Гавриил с Михаилом выпили молча.
На короткое время разговоры затихли. Они оживились вновь после того, как расторопный денщик внес большое блюдо с шампурами, на которые были нанизаны нежно зажаренные кусочки баранины, помидоры, половинки луковиц и бадрижаны.
— Ай да Семен! — опять похвалил Яков. — На-ка вот — с устатку! — Он налил из фляги прямо в глиняную кружку и протянул кружку денщику. Тот шагнул к столу, неторопливо выпил, согнутым указательным пальцем дважды шаркнул по вислым черным усам и посмотрел на сидевших за столом так, будто наслаждался в эту минуту чувством благорасположенности к ним, троим.
— Про коней, про коней теперь, Семен, не забудь! — напомнил ему, усмехнувшись, старший Бруснсв. — А утром пораньше оседлай всех трех!.. Не забудь тоже!..
— Как можно?! — денщик лихо вскинул чубатую голову, лихо козырнул, лихо развернулся кругом, затопал к распахнутой настежь двери.
— Да! Миш! Забыли тебе сказать… — вспомнил Яков, — начальство разрешило мне съездить на двое суток в родную станицу. Отпрашивались вдвоем с Гавриилом, да сразу двоих не отпускают, мол, один который-нибудь. Вот меж собой решили, что поеду я… Так что утречком, до жары, и отправимся — верхами, на конях!.. В седле-то не разучился держаться?!
— Как-нибудь удержусь! — Михаил обрадованно подмигнул брату. Такая удача: не тащиться более пятидесяти верст до Сторожевой на какой-нибудь случайно подвернувшейся подводе, а скакать с ветерком, на самом настоящем казацком коне!.. Этого удовольствия он давненько не испытывал!..
Воздав должное шашлыку, Гавриил с Яковом вернулись к разговору о прожитом дне, о всех его перипетиях и треволнениях. Помянули недобрым словом какого-то торопыгу есаула Екимцева, который чуть было не подвел весь полк, пошутили над полнотой бригадного генерала Маслюкова, под тяжестью которого чуть не упал копь…
Слушая их вполслуха, Михаил загляделся в распахнутое окно. За невидимой из-за густого сада Кубанью, над ее полурастворенным сумерками высоким левым берегом нежарко догорала узенькая полоска зари. «Пожалуй, как раз над тем местом, где наша Сторожевая…» — подумалось ему, и он тут же представил свою станину в этот час, уже почти безмолвную, засыпающую, с поздними огоньками в двух-трех оконцах, с настороженным брехом псов, со вздохами и топотаньями скотины во дворах… «Старики наши, поди, уже спят, — в задумчивости он покивал дальней малиновой полоске за окном, — спят и не знают, что я — вот тут, у братьев, совсем рядом…»
— …Хватило, хватило нам нынче волнений! Подергались как следует!.. — дошли до отвлекшегося сознания слова Гавриила.
— Ничего, — шутливо-назидательно перебил его Яков, — волнения — штука необходимая! Волнения, они человеку крепкому лишь «кровь полируют», как говорит наш подхорунжий Евсеев. Вот для некрепкого они — да: некрепкого они отвращают от жизни и приближают к смерти!.. Так я толкую, Миш?!.
Михаил лишь в рассеянности улыбнулся ему из-за стола, как улыбаются не знающие, что ответить, или просто не расслышавшие вопроса.
— Однако, темновато стало, — пробормотал, поднимаясь, Гавриил. Он вышел в сенцы и вернулся оттуда с зажженной свечой, поставил ее посреди стола, тяжело опустился на свое место. Тень от него и от Якова скрала почти все, что было за их спинами. Все трое примолкли, в задумчивости глядя на крошечный оготтек. Вокруг свечи завились ночные бабочки, острое колеблющееся пламя охватывало то одну, то другую, они падали на стол и в расставленную на нем посуду, бились, оставляя вокруг себя пыльцу.
Михаил вспомнил, как за месяц до своего отъезда из Питера, среди темной наволочной ночи, он сидел вот так же за столом, у себя на квартире, со своим ближайшим товарищем по интеллигентскому центру Вацлавом Цивиньским, и так же перед ними горела свеча, и так жо в открытое окно влетали бабочки… «Вот и мы, как эти бабочки… — сказал тогда Цивиньский, — летим на свет из тьмы и опаляемся, и гибнем… Только опаляет, губит нас не свет, не огонь, на который мы спешим, а сама тьма, которую мы ненавидим… Тьма опаляющая…»
К тому времени был уже арестован и сослан в Сибирь Василий Голубев, в Нижний выслали Леонида Красина… Может быть, и слишком красиво было сказано (Цивиньский всегда отличался несколько чрезмерной пафосностью, не зря он и стишками грешит), но тогда сказанное им как-то резко вошло в сознание, даже нечто пророческое почудилось в его словах, почудилась почти фатальная неизбежность, по которой невозможно было не «опалиться». В самом ближайшем будущем…
«Да, уже сколько раз это могло произойти, случиться со мной!..» — подумал Михаил. Он резко, навскидку глянул на братьев, притихших у своего краешка стола, размягченных, развяленных усталостью, выпитым, духотой вечера. Даже заморгалось вдруг, будто некая пелена нашла на глаза. Расплылось все, заколыхалось… Словно бы и не стол между ним и братьями, а целое поле, которого ему не преодолеть, вроде бы и видит-то он их в такой спокойной доброй обстановке в последний раз… И остро вдруг подумалось о доме, о родителях. И, как будто почуяв, угадав в нем это, Гавриил поднял на него глаза:
— Завтра, об эту пору, вы с Яковом будете уже дома, у стариков…
Михаил улыбнулся ему, тихо спросил:
— Как они там?..
— Да — как?.. Все переживают за тебя…
— Чего же за меня переживать? Жив-здоров…
— Жив-то жив… Да ведь уж дважды отцу делали внушения за твои участия в студенческих беспорядках…
— Знаю…
— А тут еще эта твоя отсрочка на год с окончанием института…
— Так ведь я же объяснил им — по болезни…
— А они — не верят. Нет, говорят, это он связался там со всякими смутьянами, те его и сбивают с толку, и втягивают все дальше… Отец все тростит: «Как я не хотел, чтоб он уехал туда учиться!..»
Михаил промолчал, покусывая по-юношески пухлые губы.
— Эх, Миша, Миша! — продолжал Гавриил. — Романтик ты у нас!.. Не обижайся только! Закрутил твою голову этот Питер. За-кру-тил… Втянул в политику… Ох уж эта по-ли-ти-ка!.. И слово-то какое-то скользкое… А по-моему так: люби свою землю, живи честно, не воруй, не бунтуй, уважай власть, данную господом богом, служи, работай на совесть, прилежно… Вот и вся политика!.. — Он усмехнулся, придвинул к себе блюдо с остывшим уже шашлыком, взял шампур, поднес его острием к губам, сорвал поджаристый кусочек баранины и, жуя его, продолжал: — Я хочу жить, не мудрствуя, как живут простые кавказцы, достойно и спокойно принимая жизнь и смерть, радости и горе… А всякие там теорийки и теории — это от лукавого! Далеко все это от нас, от нашей, тутошней, жизни. Далеко и непонятно. Я, если хочешь, — он отложил шампур, откинулся назад и, вытянув руки, оперся ими о край стола, — я думаю, что настоящая, нормальная, достойная человека жизнь в России была лишь У нас — у терских, гребенских, кубанских казаков… Она всегда была какой-то особенной, словно бы отколовшейся от общей российской жизни… Я не идеализирую ее, но все же у нас тут простой человек мог с достоинством держать голову. Я вот как-то подумал, читая Толстого, его «Казаков» — а ведь его желание слиться с народом, опроститься, избегнуть всего ложного, оно ведь зародилось именно у нас — на Кавказе, в дни его ранней молодости, среди простой, самобытной и независимой жизни… Гавриил умолк, и с минуту братья сидели опять молча, глядя на огонек свечи. Михаил заговорил первым. Едва заметно усмехнувшись, посмотрел на старшего брата:
— Вот ты назвал меня романтиком… а получается, что романтик-то не я, а ты. Идеализируешь явно ты… Явно идеализируешь ты и жизнь наших кавказцев с ее «патриархальной простотой». Наверное, еще по детству своему помнишь, какой она была и суровой, и жестокой. Она вся стояла на крутом приказе. По приказу казаки даже одевались. Приказано было, чтоб новолинейцы покупали черкески желтого цвета и непременно — с двенадцатью газырями, и никто не смей не подчиниться. А посмел — за нарушение приказа — наказание: либо палками, либо розгами, да еще при сборе всего станичного общества!.. Нагайка и кулак были обычным способом проявленияатаманской власти. Добавь к этому жизнь в постоянной опасности… Где уж тут было простому-то человеку «с достоинством держать голову»! Ты толкуешь о какой-то особенной здешней жизни, словно бы отколовшейся от общероссийской жизни… Мол, всякие теорийки насчет перестройки этой общероссийской жизни для тебя — дело десятое, мол, это — далеко и непонятно… А не так и далеко… Я вот сегодня понаблюдал тут, на базаре, насмотрелся на то, как беды этой общероссийской жизни сказываются и здесь… Сколько народу, ищущего хлеба и работы! И как этот народ унижен и несчастен!..
— Ну! Тоже — «народ»! Оборванцы! Серая масса!.. — Гавриил усмехнулся.
— «Серая масса», говоришь?.. Я бы тебе много чего мог рассказать про эту «серую массу»!.. Рассказать бы тебе, а еще лучше показать бы тех питерских рабочих, которых я знаю!.. Что бы ты сказал тогда!..
— Ну! Сказал! Одно дело — рабочие, другое — эти! Это же — босяки!..
— Нет! Не босяки! Вчерашние крестьяне, разорившиеся землепашцы, завтрашние рабочие! Да! Завтрашние рабочие! Иного пути у них нет!..
— Братцы! Да хватит вам! Вот завели разговорцы! В кои-то веки судьба свела всех троих вместе, и нашли, о чем поговорить!.. Давайте лучше выпьем! На сон грядущий! Завтра рано вставать! — Яков опять поднял свой стакашек, просительно улыбаясь, посмотрел на братьев. — Ну! Алла верды! По последней! И — на покой!..
— И то, — пробормотал Гавриил, чокаясь с ним и Михаилом, — давайте-ка спать… Ты, Миш, — с дороги, и мы порядком устали нынче…
Ужо лежа в постели, в темноте хаты, Михаил, в мыслях, все еще продолжал не доведенный до конца спор с Гавриилом.
«Как запутанно, как нелепо устроена жизнь! — думал он. — Сколько в ней всяческого неприятия, непонимания одним человеком другого!.. Один совершенно не приемлет того, что для другого — сам свет, сама правда… И не просто не приемлет: за ним — целая система совсем иных воззрений, совсем иных взглядов… Даже вот меж нами, братьями, это так… Гавриил — цельный, умный человек, с характером, с волей. Но эта его цельность и умность не знают того размышления, которое привело бы его к болезни совести, к разладу с установленным порядком жизни… Как все у него просто: исполняй долг, честно служи… И человек, такимобразом, оказывается в ладу со своей совестью… Нет, брат, нет! Чувство твоей личной ответственности за все, что творится вокруг, за суть и дух окружающей тебя жизни, — только на этом можно твердо стоять честному человеку!.. А твое добросовестное исполнение долга… Тут ведь надо видеть: чему на пользу эта добросовестность!..»
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Из Баталпашинска выехали перед самым восходом солнца. Его верхний, сразу же ярко засиявший краешек Михаил и Яков увидели на востоке, едва поднялись, переправившись через Кубань, на левый берег. Здесь остановили коней, оглянулись. Гавриил, провожавший братьев до реки на коне своего денщика, помахал им, крикнул еще раз «счастливый путь!», и они пустили коней рысью, более не оглядываясь.
Путь от Баталпашинска до Сторожевой Михаилу хорошо знаком. Сначала прямо на запад — до местечка Бесленей на Большом Зеленчуке, затем — на юг, через станицу Исправную, вдоль Большого Зеленчука.
Михаил быстро освоился в седле: крепко усвоенное с детства, в ранней юности, остается с человеком на всю жизнь. Верхом ему не приходилось ездить давно, и теперь он испытывал чуть ли не мальчишескую радость. Да и само это утро было таким чутким и чистым, так звонко раздавался в нем цокот копыт, такой свежестью овевало на быстром движении лицо, что он готов был счастливо смеяться на скаку и все поглядывал в сторону снеговых далеких гор, сияющих в лучах едва взошедшего солнца своими розоватыми вершинами…
Была у него такая игра когда-то. В воображении. Была той самой осенью, когда он остался при родителях один, когда и младшую из сестер — Дуню выдали замуж. Уже оголились сады, окружающие Сторожевую, и воздух был холоден и свеж, и окружавшие станицу лесистые горы после захода солнца окутывались темной холодной синевой — предвестницей первых студеных дней. В такие вечера он спускался к Кяфару, бегущему за земляным оборонительным валом, проходящим через родное подворье, и там, у воды, представлял себя всадником, одиноко едущим по горам. Суровым, сильным человеком. За плечами — длинное ружье, заложенное в бурочный чехол, у пояса — широкий кинжал и пистолеты. Он едет один, смелый и вольный, под ним пофыркивает горячий верный конь, кровный шавлох. Он едет в сторону тех вон самых далеких гор, манивших его с раннего детства. Он слышал, что за теми горами лежит Черное море, которое вовсе не черное, а яркое, бирюзовое, все в веселых огнях, в радостном блеске. Это море сколько раз представлялось, воображалось ему! Когда он заговаривал со взрослыми о том, можно ли доехать до далеких снеговых гор, те отвечали, что, если одному ехать, живому не бывать, что горцы, хоть и считаются замиренными, своего случая не упустят… Сколько раз, глядя на шумящий меж камней Кяфар, он испытывал к нему чуть ли не зависть: ведь тот свободно, не зная никакого страха, бежит себе среди темных лесистых гор, на север, к их станице, и дальше — до слияния с Большим Зеленчуком…
Дорога слегка забирала к югу. Яков в молчании ехал впереди, сидел ссутуленно, наклоивв голову, может быть и дремал. Поспать им пришлось совсем мало…
Кони незаметно перешли с рыси на шаг. Начиналась жара. Струи нагретого у земли воздуха, будто какие-нибудь хрустальные клубящиеся пряди, подрагивали вокруг. Пыльная, хорошо наезженная дорога, обрамленная с двух сторон густыми зарослями ив, акаций, кустами дикого терновника, была пуста. В стороне проплывали одинокие базальтовые глыбы. На некоторых из них недвижимо сидели орлы. Небо было без единого облачка. Михаил глубоко вдыхал чистый горный воздух, напитанный теплом и пьянящими запахами летней земли. И вдруг — будто странное внезапное помрачнение нашло на все вокруг и на него самого… Опять, как и накануне, помнилось: со всем этим, южным, родным, ему предстоит расстаться надолго, может быть навсегда… Даже ознобно вздрогнулось.
Вскоре они остановились у брода через Малый Зеленчук. Надо было переправляться на другой берег.
Пожмурившись на жадно плещущиеся мутные воды реки, Яков поскреб в затылке, покосился на Михаила:
— Жара… Снега в горах сильно тают… Пожалуй, нам лучше ехать вдоль Малого Зеленчука, на Большом-то есть места, по которым в такие паводки не всякий раз проедешь…
— Смотри. Тебе видней! — кивнул Михаил.
За станицей Зеленчукской приободрились: до Сторожевой осталось всего ничего!..
Впереди уже завиднелись ряды низеньких казачьих хат, окруженных садами, церковь, сторожевая деревянная вышка. Спустившееся к горам солнце затопило станицу жарким светом. Въехав в восточные ворота, братья вскоре оказались возле родной хаты.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Первой они увидели мать. Она выбежала им навстречу, сухонькая, рано состарившаяся, и сразу же припала к Михаилу, едва он соскочил с коня, запричитала негромко:
— Мишенька! Сыночек! Чуяло мое сердечушко! Приехал!..
Тут же вышел из клети отец. Остановился посреди просторного двора, крупнотелый, кряжистый, с широкой, лопатистой бородой, уже как следует тронутой сединой. Стоял, ждал, когда сыновья сами подойдут к нему, не по-стариковски острые, светлые глаза смотрели на них из-под навислых, густых бровей чуть ли не испытующе, вроде бы спрашивали: как это они, оба разом, появились тут, перед ним?..
В обыденной домашней жизни отец одет всегда просто: ситцевая рубаха, шерстяные шаровары, на ногах — шерстяные носки и грубые кожаные чувяки. Таким он предстал перед сыновьями и теперь. Те передали поводья матери и один за другим вошли в калитку, поклонились ему, Яков даже слегка пристукнул при этом пятками сапог по-военному, будто перед кем-нибудь старшим по званию.
Отец шагнул к ним, положил им на плечи тяжелые, темные от загара руки, покивал, нисколько не изменившись в лице, сказал коротко: «Добро пожаловать, сынки!..», слегка оттолкнул их от себя. И — уже матери (не сказал, а приказал): «Гликерья! Коней поставь к нашему! Напой, как остынут! Накормлю сам…» Отходя от него, Михаил незаметно подмигнул Якову: мол, все тот же наш старик — ни слова, ни жеста лишнего… Яков тоже незаметно подмигнул ему.
У крыльца они стащили с распаренных ног обувь, сняли пропотевшие мундиры и рубашки, принялись умываться, поливая друг другу, обтерлись одним полотенцем, поданным матерью, и только после этого вошли в хату. Навстречу дразняще и так знакомо пахнуло борщом и свежеиспеченными хлебами…
Михаил с удовольствием ощутил босыми ногами чистоту и прохладу половиц, все еще хранящих запах чинары.
Яков спохватился, вспомнил про не снятые с седел переметные сумы с вещами и с гостинцами Михаила для родителей, вышел опять во двор. Михаил, поозиравшись в прихожей, заглянул в комнатушку, в которой когда-то жил с братьями, заглянул и в комнату сестер, где было также чисто и тихо, где тишина и чистота были давними, устоявшимися. Потом заглянул в родительскую комнату. Ее он всегда любил больше трех других комнат. В ней даже окошко было сделано по-особенному, по-стародавнему— «с рожками». Слева от входа тут — широкая деревянная кровать, покрытая стеганым темно-синим одеялом, над кроватью — образа, рядом с кроватью — невысокий столик с железным подсвечником, в переднем правом углу — лавка с расписной прялкой, пол устлан пестрыми домоткаными половиками… Даже сам воздух этой чистенькой белостенной комнаты для него всегда был каким-то особенным. В родительском доме все вещи — простые: деревянные столы и лавки, деревянные кровати… Пожалуй, единственный несамодельиый, фабричный, предмет в нем — настенные часы с кукушкой, висящие в прихожей. На их циферблате изображена девочка, поворачивающая глаза в сторону кукушки, когда та выскакивает из своего домика — куковать…
С улицы, со стороны западных ворот, послышались протяжные взмыки, тяжкий, медлительный топот, крики женщин и детей. Михаил догадался: пригнали стадо. Выглянул в окошко, зажмурился. Садящееся солнце пылало как-то по-пожарному, в его летящих над землей лучах золотисто светилось облако пылп, поднятое стадом, и в этом светящемся облаке брели, пыхтя, мыча, отдуваясь, коровы, бычки, телки, мелькали, оглашая станицу криками, встречавшие стадо люди… Михаил видел перед собой словно бы какой-то вечный, ничем не омраченный мирный вечер родной станицы. Такой вечер был здесь вчера, позавчера, такой вечер повторялся тут много-много раз за последние годы, прожитые им так далеко от всего здешнего, столь для него родного с младенчества… И опять шевельнулось в душе внезапное болевое предчувствие…
— Ну как, малость отудобил с дороги-то?..
Михаил вздрогнул, оглянулся: в дверях комнаты стоял отец.
— Ничего… От седла, правда, отвык, с непривычки спина затекла… Теперь — ничего… — пробормотал, выпрямляясь.
— Да… Ко всему нужна привычка… — врастяжку сказал отец и, уже тверже, жестче спросил: — Стало быть, ученье-то свое закончил?..
— Закончил… — Михаил кивнул, почувствовав во всем теле внезапную напряженность: заранее знал, к чему подведет отец этот разговор.
— Ну и как теперь?..
— Буду поступать па службу…
— Та-ак… А куда?..
— Вот вернусь в Петербург — определится… Пока — не знаю…
— Ну-ну… Ладно… — с неожиданной легкостью сказал отец и добавил: — Поди-ка: там тебя, у крыльца, Яков ждет… Я пока тут переоденусь малость… — Он вошел в комнату, а Михаил сразу же вышел, прикрыв за собой дверь и облегчение вздохнув: не состоялся пока этот тяжелый разговор!.. Однако знал — пока…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Мать между тем, управившись во дворе со скотиной и напоив коней, собрала в прихожей на стол.
Отец вышел из своей комнаты к столу, принарядившись: мягкий бешмет тонкого темно-синего сукна с накладными газырями, синие казацкие шаровары на очкуре, узкий ремень с простым дагестанским кинжалом, на груди — Георгий 4-й степени. Обут он был в мягкие козловые чувяки. Редкие светлые волосы были расчесаны «на пробор», окладистая борода была тоже расчесана и разведена на груди «на стороны». Держался отец осанисто, с явно подчеркнутым достоинством. Перед братьями пред стал словно бы другой человек. Человек такой: хозяин не только в своей хате да на своем дворе, хозяин целой станицы, в прошлом — боевой казак и всегда — ревностный слуга отечества и престола!..
Отец, до выхода на льготу, отслужил почти двадцать лет, добрую половицу из них провел в боях и походах. Все эти годы он, как было написано в его послужном списке, «вне службы во временных отпусках, в бессрочном отпуску для пользования ран, в плену у неприятеля и по другим случаям не был».
Михаилу однажды случилось прочитать этот весьма пространный и довольно подробный список. Сколько там было упомянуто всяческих боевых дел, в которых отцу довелось участвовать!.. Однако все обходилось для нею удачно: ни ранен, ни контужен не был. За боевое отличие он получил личное дворянство, его произвели в хорунжие; а затем наказным атаманом Кубанского казачьего войска он был утвержден начальником станицы Сторожевой, в которой и обосновался с семьей. В конце 1867 года, за выслугу лет, его уволили на льготу «с мундиром» и с оставлением в той же должности. И вот почти четверть века прошло с тех пор, а он все был бессменным станичным начальником. Умел отец ладить, не роняя достоинства, и со своими станичниками, и с баталпашинским начальством. Твердым, основательным, справедливым был человеком.
Перед тем как сесть за стол, отец трижды широко перекрестился на иконы. На табурет опустился — будто о седло: прямой, упругий, осанистый, взял в руки нож и каравай, в молчании нарезал целую горку ломтей. Только после этого села за стол и мать. Но сначала тоже неторопливо, истово перекрестилась трижды. Так было тут всегда: все — в свой черед, все — основательно.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Пока длился ужин, на воле заметно стемнелось. Отужинав, Яков сослался на усталость и почти тут же ушел спать. Отец вышел на улпцу — посидеть после долгого жаркого дня на завалинке. Михаил остался за столом, у распахнутого окна. Мать, убирая со стола, засыпала его вопросами. Первые вопросы — все те же: окончил ли учебу, куда определился на службу?.. Он отвечал коротко, не входя в подробности, словно бы скупясь на слова; она же, будто задавшись целью растормошить его, втянуть в разговор, находила все новые и новые вопросы. Наконец поняла эту его скупость по-своему, по-матерински, покачала жалостливо головой:
— Устал ты, Мишенька! Яков-то вон, видно, уж спит! Поди ложись тоже… Завтра наговоримся. Я тоже укружилась за день-то! Тоже пойду лягу…
— Да… да… Ложись… — Михаил покивал ей в задумчивости. — Я тоже скоро лягу…
— Укружилась, укружилась я… Ведь по седьмому десятку пошло нам с отцом… Старики уж…
Мать ушла в свою комнату и вскоре затихла там. На завалинке, под окном, у которого сидел Михаил, тянулся негромкий разговор пожилых казаков. Голоса разговаривавших раздавались в густых теплых сумерках глухо.
Дверь хаты была оставлена нараспашку, Михаил хорошо слышал по-вечернему ясный шум Кяфара, бегущего неподалеку, за оборонительным валом. И все путалось, переплеталось с этим шумом звяканье колокольчика: но двору бегал не угомонившийся за день телок…
К беседующим под окнами хаты, запинаясь, подошел сосед Брусневых — старый казак дядя Савка, известный в станице балагур и пьяница, знающий бессчетное множество «побреханек» и «случаев», умеющий и складно присочинить, и ловко соврать…
В этот теплый спокойный вечер пребывал он в добром расположении духа, по всему было видно, что где-то ему как следует перепало чихиря, слова в нем не держались.
Дядя Савка особенно любил рассказывать «побреханьки про царыцю Катрю», к которой якобы по разным войсковым, «козацким» делам приезжали то запорожцы, то кубанцы.
В сгустившихся еще больше сумерках загорелое до черноты лицо дяди Савки было почти неразличимо. Лицо его Михаилу нетрудно было представить до малейшей черточки. Эти вечно вытаращенные, почти бесцветные, заводяневшие от старости глаза, встопорщенные, прокуренные до прозелени усы, этот лиловатый нос-курнофеечка… Такое лицо раз увидеть — не забудешь во всю жизнь.
Дядя Савка считал себя потомком запорожских казаков, чем немало гордился. Он словно бы подчеркивал это и своей «хохлатской мовой», и всей своей беззаботной бобыльей жизнью. Жил он, не имея ничего, кроме развалюшной хатенки. Михаил с детства полюбил эту низенькую турлучную хатку под толстой камышовой крышей, в ней, бывало, по вечерам он просиживал до позднего часа, увлеченный россказнями дяди Савки. То ли по-соседски, то ли еще почему-то старик явно выделял его среди других мальчишек станицы. Старому казаку было что порассказать! Рассказчиком дядя Савка был всегда неутомимым, неиссякаемым. От него же Михаил услышал когда-то о том, «як и виткиля началося Кубанско войско». Не забывая посасывать свой глиняный чубучок, дядя Савка рассказал ему, как с Дона на Кубань после разгрома Булавинского восстания бежали казаки Игната Некрасова (Игната-сударя, Игната Некрасы), основали там казачью общину, имевшую свои законы и чуть ли не свою конституцию. Последователи Игната крепко держались завета: «Царизму не покоряться, при царизме в Расею не возвертаться».
Было у дяди Савки две мечты. Одна называлась «Беловодской землей», другая — «градом Игната».
О Беловодской земле он рассказывал Михаилу всего несколько раз. Мол, лежит эта земля далеко — за высокими горами, на берегу «окияна-моря». «И тамо, Михайло, — живописал он, — леса темния, горы высокия! Житье тамо дюже гарно! Родятся тамо и винограды, и кавуны с мажарное колесо, н сорочинское пшено!..[2] Воля тамо! Вольная воля! Всяка власть, Михайло, — антихрист. А тамо антихриста не може быти и но буде!.. Тамо уси живуть по божецкому закону!.. Тамо уси — браты та систры!.. Е тамо и станицы, як вот наша, тильки дуже крайше, е и два града — Скитай та Кабан…»
О граде Игната дядя Савка мог говорить без устали. Об этом граде он знал не один десяток сказок. Однако рассказывал он их не как сказки, а как бывальщины, с полной верой в доподлинность того, о чем говорил, без малейшего сомнения…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Погостив у родителей всего один день, Яков уехал в Баталпашинск. Проводив его, Михаил тоже отправился в путь. Правда, на сей раз путь был коротким — до станицы Уруп, расположенной верстах в двадцати от Сторожевой, на реке Уруп.
В этустаницу была выдана замуж старшая из сестер Михаила — Анна. Старше его она намного — на целых четырнадцать лет. Как раз четырнадцать лет она уже прожила вдовой.
В апреле 1877 года русское правительство объявило войну Турции, двинув на Балканы 185-тысячную армию. Одновременно боевые действия начались и на Кавказе.
При взятии русскими войсками Карса и погиб муж Анны — казачий офицер Петр Маев.
Менее чем через год война была окончена. В то лето Михаил поступил на реальное отделение Ставропольской гимназии, в которой уже учились не первый год его старшие братья: Яков — тоже на реальном отделении, Гавриил — на классическом.
По окончании гимназии старшие братья поступили в юнкерское училище, откуда вышли офицерами. Михаила ожидал этот же путь (такова была воля отца), он же возмечтал о высшем образовании, о поступлении в Петербургский технологический институт. Отец противился этому, мать — поощряла, немало намучившись с детьми, которых воспитывала одна все годы долгой военной службы мужа, напереживавшись за него.
«Мы—казаки! — говорил отец. — И позачем нам путаться со всякими институтами! Наше дело — военное!.. Будут все сыновья офицерами — куда лучше!..»
Сам отец имел лишь начальное образование. Школ на линиях почти не было. Грамотных среди казаков было так мало, что в среде казачьих офицеров часто не оказывалось ни одного кандидата в командиры. Отец для того и дал сыновьям возможность окончить гимназию, чтоб те могли поступить в юнкерское училище, а затем стать офицерами, перед которыми открыта была бы военная карьера. Дочерям он позволил окончить лишь начальную школу.
Мать была вовсе неграмотной, однако стремление к ученью младшего сына, в котором души не чаяла, всегда поощряла. С мнением ее насчет устройства судьбы сыновей отец не очень-то и считался, и все же ей удалось уговорить его, чтоб разрешил хотя бы самому младшему сыну «пойти не по военной части».
Тут и сыграла свою роль печальная участь самой старшей из сестер Михаила, овдовевшей так рано — в двадцать пять лет… Мать не преминула напомнить отцу об этом: «Вот она — твоя военная-то служба! Чуть какая война, и всех сынов наших пошлют на нее в первую голову! Полягут — вон как Петр у Анюты нашей!.. А тут — хоть одного-то, может, не тронут…»
Поупирался, поворчал отеп, однако в конце концов уступил: «Ладно, так уж тому и быть — пущай шлет бумаги в этот самый… как его… институт!..»
Михаил тогда из хаты на радостях пулей вылетел — побежал делиться радостью с сестрой Дуней и ее мужем — станичным учителем. Мать только руками вснлеспула у него за спиной: «Эко обрадовался, понесся! Мало всех цыплят во дворе не потоптал, как понесся!..»
Вечером, в сумерках, когда он вернулся домой, она просто светилась вся. Подмигнула ему, как подмигивают друг другу заговорщики: «Грозный ои, батяка-то наш, а отходчив. После-то, как ты убег, опять было заартачился, даже накричал на меня. А теперь вон — в палисадке с казаками сидит, табачное зелье изводют! Чихирьку я им вынесла да вишняку! Выпивают помаленьку! Балачки разводют!..»
Михаил запомнил тот день в самом начале августа, среди которого отец принес из станичной управы пакет со штемпелем Петербургского технологического института, адресованный именно ему — Михаилу Иванову Брусневу.
Отец был сурово-молчалив. Вручил ему этот пакет и остался стоять рядом, словно бы ожидая, что же произойдет дальше, не опомнится ли его «заблудший» сын, не спохватится ли?..
Лист плотной серой бумаги, извлеченный на свет с немалым волнением едва ли не дрожащими руками… Печатный текст. Факсимильная, печатная, подпись директора института, извещавшая его, вчерашнего ученика Ставропольской гимназии, о том, что он принят на первый курс иобязан явиться в институт к пятнадцатому августа…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Учась на первом и втором курсах, Михаил мало интересовался политикой, и хотя участвовал в различных студентческих кружках, однако особой активности в них не проявлял, да и сами по себе эти кружки в те поры, пожалуй, далеко стояли от какой-либо революционной деятельности и входившие в них студенты более заняты были вопросами самообразования и взаимопомощи, а нередко и просто веселым препровождением времени. По крайней мере, иная жизнь известных ему кружков и кубанского землячества, в которое он входил, тогда не слишком интересовала его.
В те первые петербургские годы он был настолько далек от всякой политики, настолько вне всяких подозрений, что товарищи по институту и землячеству порой обращались к нему с просьбой припрятать или сохранить разного рода нелегальные книги и листки, которые он имел возможность затем прочитывать. Доводилось ему тогда читать подпольные издания «Народной воли», «Черного передела», «Земли и воли»; выходивший в Швейцарии под редакцией Петра Лавровича Лаврова журнал «Вперед», читал сочинения Адама Смита, Сен-Симона, Фурье, Лассаля, Чернышевского, Герцена, «Основания политической экономии» Милля с примечаниями Чернышевского… Постепенно на его квартире, на Коломенской улице, скопилась небольшая библиотека подпольной литературы, и, случись у него обыск, уже тогда он мог бы как следует поплатиться…
В те поры он не знал, не догадывался, что судьба свела его в родном, кубанском, землячестве с людьми, тайно замышлявшими покушение на самого царя… Как он мог догадаться, что универсант Пахом Андреюшкин, уроженец кубанской станицы Медведковской, всеобщий любимец, весельчак и балагур, вскоре окажется одним из тех пяти народовольцев, возглавляемых Александром Ульяновым, которые будут казнены в Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 года «за участие в покушении на императора Александра III»?.. Не догадывался и о принадлежности к той же группе другого своего товарища по землячеству — Дмитрия Иваненкова из станицы Кужорской. Тот был закадычным другом Андреюшкина… Понял, что оба его земляка замышляют что-то опасное, после того, как они, незадолго до задуманного ими покушения, перенесли к нему на квартиру и оставили на хранение целую лабораторию, приспособленную для получения азотной кислоты, и большой запас селнтры; лаборатория эта и селитра долго хранились у него после неудавшегося покушения. И тут он мог крепко поплатиться, если бы к нему нагрянули с обыском, ведь с помощью той самой лаборатории и из той самой селитры изготавливали бомбы для покушения на Александра III…
Среди весны, после того, как ему стало известно о казни Пахома и о ссылке Дмитрия, Михаил не находил себе места. Целыми днями он бродил по улицам Петербурга, все думая о случившемся, вся его собственная судьба словно бы влилась, втекла вдруг в какое-то новое русло, где ни одного места уже не могло быть для спокойного, ровного течения… Ему хотелось понять то, что случилось, попять, постичь смысл жертвы, на которую без колебания пошли все эти совсем еще молодые люди, его ровесники. То, на что решились они, словно бы обнажило для него некий больной нерв окружающей жизни, и он так вдруг, почти неожиданно для себя, оказался вблизи этого обнаженного нерва…
Иным человеком приехал он тогда домой, в свою Сторожевую, на летние вакации. А осенью, когда начались занятия в институте, уже по-новому присматривался ко всему, вроде бы впервые так остро начиная догадываться, что его альма-матер живет не только той жизнью, которая на виду; есть еще другая, скрытная, которую не сразу распознаешь… Ему казалось, что рядом с ним существуют какие-то значительные студенческие организации, представляющие собой что-то единое и сплоченное, какую-то большую, тайно крепнущую силу.
Жесточайшая реакция, наступившая после разгрома «Народной воли», особенно усилилась тогда, пять лет назад. В 1886 году был введен в действие новый университетский устав, который запрещал любые студенческие организации, кружки, сходки, усиливал контроль над преподаванием и поведением студентов.
В декабре 1887 года в Петербургском университете произошли волнения, вызванные недовольством действиями ректора. Волнения охватили и студентов Технологического института, уже и до того несколько раз протестовавших против нового устава. В тех волнениях Михаил принял самое активное участие, за что и поплатился вскоре же.
В институте было две стипендии для пансионеров Уральского казачьего войска и две — для пансионеров Кубанского казачьего войска. Одну из двух последних получал Михаил, другую — его товарищ по землячеству Федор Ставцев. Сходка в Технологическом, на которой студенты хотели заявить директору института о своих требованиях, случилась 8 декабря, а на следующий день состоялось экстренное заседание Учебного комитета под председательством директора. На том заседании были названы основные участники сходки и приняты решения о наказании их. Уже в январе на имя директора института пришла ответная бумага от войскового хозяйственного правления Кубанского казачьего войска:
«По докладе Наказному Атаману Кубанского казачьего войска отзыва Вашего от 19 декабря истекшего 1887 года за № 3066 Его превосходительство изволил поручить сему правлению стипендиата сего войска студейта вверенного Вам института Михаила Бруснева sa участие в беспорядках 8-го того же декабря лишить войсковой стипендии. Вследствие этого, начиная с 1 числа сего января, деньги в стипендию Михаилу Брусневу высылаемы не будут».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Крутые меры институтского начальства привели к обратному результату. Студенческие кружки стали жить еще активнее.
Руководители кружков высматривали тех студентов, которые представлялись им способными к конспиративной работе. С такими завязывались знакомства сначала без затрагивания каких-либо рискованных тем, их снабжали литературой, постепенно подводя к более острым вопросам, попутно выяснялись особенности характера, степень выдержанности, готовность к кружковой работе… Именно так оказался привлеченным к этой работе и Михаил. К нему был прикреплен старшекурсник Бронислав Лелевель.
Тайно существующая кружковая жизнь института все глубже открывалась перед Михаилом. Ему удалось достать первый том «Капитала» Маркса, брошюру Плеханова «Социализм и политическая борьба». Изучение «Капитала» помогло понять происхождение и рост рабочего класса, тайные пружины капиталистического производства, значение рабочего класса в нем, положение этого класса, сущность его борьбы, его организацию и историческую задачу.
Михаил словно бы освобождался при чтении этой книги от всего второстепенного, путающего, сбивающего. В нем проспулся какой-то новый азарт, азарт открывателя, ступившего на верный, основной путь, с которого уже не сойти, чего бы это ни стоило. Сама огромная марксова мысль жила перед ним, даже листы он переворачивал, как что-то живое, хранящее в себе дыхание и веру огромной личности. Ощущение было такое, будто он оторвался вдруг от некой одряхлевшей, вязкой, старой жизни и влетел, именно влетел, в новую, в которой все — и яснее, и просторней, и значительней. Жизнь оставалась все той же, она была вокруг, запутанная, неподатливая, вся из углов и петель, в ней черт ногу сломит, но она, такая, для него стала вроде бы вчерашней, поскольку в ее путанице ясно обозначился прямой путь. Он жил в другом времени и сам весь был кем-то другим, новым. И сколько раз за чтением этой книги приходила, будоража сознание, мысль: «Вот же — есть, есть наука обо всем, что составляет основные перспективы жизни!..По этой науке все и должно развиваться, идти дальше! Есть ясные объективные законы, которых никому не объехать ни на какой кривой!»
Главная концепция Маркса настойчиво отводила первое место в будущей революции именно классу промышленных пролетариев; эта концепция утверждала, что именно они — наиболее революционная, революционно-последовательная часть общества, которую никогда не удовлетворят никакие половинчатые реформы, никакие полумеры, что в силу безвыходности своего положения они будут настойчиво добиваться изменения условий, создающих эту безвыходность.
Изучение Маркса помогло составить определенное законченное социалистическое мировоззрение. Главный вывод был таков, что единственная задача социалиста — пропаганда социализма, и пропаганда не вообще, а в основном среди рабочих, пропаганда, развивающая их классовое сознание: без широких связей с массами деятельность любой революционной группы будет обречена…
Михаил чувствовал, понимал: пришла новая пора, пора иных действий и иных деятелей — не бунтарей, не террористов, не народников, не половинчатых реформаторов… Новый деятель должен нести в жизнь прежде всего знание объективных законов, показывать людям несоответствие жизни этим законам!.. Все развивается, и далее еще ощутимей будет развиваться, имени о так, как пишет Маркс! Угнетенные и обездоленные стремятся изменить свое положение, и это стремление в дальнейшем определит развитие самой истории…
Осенью 1889 года Михаил вошел в студенческий кружок пропагандистов своего института, который составляли в основном студенты-поляки: Антоний Косиньский, Бронислав Лелевель, Юзеф Бурачевский, Вацлав Цивиньский; русских было трое: Василий Иванов, сам Михаил и его друг-однокурсник Иван Епифанов. Габриэль Родзевич ввел Михаила в рабочий кружок, с которым до того занимачся сам. Собирался этот кружок в Гавани, на Васильевском острове, на квартире рабочего Фомина.
Михаил стал пропагандистом Гаванского кружка как раз в то время, когда тот разросся настолько, что стал крупнейшим рабочим кружком Питера. Этот кружок объединял весьма грамотных передовых рабочих. Вообще же рабочие кружки были разными по уровню подготовки их членов, потому и само содержание пропаганды было в них разным.
Первые впечатления Михаила от знакомства с рабочими были двоякими: с одной стороны, увлекательное, живое дело, с другой — чувствовалось, что взял на себя немалую ответственность. К занятиям приходилось подготавливаться не по какой-нибудь выработанной твердой программе, а по программе, которую сам же и разработал, придумал. Каждый руководитель сам определял план своей работы, ориентируясь на запросы и уровень членов своего кружка.
Теоретических разговоров, особенно на программные темы, в самом кружке студентов-пропагандистов было мало. На общих собраниях говорили больше о практическом: о распределении рабочих кружков между пропагандистами, о сборе денег, о программе чтений. Они считали себя практиками и даже сознательно уклонялись от обсуждения программных и теоретических вопросов, не видя возможности решить такие из них, как вопрос об общине, о судьбах капитализма в России, об отношении к крестьянству. Не решались причислить себя и к какой-либо партии: было рано. «Народная воля» окончательно разлагалась. С последними народовольческими кружками (Качоровского, Беляева, Фойницкого, Истоминой) они вели борьбу, стараясь отвлечь от них и тех немногих рабочих, которые входили в эти кружки. Политическая и социалистическая пропаганда перемешивалась с чисто культурной. Главная же работа заключалась в объяснении рабочим их положения: они — рабочая сила, создающая прибавочную стоимость. От прибавочной стоимости переходили к выяснению капиталистических отношений, затем — к понятию о социализме. Как пример активности рабочего класса приводилась борьба рабочих па Западе.
От пропагандиста непременно требовалось знакомство с основными работами Маркса, знание рабочего вопроса и истории европейских революций. Требовалось немало и личных качеств. Надо было быть подходящим человеком. Подходящим считался человек простой, умевший относиться к рабочим душевно, внимательно, поскольку не просто агитация была основой работы пропагандиста, а сближение с рабочими.
Исходя из оценки роли рабочего класса, как ведущего класса, исходя из руководящего принципа, что освобождение рабочих есть дело самих рабочих, они не переоценивали роли интеллигенции, считая, что по мере роста числа сознательных передовых рабочих интеллигенция будет отходить па второй план, что только рабочие дадут настоящий тип будущего революционного деятеля, потому и свою роль понимали лишь как служебную и только временно руководящую.
В Петербурге, уже к началу 1890 года, насчитывалось до двадцати рабочих кружков, в которых пропаганду вели пропагандисты-интеллигенты; работал и ряд кружков, руководимых самими рабочими. Было ясно, что назрела потребность отрешиться от кружковой замкнутости и выйти на широкую арену политической борьбы. Надо было вести более смелую пропаганду и агитацию, причем вести ее можно было уже через самих рабочих. Всеми ощущалась необходимость сплочения, организации.
Решено было познакомить меж собой наиболее развитых рабочих из разных районов города. С этой целью провели два собрания, одно — за Нарвской заставой, другое — на Васильевском острове.
Создать организацию, однако, не успели. Начались с приходом весны аресты. За Невской заставой было арестовано и выслано на родину пятнадцать рабочих, вскоре же арестовали несколько рабочих с Путиловского завода.
14 марта в Технологическом институте разразились большие студенческие волнения, в которых приняли участие и студенты-пропагандисты.
В тот же день состоялось экстренное заседание Учебного комитета, на котором обсуждалось создавшееся в институте положение. В результате этого заседания, как и почти три года назад, многие студенты были лишены стипендии.
Придя в институт на следующее утро, Михаил увидел в вестибюле покурсные списки студентов, лишенных стипендии. Список пятого курса механического отделения начинался с его фамилии, так что он снова оказался без стипендии, которую перед пятым курсом ему вернули.
Эта мера институтского начальства вновь лишь подлила масла в огонь: Технологический зашумел по-настоящему!
К вечеру четвертого для неутихающих волнений институт был занят городовыми. Михаил вместе с большой группой студентов-технологов оказался в камере Коломенской части. Через несколько дней его отпустили. Пока— «без особых последствий».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Весна и лето 1890 года для кружковцев-пропагандистов и для кружковцев-рабочих выдались тяжелыми. Аресты следовали одни за другим. Особенно много их было в связи с провалами народовольческих кружков.
Эти многочисленные аресты совсем было прекратили начавшую развертываться пропагандистскую работу на Путиловском заводе. Михаилу пришлось взяться за восстановление разрушенного арестами тамошнего кружка. И Петербурге ему удалось задержаться еше на один год, остаться на том же курсе, как не исполнившему положенных по программе проектов и работ.
Провалы и летнее время, когда одни из уцелевших студентов-нропагандпегов уехали на каникулы, друше, окопчик обучение, уехали насовсем, к местам работы, — все это сказалось: связи с рабочими кружками были потеряны.
К началу осени, однако, дело стало налаживаться. Небольшой кружок рабочих (Николай Богданов, Егор Климанов, Гавриил Мефодиев, Петр Евграфов, Федор Афанасьев, еще несколько рабочих) продолжал сходиться и поддерживал некоторые другие кружки. С оставшимися членами кружка пропагандистов-интеллигентов этот кружок восстановил связь. Сеть кружков стала снова разрастаться. Появились в них и новые рабочие, и новые интеллигенты-пропагандисты.
Развитию самостоятельности в рабочем движении значение придавалось еще большее, чем прежде. Кружки наконец-то слились в единую организацию, названную чуть позже «Рабочим союзом». Был создан Центральный рабочий кружок, который состоял из нескольких делегатов-рабочих и одного делегата от интеллигентского центра. Первым таким делегатом стал универсант Василий Голубев. Интеллигентский центр в основном был пропагандистским, он организовывал и вел пропаганду в рабочих кружках, каждый его член являлся пропагандистом рабочего кружка или занимался на своей квартире с наиболее развитыми рабочими, готовя из них пропагандистов.
Созданная организация зажила по-боевому. На одном из первых собраний рабочие прямо спрашивали Василия Голубева: что делать, к чему готовить своих кружковцев?
Зимой 1891 года началась стачка на судостроительном заводе «Новое адмиралтейство». Забастовало 400 рабочих, занятых на постройке полуброненосной лодки «Гремящий». Организация выпустила прокламацию, которая была распространена среди рабочих «Нового адмиралтейства». Кроме экономических требований она содержала и требования с политическим оттенком. Одновременно выпущено было воззвание к общественности, которое призывало оказать моральную и материальную поддержку пострадавшим рабочим.
Прокламацией и воззванием к стачечникам откликнулась организация и на стачку на фабрике Торшона.
Воззвания и прокламации, напечатанные на гектографе, имели большой успех.
После этих двух стачек особенно остро стала чувствоваться необходимость в постоянном печатном органе, где сообщались бы сведения о рабочем движении на разных заводах и фабриках. Такую газету организация вскоре начала выпускать. Переписывалась она от руки «под копирку» всего в нескольких экземплярах. Составляли эту газету попеременно то Василий Голубев, то Михаил, используя корреспонденции, поступавшие из рабочих кружков. Номера газеты зачитывались рабочими до того, что от них оставались лишь клочки.
В феврале тяжело заболел писатель Шелгунов. К больному писателю-публицисту, известному всей России своими смелыми выступлениями в печати, ходили выражать соболезнование депутации от студентов, от интеллигенции, от литераторов и художников.
В Центральном рабочем кружке возникла мысль тоже посетить тяжелобольного писателя. Мысль эту подал Василий Голубев, посоветовавшись сначала со своими товарищами по интеллигентскому центру. И Михаил, Вацлав Цивиньский, и Леонид Красин согласились с ним. Рабочие, входившие в организацию, действительно знали Шелгунова как публициста, по некоторым статьям, с которыми они знакомились на занятиях.
Голубев же затем и адрес приветствий помог составить, а преподнести его Шелгунову было поручено Федору Афанасьеву, Егору Климанову, Николаю Богданову и Гавриилу Мефодиеву. Организовать их встречу с Шелгуновым, у него на квартире, взялась Екатерина Бартенева, хорошо знакомая семьи Шелгуновых. Она сочувственно относилась к рабочему движению. Ее сын Виктор, студент-универсант, хотя и ие входил в интеллигентский центр, оказывал ему немалую помощь, проводя запятия то в одном, то в другом рабочем кружке.
Тот приветственный адрес Брусневу довелось прочесть— Голубев показал ему черновик.
— «Дорогой учитель, Николай Васильевич! — писали рабочие. — Читая Ваши сочинения, научаешься любить и ценить людей, подобных Вам. Вы первый признали жалкое положение рабочего класса в России. Вы всегда старались и стараетесь до сих пор объяснить нам причины, которые отодвигают нас назад и держат нас в том угнетенном состоянии, в котором мы закованы, словно в железные цепи, нашими правителями и капиталистами…» Особенно сильное впечатление произвели на Михаила завершающие строки:
— «Мы поняли, что нам, русским рабочим, подобно рабочим Западной Европы, нечего рассчитывать на какую-нибудь «внешнюю помощь», помимо самих себя, чтобы улучшить свое положение и достигнуть свободы.
Те рабочие, которые поняли это, будут бороться без устали за лучшие условия… Вы выполнили Вашу задачу, Вы показали нам, как вести борьбу.
Может быть, ни Вы, ни мы не доживем до того, чтобы увидеть будущее, к которому стремимся и о котором мечтаем. Может быть, не один из нас падет жертвою борьбы. Но это не удержит нас от стараний достигнуть нашей цели».
Вскоре арестовали Василия Голубева и его место в Центральном рабочем кружке занял Михаил.
Вечером того дня, в конце которого рабочие отправились к Шелгунову, он зашел на квартиру Гавриила Мефодиева в Сивковом переулке. Здесь чаще всего собирались члены Центрального кружка. Пришел он раньше возвращения «депутации» от Шелгунова. Жена Мефодиева усадила его за стол, поставила перед ним только что вскипевший самовар, вокруг которого частенько сиживали, как одна большая семья, рабочие-кружковцы. Тут и явилясь возбужденные ходоки.
Михаил засыпал их вопросами:
— Ну как — удачно ли сходили? Как вас там приняли? Как «адрес»? Понравился ли Николаю Васильевичу?
— Дивный, дивный человек! — восторженно забасил хозяин квартиры. — Мы думали: писатель — стало быть, какой-то недосягаемый для нашего брата человек, а он— проще простого!.. Такой душевный, обходительный!
— Да! Хороший человек! Хороший! — поддержал его Федор Афанасьев. — Кто правдой да заботой о ближнем своем живет, в том доброго человека сразу увидишь! Совсем уж слаб, лежать ему и то трудно, а он и принял, и разговаривал приветливо!..
— Адрес-то! Адрес-то — как?.. — торопясь услышать о главном, спросил Михаил.
— Адрес вот Федор читал. Николай Васильевич вслух попросил прочитать! — ответил Егор Климанов. Усмехнулся, лукаво глянув на Афанасьева: — Волновался Федор. Щеки поначалу красными пятнами покрылись: ну-ка — перед таким писателем наше, рабочее, сочинение читать! Но — молодец, не подкачал! Без запиночки прочел! Внятно!.. Только покашливал местами.
— Николай Васильевич разволновался, благодарил все! — заметил Николай Богданов. — Такого, говорит, еще не бывало в России!.. Огромное, говорит, вам спасибо!..
Уже сидя за столом, все продолжали говорить о Шелгунове. Невольно разговор сбился на то, что тот болен безнадежно, что жить ему осталось, пожалуй, совсем немного.
— Тяжело и думать об этом, — воскликнул Гавриил Мефодиев. — Лучше и не поминать!..
— Что тяжело, то — да, — опечалептто покивал над чашкой остывающего чая Федор Афанасьев. — Но… все же… Ежели случится такое?.. Ведь надо нам будет как-то участвовать в похоронах… Я так полагаю.
— Да… обязательно! Надо будет! — подхватил Егор Климанов. — Само собой, венок с подходящей надписью: мол, от рабочих, и сами соберемся, проводим в последний путь…
При этих словах все посмотрели на Михаила: мол, как к этому отнесутся интеллигенты…
— Видите ли, — заговорил он. — Участвовать открыто в… такой процессии… рабочим… Это, пожалуй, слишком большой риск… Это надо обдумать… Давайте пока отложим этот разговор…
— Да, да, не надо теперь об этом! Не надо! — снова воскликнул Гавриил Мефодиев, — Человек живой, а мы — такое…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Говорить, однако, пришлось довольно скоро. Весть о смерти Шелгунова разнеслась 12 апреля, в пятницу, поздно вечером. Объявили об этом на литературном вечере в зале городской думы, и к утру печальную новость узнал весь Петербург.
В субботу, вечером, вновь собрались у Мефодиевых. Михаил заранее знал, что разговор опять пойдет об участии рабочих в похоронах Шелгунова. Об этом собрании он был предупрежден через Вацлава Цивииьского в полдень. Вдвоем с ним и посовещались: как быть, соглашаться ли с другими членами Центрального рабочего кружка насчет такого участия?.. Цивиньский был против, сам Михаил — тоже. Недавний арест Василия Голубева подсказывал: необходима особая осторожность!..
Собрание, как Михаил и предполагал, сразу же началось бурно. Мнение рабочих было единым: участвовать в похоронах организация должна (именно организация, а не какая-нибудь группка), поскольку всем рабочим, входящим в нее, надо же, наконец, однажды почувствовать себя как единую сплоченную силу. А то организация есть, даже название вон какое сами же ей подобрали — «Рабочий союз», но какой же союз, ежели весь он — из отдельно существующих кружков, рядовые члены которых знают лишь «своих».
Аргумент был сильный. Михаил и сам думал об этом.
Организация действительно должна объединяться общим действием, ей необходимы конкретные, реальные проявления общей воли, необходимы выходы за пределы кружковщины… Все это так. Но и другое было верно: организация только что создана. Позади у нее немало самых горьких уроков, из которых надо научиться делать выводы. Можно одним, плохо обдуманным выступлением перечеркнуть все, созданное с таким трудом…
— Так как, Михаил Иваныч? Что решил!? Мнение получается такое: надо нам участвовать в похоронах. Демонстративно, так сказать…
Михаил как будто не сразу услышал эти слова Федора Афанасьева, обращенные к нему. Сутулясь, поднялся, тяжело оперся кулаками о край стола. Помолчал. Вокруг все притихли. Ждали, что скажет он.
— Думаю, други, не стоит говорить вам теперь о том, как мы должны быть осторожны, осмотрительны… Раз вы решили участвовать в похоронах, как только что сказано, демонстративно, то и надо все это видеть перед собой, всю возможную опасность такой демонстративности. Стихийности мы тут не должны допустить! Нам надо все как следует продумать. Коли мы организация, то именно организованностью мы и должны быть сильны, порядком и выдержкой.
— Это уж так! — крякнув, кивнул Федор Афанасьев. — А то, ежели россыпью да с кондачка все делать, да суматошливо, пожалуй, себе лишь навредим. Городовых туда нагонят!.. — не договорив, он махнул рукой.
— Да уж и городовых и филеров там будет — пруд пруди! — вставил свое слово его брат.
— Вот мы и должны все обдумать заранее. На опасное, большое дело решаемся! Немалый риск для нас, повторяюсь! Немалый… — Михаил поправил упрямое крылышко русых волос, озабоченно оглядел членов комитете. — Надо составить план наших действий и строго его придерживаться. Прежде всего: первыми к дому Шелгунова мы являться не должны. Прийти надо почти к самому выносу, когда соберется побольше пароду. Вперед не выдвигаться до поры. Держаться в сторонке, но опять же не толпой, чтоб не слишком обращать на себя внимание. И лишь в самый последний момент — может быть, когда тронется процессия, — влиться в нее. Но влиться — организованно. И держаться — сплоченно. Потом такое дело: с Воскресенского проспекта на Волково кладбищо прямой путь — по Литовской?
— По Лиговской, — ответило сразу несколько голосов.
— Так вот, идти надо не по Лиговской. Эта улица малолюдна, и на ней поэтому нам лишь риска больше…
— А пользы меньше, — подсказал Гавриил Мефодиев.
— Да, а пользы меньше, — как на человека, понявшего его мысль с опережением, посмотрел на него Михаил. — Стало быть, нам надо направить всю процессию через Литейный. и Невский на Лиговскую и уже далее — к Волкову кладбищу.
— Дать крюка?! — усмехпувшись, спросил Николай Богданов.
— Вот именно! Дать такого «крюка», чтоб «зацепить» им поболее народу! А там, где многолюдно, полиция не рискнет применить силу! Да, если уж решено выходить «на народ», то именно «на народ» и надо выходить! Чтоб нас увидело как можно больше людей.
— Это уж так! — солидно кивнул Петр Евграфов и спросил: — А где во время шествия нашим держаться?
— А как вы сами думаете? — с улыбкой посмотрел на него Михаил.
— Да как?.. — ответно улыбнувшись, Петр Евграфов потер переносицу. — Народ говорит: куда иголка, туда и нитка!..
— Вот именно! Стало быть, надо стать «иголкой», надо возглавить шествие. Вот тут и необходимо будет уловить момент… Сыграть на неожиданности!.. — Михаил помял пальцами широкий подбородок. — Думаю, сделать надо будет так… Кто-нибудь из студентов, когда наступит момент, крикнет: «Рабочих — вперед!» И тут группа рабочих, с венком, должна быстро оказаться во главе процессии и начать шествие, чтоб у полиции не осталось дажо времени на то, чтоб опомниться. Думаю, только так надо действовать. И это еще не все… — Он обвел взглядом сидящих вокруг стола. — Наш центр должен уцелеть! Но и тех рабочих, которые будут открыто участвовать в демонстрации, надо предупредить: пусть на кладбище во время панихиды рассеются в толпе и, не дожидаясь окончания похорон, со всеми предосторожностями расходятся, кто куда. Дело, на которое мы идем, — крайне опасное для всей организации.
— Разве не понимаем, Михаил Иваныч?!
— Ну вот и прекрасно, други! — Михаил легонько прихлопнул ладонью по краешку стола. — Если проведем все, как надо, думаю, большой беды не последует. Нo на всякий случай давайте договоримся: ежели что — панике не поддаваться, держаться спокойно. Может быть, на первых порах низовых кружков пока не собирать. Предупредите обо всем своих кружковцев до начала завтрашней демонстрации. Очередную встречу проведем вот у Володи Фомина, в следующее воскресенье. Там и оглядим свои ряды… — Михаил снова окинул взглядом сидящих за столом, легкая улыбка тронула его крупные губы. — Ничего, ничего, други! Будем верить в благополучный исход! Авось и не слишком поредеем…
— Эх, жаль: похороны-то — в табельный день! — вздохнул Егор Климанов. — Многие на работе окажутся.
— Людей соберем! Люди будут! — словно бы именно ему пообещал Владимир Фомин.
Занялись выяснением: кто из рабочих сможет прийти на похороны. Насчитали около восьмидесяти человек.
— Ну что ж, это — уже немало! — подытожил Михаил. — Нашего брата студента тоже будет порядком. Многие собираются принять участие в похоронах. У себя, в кружке, я тоже обо всем поговорю. Итак… — он широко улыбнулся. — Раз демонстрация, так пусть будет демонстрация!..
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
В воскресенье, с самого утра, целая группа рабочих по глане с Гавриилом Мефодиевым отправилась покупать венок для возложения на могилу Шелгунова. Выбор остановили на большом венке с темно-зелеными дубовыми листьями. Нашли пути, минуя цензуру, отпечатать на алой ленте заранее составленную надпись: «Указателю пути к свободе и братству — от петербургских рабочих».
Михаил, хотя пора и была для него горячая (готовился к выпускным экзаменам, к защите дипломного проекта), весь этот день провел в хождении и разъездах: надо было самому переговорить со многими студентами-технологами, кое с кем из студентов Университета, Военно-медицииской академии, Лесного института…
Хоронили Шелгупова в понедельник. День выдался погожий, по-настоящему весенний. И хотя был он будним, к выносу гроба явились многие рабочие-кружковцы.
Публика хотела нести гроб на руках, но полицейские силой заставили поставить его на катафалк. Однако тут же были разобраны венки, уже уложенные на катафалке. Полицейские всполошились не на шутку. Незадолго до того вышло прямое запрещение носить венки на руках, о гробах же с покойниками не было никаких специальных указаний… Выходило так, что они воспрепятствовали незапрещенному и тем породили действия запрещенные. Публика между тем успела выстроиться длинной чередой с венками в руках. Около сорока венков!..
— Господа! Господа! Положите венки на место! — заметались полицейские вдоль этой череды. — Запрещено! Запрещено!..
— У вас все запрещено! Дайте как следует похоронить большого честного писателя! — раздавались возбужденные голоса.
— Публика не желает демонстрации! — громко сказал кто-то.
— Переодетые сыщики не желают! — послышалось в ответ.
После затянувшихся препирательств венки все-таки поднялись над головами.
— Рабочих — вперед! — послышался возглас, и суровый темно-зеленый венок поплыл впереди шествия. Вокруг него шло десятка полтора рабочих. Особенно сильное впечатление на публику производила фигура рабочего Фунтикова. Тридцатилетний человек атлетического телосложения, с красивым открытым лицом, с большой окладистой бородой, он был похож не на рабочего, а на крестьянина.
Рабочая колонна на улицах Петербурга! Такого еще не бывало! Михаил, находясь в толпе, с волнением и тревогой смотрел на своих товарищей по организации, так oткрыто шедших впереди огромной колонны по улицам Петербурга. Чем, чем чревата была эта демонстрация для них, для всей организации, еще такой молодой, только-только созданной?! Ведь одна только надпись на венке быта таким дерзким вызовом!..
— «Указателю пу-ти к сво-бо-де и брат-ству…» — читал по слогам высокий мастеровой, шагая чуть впереди движущегося шествия, по самому краю панели. Он так увлекся вчитыванием в эту надпись, что не замечал, как наталкивается на встречных прохожих. Глядя на него, Махает невольно улыбнулся, подумав о том, что, так рискуя, они, руководители организации, все-таки правы: демонстрация эта о многом, наверное, говорила вот таким, как этот мастеровой.
По сути дела, Петербург видел теперь первую общественную демонстрацию, на которой выступил русский рабочий, видел демонстрацию-предвестницу, да, именно так: демонстрацию — предвестницу будущих массовых политических демонстраций русских рабочих! Это так остро понялось не сразу. Как осенение пришло. Вдруг.
Такая демонстрация должна была состояться! У всякого великого движения должно быть начало. Ничто по происходит сразу, без таких вот начал. Это — как у весеннею половодья: все начинается с дерзких малых струек, затем перерастает в потоки, в неоглядные разливы! Даже в том, что сама демонстрация совпала именно с такой порой года, когда по всей России шумят водопольные воды, взламываются льды, реки выходят из берегов, — даже в этом Михаил ощутил вдруг какую-то великую неслучайность. В себе самом, в своих товарищах рабочих, открыто, неторопливо, в суровой решимости идущих на виду у всего Петербурга, он угадывал в эти минуты дерзкую весеннюю силу, которую уже не остановить никакими приморозками, никакими усилиями и потугами давно одряхлевшей, изжившей себя зимы…
Весь этот не по-петербургски яркий апрельский день вроде бы потому и рассиялся так, что жил таким же предупреждением другой, далекой, но столь же неостановимой и желанной весны.
У Обводного канала к процессии примкнула новая группа рабочих, входивших в организацию. Как будто еще один весенний ручеек влился в набирающий силы поток…
Уже у Волкова кладбища к своим присоединился Леонид Красин. В этот день он сдавал экзамен по органической химии. Михаил накануне не советовал ему участвовать в похоронах, поскольку тот уже был на большом подозрении у полиции, даже высылался из столицы, вместе с братом Германом, но Красин не утерпел…
Подойдя к вырытой могиле, процессия остановилась, вокруг гроба заколыхалась громадная, многотысячная толпа. После панихиды и отпевания, когда гроб был опущен в могилу, начались речи. Сначала говорил писатель Флореятий Павленко, его сменил Павел Засодимский, затем говорили хирург Богдановский и вдова сенатора, тайного советника Александра Калмыкова… Особенно резко говорил Засодимский:
— Господа! Друзья! Сегодня мы хороним большого честного писателя, чьим страстным словом мы дорожили не одно десятилетие… Добролюбов, умирая, завещал именно Шелгунову знамя свободы и демократии, благословляя его нести и защищать это знамя чести. И Шелгунов долгие годы мужественно нес это великое знамя! Ныне, над могилой этого прекрасного человека, я призываю всех присутствующих следовать путем, указанным Добролюбовым и Шелгуновым, а те, которые еще не знают этого пути, пусть прочтут надписи на венках, принесенных сюда! — с этими словами Засодимский стал громко читать надписи на венках, и одну из первых он прочитал надпись на венке, принесенном рабочими.
Опасения Михаила оказались не напрасными. Ночью, после похорон Шелгунова, во многих районах Петербурга были произведены аресты, арестовали и тут же выслали из Петербурга многих рабочих и студентов.
На другой день Михаилу стало известно: арестовали Леонида Красина. В этот же день Леониду объявили об исключении из института без права поступления в любое другое учебное заведение и о высылке из столицы в Нижний Новгород.
Вслед за этим известием подоспело другое: арестовали Виктора Бартенева. И его дело решилось весьма скоро: он был выслан из Петербурга.
Арестовали и выслали в Ревель Гавриила Мефодиева, выслеженного полицией после похорон.
Так организация лишилась большой, удобной для сходок квартиры, которую Мефодиев снимал в Сивковом переулке. Хотя квартира эта не подверглась после ареста хозяина даже обыску, пришлось покинуть ее и нескольким другим кружковцам, жившим в ней настоящей коммуной. Вполне могло быть, что за квартирой этой полиция установила слежку,
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Весла постукивали в уключинах, оплескивала борта лодки ярая весенняя вода. Солнечные блики отовсюду били в глаза. Михаил жмурился, глядя на приближающийся мысок, густо обросший ивняком, еще не одетым листвой, еще сквозистым. Зелень по веткам едва-едва проклюнулась, зато золотые пушистые комочки, «дымящие» пыльцой под легкими дуновениями ветра, были в полном цветении. Пчелы и шмели всюду вились над этими ивовыми зарослями. Задевая за них бортами, лодка ткнулась в тенистый бережок. Егор Климанов неторопливо вытащил весла из уключин, взвалил их на плечо, кивнул Михаилу весело:
— Приехали!
Оказавшись на твердой земле, они постояли, прислушиваясь к пчелиному гуду, к спокойному шуму сосен.
— Эх, хорош, Михаил Иваныч, денек-то для нашего праздничка! — Егор, запрокинув голову, блаженно пожмурился на небесную синеву. — Как ведь у нас все ладно Случается: и тогда, на похоронах-то, погодка была лучше не надо, и сегодня вот…
— Мы с тобой вроде бы первые тут опять… — сказал Михаил.
— Да, никого пока не слышно…
Оба снова умолкли, как будто желая убедиться, что вокруг действительно ни души.
Несколько дней тому назад они уже побывали вдвоем на этом мисочке. Тогда тоже приплыли сюда на лодке. Правда, день был не такой яркий, голубизна в небе лишь кое-где проглядывала. Заплыли сюда, подыскивая место для проведения маевки, которую Центральный рабочий кружок решил провести впервые, впервые но только для их петербургской организации. По всей России, пожалуй, еще не знавали таких праздников. Дерзко замахнулись. Кое-кто даже за открытую манифестацию высказался, чтоб снова выйти на улицы Питера. Первое открытое выступление во время похорон Шелгунова, когда их «Рабочий союз», живущий подпольно, вдруг громко заявил о своем существовании, помогло им но-повому взглянуть на себя, они ощутили себя как единую, крепко сплоченную силу. Даже аресты и высылки товарищей последовавшие за тем выступлением, не подействовали на них охлаждающе. Всем хотелось дальнейших решительных действий. На первом же собрании центра заговорили о решении Парижского Конгресса II Интернационала в первый день мая устраивать во всех странах манифестации. Кто-то упомянул о том, что в прошлом году Первое мая было отмечено варшавскими рабочими. Огонь этот быстро разгорелся! Правда, от открытой манифестации отказались. Михаил объяснил, что для таких выступлений нужно куда более широкое движение рабочих, что организация пока слаба. Предложил провести немноголюдную маевку где-нибудь в окрестностях Питера, в каком-нибудь подходящем месте. Такое место сам и взялся подыскать с кем-нибудь из членов комитета. Егор Климанов вызвался помочь ему. Вдвоем и отправились сначала на Крестовский остров, самый пустынный и отдаленный. Затем подыскали это место, на взморье, за Путиловским заводом, у речки Екатерингофки. Место вполне подходящее, почти со всех сторон закрытое кустами и деревьями.
Маевку решили провести 5 мая, в первое майское воскресенье, поскольку первое число уже было пропущено.
Накануне маевки на квартире Егора Климанова собралось около пятидесяти человек. Две небольшие компатушки были переполнены. Правда, на шум такого большого собрания явился было дворник, по ему поднесли водки, он выпил и, вполне удовлетворенный, ушел.
Еще на предыдущем собрании, на котором и зашел разговор о маевке, Михаил предложил выступить на ней с небольшими речами самим рабочим. Сразу же наметили и наиболее подходящих ораторов — Николая Богданова, Федора Афанасьева, Владимира Прошина. Лишь один Прошин написал свою речь с помощью Михаила, остальные подготовились к своим выступлениям вполне самостоятельно.
Вычалив лодку и привязав ее к кустам, Михаил и Егор направились к небольшой поляне, посредине которой возвышался небольшой бугорок. Здесь и должна была состояться маевка.
Остановившись на краю поляны, они оглядели ее, улыбаясь: все-таки неплохое место им удалось подыскать для такого праздника! Егор по-мальчишески озорно подмигнул Михаилу:
— Постой-ка, Михаил Иваныч, у меня тут кое-что есть…
С этими словами он вынул из кармана лоскуток красной материи, опять подмигнул Михаилу:
— Я — сей момент!..
Сняв быстренько пиджак и разувшись, он ловко взобрался на небольшую березку, привязал лоскуток к ее вершинке.
Михаил снизу восхищенно наблюдал за ним, прикрыв глаза от солнца.
— Детство деревенское вспомнил, — сказал Егор, cпустившись на землю и обтирая о траву ладони, побеленные березовой корой. — Я ведь — деревенский. По деревьям, мы, ребятишки, ловко лазили.
— Я, можно сказать, тоже — деревенский! — откликнулся Михаил, глядя вверх, на трепещущий на ветру алый лоскуток. — Только у нас, на Кубани, не деревни — станицы…
— Вон как! А я ведь в тебе, Михаил Иваныч, это сразу угадал… Ну, это — что не городской ты все же, хоть и студент… У деревенского человекакакая-то своя складка есть… Поспокойней oн, постепенней, что ли… Не такой шустрый… А с простой-то одеже ты и вовсе по-деревенски выглядишь.
— Это верно! — рассмеялся Михаил. — Городского во мне мало!
— Ну, как мой флаг? Ничего?!
— Молодец, что догадался!
— А как же! Я хоть и не знаю, как маевки-то надо проводить, но так про себя подумал: что-нибудь такое обязательно нужно — хотя бы небольшой лоскуток, пока… Вот теперь тут праздновать можно!
Вскоре начали подходить небольшими группами рабочие, одетые празднично. Кое-кто из них (василеостровцы в основном) тоже приплыл на лодках, в основном же добирались на конке до Путиловского завода, а дальше, до своей тайной поляны, пешком.
Всего собралось человек восемьдесят. Присутствовали не все участники кружков: решили не проводить слишком многолюдной маевки из боязни привлечь внимание полиции.
Когда собрались почти все, пришел Вацлав Цивиньский, одетый, как и Михаил, под рабочего. На маевке они, двое, были за гостей. Об этом сразу договорились: от интеллигентов на маевке будет лишь два участника, все связанное с ее проведением возьмут на себя сами рабочие.
Михаил волновался за выступающих. Все-таки с речами тем выступать не приходилось. Посмотрев на Владимира Прошина, улыбнулся сочувствующе: стоит в сторонке, твердит свою речь по бумажке, может наизусть заучивает… Николай Богданов тоже заметно нервничает. Уж как твердо и спокойно держится всегда Федор Афанасьев, а тут тоже явно волнуется. Пятна на щеках выдают…
— Ну что, дорогой Афанасьич, пора начинать. Время-то — двенадцать, — подойдя к нему, тихонько сказал Михаил.
Афанасьев кивнул и направился к бугорку, возвышающемуся посреди поляны. Взойдя на него, он окинул взглядом собравшихся, откашлявшись, начал: — Товарищи! Сегодняшний день должен неизгладимо остаться у каждого в памяти. Только сегодня в первый раз нам пришлось собраться со всех концов Петербурга на это скромное собрание и в первый раз слышать от товарищей рабочих горячее слово, призывающее на борьбу с нашими сильными политическими и экономическими врагами!
Стоя в стороне, Михаил кивал чуть ли не каждому его слову, будто хотел таким образом помочь побыстрее окрепнуть этой первой речи.
Говорил Афанасьев негромко, покашливая. В паузах слышно было, как ветер, набегающий со стороны залива, шелестел в вершинах деревьев. Обступившие бугорок рабочие слушали своего оратора, затаив дыхание, и тот, ободренный их вниманием, говорил уже уверенней:
— Нет, товарищи! Мы твердо должны надеяться на нашу победу. Нам стоит только вооружить себя сильным оружием, — а это оружие есть знание исторических законов развития человечества, — нам стоит только этим вооружить себя, тогда мы всюду победим врага. Никакие его притеснения и высылки на родину, заточение нас в тюрьмы и даже высылки в Сибирь не отнимут от нас этого оружия!
— Так, так, дорогой Афанасьич! — шептал одними губами Михаил и оглядывал лица рабочих в радостном волнении. — Так, так!..
— Да, товарищи! — говорил совсем уже справившийся с волнением оратор. — Нам часто приходится читать или даже слышать о манифестациях рабочих на Западе, которые громадными и стройными колоннами движутся по городам и наводят страх на своих эксплуататоров; но стоит нам присмотреться к истории развития этой стройной массы, и тогда нам ясно станет, что эта масса произошла от такой же небольшой группы людей, как и мы…
Смотря на все исторические факты, которые нас смело заставляют надеяться на победу, мы должны также думать и о нашем русском народе. Он до тех пор будет нести взваленные на него тяжести, пока не сознает за собою человеческих прав и не сознает, что он-то, рабочий, должен иметь больше всех; право пользоваться всеми богатствами, производимыми его трудом. Наш рабочий должен также знать, что труд есть двигатель всего человеческого прогресса, что он — создатель всей науки, искусства и изобретений. Лишь только народ все это узнает, его тогда никакая армия не может удержать от самоосвобождения, а нести такое сознание в народ есть прямое, неотъемлемое право всех развитых рабочих…
— Так, так, Афанасьич! — кивал Михаил.
Сколько раз в спорах с народовольчески настроенными студентами ему приходилось слышать от них: мол, не просвещение рабочих, не марксистская агитация среди них — главное дело революционно настроенных элементов, но — вовлечение этих рабочих в беспощадную борьбу, в которой основа основ — террор и террор… И вот перед ним теперь стоял рабочий, прошедший именно кружковую школу, обогащенный знанием иных, единственно верных законов классовой борьбы…
О таком празднике он мечтал давно, само собой, не о таком, когда надо таиться и прятаться, но все-таки радостно было видеть ему всех этих людей, собравшихся на поляне, у взморья, под ярким весенним небом, под легким весенним ветром. Радостно ему было слушать говоривших под этим небом, под этим ветром, так радостно, будто он видел перед собой людей, впервые заговоривших свободно и в полный голос после многовековой немоты.
Последним выступил Владимир Прошин. Михаил любил слушать его, всегда неторопливого, степенного, не чуждого некоторой философичности.
— Хорошо, что и мы тоже начинаем пробуждаться от векового нашего сна под гнетом барского, поповского и царского рабства, — звучал среди сосен его глуховатый голос. — Начинаем, я говорю, пробуждаться, и это уже есть часть, внесенная русскими работниками в общий прогресс. Да ведь, товарищи, сразу ничего не делается в мире, а все совершается по определенным законам природы. И человеческий гений не может объять все сразу, все предугадать, а постепенно узнает святую истину. Ему всегда приходятся на долю самые трудные работы во все века человеческой жизни — будить сознание в самом человечестве и двигать его на пути истинного прогресса и счастья. Конечно, товарищи, это счастье достается всегда нелегко, оно очень дорого стоит для самого человечества. То же мы видим и у наших братьев, западных рабочих… — Воздав должное борьбе западных пролетариев, Владимир в завершение сказал: — Будем, друзья, бороться за истину, не отступим шага назад до самой своей смертной агонии, за правду, за равенство, братство, свободу! Будемте учиться объединяться сами и, товарищи, будемте организовываться в сильную партию! Будемте, братья, сеять это великое семя с восхода до захода солнца во всех уголках нашей Русской земли.
После речей все разбились на группы и, расположившись по поляне, на зеленой молодой траве, продолжили свой праздник. Закончился он уже к вечеру. Расходились небольшими компаниями, переполненные радостным настроением.
В тот же вечер многие участники маевки снова собрались на квартире Егора Климанова. Людям как будто не хватило их праздничного дня…
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
В конце мая Михаил защитил дипломный проект, сдал последние экзамены. Институт наконец-то был окончен. Поездку на родину, за дипломом, он решил совместить с поездками по делам организации в другие города и с подысканием в них какой-нибудь подходящей работы для себя. Ему хотелось устроиться в Москве. Михаил не исключал возможности обосноваться и в каком-либо другом крупном промышленном городе.
Из Москвы он предполагал наведаться сначала в Тулу. Еще зимой было получено письмо от высланных туда рабочих Буянова и Руделева, с которыми организация старалась не порывать. Было решено: не оставлять без связи высылаемых из Петербурга рабочих. Буянов и Руделев в письме просили послать к ним кого-нибудь из пропагандистов-интеллигентов для организации в Туле рабочих кружков, просили они и о том, чтобы им прислали подходящую для занятий с рабочими литературу. Поехать в Тулу в то время было некому, организация только-только начинала укрепляться после летнего разгрома. Решили послать одного из путиловских рабочих, старого знакомого туляков, снабдив его письмом и инструкцией. Письмо написали теплое, ободряющее, в нем говорилось, между прочим, и о том, что высылка не пройдет для рабочего движения бесследно, поскольку высланные будут продолжать свое святое дело по примеру германских социал-демократов, которых при Исключительном законе рассылали по всей Германии, и они, таким образом, повсюду распространяли идеи социализма, так что затем по всей стране появились рабочие организации.
Та первоначальная связь с Тулой и подала мысль — связать петербургскую организацию с организациями других городов.
С рабочими Москвы у организации не было никаких связей, но в Москве была группа студентов, правда не совсем еще определенного направления, от которой в Петербург весной приезжал студент Московского университета Петр Кашинский; Михаил намеревался связаться с этой группой. Для связей же с рабочими в Москву решено было послать ткача Федора Афанасьева, который предполагал поступить на одну из московских фабрик и там развернуть пропаганду среди рабочих. В Москву он уехал вскоре после первомайское маевки.
Кроме Москвы и Тулы Михаил должен был посетить Нижний Новгород, куда выслали Леонида Красина.
В конце июня Михаил уехал из Петербурга, передав представительство в Центральном рабочем кружке Вацлаву Цивиньскому.
В Москве он встретился с Федором Афанасьевым. Тот хотя и успел познакомиться с некоторыми рабочими, однако до создания кружка было еще далеко.
Кашинского в ото время в Москве не оказалось, так что, почти не задержавшись там, Михаил уехал в Тулу, где встретился с Николаем Руделевым. Василий Буянов, тоже высланный в этот город, отстранился от дел организации. Правда, вокруг Руделева сгруппировалось несколько здешних рабочих. Однако настоящей организованности у этой, совсем еще небольшой, группы не было. К тому же и атмосфера вокруг нее была народовольческая. Одному Руделеву, как руководителю группы, приходилось трудно. Михаил решил вызвать ему на помошь Гавриила Мефодиева из Ревеля, где тот после высылки из Петербурга оказался в полной оторванности от организации.
В Нижнем, у Красина, дела шли тоже не так, как хотелось бы. Несколько знакомых в земстве, несколько встреч с тамошними интеллигентскими кружками явно народнического толка. Связей с рабочими ему завести не удалось. Михаил условился с ним, что пришлет в Нижний кого-нибудь из рабочих после своего возвращения в Петербург из поездки на родину. От Красина узнал, что в конце мая из Москвы приезжал Кашинский, пробыл там около месяца и уехал оттуда в Киев, к брату, до конца лета. Михаил решил, что повидается с ним, когда, в сентябре будет возвращаться через Москву в Петербург из поездки на родину.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Михаил вроде бы и не заметил, как прошло это лето. Прожил его не гостем-беззаботником. Две недели занимался вдовьим хозяйством старшей сестры — в Урупе: и плотничал, и столярничал, и шорничал… Потом, вернувшись в Сторожевую, помогал старикам родителям (то на жнитве и молотьбе, то в саду и винограднике…).
Во второй половине августа со стороны Кавказского хребта натащило туч, прошли проливные дожди. Вся округа зазеленела, как будто заново. Словно бы помолодели деревья, поднялась по лугам бархатистая густая отава, зажелтели ярко, уже по-осеннему, заросли низкорослой львиной пасти, распустились круглые и плоские цветы — голубого цикория…
Подошла пора прощания со Сторожевой. Михаил чувствовал это уходящее лето как свое последнее лето на воле, как последнее лето своей молодости, которое судьба милостиво позволила ему прожить в родных местах. Есть, всегда есть предел везению, сопутствующему порой человеку, и приближенно этого предела человек ощущает заранее, особенно это остро тогда, когда сам живет словно бы на острие…
Родителям захотелось проводить Михаила до Баталпашинска. Нашли повод — первый после жнитва базар, на который в Баталпашинск всегда съезжается особенно много пароду. Обычно казаки Сторожевой, да и других станиц, отправляются на этот базар целыми обозами.
Накануне отъезда снова натащило туч, и к вечеру разошелся дождь. Михаил в сумерках сидел у распахнутого окна в родительской комнате. Старики возились во дворе, при скотине. Ему было слышно сквозь слабый шум дождя, как покрикивала мать на коров, которых собиралась доить, как натужно покашливал отец, в последнее время не вынимавший трубку изо рта.
Слушая эти покашливания, Михаил подумал вдруг о том, что отец так и не завел с ним разговора, которым явно мучался давно, наверное задолго до его приезда. За последние дни столько раз случалось перехватывать его вроде бы вопрошающие о чем-то взгляды…
За окном заметпо подгущало. Дождевой шум усилился.
On накатывал волнами на станицу вместе с широкими порывами ветра. Дождь-косохлест колотил по подоконнику, влажные вихри вместе с брызгами обдавали лицо Михаила, но он не закрывал окна: такой свежестью дышала на него эта вечерняя непогода, будто наносило на него ее сильные выдохи из какого-то вечно свежего и юного запредельного мира.
Давно ли он сидел у этого окна, жмурясь от золотого закатного света, ощущая радость возвращения в родной дом, в родную станицу?.. И вот — этот, последний, вечер, залитый, заплесканный разошедшимся дождем… Вроде бы сама погода умеет быть соучастницей того, что происходит в душе человеческой…
Бесшумно ступая па пятки своих сыромятных чувяк, вошел отец со двора, прикрыл за собой дверь. Михаил повернулся к нему.
— Вой как размокропогодилось-то! — сказал отец.
— Да… — Михаил кивнул, подумав, что не о погоде пришел отец поговорить. Торопливо сказал: — Испортит дорогу-то. Может, не ездить бы вам на базар?
— Дождь-то с ветром! Ночью, я думаю, проведрится…
Отец придвинул к себе табурет, сел на него как-то бочком, будто какой-нибудь посторонний человек, лишь на минутку заглянувший в эту комнату. Помолчав, приступил к тому, ради чего и улучил время, застав Михаила одиноко сидящим у окна.
— Я вот чего все собираюсь тебе сказать… Ты того… Ты теперь, стало быть, отучился, теперь тебе надо на твердые ноги становиться!.. Так ли я говорю-то?.. — Он неуверенно посмотрел на Михаила. Тот пожал плечами.
— Мать вон толкует: жениться бы тебе надо… Двадцать пять уж годков… Да… семью свою заводить пора. Своим умом жить…
— Так своим и живу… — Михаил улыбнулся.
— Нет! Не скажи!.. — отец покачал головой. — Ежели бы своим, так этово не было бы… Смутьяны тебя там всякие с пути истинного сбивают! Ведь мне теперь моему начальству и на глаза невозможно показаться… Все был в почете и в уважении, а ныне вот, но твоей милости — не в чести! Ведь уж три раза имел о тебе разговор со своим начальством в Баталпашинске! Это как, по-твоему?! В мои-то годы! Такой позор!.. — Он посидел в молчании, ожидая, что скажет на все это Михаил. Не дождавшись никаких слов, хлопнул себя по коленям: — И надо было мне тогда послушаться вас с матерью! «Институт! Институт!.. Хочу учиться!..» Вот и надо было учиться, а не смутьянством заниматься!..
Михаил, насупившись, смотрел в распахнутое окно, в дождевую шумящую мглу. Все, что говорил теперь отец, ему было наперед известно. Разговор этот не в первый раз был затеян. И после того, как его лишили стипендии в восемьдесят восьмом году, и после того, как это случилось с ним во второй раз, в прошлом году. В каждый его летний приезд домой отец заводил этот разговор. Все эти слова повторялись и в письмах…
— Так что вот давай теперь — берись за ум, устраивайся на службу, служи честно-благородно!.. — наставлял отец. — Чтоб нам с матерью, при нашей старости, не переживать за тебя!.. А то ведь такие «игрушки» плохо могут кончиться!.. Хорошенько подумай об этом! Вон братья у тебя и зятья: служат — любо-дорого! Краснеть за них не приходится!.. А тебе вот и диплома-то при окончании твоего института в руки не дали!..
Михаил резко глянул на отца при этих словах: откуда тот знает, неужели Яков проговорился?! Сам-то он ничего не говорил об этом родителям. Тут же получил разъяснение:
Баталпашинский наш атаман перед твоим приездом был у нас, в Сторожевой, специально со мной об этом деле вел разговор. Крепко мне наказывал — как следует потолковать с тобой! Мол, от института твоего вместе с дипломом бумага специальная пришла, в которой прямо пишут о твоей неблагонадежности…
«Вот, стало быть, как надо было понимать любезность нашего атамана, — усмехнулся про себя Михаил. — Сам до такого разговора не опустился, заранее переложил все на отца, мол, тот, как верный слуга царя и отечества, постарается «полечить» своего блудного сына «домашним способом», так сказать…»
— Не надо об этом, — тихо, но твердо сказал он вдруг, — не надо, а то мы поссоримся перед самым отъездом…
Отец в растерянности посмотрел на него, вроде бы но сразу поняв сказанное, тут же резко поднялся, крякнул, покачал головой:
— Вот, стало быть, как… Стало быть, отца и слушать не хочешь!.. Да-а… Ты, Михаила, всегда был несворотливый… Ну, как хочешь! Мое дело, мой долг — предупредить тебя!.. А уж ты теперь — смотри!.. Не пришлось бы потом пожалеть, что не послушался доброго родительского совета!..
С этими словами он вышел, крепко хлопнув дверью.
Больше они к этому разговору не возвращались ни в Сторожевой, ни в Баталпашинске. И при самом прощании отец ни словом не обмолвился об этом, будто и не было меж ними такого разговора.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Сентябрьская рассветная Москва встретила Михаила той особенной прозрачностью и тонкой остротой воздуха, той особенной, словно бы подщелкнутой, бодростью, какая обычно и бывает в средней полосе ранней осенью, в ранние утренние часы, при первых похолоданиях. Солнца еще не было видно, но его розоватый свет уже поджигал золоченые луковки церквей.
Сдав на вокзале чемодан в багажную камеру, Михаил налегке отправился на квартиру Кашинского, надеясь, что в такую рань тот еще никуда не мог уйти.
Извозчика нанимать не стал: ехать предстояло далековато, на извозчике — накладно. Расспросил прохожего, коренного москвича, как добраться до Ново-Девичьего монастыря, неподалеку от которого, в Саввинском переулке, Кашинский снимал квартиру. Прохожий объяснил: надо дойти до Таганской площади, сесть там на конку, которая идет в Замоскворечье, она и докатит, куда надо, — к самому Ново-Девичьему.
Москва между тем жила уже по-дневному. По булыжной мостовой вовсю гремели колеса, слышались протяжные голоса разносчиков. Навстречу Михаилу вынесло бодрый слаженный топот: рота солдат направлялась, видимо, на строевые учения…
«Куда ни приеду в последнее время, все на «государево воинство» натыкаюсь… — Михаил усмехнулся, глядя на солдат, старательно печатающих шаг. — Этакая демонстрация силы: мол, почувствуй и вострепещи!..»
Взгляд его неожиданно остановился на желтых кронах лип, целой куртиной росших перед чистеньким каменным зданием, мимо которого он шел. Что-то царственное, величествешю-парадное было в их утренней дремучести и дремности, в парчовой тяжести их листвы. Всходящее солнце озарило их верхушки, и это еще более усилило случайное, мимоходное впечатление.
Дойдя до остановки конки на Таганской площади, Михаил вошел в подкативший тут же вагон. Ехать было далековато. Он поднялся по винтовой лестнице на империал конки: сверху обзор лучше.
Москву он знал плохо. В ней ему приходилось бывать лишь проездом. И теперь, сидя на империале, отдавшись неторопливому движению, он с интересом смотрел на улочки и улицы Замоскворечья. Даже в самих названиях этих улочек и улиц была какая-то добрая старинная простота, почти домашность: Садовническая, Зацепский вал, Серпуховская площадь, Большая Ордынка, Малая Ордынка, Пятницкая, Большая Полянка, Житная, Коровий вал, Калужская площадь…
Прогромыхав по Крымскому мосту и докатив до Зубовской площади, конка свернула влево — к Ново-Девичьему. Впереди, в перспективе улицы, заблистали его главы и маковки на фоне уже по-осеннему пестрых Воробьевых гор.
Михаил подумал о том, что вот через несколько минут он, может быть, встретится с Кашинским, которого в общем-то знал довольно плохо. Знал о нем больше со слов Леонида Красина. Через него Кашинский и «вышел» на них, на их «Рабочий союз», через него и Яна Квятковского — студента-технолога. Брат Яна Болеслав тоже, как и Кашинский, студент Московского университета, довольно часто приезжал в Петербург. От Яна Болеслав и услышал о «Рабочем союзе», а уже от него услышал Кашинский. Услышал и тут же прикатил в столицу. Расторопный малый… В тот его приезд весной на собрании кружка пропагандистов Красин и сказал о Кашинском, мол, приехал из Москвы руководитель тамошней революционно настроенной студенческой группы.
«Какие у него здесь цели?» — спросил Цивинсьский. — «Он приехал, как сам мне об этом сказал, с одной целью — «познакомиться со сторонниками нового политического направления и установить с ними связь», — ответил Красин. — «Стало быть, он — еще не определившийся! И уже хочет устанавливать связь?! О чем тут говорить?!»—загорячился Цивиньский. — «Это не совсем так, — возразил Красин, — по-моему, Кашинский — довольно образованный и склоняющийся к марксизму студент. Знаком он и с «Капиталом», и с работами Энгельса, и с некоторыми западными социал-демократическими изданиями. Я разговаривал с ним. Думаю, что тут — подходящая зацепка за Москву: через него мы сможем наладить связи с тамошними кружками».
Михаил поддержал Красина. Он решил сам встретиться с Кашинским и, если тот окажется человеком подходящим, договориться с ним о дальнейшем сотрудничестве.
Кашинский показался ему на первый взгляд славным малым. Однако, приглядевшись к нему как следует, Михаил разглядел, что был этот славный малый не без некоторого позерства. И слишком легко, размашисто высказывался по любому поводу. С таким, пожалуй, не стоило бы связываться, к тому же в разговоре тот весьма прозрачно намекнул на то, что является сторонником «более решительных действий»: «Марксизм — учение подходящее! Мы, в своем кружке, считаем себя марксистами. Сам я проштудировал первый том «Капитала», в переводе Даниельсона и Лопатина. Подковался, так сказать! Но, дорогой Михаил Иваныч, мы — сторонники более решительных действий, чем вы, в ваших питерских кружках! Мы так считаем: ежели к нарастающей борьбе классов, которую провозгласил Маркс, добавить взрывной механизм, то царизму несдобровать!..» Тут пахло явной тягой к терроризму… И все-таки Кашинский, с его студенческим кружком, представлялся Михаилу реальной завязкой для создания в Москве, втором центре России, социал-демократической организации.
Он записал московский адрес Кашинского и договорился с ним о том, что в самое ближайшее время в Москву приедет связной от их организации. С тем Кашинский и уехал.
Первым встретиться с Кашинским и в Москве выпало опять-таки Леониду Красину, отправившемуся в свою «нижегородскую ссылку». Михаил снабдил его адресом Кашинского, поручил ему столковаться с тем о сотрудничестве московского кружка с «Рабочим союзом».
Красин, по дороге в Нижний Новгород, на несколько дней останавливался в Москве. Он договорился с Кашинским о том, что тот даст деньги на переезд в Москву Федора Афанасьева (в разговоре с Михаилом Кашинский похвастался, что он — «человек в достаточной мере состоятельный» и, в случае чего, всегда может «материально поддержать святое дело»), договорился Красин и о том, что к осени, когда в Москву съедутся после летних вакаций студенты, Кашинский создаст инициативную группу пропагандистов, которая затем разовьет свою деятельность в тех рабочих кружках, что будут созданы с помощью Федора Афанасьева.
И вот теперь Михаилу еще раз самому надо было увидеться с Кашинским, чтоб обсудить с ним все поосновательнее.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Кондуктор объявил конечную остановку — Ново-Девичий монастырь. Михаил уже побывал тут в июне. Только тогда он ехал сюда не от Курского вокзала, а от Каланчевской площади. Не повезло ему тогда: Кашинский оказался в отъезде…
«В Москве ли он теперь?..»—в который раз за это утро подумал Михаил. Выйдя из вагона, он в рассеянности глянул на высокие краснокирпичные стены монастыря и направился в сторону Погодинской улицы, из которой словно бы вытекал и затем тек параллельно с нею Саввинский переулок, вливаясь в Воздвиженский переулок. По правую сторону Погодинской, вытянувшись в струнку, красовались корпуса новой университетской клиники, по левую — тянулись частные дома, по большей части старинные, деревянные, не городские дома, а настоящие дачи. В конце улицы виднелось Девичье поле — место народных гуляний.
Улица была пуста. Лишь в нескольких шагах от Михаила шли в ту же сторону, что и он, старик в полотняном балахонистом сюртуке и мальчик-подросток в гимназической форме. Они остановились возле деревянной ограды, за которой еще густо, по-летнему, зеленел старый сад, каких немало по Москве. В глубине сада виднелся довольно большой старинный бревенчатый дом с мезонином и дворовыми постройками. Ни дать ни взять — небольшая помещичья усадьба. Проходя мимо остановившихся, Михаил услышал:
— Вот в этом самом доме, Митя, жил академик, профессор нашего Университета, редактор журналов «Москвитянин» и «Московский вестник» Михаил Петрович Погодин! Николай Васильевич Гоголь любил бывать тут! Представь себе: здесь бывал Гоголь! Именно в этом доме!..
Михаил свернул уже в Саввинский переулок, а все не мог согнать улыбку с лица: самые добрейшие чувства затронул в нем этот неторопливо говоривший старик! Так бы и постоял рядом с ним, как его внук-гимназистик, так бы и послушал!.. «Наверное, только тут, в Москве, водятся такие светлые, седенькие, высокоученые старички, так спокойно и так обстоятельно умеющие говорить…» — усмехнулся оп про себя.
Небольшой флигелек, в котором Кашинский снимал комнату у старика пенсионера, бывшего учителя гимназии, Михаил хорошо запомнил, как запомнил и самого хозяина флигелька. «Только бы, — подумал он, берясь за цепочку ручного звонка, — только бы застать этого непоседу Кашинского на месте…»
На звонок, как и в первый раз, пришаркал к дверям хозяин. Хрипловатый, одышливый голос спросил:
— Кто там?
— Петра Моисеевича можно видеть? — спросил Михаил.
— Петра Моисеевича? — Брякнула щеколда, дверь приоткрылась. Увидев Михаила и узнав его тут же, хозяин кивнул и, забыв ответить на вопрос, сделал приглашающий жест: — Входите, входите! Это вы в июне заходили?..
— Да, я… — Михаил прошел впереди хозяина в дом. У порожка остановился, почувствовав, что и на этот раз пришел зря, глянул на хозяина вопрошающе. Тот развел руками:
— Увы, Петр Моисеевич тут больше не живут… Съехали неделю назад на прежнюю квартиру. Мол, поближе к университету… А на много ли ближе? — спрошу я вас…
Старику явно хотелось поговорить, отвести душу со случайно зашедшим человеком. Михаил перебил его:
— Простите, а не знаете, куда он переехал?
— Адресок оставили. Сейчас посмотрю. У меня записано на листочке… — старичок недовольно поморщился, затем дошаркал до бокастого темно-вишневого комода, выдвинул верхний ящик, порылся в нем и уже с бумажкой в руках, поправляя на ходу очки, снова пришаркал к Михаилу, стоявшему у порога. — Вот-с, извольте-с… Собственноручно ими записано…
Взяв из его подрагивающей руки листочек, Михаил прочитал: «Яковлевский пер. у Земляного вала, дом Кремнева, квартира доктора Николая Федоровича Смирнова. Спросить либо меня, либо товарища моего Михаила Васильевича Терентьева».
Переписав в памятную книжку новый адрес Кашинского, Михаил хотел было тут же попрощаться с любезным старичком и отправиться по добытому адресу, однако спохватился:
— А как мне побыстрее добраться до этого самого Яковлевского переулка?..
— Вы сюда конкой ехали? — спросил старичок.
— Конкой…
Это вам надо опять сесть на конку у Ново-Девичьего и, стало быть… — старичок пожевал вялыми, бескровными губами, соображая, — и, стало быть, доехать до самого Земляного вала… Да нет! — старичок отмахнулся от только что сказанного. — Лучше не так… Лучше вы уж опять поезжайте до Таганской площади. Она ведь тоже — на Земляном валу. Правда, пешечком подольше придется пройтись, зато на конке петлять по Москве меньше. Тут вы побыстрее доберетесь…
— Стало быть, до Таганской площади?
— Да, да, до Таганки!.. Там тюрьма. Вот вы на нее путь-то и держите! Мимо нее — по Земляному валу, по левой стороне… Ее, тюрьму-то, вы сразу там увидите!.. Заметное зданьице!.. Заметное!..
Последние слова резанули слух, будто в них вложен был некий тайный смысл, некий намек…
Торопливо попрощавшись, Михаил покинул словоохотливого хозяина флигелька.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
На новой квартире Кашинского он застал. Тот только-только поднялся с постели, хотя время было уже не раннее — приближался полдень.
В больших городах много такого народу, который обыкновенно живет не столько днем, сколько ночью, днем же отсыпается и готовится к ночной жизни. Михаил это знал по Петербургу.
— Михаил Иваныч?! Вы?! — Кашинский, не сразу вышедший на звонок, растерянно смотрел на нежданного гостя, безуспешно пытаясь застегнуть на груди пуговицу накрахмаленной белой сорочки. Так и не справившись о этой пуговицей, спохватился, протянул руку для рукопожатия, заулыбался, просиял запоздало: — Как хорошо-то что отыскали меня!.. Откуда вы? Как?..
— С Кавказа — из родных мест. Два с лишним месяца там прогостил. Только что приехал.
— Вот оно что! А я ведь тоже почти все лето не был в Москве…
— Я заезжал к вам в июне. Не застал. Уж в Нижнем от братьев Красиных узнал, что вы у них побывали и уехали как раз перед моим приездом…
— Вот как?! Жаль! Очень жаль!.. Да что же мы тут стоим?! Проходите! Только извините: у меня, у нас… не прибрано… — Кашинский засновал по небольшой узенькой комнатенке, схватил стул, поставил его перед Михаилом, взъерошил и без того ершистую, рыжеватую шевелюру, кивнул: — Садитесь! Садитесь, ради бога! Я — сей момент!.. — и засновал опять перед опустившимся на стул гостем, наводя порядок, вернее же — бестолково суетясь, хватаясь то за одно, то за другое.
Михаил с улыбкой наблюдал за ним. В иные мгновения, минуты один человек пред другим оказывается вдруг словно бы обнаженным. Кашинский был в явной растерянности. Он покусывал толстоватые красные губы, на бледном худом лице проступил пятнами, «лаптами», нездоровый румянец. Его длинные тонкие руки как будто летали надо всем сразу, впрочем почти без пользы…
Наконец он присел на кое-как застланную одеялом кровать, близоруко посмотрел на Михаила и, слегка раскачиваясь, сцепив «замком» тонкие, длинные пальцы под коленями, принялся рассказывать:
— Я в Нижний уехал вскоре же после возвращения из Питера, через месяц с небольшим. 20 мая. Вот когда. Давно мечтал посмотреть на Волгу. В Нижнем у меня два университетских товарища. У них я и остановился сначала. А потом, у них же, увиделся с Леонидом Красиным. Перебрался к нему на квартиру, на Отарскую улицу. Спустя месяц ко мне приехал Терентьев. Я вас с ним познакомлю. Сегодня же. Он здесь же вот живет, — кивок на соседнюю кровать, — тоже мой университетский товарищ и… — Кашинский запнулся, глянул на Михаила со значением, — и товарищ по нашему общему делу… После моего отъезда он оставался в Москве, поскольку не кончились уроки, которые он давал. И вот он тоже приехал в Нижний, вместо того, чтоб сразу же поехать на лето к родным в Пензу, по железной дороге. За мной он — в огонь и в воду! — Сказав это, Кашинский даже как-то весь выпрямился, горделиво откинул назад голову, серые, навыкат, глаза быстро глянули в сторону небольшого овального зеркала, висящего рядом с изголовьем кровати, на которой он сидел. — За месяц мы с Леонидом сошлись — ближе некуда! — Кашинский неожиданно поднялся, порылся в выдвижном ящике старенького письменного стола, протянул Михаилу фотографическую карточку. — Это он мне подарил при расставании. Прочтите на оборотной стороне…
Михаилу фотография была знакома. Точно такую же подарил ему Леонид весной, перед самым отъездом своим из Петербурга в Нижний Новгород. Запоминающуюся надпись оставил он на той фотографии: «Оглянемся на Запад и встретимся на Востоке». Понятную для них, двоих, надпись. Мол, наши революционные идеи и идеалы мы перенимаем у Запада, у его революционеров, но революционная работа наша в России чревата одним — тюрьмой и ссылкой на Восток, в какую-нибудь сибирскую глухомань, где нам обоим и предстоит в конце концов оказаться однажды…
Вспомнив ту надпись, Михаил с улыбкой вгляделся в лицо Леонида на фотографии. Дерзкое красивое лицо, лицо юноши-гимназиста, одетого в студенческую форму. Слишком, слишком юно выглядел Леонид на фотографин…
На ее обороте таким знакомым, аккуратным, старательным почерком было написано: «Другу (Первейшему) Кашинскому в память совместного пребывания в Нижнем летом 1891-го г. Красин».
Возвращая фотокарточку Кашинскому, Михаил опятв улыбнулся, сказав:
— Вон он как вас—«другом первейшим»!
— Так я же говорю: сошлись с ним — ближе некуда! — Кашинский, чтоб пригасить горделивое выражение на лице, не дать ему слишком расспяться, наморщил невысокий, заметно скошенный назад лоб, прикусил верхнюю губу. Он положил фотокарточку снова в стол и посмотрел на Михаила, как человек, потерявший нить разговора, однако тут же вспомнил, на чем она прервалась: — Так вот после приезда Миши Терентьева мы с ним, с Мишей то есть, решили плыть по Волге на пароходе до Сызрани. С Леонидом я за месяц-то обо всем, о чем надо было, договорился. Делать в Нижнем мне больше нечего было. А тут и письмецо от моего старшего брата Николая подоспело, в котором он мне написал, что находится в летних лагерях под Киевом и что я могу устроиться там же до конца лета, не стесняя его. Братец мой — офицер. Вот мы и отправились с Мишей Терентьевым «вниз по матушке по Волге». В Сызрани мы расстались, и дальше, до Саратова, я отправился один… Ну а из Саратова выехал поездом в Киев…
— Я это все в общем-то знаю, — прервал его Михаил. — Леонид рассказывал. Как тут-то, в Москве, дела?..
Кашинский нервно дернул плечами:
— Да за лето-то тут ничего не произошло. Студенты все были на вакациях. Меня, как уже сказано, тоже не было…
— Ну а наш Афанасьев — он как?
— Как?.. Можно сказать, что пока никак… Я ведь его и видел-то всего один раз после возвращения в Москву, на прошлой неделе… Работал он поначалу на фабрике Филонова. Но — недолго… Вовсе недолго… Давно уже без работы… На чистом нелегальном положении… Я, конечно, как договаривались с вами, деньгами его ссужал. Вот и в последний раз дал ему десять целковых… — Кашинский запнулся на этих «десяти целковых», сообразив, что прозвучало это чуть ли не оскорбительно, будто сказано было о подачке.
— Где он живет-то?.. — спросил Михаил и пояснил: — Мне необходимо с ним увидеться.
— Трудно сказать — где… — Кашинский опять покусал свои красные большие губы. — Не поинтересовался я как-то… И пришел-то он ко мне на прежнюю квартиру в такой день, когда я переезжать собирался, не до того было, не до расспросов… Но… мы с ним договорились, что будем встречаться в Анненгофской роще. Это недалеко отсюда, версты две с половиной, за веткой Нижегородской железной дороги… В это вот воскресенье, послезавтра стало быть, и должны встретиться там, неподалеку от военной тюрьмы…
— Мне надо с ним повидаться, — сказал Михаил.
— Так чего же проще! Пойдете со мной. — Кашинский вдруг спохватился: — Да что ж это мы все говорим, говорим?! Время-то уж обеденное! А я еще и не завтракал, да и вы, наверное, с дороги-то не успели…
— Да, перекусить не мешало бы… — Михаил кивнул.
— Ну, так сейчас же едем! Со встречей-то, я полагаю, в по рюмочке пропустить не помешает! — Кашинский щелкнул пальцами, резко поднялся, опять поерошил волосы, вслух соображая — Куда бы нам скатать-то?.. А давайте-ка — в Охотный, в трактир Тестова!.. Один раз — можно! В настоящий московский трактир! Вам это надо повидать! К Тестову! К Тестову! Только у Тестова пообедать по-настоящему, по-московски!..
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Кашинский довольно быстро оделся, и они вышли сияющий сентябрьский день, в его шум и суету.
— Может, куда-нибудь, где попроще, сходим?.. — заикнулся было Михаил, наслышанный о дорогом и широко известном тестовском трактире.
— Вы — мой гость! Потому — командую я! — Кашинский покровительственно хлопнул Михаила по плечу.
Выглядел он несколько фатовато: светло-коричневая, почти песочного тона, тройка, белая сорочка и пышный ярко-зеленый галстук, на голове — чуть сбитая назад тоже светло-коричневая, шляпа-котелок, на ногах — тупоносые, по моде, ботинки. Этакий московский щеголь, весь словно бы преобразился вдруг. Куда и девалась его первоначальная скованность! Смотрел гоголем.
— Ну, ежели мой радушный хозяин так богат!.. — Mихайл, усмехнувшись, лишь развел руками.
— Какие богатства могут быть у нашего брата?! Так, крохи после умершего отца…
Тут же подкатил лихач на дутиках:
— Ваше-здоровь! Давай подвезу! Куды надо?..
— В Охотный, к Тестову! — небрежно бросил ему Кашинский и подтолкнул Михаила к пролетке.
Немного проехав по Земляному валу, свернули в Большой Казенный переулок и вскоре выехали на шумную многолюдную Маросейку.
Михаил наклонился к Кашинскому, сказал так, чтоб не слышно было извозчику:
— Может, не стоило бы так нам красоваться — на виду у всей Белокаменной?.. Поосторожней бы надо…
Красные губы Кашинского покривила усмешка, он разразился тирадой:
— Я сам, когда надо, — конспиратор. Но тут-то!.. Двое молодых людей едут на лихаче к Тестову! Ничего такого! Никто не обратит на нас внимания. Нельзя же жить, постоянно трусливо озираясь! Этак наша осторожность и боязнь может перейти в черту характера, натуры, станет опасливой отгороженностью от целого мира!.. А ведь именно для нас, людей нового, передового сознания, так должна быть важна естественность мысли, языка, натуры, поведения!..
— Да, но с этой естественностью, с этой открытость» мы далеко не уйдем… — Михаил усмехнулся. — Самый обыкновеннейший городовой сообразит, кто мы такие… Ведь как знать: может, за вами, а может, и за мной уже ведется слежка… Об этом мы должны помнить…
Кашинский обиженно нахохлился, даже котелок надвинул на глаза. Умолк.
Вдали, на Спасской башпе, пробило полдень. Время обеда. Лихач выкатил на Новую площадь и свернул направо — к Лубянской площади. Народу тут было еще гуще. В людских потоках засновали разносчики съестного с ящиками на ремнях через плечо, а то и с лотками на головах. Залетали их крики нараспев:
— А вот кишки бараньи! С кашей, с огнем!..
— Го-о-рячая вет-чинка-а!..
— Белужка малосольная!..
— С пи-и-рогами-и!..
. . . . . . . . .
Через Театральную площадь выехали к Охотному Ряду.
— Ну, вот оно — чрево Москвы-матушки! Докатили! — Кашинский снова оживился. Он расплатился с извозчиком и первым сошел на булыжную мостовую, оглянулся, подмигнул Михаилу, кивнул на высокую застекленную дверь, за которой маячил огромный старик швейцар с лихо разметанной в стороны бородой.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
В левом зале трактира для них нашелся незанятый столик, как раз на двоих. Широким жестом Кашинский пригласил Михаила сесть, сел и сам, с усмешечкой огляделся вокруг, изрек: «Кресло в таверне — это трон человеческой веселости»! Так сказал кто-то, не любивший киснуть дома!..
Как из-под земли выросши, бесшумно возле столика возник половой в белой рубахе из дорогого голландского полотна, даже слегка поблескивавшего и переливавшегося на нем.
— Чего изволите, господа?!
— Нам, стало быть, как следует поесть и… — щелчок тонкими пальцами, — и этого самого — для хорошего пищеварения… Графинчик… Но — самую малость! — Кашинский снова щелкнул пальцами.
— Слушаюсь… — половой кивнул и исчез.
На столе почти тут же появился запотелый маленький графинчик со «смирновской», узкая тарелка с окороком, нарезанным тонкими прозрачно-розовыми ломтиками, серебряный жбанчик с серой зернистой икрой.
— Ну! Со встречей! — провозгласил Кашинский, весь преобразившись и слегка выпячивая узкую грудь.
Рюмка «смирновской» сразу «разожгла» его: уши покраснели, в глазах появился маслянистый блеск.
— Закусывайте, закусывайте! — подсказал он Михаилу, разглядывавшему с любопытством знаменитое заведение знаменитого Тестова. — И — посвободнее, посвободнее, пожалуйста! В этот трактир люди приходят поесть, попить и отвести душу в приятных застольных беседах. Купцы, правда, и всевозможные буржуа иногда тут толкуют и о делах, даже сделки всякие меж собой заключают, но в основном тут — едят, пьют и беседуют. Цицероны прелюбопытнейшие бывают! И никто здесь не таится, всяк говорит, что думает… У Тестова — всякому полная воля!
— Мы-то ею, разумеется, не воспользуемся?! — Михаил усмехнулся.
Закусывая, он стал прислушиваться к разговору за соседним столиком.
Чистенький, румяненький, кругленький господин с легкой проседью на висках, в свеженькой коломянковой паре, сидел к ним бочком, в трех шагах от них. Он курил огромную сигару, как для нежнейшего поцелуя, поднося ее к полненьким, цвета доспевающей вишни, губам.
Напротив сидел сухощавый широкоплечий человек в черном, наглухо застегнутом суконном сюртуке. Он тo и дело трогал острый кончик своего правого уса, согласно кивал неторопливо и важно говорившему (между затяжками) кругленькому господину.
Разговор, оказывается, велся о просвещении русского народа.
За другим, ближним, столиком гоготал и млел от удовольствия лысенький толстячок, слушая другого толстяка в кромсая ножом прозрачные кусочки ветчины. До Михаила доносилось:
— Так он, стало быть, такой скупердяй был, что на всем старался выгадать! Детей даже рассчитал так на свет произвести, чтоб все в одно время родились — ко дню ангела жены, чтоб, стало быть, не тратиться на несколько именин!..
— По календарю работал! Ггы-ы!..
— Вот именно! Вот именно!..
— Половой!
— Чего изволите?..
— Еще бутылочку «смирновской»! И — балычку!..
— Слушаюсь!..
Еще одна пара тестовских гурманов. Ее Михаил не видит, она за спиной у него. Но и эти «беседуют» так, что слышать их можно в любом конце зала:
— Торговля нынче вовсе упала. Публика вся такая ваходит в магазин — тоска и глядеть на нее! Ей бы на грош пятаков! Из-за копейки до слез торговаться будет! Тяжел, тяжел нынче год! Все — в убыток! Только помянешь, как прежде-то дела шли!..
— Э-э! Милый! «Прежде»! Прежде-то народ был, а теперь, сам говоришь, — публика! А публика, она, известное дело, — шустра да пестра, да на язык востра, а натуры в ней, истинного духу и разуменья — в аккурат на копейку! Вот она со своим копеешным-то аршином а мечется по жизни-то, и норовит все на этот свой аршинишко мерять… В ней — одна зависть и злость!
В соседнем большом зале что-то лихое отхватывая оркестрион. Говоривший вдруг умолк, тут же замурлыкал, прихлопывая ладонью по столу, в такт доносившемуся разудалому наигрышу, Похвалил:
— Эк наяривает!..
Михаил оглядел вдруг этот огромный зал обжорства и сытой болтовни, оглядел так, будто не мог сообразить, как сам-то он сюда попал. Сверканье хрусталя, пышная лепнина потолка и стен, огромные зеркала, словно бы множащие этот зал, превращающие его в некий невиданный лабиринт, в некую беспредельно раскинувшуюся обжорию, из которой ему захотелось поскорее выбраться в сияющий, по-осеннему трезвый день…
Михаил хмуро глянул на Кашинского, тянущегося через стол с рюмкой — чокнуться. Странное померещилось вдруг: будто сидит он за этим столом с одним из этих — жующих и болтающих вокруг…
Кашинский был в игривом расположении духа. Чокаясь, даже пропел:
— «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!»[3] О! Мой гость хандрит?! — выпив, он вопрошающе посмотрел на Михаила. — Что? Не по вкусу тестовская кухня?
— Не по вкусу — все это!.. — негромко, но резко сказал Михаил, кивнув в сияющие и гудящие просторы зала.
— Но и все это надо нам знать и видеть! — с расстановкой сказал Кашинский и скаламбурил: — Знать и видеть, чтобы… ненавидеть!
— Под «смирновскую» и тестовскую селяночку с кулебяками? — Михаил усмехнулся.
Кашинский крепко приложил салфетку к обиженно выпяченным лоснящимся губам, покривился:
— Mille pardon… Я привык смотреть на все шире… «С широтой вот этих здешних завсегдатаев?!»—едва не сорвалось у Михаила, но не сорвалось, удержал. Нахмурившись, стал неторопливо есть, так и не притронувшись к отставленной в сторону второй рюмке.
О многом он мог бы теперь сказать этому, «привыкшему смотреть на все шире», хлебосолу. Сдержался. Отложил на потом, подумав: «Этак мы, чего доброго, и рассоримся в самом начале…»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Выйдя из трактира, они потоптались у дверей.
— Куда теперь?.. — Кашинский близоруко посмотрел на Михаила.
— Давайте где-нибудь посидим малость на свежем воздухе. День-то какой — чудо! — сказал тот, пожмурившись на высокое еще солнцс.
— Тогда — к моему университету! Там, во дворике, есть скамейки, можно посидеть довольно спокойно, — предложил Кашинский.
Перешли через шумную Тверскую. На углу Моховой Кашинский заговорил первым:
— Не понравилось, стало быть, вам тестовское заведеньице?..
— Да, — Михаил кивнул, — лучше бы поесть в каком-нибудь самом захудалом трактирщике, по-студенчески… Вы давеча сказали насчет Охотного-то ряда: мол, чрево Москвы. Вот такое впечатление и осталось, будто я побывал в огромном-преогромном чреве… Одни тамошние разговорцы чего стоят!.. И это обжорство… Даже в газетах вон начинают писать о надвигающемся на нас голоде, во многих губерниях люди уже теперь едят хлеб, выпекаемый в основном из лебеды и мякины, а эти — жрут себе всяческие деликатесы и в ус не дуют… Люди умирать будут с голоду, а они так и будут ездить к Тестову — обжираться…
— О эти чада купонного племени!.. — воскликнул Кашинский, толкнул узорную кованую калитку и пропустил Михаила впереди себя. — Монстры, у которых и то место, где полагается быть сердцу, занимает его величество желудок!..
Университетский дворик был пуст. Занятия еще не начинались.
Они опустились на скамью в центре дворика. Кашинский сел, развалясь, закинув ногу на ногу, разбросав руки во весь размах по изгибу спинки скамьи, Михаил пристроился на самом ее краешке. Помолчали, подставив лица ослепляющему солнечному сиянию. Кашинский неожиданно начал декламировать:
По чувствам братья мы с тобой, Мы в искупленье верим оба, И будем мы питать до гроба. Вражду к бичам страны родной.Положил руку па плечо Михаила, с мечтательной улыбочкой спросил:
— Знаете эти стихи Плещеева?
— Как же: в гимназии еще знал!.. — ответил тот.
— Да! Все начинается с гимназических лет! Самое светлое и чистое время! — почти с тем же пафосом, с каким только что декламировал, продолжал Кашинский. — Я ведь еще в гимназии входил в народовольческий кружок старшеклассников.
— Судя по выговору, вы не москвич, откуда-то с юга или из Малороссии… — заметил Михаил. — Мне, южанину, это хорошо слышно.
— Да, по рождению я киевлянин, — улыбнувшись, сказал Кашинский, — в Москве — лишь с восемьдесят восьмого года. — Помолчав, он продолжил: — У нас ведь не было еще случая познакомиться ближе… Вы вот намекнули о себе, что южанин…
— Я — с Северного Кавказа, с Кубани… Коренной кубанский казак… — быстро сказал Михаил, чтоб не дать Кашинскому отвлечься от рассказа о себе.
— Так вот, — продолжал Кашинский, — после гимназии я поступил в Киевский университет святого Владимира на физико-математический факультет. Много читал, увлекся литературой по общественным вопросам. Перешел из-за этого на юридический факультет. Однако постановка образования в Киевском университете меня не устраивала, и я подался в Москву, перевелся в здешний университет — тоже на юридический. Тут, в университете, вскоре сложился хоть и немногочисленный, по весьма сплоченный народовольческий кружок: братья Липкины, Иванов, Аргунов, Благоразумов, мой киевский однокашник Миша Терентьев (с ним я вас сегодня же познакомлю), Гуковский, Курнатовский, Крафт… Вот в этот кружок попал и я. Самым опытным среди нас был Виктор Курнатовский. С ним я особенно сблизился. До поступления в Московский университет он был студентом Петербургского университета, входил там в студенческую организацию, в народовольческий кружок, даже пропагандировал среди рабочих где-то за Александро-Невской заставой. Вроде бы находился в связях с группой Александра Ульянова…
— О Курнатовском я слышал. Даже приходилось встречаться с ним, — заметил Михаил.
— Я так и думал, — Кашинский кивнул.
— В восемьдесят седьмом, когда я был на втором курсе Технологического, его исключили из университета за участие в студенческом протесте. Я тогда тоже пострадал, — Михаил усмехнулся, — был лишен стипендии. Его же, помнится, даже арестовали. Больше я его не видел.
— Он был выслан на родину, в Новгородскую губернию, под надзор полиции, — подсказал Кашинский, — а на следующий год ему удалось поступить в Московский университет — на отделение естественных наук. Перебравшись в Москву, он снова взялся за конспиративную работу. Продержался около года. В марте позапрошлого года его и Федора Липкипа арестовали. Затем арестовали Крафта и Гуковского. Мне, Благоразумову, Терентьеву и еще нескольким членам кружка посчастливилось уцелеть…
Рассказывавший это Кашинский не мог знать, что уцелевшие были оставлены «на разводку», по жандармской терминологии; за такими устанавливалась слежка, благодаря чему выявлялись их новые связи и недовыявленные прежние. «Почерк» начальника московской охранки Бердяева…
— Тогда же, весной, — продолжал Кашинский, — состоялось нелегальное совещание нескольких представителей революционных кружков и землячеств. Было принято решение создать Союз землячеств. Осенью к Союзу присоединился кружок студентов-петровцев,[4] человек сорок. Но, — щелчок пальцами, — этой весной нас опять разгромили…
— Ну, и что у вас на сегодняшний день имеется?.. — спросил Михаил.
— Пока — немного… Вот съедутся наши универсанты после вакаций — дело пойдет! Будем вновь искать связей и с другими городами. На Киев у меня есть виды… В самой Москве, по моим сведениям, есть несколько интересных кружков, с которыми надо будет покрепче связаться… — ответил Кашинский и быстро спросил:
— Ну, а вы что: не надумали к нам, в Москву, перебраться?..
— Подумываю… — неопределенно ответил Михаил.
— Давайте — перебирайтесь! Вместе тут и развернемся!
— Скорее всего, так и будет, но, независимо от этого, вам надо побыстрее организовать инициативную группу и нацелиться на главное — на связь с рабочими. Без этой связи любая кружковая работа будет сводитьсянасмарку.
— Мы очень рассчитываем в этом на вашего Афанасьева, но… — Кашинский криво ухмыльнулся, — пока что… — он не договорил и тут же спросил: — Михаил Иванович, этот Афанасьев подходящий человек, то есть он действительно сможет что-то тут организовать?..
— Подходящий ли человек Афанасьев?! — Михаил посмотрел на Кашинского, словно бы не поняв, не расслышав сказанного им. — Да вы знаете, как его и в глаза, и за глаза называли в нашей питерской организации? «Отец» — вот как! Преданней рабочему делу человека не видел!..
— Так ведь откуда мне знать?.. — пробормотал Кашинский. — Я же говорю, что с ним и встречался-то всего несколько раз: в мае да вот — после возвращения из Киева… Я — о том, что результатов пока никаких… Никакого рабочего кружка он не организовал…
— Оставили человека одною на новом месте, без помощи, без связей и ждем от него чудес!.. — Михаил усмехнулся.
— Почему же «без помощи»! Деньги я… — начал было Кашинский, но Михаил перебил его:
— Не об этой помощи речь!.. Мы с вами по родным пенатам гостили, а он тут — один, в незнакомом городе, да и со здоровьем у него неважно было в последнее время, на плохое зрение и на кашель жаловался еще в Питере. Профессиональные болезни… Ведь он с двенадцати лет стал учеником ткача, работал по четырнадцать часов в сутки!.. Ему — едва за тридцать, а он выглядит стариком… Двадцать лет уже работает в каторжных условиях и не надломился, не замкнулся в себе, всем готов пожертвовать ради других… Вот какой это человек, а вы спрашиваете, подходящий ли…
— Так ведь я… — Кашинский лишь махнул рукой: мол, чего тут скажешь — явно поспешил с этим вопросом.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
В воскресенье, во второй половине дня, они отправились в Анненгофскую рощу — на встречу с Афанасьевым.
Погода испортилась еще накануне. Ветер, задувший с северо-запада, из Гнилого угла, натащил лохматых туч. По временам начинал моросить дождь.
— Ничего, — деланно-бодро говорил Кашинский, втягивая голову в поднятый трубой воротник пальто, — самая погодка для нас: гуляющей публики не будет! Походим по аллеям, поговорим без опаски. «Фараоны», поди, тоже в такую погоду там не шляются…
Миновали Гороховскую, Вознесенскую, по мосту перебрались на другой берег Яузы. По Красноказарменной вышли на огромный Кадетский плац, за которым пестрели сентябрьские Анненгофские кущи.
Михаил покачал головой:
— Да, ничего себе: подходящее местечко вы нашли для таких свиданий — одна военщина вокруг… Юнкерское училище, казармы, кадетские корпуса… И встреча, стало быть, неподалеку от военной тюрьмы?..
— Так в самой-то роще публика в основном бывает по воскресным дням обыкновенная — мастеровые, обыватели— целыми семействами… — сказал Кашинский и обиженно смолкнул: опять этот Бруснев утер ему нос, как какому-нибудь приготовишке, неподходящее место, видите ли, избрал он для встреч с Афанасьевым…
Аллея, в которую они вошли, и в самом деле была пуста. На плотно притоптанном мокром песке широкой дорожки пестрели опавшие листья, кое-где поблескивали небольшие лужицы.
— Так где же Афанасъич-то? — Михаил посмотрел на Кашинского.
— А вот сейчас свернем влево, к тюрьме, на боковую тропу… — начал было Кашинский, и тут, совсем рядом, послышалось знакомое покашливание, и навстречу им вышел из-за мокрых; густо-зеленых зарослей сирени Афанасьев.
— А я сослепу-то и не пойму никак, кого это Петр Моисеич ведет… — заговорил он, поправляя очки. — А это — вон кто! Ну, здорово, Михаил Иваныч! Или как тебя называть-то теперь? Может, по питерской конспирации — Федором Васильичем?..
— Да уж давай без конспирации! — улыбаясь, Михаил обнялся с ним, затем, слегка отстранившись, оглядел его: — Да ты, Афанасьич, вроде бы ничего выглядишь-то! Молодцом!.. Со зрением-то — как?
— Ничего, куда лучше стало!
— Ну, давай — пройдемся малость, потолкуем! Будто много лет тебя не видел — так рад!
— И я — рад! Как признал тебя, так сердчишко-то и екнуло: ну вот ровно бы родного братца увидел вдруг!..
Они спохватились, оглянулись на Кашинского, одиноко стоящего посреди аллеи. Он кивнул им, вымученно улыбнувшись, подсадил кончиком указательного пальца сползшее с переносья пенсне, помахал им рукой:
— Ничего-ничего, пройдитесь вдвоем! Я тут один немного погуляю! А вы — поговорите!
Слегка подталкивая друг друга плечами, Михаил с Афанасьевым пошли по аллее, рассекающей рощу с запада на восток.
— Так ты откуда теперь, Михаил Иваныч? — первым заговорил Афанасьев.
— Возвращаюсь пока в Питер с Кавказа.
— Долгонько гостил…
— Да… Подзадержался… Ты-то как тут? Что нового?
— Нового было много, да хорошего — ничего, — Афанасьев усмехнулся.
— От Кашинского кое-что слышал, — Михаил покивал, — но — совсем немного…
— Да я и сам-то многого не скажу… Но жизнь, а житьишка у меня тут… С фабрики меня за пропаганду прогнали, здоровье, особенно зрение, совсем было оплошало. До того дело дошло, что одно время обретался на Хитровом рынке, на самом дне…
— Теперь-то — где?
— Перебрался в Замоскворечье, в рабочую ночлежку на Татарской, где публика тоже ай да ну!.. Хотя, впрочем, попадаются люди и ничего… Одно скажу: трудно мне тут одному. О Питере каждый день думаю… Все вспоминаю нашу тамошнюю жизнь… Как собирались на квартире в Сивках у Гавриила Мефодиева, как занимались в кружках… А наша демонстрация в апреле — на похоронах Шелгунова! А наша первомайская маевка!.. — Афанасьев вздохнул, глянул на ползущие над рощей тучи. — Тут — совсем не то… Один как перст. Рабочий здешний на агитацию неподатлив. У Филонова начал было действовать, так сразу вышибли… Один тут много не навоюешь!.. Да еще и год-то труден: везде только и разговоров, что о голоде. Рабочий, особенно семейный, дорожит местом, боится оказаться за воротами… К такому с агитацией — попробуй сунься!.. Главное: зацепиться по-настоящему пока не за что… На душе — постоянная тяжесть… Как-то все неопределенно…
— Да, тяжелое дело, когда все только в самом начале и когда до результата неизвестно сколько… Никому не известная дистанция… Глянешь порой вокруг себя. Вот течет жизнь. Давным-давно заведенная, запущенная, ведать не ведающая о том, что какие-то одиночки хотят переиначить ее, изменить ее самым коренным образом… — Михаил едва заметно усмехнулся. — Это заговорщики, бомбометчики могут испытывать охотничий озноб от сознания доступной, близкой цели… Вот завтра он выйдет с бомбой в руках на такой-то перекресток и сделает свое конкретное шумное дело!.. Кто-то определил террор как эгоизм самопожертвования. Парадокс? Пожалуй. Но парадокс, несущий в себе смысл! Самопожертвование это напрямую связано с близким результатом, с сиюминутным результатом, оно не имеет терпения для длительной, незаметной на первый взгляд работы, для глубокого революционного труда… Нам же надо запастись этим терпением, дорогой Афанасьич! Да и что тебе об этом толковать?! Но хуже меня все понимаешь…
— В Питер-то — когда?.. — покивав, спросил Афанасьев.
— Сегодня же, вечерним поездом. Надо подверстать там кое-какие дела, побывать в Обществе технологов — насчет места. Решил все-таки зацепиться за Москву, так что в самом скором времени должен вернуться сюда. Ты же пока тут побыстрее устраивайся на какую-нибудь фабрику, заводи связи с рабочими, как ни трудно. С ночлежкой надо распроститься. Подыщи себо дешевую комнату, обязательно отдельную от хозяев. С Кашинским я поговорю, чтоб он еще помог тебе деньжонками. А там я начну зарабатывать, да и ты устроиться, — проживем и без чьей-то помощл! — Михаил слегка толкнул локтем недовольно поморщившегося Афанасьева. Тот оглянулся на Кашинского, видневшегося далеко позади, в перспективе аллеи:
— Ох, не по душе мне его помощь… Он ведь на первых же порах начал подводить меня к разговору насчет террора. Не связываться бы нам с ним… Не нашей он веры…
— Но пока — придется связаться… Кашинский для нас сегодня — какая-никакая, а зацепка за Москву… Поживем — увидим… — Михаил слегка тряхнул Афанасьева за локоть. — Выше голову, друже!..
Афанасьев словно бы мимо ушей пропустил его бодрые слова, в сомнении покачал головой:
— Да уж и есть ли за этим Кашинским хоть какой-нибудь кружок?.. Что-то сомневаюсь… Скоро вот полгода, как я здесь, а ни о каком кружке знать ничего не знаю… И самого-то Кашинского видел — всего ничего…
— Я разговаривал с ним об этом, то есть о кружке… Их тут весной разгромила полиция. Вот съедутся студенты — дело будет налажено. Так что давай потерпим…
Афанасьев лишь пожал плечами в ответ на эти слова.
Парк потемнел вдруг еще больше. Впереди, над деревьями, с хриплым карканьем поднялись вороны. По листве, по притоптанному песку дорожки застучали крупные капли. Сорвался ветер, зашатал деревья, и они занялись тревожным осенним шумом. Дождь стал расходиться.
— Ну вот и поговорить не даст… — Михаил глянул на небо и повернул в обратную сторону. Вдалеке Кашинский призывно махал им руками. Под расходящимся дождем прибавили шагу. На ходу доканчивали разговор:
— Так, стало быть, в Петербург?
— Да, сегодня уезжаю…
— А в Питере-то долго ли пробудешь?
— Да дел-то там теперь много. Сам знаешь: обычно осенью начинается наша основная кружковая работа!.. Где-нибудь в ноябре, к декабрю ближе, жди меня здесь!.. Поддерживай пока связь с Кашинским…
Простились на Кадетском плацу, под косыми дождевыми струями. Афанасьев направился в сторону Рогожской заставы, чтобы сесть там на конку, едущую в Замоскворечье, где он жил, Михаил с Кашинским — в сторону Красноказарменной.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В жизии петербургской организации особых перемен и событий за время отсутствия Михаила не произошло. Летние месяцы и первый месяц осени всегда были для кружков временем затишья. Все начинало оживать в октябре, после возвращения студентов с летних вакаций и с летне-осенней учебной практики. Михаил приехал чуть раньше этого ежегодного оживления, как и в прошлом году.
В день приезда ощущение было такое, будто вернулся на пепелище: из кружковцев-пропагандистов — никого, конспиративная квартира в Сивках не существует, все бывшие однокашники разъехались после окончания института — кто куда, еще год назад…
С таким же ощущением ходил он по Петербургу после возвращения с Кавказа и в прошлом году. Тогда, пожалуй, даже поострей было это ощущение: полоса обысков, арестов, провалов продолжалась для кружка пропагандистов всю весну и почти все лето. Разгром народовольческой группы Качоровского и Беляева задел тогда (и как следует!) их тоже, поскольку связь с народовольцами у них все-таки была, хотя они резко расходились с теми в вопросах, касающихся тактики действий, в самом главном. Хороший урок они тогда получили, дорого обошлась им эта связь…
Михаил поселился на своей прежней квартире в доме № 35 по Можайской улице.
На следующий день он наведался в Общество технологов — справился насчет работы. Секретарь Общества сказал ему, что списки кандидатов еще не составлены, да и на некоторые запросы Общество не получило пока ответов; предложил зайти через месяц, не раньше. Такой ответ не огорчил. В Питере, так или иначе, необходимо было задержаться никак не меньше чем на месяц. Прежде всего надо было наладить работу кружков. Весной организация лишилась нескольких ведущих студентов-пропагандистов. Надо было подумать о замене их новыми пропагандистами. Два подходящих студента у Михаила уже были на примете — Николай Сивохии и Алексей Разумовский.
С Николаем Сивохиным он познакомился в конце сентября прошлого года. Тогда он вернулся в Петербург после летних вакаций и, поскольку не удалось сразу устроиться с квартирой, отправился к прежней своей квартирной хозяйке — Софье Антоновне Вейдо, жившей на углу 4-й Роты Измайловского полка и Забалканского проспекта. У нее уже поселился, как оказалось, студент-первокурсник Лесного института. Этим студентом и оказался Сивохин. Прожили вместе чуть больше недели, но и за это короткое время успели привязаться друг к другу. Затем Сивохин подыскал себе другую квартиру, на Захарьевской улице, но, переехав в нее, почти ежедневно бывал у Михаила, да и Михаил часто наведывался к нему. На Захарьевской Сивохин поселился со своим другом и однокурсником Алексеем Разумовским, с которым Михаил тоже вскоре близко сошелся.
В то же время Михаил поближе познакомился со старшим, пятнадцатилетним, сыном своей квартирной хозяйки Валерианом. Тот жил отдельно от матери, при переплетной мастерской какого-то Кирхнера, находящейся на Малой Морской; в мастерской он работал переплетчиком. К матери Валериан приходил раза два в неделю, ненадолго — просто повидаться.
Валериан был подростком диковатым, вспыльчивым. Живость характера боролась в нем с застенчивостью и угрюмостью. С матерью он поддерживал довольно странные отношения: не было в этих отношениях теплоты.
Михаил как-то пригласил Валериана к себе в комнату, разговорился с ним. После этого разговора Валериан всякий раз сам заходил к нему. Однажды явился со стихами. Протянул, хмурясь, два листочка: «Посмотрите, что я тут насочинял…»
Стихи оказались «с политикой». Одно стихотворение называлось «Доля мужика», другое — «Восстанем, братья, за свободу!». Михаил с карандашом в руках принялся читать их вслух, тут же подчеркивая те строки, которые были явно плохи, и объясняя, почему они плохи. Затем, отложив стихи в сторону, с улыбкой посмотрел на Валериана, обнял его: «Не обижайся, друже! Хорошо уже то, что тебя трогают, увлекают такие темы! Это мне о многом говорит. Стало быть, в тебе живет неспокойная, ищущая совесть! А это — главный человеческий дар! Пока не в том дело, что у тебя вот тут произносится «земцы», а надо — «зёмцы», что у тебя вот эта строка — слишком длинна, а вот эта — слишком коротка. Основное — твоя ранняя чуткость к главным вопросам жизни! Однако, Валерка, надо быть и грамотным человеком! Без этого далеко и по самому верному пути не уйдешь… Учиться надо тебе, друже!..»
Тогда Валериан и рассказал ему о себе. Отца он никогда не знал, был внебрачным, незаконнорожденным. На пятом году его жизни мать вышла замуж. Родился у нее еще один сын — Станислав. Рос Валериан не зная ни материнской, ни отцовской любви и ласки. Пащенком. Десяти лет от роду он поступил в училище при церкви св. Екатерины, где пробыл два года. Вскоре отчим умер. Из второго класса Валериан вышел по недостатку средств у матери на его обучение. Почти до конца 89-го года жил при матери, добывавшей на жизнь шитьем. Затем мать отдала его в обучение в переплетную мастерскую Пепоткольского, где он обучался переплетному ремеслу около года. От Пепоткольского он перешел к Кирхнеру, на этом вся учеба и завершилась… Правда, по собственному почину Валериан, после училища при церкви св. Екатерины, посещал целых три полугодия начальные классы рисовальной школы барона Штиглица, но школа эта имела специальное направление, она не занималась просвещением учеников, посещавших ее классы, обучали там лишь основам рисования…
«Ну, так вот что, — решил Михаил, выслушав Ватлериана, — давай сделаем так: ты будешь приходить ко мне в будние дни по вечерам, когда я назначу, а по воскресеньям — днем. Начнем заниматься твоим образованием. — Он по-приятельски подмигнул подростку. — У меня есть кое-какой учительский опыт! Еще когда учился в старших классах Ставропольской гимназии, зарабатывал себе на жизнь уроками. Да и здесь… — он опять подмигнул, — приходилось и приходится заниматься кое-чем в этом роде… Ты — как: согласен?» — «Еще бы!» — обрадованно выпалил Валериан. — «Ну, тогда с завтрашнего вечера и начнем!..»
Валериан оказался учеником смышленым и прилежным. Он не пропускал ни одного занятия. Занимался с ним Михаил по двум предметам — арифметике и русскому языку.
Прошлой осенью Михаил прожил у матери Валериана недолго. В конце октября перебрался на другую квартиру — на Можайскую улицу. Валериан продолжал ходить к нему и на новую квартиру. Занимались не более двух раз в неделю. Больше Михаил не мог: времени и без того не хватало.
Нередко Валериан заставал у него то Леонида Красина, то Роберта Классона, то Виктора Бартенева… Хотя при нем они были осторожны и о своих секретных делах говорили либо по-французски, либо по-немецки, этот умный наблюдательный подросток догадывался, что за разговоры они вели. Догадывался Валериан и раньше, когда Михаил жил еще на квартире его матери, что он — не совсем обыкновенный студент. Неспроста и с такими стихами рискнул к нему обратиться…
Однажды, уже на Можайской, Валериан застал у него Леонида Красина, переодевавшегося в одежду рабочего перед тем, как идти на занятия в кружок ткачей — на квартиру Федора Афанасьева. После этого они больше не таились при нем. Михаил даже несколько раз посылал его с разными поручениями к Цивиньскому. А прошлой весной, когда Валериан жил со своим товарищем, учеником-переплетчиком, в Демидовском переулке, Михаил дал ему на хранение пишущую машинку, принадлежащую «Рабочему союзу», правда не сказал, что именно отдает (машинку он тщательно упаковал). С тех пор она у Валериана и хранилась.
Постепенно, не сразу, этот диковатый подросток привязался к Михаилу, как к единственно родному человеку. В начале лета Валериан даже переселился на ту же самую улицу, на которой осенью снял квартиру Михаил. На Можайской жил с отцом товарищ Валериана, у него-то он и поселился. Подружились они осенью 88-го года, когда оба начали заниматься в рисовальной школе.
Вскоре после переселения Валериана на Можайскую улицу Михаил познакомился с этим его товарищем — Василием Воробьевым.
В Петербург тот приехал с отцом на заработки из Галичского уезда Костромской губернии. Работал, как и отец, — маляром.
До отъезда Михаила на родину Василий приходил к нему на занятия вместе с Валерианой. Два раза и Михаил побывал у Воробьевых, перед самым отъездом: приносил Валериану кое-что на сохранение.
Вечером, на второй день своего приезда в Петербург, Михаил зашел на квартиру, снимаемую Воробьевыми. И Валериан, и Василий были дома. Оба обрадовались его появлению.
— А я уж и не чаял, что увижу вас снова! — воскликнул Валериан, увидев его.
— Да вот, как видишь, опять здесь! — Михаил крепко пожал руку Валериану, удивился, оглядев его: — Да ты, друже, совсем уже мужчина! Ишь как за лето-то вытянулся! — Подмигнул: — Может, прогуляемся малость?..
— Я — сейчас. Только пиджак накину…
Валериан быстро оделся, и они вышли.
— Так как твои дела? — спросил Михаил, когда они оказались на улице. — Как занятия?
Валериан пожал плечами:
— Пока никак. Я спросил Сивохина насчет занятий, и он обещал заняться со мной, когда вернется. Вот на днях он приходил ко мне, приносил для переплетения несколько книжек и просил заходить. Он опять живет на Захарьевской улице с Разумовским.
— Стало быть, он уже здесь… Это хорошо! А то я приехал и — никого вокруг! — Михаил улыбнулся. — Сегодня же схожу к нему.
— Так вы насовсем в Питер? — спросил Валериан и добавил: — Свертки-то, которые вы мне принесли перед отъездом, так и лежат, и тот ящик, который дали мне перед пасхой, — тоже лежит. Я все думаю: «Вот уехал Михаил Иваныч, и неизвестно — вернется ли…»
— Ничего, пускай это все полежит! — Михаил улыбнулся. — Оно — как: хлеба не просит? Нет? Ну, тогда, я думаю, терпимо! А в Питер я, друже, ненадолго. Вот дождусь, какое мне тут место подыщут, и укачу куда-нибудь…
— Жаль… — огорчился Валериап. — Опять я останусь один…
— Почему же — один?! А мать? А Станислав?..
— Я не об этом… Вас тут не будет… — еле слышно сказал Валериан. — Вы вот уехали на все лето, и для меня весь этот город как будто опустел…
Михаил, смущенный таким признанием, не сразу нашел, что сказать. Запоздало проговорил, положив руку на плечо шагавшего рядом подростка:
— Заранее, казак, не горюй… Еще увидим, как оно впереди-то будет…
В тот же вечер Михаил побывал у Сивохина и Разумовского. На следующий вечер — у Егора Климанова. Через два дня встретился с Вацлавом Цивиньским, вернувшимся в Петербург из Вильно — со своей родины. Снова началась для Михаила тайная, опасная работа, которой он жил уже несколько лет.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Весной, после удачно проведенной первомайской маевки, Михаил хотел взяться за организацию рабочего кружка на Обуховском заводе, крупнейшем за Невской заставой.
В начало года ему удалось восстановить кружок на Путиловском заводе, распавшийся было из-за арестов, произведенных там. Организация успешно разрасталась, охватывая все новые и новые фабрики и заводы, между тем Обуховский завод оставался вне ее деятельности. До сих пор там действовали без заметного успеха лишь пропагандисты-одиночки, да и те — самого разного толка. Михаил слышал: даже в семидесятом году, когда на Невской бумагопрядильной фабрике произошла стачка, прогремевшая на всю Россию, обуховцы никак не откликнулись на нее. Завод — сталелитейный, находящийся на особом положении, порядки на нем — жесткие.
Осуществить задуманное ему весной не удалось: слишком сложным, перегруженным временем была для него эта пора, затем он уехал на Кавказ.
В «Рабочий союз» входил всего один обуховец — молодой фрезеровщик Василий Яковлев. К его помощи Михаил и решил прибегнуть. Еще в мае, когда речь зашла о переезде Федора Афанасьева в Москву, Михаил предложил создать специальный кружок для подготовки из наиболее подходящих, развитых рабочих ответственных организаторов, которые самостоятельно могли бы налаживать и развивать кружковое дело, заводить связи в рабочей среде, заниматься пропагандой и агитацией. К возможности создания такого кружка «Рабочий союз» уже подошел, такие люди в нем уже имелись. Василий Яковлев был одним из них. За два года участия в организации он приобрел и знания, и опыт, прочитал мною книг. Спокойно-добродушный, рассудительный двадцатилетний парень пользовался авторитетом и среди тех рабочих, которые были уже в годах.
В Конце непогодного воскресного дня Михаил отправился к Яковлеву домой.
Заодно он хотел побывать и в Смоленской (Корниловской) вечерне-воскресной школе, находящейся там же — за Невской заставой. Надо было повидаться с бывшей курсисткой, преподающей в этой школе, — Надей Крупской, а также с Мещеряковым, тоже ведущим там занятия.
Одет был Михаил во все «конспиративное» — под рабочего. Может быть, в последний раз надел он свои «пропагандистские доспехи» (так пошутил однажды насчет этой своей одежки). И день выдался словно бы какой-то прощальный, точно опечаленный чем-то. Сырой, серенький ноябрьский день. Ночью выпал снег и к полудню растаял. Размытое, будто навсегда ослабевшее солнце изредка выглядывало из-за низких туч, и вновь его затягивало наглухо. Выглянет, озарит все раззыбленным немочным светом, просияет по лужам, по слякотным мостовым и панелям, и опять найдет помрачение… К вечеру его и вовсе затянуло.
В рано сгустившихся сумерках Михаил подходил к Гостиному двору, к остановке конки. Со стороны залива на город нанесло низкий клочковатый туман. Начал сеяться мелкий дождь. Сквозь эту унылую пелену едва проступали купола храмов, едва проскваживали ее красноватые огоньки фонарей.
Михаилу, ссутуленно шагавшему под моросящим дождем, припомнился его первый приход к рабочим гаванского кружка.
Вечер тогда выдался почти такой же — промозглый, истинно питерский осенний вечер. На углах зажигались газовые горелки, в напитанном сыростью воздухе словно бы зависли огромные радужные шары. Так же тускло светились тогда витрины аптек, магазинов, окна трактиров, кондитерских, портерных…
В небольшой, крепко прокуренной комнатушке Владимира Фомина их собралось около десяти человек. Народ в основном молодой. На всякий случай (чем черт не шутит, вдруг занесет кого не надо!) на столе — нехитрая закуска, бутылка вина: просто собрались молодые компанейские люди ради обычной пирушки…
В тот первый свой приход Михаил был представлен рабочим как Федор Васильевич (в целях конспирации все студенты-пропагандисты придумывали себе новые имена и отчества), тут же условились, что для кружковцев он просто рабочий, такой же, как и все они, никакой не студент. Да в рабочей одежде он и вполне соответствовал своему новому званию: коренастый, широколицый, крупнорукий, подвижный, с небольшой светло-русой бородкой, в потертом пиджачке и шароварах, заправленных в голенища грубоватых сапог… По тому, как рабочие смотрели на него при знакомстве, он понял, что принят ими, одобрен…
Сколько потом у него было таких и осенних, и зимних, и весенних вечеров!.. Не перечесть… Все в этом городе было полно для него живой памяти…
Увлеченный этими мыслями, Михаил не заметил, как дошел до Гостиного двора, до того места, где останавливается конка. Громоздкий двухэтажный вагон «Невской оказии», запряженный парой мокро блистающих крупами лошадей, подкатил к остановке почти тут же.
Дождь стегал по стеклам вагона конки, за которыми сиял ярко освещенными окнами Невский проспект. Мимо проносило с грохотом встречные вагоны, экипажи и пролетки с поднятыми верхами, редкие прохожие пробегали под дождем по мокрым панелям. От храмов с освещенными окнами разносился негромкий перезвон колоколов. Звонили к воскресной вечерне.
Кончился Невский проспект. Не доезжая до Невы, уАлександро-Невской лавры, конка свернула вправо. Начался Шлиссельбургский тракт — путь к Ладожскому озеру, к островной Шлиссельбургской крепости, уже давно служившей тюрьмой для политических, для таких, стало быть, как он — Михаил Бруснев…
В той крепости четыре с половиной года назад были казнены пятеро заговорщиков, среди которых был и его друг-земляк Пахом Андреюшкин, развеселый, добродушный Пахом. До сих пор не укладывалось это в голове: облик самого Пахома и то, за что он был казнен. Он и накануне задуманного покушения, когда перетаскивал к Михаилу на квартиру лабораторию для изготовления бомб, все сыпал шуточками, все подмигирал весело: «Храни, Михайло! Авось и тебе пригодится! Вот дозреешь и поймешь, какая это необходимейшая штука в нашем царстве-государстве. Обязательно поймешь! Ты малый совестливый. А совестливые люди до истицы скоро добираются!..»
Да, лаборатория той отчаянной группки словно бы сама пожаловала к нему, именно к нему, «добравшемуся» позже до иной истины… Пожаловала, будто некое искушение… Склянки, металлические цилиндры, стеклянные аптекарские ступы… В его комнате все стояли, не могли выветриться серные, пощипывающие ноздри, запахи.
«Храни, Михайло! Авось и тебе пригодится!..»
Не пригодилась, хотя хранил он ту лабораторию долго.
Вот этот самый Шлиссельбургский тракт, протянувшийся вдоль Невы на десятки верст, стал для него дорогой с иным смыслом…
Ему вспомнился холодный предзимний воскресный вечер, когда после целого дня, проведенного над «Капиталом», он ехал вот так же, в вагоне конки, по этому самому тракту… Ехал мимо заводских и фабричных заборов, мимо заводских и фабричных домов и складов. Как и теперь, уже горели за окнами керосиновые лампы. Только тогда по булыжнику тракта мела поземка. Что-то чуждо-злое было в том вечере, что-то замкнувшееся, к чему не подойти, не подступиться, словно он ехал мимо некой неприступной крепости… Мимо проплывали фабрики и заводы. Сколько их в одном Питере!..
Великая сила по имени пролетариат жила совсем рядом, сила, о которой Маркс писал как о главной и решающей…
Михаил смотрел на этажи огромного дома, известного по всему Шлиссельбургскому тракту как торнтоновская казарма. Сколько только в одном этом доме было рабочего люда!.. И в тот вечер он уже знал, предчувствовал, что войдет в этот мир, лишь пока неизвестный ему, найдет туда путь… И путь этот был найден. Совсем иной путь. Не тот, на который выходят одиночки-бомбометатели или группки террористов.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Конка остановилась в селе Александровском, против Карточной фабрики. Выйдя из вагона, Михаил направился на Ново-Александровскую улицу, где в небольшом деревянном домике под № 23 жил с матерью и двумя сестрами Василий. В этом доме Михаилу доводилось бывать и прежде. Яковлевы его хорошо знали и приходу его всегда были рады.
— Ну вот — в аккурат к чаю поспели! — встретила Михаила сама хозяйка. — Самоварчик у меня только-только вскипел.
— Не откажусь, не откажусь, Марфа Трофимовна! — Михаил потер озябшие руки. — На воле сегодня — и сыро, и стыловато. Правда, а к вам — ненадолго. Уж извините. Еще в одном месте побывать надо…
Чаевничать села вся семья Яковлевых. Михаил, отхлебывая из блюдечка, расспрашивал Марфу Трофимовну о житье-бытье, о ее работе на фабрике Торнтона. В этом разговоре участвовала и Маша — старшая, пятнадцатилетняя дочь Марфы Трофимовны, работающая на той же фабрике. Встревала в разговор и младшая дочь Марфушка-вострушка (так прозвал ее еще в прошлом году Михаил). Оказалось: у Марфуши этой осенью появилось еще одно прозваньице — «скипидарница». Так прозывались все работницы Карточной фабрики, на которой с октября начала работать десятилетняя Марфуша. После чая Михаил с Василием остались за столом одни. Михаил сразу же заговорил о том, ради чего и пришел.
— Вообще-то на заводе нашем наладить революционную пропаганду — непростое дело… Завод — казенный. Сами понимаете… — Василий помял густую рыжеватую бороду. — Адмирал Колокольцов, наш начальник завода, держит рабочих почти как солдат. Порядки у нас — полуармейские! Офицеров сколько одних! Помощник начальника завода генерал Власьев тоже у нас крут… Опять же взять нашего полицмейстера Копытова с его помощничками, а их у него тоже немало! И с этой стороны туго! Рабочую верхушку опять же хорошо задабривают… А она все крепко держит в руках… И тут все хитро продумано у нашего начальства. Вот есть у нас теперь вечерне-воскресная школа при заводе. С начала октября открыли. Я поступил туда… Тут вот попробовать…
— Да, может, с нее и начать?.. — кивнул Михаил.
— Я об этом и толкую… Только генерал Власьев лично взялся вести контроль над ней. Сам составил и утвердил программу… Надзор установил строгий… Среди рабочих тут тоже не больно развернуться… Есть там у нас целая группа таких, которые ни о какой пропаганде и слышать не хотят… «Аристократы»… Я их так про себя называю. — Василий махнул рукой. — Такие чистоплюи!.. Такие франты!.. Шляпы, галстуки, крахмальные воротнички!.. У них во главе — двое с Бердовского завода, слесарь Краснов да горизонтальщик Аранонич, да еще двое наших, обуховцев, — Канищев да Шишев… Я ведь уж и попробовал было начать агитацию-то… Так эти — пригрозили!..
— Может, мне поговорить с кем-либо из наших студентов-пропагандистов, чтоб взялись вести в вашей школе какие-нибудь предметы?..
— Студентов у вас само начальство приглашает, чтобы проводили беседы с рабочими, — Василий усмехнулся.
— Как это? — не понял Михаил.
— Да очень просто… Генерал Власьев приглашал уже несколько раз на завод студентов духовной академии. Те проводили и в церкви, и в заводской столовой «религиозные чтения для рабочих»…
— А!.. Вон ты о чем… — Михаил едва заметно улыбнулся, достал карманные часы, озабоченно глянул на них. — Ого! Засиделся я у вас… Мне, кстати, сейчас надо в другую воскресную школу — в Смоленскую. Не прогуляетесь со мной?..
— Можно… — Василий кивнул, и они оба поднялись из-за стола, вышли в прихожую — одеваться.
Разговор продолжили, уже шагая в темноте, на грязной улочке:
— Главное, Василий, — начать умело. Попробуйте собрать вокруг себя как можно больше сознательных толковых людей. Начните с этого. Тех, кто в крахмальных воротничках, не трогайте. Пока. У вас на заводе рабочих сколько?
— Поболе трех тысяч…
— «Аристократов» таких много ли среди них?
— Сотни две-три…
— А остальные?
— Остальные — рабочие средней и низшей квалификации, чернорабочие и валовые. Основной состав… Работают со сверхурочными по двенадцать — пятнадцать часов в день, а домой приносят — жалкие гроши. Я уж не говорю о том, в каких условиях живут эти наши рабочие, сколько унижений терпят каждодневно… Да ведь даже и эти, как я сказал, «аристократы», они ведь от непонимания пыжатся-то. Ведь и они, если разобраться, тоже под общей меркой ходят… Вон — рядом с нашим заводом — парк графа Апраксина. Там у входа — специальная стража поставлена и дощечка прибита: «Мастеровым и рабочим вход в парк строго воспрещается». Так что — куда эти «аристократы» со своими крахмальными воротничками?.. Им тоже — одна дорога! Они тоже, как все прочие «господа-рабочие», кабаками да трактирами окружены. Вышел из заводских ворот — и сразу кабак «Зеленая роща», а дальше — целый квартал этих кабаков, пивных да портерных: «Аркадия», «Надежда», «Вена», «Александрия»… Вот сюда рабочий человек — входи! Тут ему рады!.. Тут его ждут!.. Пропивай свои трудовые копейки!..
Слушая Василия, Михаил удовлетворенно кивал: дельно говорил этот молодой фрезеровщик, из такого со временем должен выработаться неплохой пропагандист-организатор…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
К Смоленской воскресной школе они подошли как раз вовремя. Уже расходились ее великовозрастные ученики — рабочие с фабрик Максвеля и Паля, Александровского, Семянниковского заводов, с других заводов и фабрик. В темноте слышались возбужденные молодые голоса, хлюпающие звуки шагов.
Михаил придержал Василия за рукав:
— Я тут подожду. В школу не пойду. Лишний раз попадаться на глаза сторожу ни к чему… Учительницы скоро выйдут.
Постояли молча, слушая, как переговариваются, перекрикиваются расходящиеся после занятий рабочие.
В стороне, там, где за Шлиссельбургским трактом растянулась целая череда всевозможных питейных заведений, слышались иные голоса н звуки… Кто-то лихо рвал меха гармоники, кто-то «дробил» каблуками под ее наигрыш, кто-то тянул хриплую арестантщину, слух резанули дикие крики. Обычное дело — драка… Там завершался на свой, обычный, привычный лад воскресный вечер другой рабочей молодежи…
Словно прочитав мысли Михаила об этом, Василий сказал, натужно кашлянув:
— Да… Какая все-таки разница… Те и эти… Если бы мы все, как один, поняли верный-то путь!.. А то столько нашего брата, рабочего, в грязи да во тьме жизнь свою убивает!..
— Если бы все… — раздумчиво откликнулся на его слова Михаил. — Эх, если бы все разом истину-то разглядели!.. Да ведь не бывает так… Нужна постоянная тяжелая работа тех, кто разглядел…
В дверях школы показалась группка девушек. Михаил узнал Надю и двух ее приятельниц — Зиночку Невзорову и Аполлинарию Якубову, с которыми тоже ранее был уже знаком. Михаил протянул руку Василию:
— Ну, вы теперь идите. Спасибо за вечер!..
— Вам — спасибо! — сказал Василий, крепко пожав его руку. Его широкоплечая фигура мелькнула в свете фонаря, тускло горящего на углу, возле школы, и растворилась во тьме.
Михаил пошел навстречу спускающимся с высокого крыльца девушкам.
Первой его увидела Надя Крупская:
— Батюшки! Михаил Иванович?! Вы?!.
— Я. А что — не очень похож на самого себя? — шуткой ответил Михаил и поклонился: — Здравствуйте, юные сеятельницы «разумного, доброго, вечного»! Погодка сегодня — прелесть! То — дождь, то — ветер, то, — оба вместе! Дай, думаю, прогуляюсь за Невскую заставу, повидаю хороших людей, узнаю: как у них идут дела!..
— А дела у хороших людей — хорошие! Сеем! — весело откликнулась Зиночка Невзорова.
— Я в этом не сомневался! Но ведь и просто повидаться с хорошими-то людьми — приятно! Вы на конку, наверное, торопитесь?
— Не так чтобы очень! Нам тоже с хорошим человеком потолковать хочется! — Зиночка взяла Михаила под руку.
— Ну, тогда предлагаю небольшое путешествие по Шиссельбургскому тракту!
— Надеюсь, не до Ладожского озера?! — воскликнула Аполлинария.
— Нет! До следующей остановки конки!
— Прекрасно! Мы согласны! Свежий морской ветер и прогулка по этому ужасному ночному Шлиссельбургскому тракту — как это романтично!
— Тогда — в путь!
Пересмеиваясь, перебрасываясь шутками, вышли на тракт. Тут, на открытом месте, дул упорный встречный ветер. Под этим ветром девушки притихли.
— Я на днях встретила Цивиньского, — первой заговорила Надя Крупская. — Он мне сказал, что вы, Михаил Иванович, собираетесь покинуть столицу…
— Есть такая мысль… — Михаил кивнул. — Зажился я тут.
— А как же — организация? Ведь только было все наладилось…
— Вот потому-то и считаю, что пора перебираться в другое место. Ведь Питер — еще не вся Россия. Здесь делоуже начато, здесь есть уже пусть и зачаточное, по все-таки самостоятельное рабочее движение. А вон возьмите хотя бы Москву… Второй промышленный город страны, эксплуатация рабочего человека — почище здешней, а ни о каком движении в рабочей среде не слышна. Год — сложный, тяжелый. В стране — голод, и это— только начало. Нам надо действовать шире. Надо пробуждать прежде всего нашего рабочего. По всей России.
— Так вы — в Москву? — спросила Зиночка Невзорова.
— Предполагаю. На днях наведаюсь еще раз в Общество технологов насчет места. Если выпадет мне Москва — не откажусь…
— Жаль… Очень жаль, если это случится…
— Так ведь с Питером я не порву. Буду поддерживать постоянную связь, буду приезжать…
— С вами всегда было как-то по-особенному тепло…
— Ну вот!.. До комплиментов дошло!.. Давайте-ка лучше о деле… Я тут сегодня побывал у одного хорошего парня… Василия Яковлева.
— С Обуховского?
— С Обуховского. У них открылась при заводе школа…
— Знаем.
— Надо вам, милые барышни, распространить свое влияние и на эту школу. Рабочие школы для нас крайне важны. Они — самое подходящее место для сближения рабочих, для знакомства рабочих разных заводов и фабрик, рабочих разных районов города. Кстати, вам и самим надо подумать о настоящем объединении. Я имею в виду крепкую марксистскую группу, состоящую из преподавателей…
— Да, это нам надо сделать… — сказала Надя Крупская.
— И главное: старайтесь так вести дело, чтоб уже развитые, организованные рабочие сами влияли на новичков и на тех, кто пока что либо стоит в стороне, либо просто не определился. Ставьте перед собой цель покрупнее! Вот идеал, к которому все мы должны стремиться, — Август Бебель! Вчерашний рабочий. А как вырос! Стал членом парламента и отстаивал в нем права рабочих!
Он же выработал основы тактики борьбы социал-демократов, он же много сделал для создания единой рабочей партии Германии, и эта единая партия научилась под его руководством соединять нелегальную и легальную работу… Вот и наша высшая цель — выработать из своих кружковцев-рабочих будущих российских Бебелей!..
За увлекшим их разговором не заметили, как дошли до остановки конки. Подкатил вагон «Невской оказии», Михаил заранее предупредил девушек:
— В вагоне со мной — ни слова. Мы — незнакомы. Я — рабочий. Вы — барышни. Не забывайте о конспирации!..
Так он и ехал с ними в одном вагоне — как вовсе незнакомый им человек. У Московского вокзала девушки вышли. Он поехал дальше — до Гостиного двора.
Глядя вслед удаляющемуся вагону, Надя Крупская сказала в задумчивости:
— Удивительвшй человек Михаил Иванович… Ясный, спокойный русский ум и характер… И такая предельная преданность рабочему делу!.. С ним рядом уверенней, крепче начинаешь чувствовать саму себя… У него даже фамилия такая подходящая — Бруснев: что-то надежное, крепкое…
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
В Обществе технологов Михаилу предложено было сразу несколько мест, среди них лишь два показались ему подходящими. Первое было в Москве — место помощника начальника вагонного отделения в мастерских Московско-Брестской железной дороги; второе, точно такое же, — в Смоленске.
Просматривая списки кандидатов, Михаил натолкнулся на фамилию «Епифанов». Обрадовался: «Ну-ка, ну-ка… Куда тебя приглашают, дорогой друже?..» Епифанову предлагали два места: одно — в Пскове, другое — в Динабурге. Михаил записал оба адреса, надеясь потом разыскать по ним своего друга, окончившего институт на год раньше, чем он сам.
По окончании института Иван Епифанов получил временное место запасного машиниста в Воронежском депо. В Воронеже он женился и после этого — как в воду канул. Ни одного письма от него не было.
С Епифановым Михаил познакомился еще на первом курсе. Они были ровесниками и почти земляками. Иван перед поступлением в Технологический окончил Новочеркасское реальное училище. Из Новочеркасска он был и родом. Спокойный, всегда ровно-добродушный, он сразу же пришелся Михаилу но душе.
В апреле 87-го, когда они были уже на втором курсе, у Епифанова при обыске была найдена полицией прокламация, отпечатанная в связи с покушением на Александра III. Его арестовали, но вскоре отпустили без всяких последствий. В следующем году они вместе пошли в кружок самообразования, из которого, вместе же, перешли в кружок пропагандистов.
Толковым пропагандистом был Епифанов. Но вот, едва расстался с Петербургом, едва женился, — словно бы исчез человек… Михаил не знал, что тут и подумать. Не хотелось верить, что с окончанием института могло так вот просто окончиться для его друга и дело, которому они оба взялись служить, не хотелось верить, что оборвалась и сама их дружба, которая прежде казалась ему такой надежной…
Михаил решил сначала съездить в Москву, затем — в Смоленск (на всякий случай).
Однако с отъездом из Петербурга получилось не вдруг: дела организации задержали еще почти на месяц…
Отъезд он приурочил к последнему ноябрьскому воскресенью.
И вот пришел этот воскресный день. Михаил поручил Валериану Александрову и Василию Воробьеву доставить его вещи к отходу поезда на Московский вокзал, сам же, с наступлением сумерек, отправился на Выборгскую сторону — на квартиру Егора Климанова, где должны были собраться члены Центрального рабочего кружка. Туда же должен был прийти и Вацлав Цивиньский, которому вновь предстояло заменить в кружке Михаила.
Вечер был стыловатый, мглистый. Уже зажигались огни, когда Михаил вышел на улицу. Мимо пробежал фонарщик с лестницей на плече. Вроде бы именно его черная согнутая фигура и напомнила Михаилу, что уже сумерки, что через несколько часов он покинет этот город, так изменивший его за шесть лет, город, с которым у него теперь так много было связано…
Цепочка огней разрасталась впереди, растягивалась вдоль заснеженной улицы, будто перед ним, именно перед ним, провешивался, намечался красноватыми огоньками некий, далеко уводящий путь…
У Климанова собралось около пятнадцати человек. Как обычно, все оживленно разговаривали, делились последними новостями, вспоминали прошлую, особенно многолюдную, сходку, на которой в организацию было принято сразу несколько женщин-работниц с Новой бумагопрядильни, с Карточной фабрики…
Беседуя в сторонке с хозяином квартиры, Михаил задерживалвзгляд то на одном, то на другом лице, словно бы заранее прощаясь с каждым, из пришедших на эту сходку рабочих.
Вот — Николай Богданов. Слесарь мастерских Варшавской железной дороги. Один из членов Центрального рабочего кружка, вошедший в него как представитель Невского района и вскоре же ставший его секретарем. Чуткий, отзывчивый человек, пользующийся уважением и любовью членов организации. Три года назад окончил техническую школу и продолжал самостоятельно пополнять свое образование. Сам создал у себя в мастерских рабочий кружок, где перечитал с другими молодыми рабочими Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Глеба Успенского, Николая Шелгунова. При кружке организовал целую библиотеку. Незаменимый, умный организатор…
Вот — Василий Шелгуиов. Рабочие называют его уважительно: Василь Андреич. Плечистый, бородатый. Из псковских мужиков. Говорит степенно, крутым баском. Давно вхож к студентам, грамотному народу. «Башковитый!» — говорят о нем. Друзей у Шелгунова — чуть ли не на всех питерских заводах и фабриках! Самостоятольно организовал кружок на «Новом адмиралтействе», самостоятельно и занятия проводит в этом кружке. Много и целенаправленно читает. В первый раз побеседовав с ним, Михаил узнал, что тот уже успел прочесть книги Плеханова «Наши разногласия» и «Социализм и политическая борьба», книги, дающие настоящий пример применения марксизма в российской действительности и отвечающие на самые животрепещущие вопросы социал-демократического движения в России.
А сам хозяин квартиры?.. Кузнец. А пролетария в нем можно узнать разве что по несколько напряженной и слегка книжной речи.
Как-то среди прошлой зимы Николай Сивохин, придя к Михаилу, застал Егора Климанова у него. При Сивохине они продолжили разговор, начатый до его прихода. Говорили об экономической статье, прочитанной в «Биржевых ведомостях». Сивохин потом все удивлялся: он никак не мог предположить, что есть такие рабочие, способные поддерживать подобные разговоры…
В прихожей задребезжал звонок. Егор вышел встречать нового гостя. Вернулся в комнату вместе с Вацлавом Цивиньским, зябко потирающим руки.
— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался тот со всеми. — Извините, что задержался. Вышел из дому, и показалось, что за мной увязался «хвост». Пришлось поплутать.
Тут же из прихожей был внесен кипящий самовар. Егор пригласил гостей к столу. Когда все расселись, он поднялся и, помедлив, заговорил:
— Товарищи… Сегодня мы собрались попрощаться с Михаилом Иванычем, к большому нашему огорчению, уезжающим от нас. Что поделаешь — надо… Не так уж и много мы были знакомы с ним, всего каких-то два года, но за это время он стал для нас таким близким и таким необходимым человеком. Расставаться с такими людьми всегда тяжело…
— Извини, дорогой Егор Афанасьевич, что перебиваю, — сказал Михаил, поднимаясь. — Я уж лучше сам буду говорить, а то неловко сидеть и слушать, как тебя расхваливают… Да и времени маловато, к сожалению…
— Ну, коли ты уже поднялся, то ладно — продолжай сам… — Егор, добродушно усмехнувшись, махнул рукой и опустился на табурет.
Михаил с улыбкой оглядел сидевших вокруг стола, по привычке словно бы слегка попружинил правой рукой воздух перед собой, перед тем, как заговорить.
— Прежде всего, — начал он, — мы не прощаемся сегодпя, не расстаемся насовсем. Из организации я не выхожу, буду по-прежнему считать себя в «Рабочем союзе», как считают себя и другие наши товарищи, ныне находящиеся в других городах и не сидящие там сложа руки. Мы ведь с вами всегда говорили о необходимости объединения всего нашего пролетариата и пролетариев всего мира. Стало быть, огорчаться нам не надо, когда кто-то из нас по каким-либо обстоятельствам вынужден уехать из столицы. Будем расценивать это так: «Рабочий союз» расширяет пределы своей деятельности! Да, нелегко и мне, други, сегодня уезжать от вас. Но уезжаю с верой в прочность нашего общего дела, с верой в то, что рабочее дело здесь, в Питере, уже по-настоящему жизнеспособно. Вы сами, други, уже всюду проявляете инициативу, сами решаете коренные вопросы нашей борьбы. То есть ныне уже можно говорить о самостоятельно существующей, чисто рабочей организации. Это тот самый результат, к которому все мы стремились. Сторонники шумных и эффектных действий, сторонники террора, упрекали и упрекают нас в «культурничестве», даже в робости. Это самое «культурничество» если у нас и было, то не как основная программа, а только как определенная часть большого дела, обусловленная необходимостью. Скороспелость, торопливость нами всегда осуждалась. Сознательное освоение классового мировоззрения и революционного марксизма требовало и всегда будет требовать глубокой и основательной подготовки. Отсюда и та глубина нашей пропагандистской работы, начинавшейся в нередких случаях с того, что называется «азами» и зачатками обыкновенной грамотности. Социализм, с самого зарождения нашего «Союза», рассматривался нами как мировоззрение, определяющее задачи всей жизни, которые решать по-настоящему, зрело, невозможно без должной культурной работы над собой каждого из нас. Все наши стремления были направлены к тому, чтобы выработать из членов организации не только «без пяти минут революционеров», как порой говорили мы, но революционеров прежде всего сознательных, подготовленных к самостоятельной работе, чтоб каждый имел определенный философский и экономический кругозор, что позволило бы затем стать опять же каждому самостоятельным пропагандистом. — Михаил улыбпулся, снова оглядев сидевших вокруг стола. — Вот смотрю я на вас, други, и радостно у меня на душе: ведь вы, собравшиеся здесь, уже и есть такие люди, о которых я только что сказал, ведь уже создан, пускай и небольшой пока, отряд передовых рабочих, способных повести за собой других! У каждого из вас уже выработаны необходимые для рабочего-революционера черты — стойкость, честность, преданность делу, отзывчивость… Думаю, можно сказать, что вы — рабочая интеллигенция. Да, именно так — рабочая интеллигенция! Право же, други, находясь среди вас, я всякий раз переживаю что-то вроде праздника. Не стыжусь признаться вам сегодня в этом… Рядом с вами мне порой кажется: стоит лишь прикрыть глаза и тут же открыть их, как очутишься в некоем неведомом новом мире, на какой-то другой земле, где вся жизнь течет по-иному, где уже осуществилось великое и прекрасное братство людей, где не осталось ни тени от омертвленной, оказененной жестокой повседневности. Верю, други: такая жизнь будет на земле! Да, вот так размечтаешься порой… Не к тому ли, думаешь, и должно подойти в конце концов развитие жизни, что всюду будет хозяином ее грамотный, знающий, интеллигентный человек? А?! Интеллигент-рабочий, интеллигент-крестьянин… Ведь это и есть, други, высшая цель того, что мы называем прогрессом! Чтоб — никакой дикости, никакой грязи!.. Вот и надо помочь этой косной, убогой жизни, где так мало возможности у человека — почувствовать себя ч е л о в е к о м, помочь побыстрее подняться с четверенек! В рабочее движение надо внести социалистическое сознание, и тогда, други, пробудится великая сила, перед которой не смогут устоять никакие преграды! Не забывайте об этом, помните об этом постоянно — вот что я хотел бы сказать вам сегодня, уезжая из Питера! — Михаил сел.
Рабочие заговорили возбужденно:
— Не беспокойтесь, Михаил Иваныч! Мы тут не подведем!
— Будем действовать — как надо!
— Давайте устраивайтесь на новом месте, налаживайте там наше дело! А здесь, у нас, все будет — как быть следует!
Переговорив тут же, за столом, с Вацлавом Цивиньским о делах организации, дав ему последние наказы, Михаил кивнул хозяину:
— Ну, нам пора на вокзал, Егор Афанасьевич!
— Да, пора!
Они поднялись. Егор снова обратился к притихшим сразу «гостям».
— Я один поеду — провожу Михаила Иваныча. Вы — оставайтесь, беседуйте. Расходитесь поосторожнее — по одному, по двое… Сами знаете! Кто выйдет последним, пусть запрет квартиру. Ключ знаете, где оставить…
Хотя Михаил тут же попросил всех оставаться на своих местах, никто не усидел. Поднялись, окружили его. Посыпались последние пожелания, напутствия, просьбы — кланяться, передавать приветы Федору Афанасьеву — в Москве, Николаю Руделеву и Гавриилу Мефодиеву — в Туле, Леониду Красину — в Нижнем…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Приехав в Москву, Михаил временно остановился у Кашинского. Особыми успехами тот не порадовал, лишь туманно намекнул насчет того, что «дело начинает подвигаться»… В подробности вдаваться не стал.
Федор Афанасьев поступил на Прохоровскую мануфактуру. Он снял отдельную квартиру, как советовал Михаил. Квартиру подыскал удобную, неподалеку от своей мануфактуры, на Средней Пресне. Теперь он держался повеселей, не так, как при последнем их свидании. Человек словно бы преобразился, снова оказавшись в привычной рабочей среде, при своем привычном деле. Говорил степенно, с обычной для него основательностью: «Полегоньку налаживаю связи с людьми. Уже сколачиваю кружок. Высматриваю рабочих поавторитетнее, захожу с ними разговоры. Побеседуешь о том о сем, по-свойски, по-рабочему, видишь, что человек подходящий, и тут уж переходишь к настоящему разговору. Вот на днях случай свел с интересным парнем. Федор Поляков с фабрики Михайлова. Молодой еще, правда, двадцать с небольшим ему, но жизнь уже повидал, поработал чуть ли не на всех фабриках и Москвы, и Подмосковья. Рабочие его уважают. Думаю, из него выйдет хороший организатор и пропагандист…»
В общем, с Михаилом разговаривал прежний, спокойно-рассудительный Афанасьич, не зря прозванный питерскими рабочими-кружковцами Отцом.
Место в мастерских Московско-Брестской железной дороги Михаилу показалось подходящим. Можно было сразу же устраиваться и приступать к работе, но он все-таки решил съездить еще и в Смоленск: не столько уже ради места, предложенного ему, сколько ради того, чтоб повидаться со своим бывшим однокашником и товарищем по кружку пропагандистов — Николаем Будаевским, после окончания института обосновавшимся там.
Несколькими днями раньше из Москвы в том же, западном, направлении, но не до Смоленска, а до Варшавы, с остановкой в Люблине, выехал чернобородый, бледнолицый молодой человек, одетый «под приказчика»: коротковолое пальтецо черного сукна с черным барашковым воротником, такая же, как и воротник, шапка, высокие «яловые сапоги».
Молодой человек ведать не ведал, что в том же вагоне второго класса, в котором ехал он, ехали три филера Московского охранного отделения, сопровождающие именно его…
Молодой человек был еще в пути, а из Петербурга в Варшаву, на имя начальника Варшавского жандармского округа, мчалась «бумага» за подписью директора Департамента полиции Петра Николаевича Дурново:
«3 сего декабря из Москвы в Варшаву, через Люблин, выехал бывший студент Ново-Александрийского Института Михаил Егупов, один из наиболее видных деятелей московских революционных кружков. По имеющимся сведениям, означенная поездка предпринята Егуповым с целью установления прочных связей между московскими группами и деятелями «Пролетариата»,[5] а также для сбора среди варшавских студентов денежных пожертвований па революционные цели.
Сообщая об изложенном, Департамент полиции имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение об учреждении за деятельностью и сношениями Егупова в Варшаве самого тщательного и безусловно незаметного наблюдения и о результатах онаго почтить уведомлением».
Михаил Егупов был не только бывшим студентом Ново-Александринского (Пулавского) ипститута. «Бывшим» его можно было бы назвать и еще дважды: бывший курсант Московского юнкерского пехотного училища, бывший вольноопределяющийся Каспийского полка, расквартированного в Кронштадте.
Все у этого двадцатичетырехлетнего молодого человека было до недавних пор, до его приезда в Москву из Кронштадта, в неопределенности. Призвания к какой-либо конкретной деятельности он в себе не находил.
В середине мая, возвращаясь после двухлетней военной службы на родину, на Кавказ, он задержался в Москве, где случай свел его с бывшим однокашником Виктором Ваковским, с которым он был дружен в пору своей учебы в Ново-Александрии.
Ваковский дослуживал (тоже в качестве вольноопределяющегося) в Невском пехотном полку, расквартированном под Москвой. Он часто приезжал к родителям, живущим в самой Москве, а приезжая к ним, посещал студенческие сходки и кружки самообразования.
Еще учась в Ново-Александрийском институте, они оба входили в студенческий кружок народовольческого направления, правда с некоторым социал-демократическим уклоном.
Маковский уговорил Егупова остаться в Москве и наладить печатание литературы революционного содержании.
Постепенно их связи в Москве расширялись. К осени им удалось организовать небольшой кружок, в которым они пригласили еще одного бывшего однокашника — Михаила Петрова, перебравшегося в Москву, но продолжавшего, по его словам, обучение в Ново-Александрийском институте, правда заочное.
Как будто незаметно для себя самого, Егупов проникся важностью дела, за которое взялся. Вся его жизнь исполнилась смысла и значения, она словно бы осветилась и расширилась перед ним, в ней ощущал он теперь даже нечто величественное и захватывающее. Конспиративная, скрытная, опасная деятельность — это было по нему, по его натуре. Причем он видел себя в этой деятельности не какой-нибудь «десятой спицей в колеснице», но — фигурой, личностью, вполне годящейся на то, чтобы стать во главе целой революционной организации.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Чтобы стать такой фигурой, такой личностью, надо былс «иметь на руках настоящие козыри», как любил Егупов говаривать. Надо было много «мелькать» среди революционно настроенных людей, быть у них постоянно на виду…
«Мелькал» он много. Каждый день заводил все новые и новые знакомства. Даже в Туле побывал дважды, случайно узнав о кружке тамошних рабочих. Вот насчет «настоящих козырей» было посложнее… И тут ему в голову пришла счастливая мысль…
Три года назад он считался в своем студенческом кружке чуть ли не специалистом по добыванию всевозможной нелегальной литературы. Чаще всего добывал он ее обычно в Варшаве — через ученика классической гимназии Станислава Вейненбергера, жившего на Повонзковской заставе. Были у него в Варшаве и Люблине еще кое-какие связи. Вот об этих прежних связях ои вспомнил. «Настоящими козырями» могла стать «нелегальщина», которую он раздобудет в Люблине и Варшаве!.. С этого и начнется настоящее дело!..
Посоветовавшись с Виктором Вазовским, а заодно с Михаилом Петровым, с которым так сошелся, встретившись в Москве, что поселился на одной квартире, Егупов выехал в Варшаву.
Не мог Егупов знать, приступая к осуществлению своих планов, что уже несколько месяцев находится «на крючке» у Московского охранного отделения. Между тем шпики из наружного наблюдения постоянно сопровождали его. В их ежедневных рапортичках отражен был каждый его шаг, вся его переписка подвергалась аккуратной перлюстрации… Не знал он и о том, что Михаил Петров нecпpocтa оказался в Москве, неспроста поселился с ним на одной квартире…
В Варшаве Егупов сразу же пошел к Вейненбергеру. Оказалось, что тот арестован. Тогда Егупов решил отыскать кого-либо из своих знакомых в Варшавском университете. В канцелярии университета он справился, где проживает Сергей Иваницкий, и по полученному адресу отыскал его.
За те два года, которые они не виделись, Иваницкий заметно изменил свои взгляды. Он сразу же выказал себя последователем эмигранта Плеханова, начав разговор с Егуповым с того, что в настоящее время нет ничего важнее для революционного деятеля, чем пропаганда среди рабочих с целью устройства социал-демократического союза… Егупов с ним не согласился, отстаивая народовольческую программу. Встреча, спустя два года, началась со спора…
Однако, несмотря на явные разногласия, Иваницкий обещал посодействовать Егупову, оговорившись, что приехал тот в самое неподходящее время: в октябре — ноябре в Варшаве и других польских городах были арестованы наиболее видные деятели социал-демократической организации «Союза польских рабочих».
Иваницкий ни словом не обмолвился при этом о том, что сам он организовал в Варшаве одну из групп социал-демократического направления, состоящую в основном из студентов университета и Ветеринарного института.
На следующий день они вдвоем отправились к Константину Воллосовичу, тоже студенту Варшавского университета, с которым Егупов познакомился в то же время, что и с Иваницкиы, здесь же, в Варшаве.
У Воллосовича их прихода ожидал Федор Свидерский, служащий чиновником Варшавской Контрольной палаты. Он входил в группу Иваницкого, хотя по своим политическим взглядам был далеко не социал-демократом, а скорее народником-демократом.
Егупов принялся рассказывать о настроениях московской интеллигенции в связи с неурожаем и голоде, постигшими Россию, о выступлении Владимира Соловьева с рефератом в Юридическом обществе, о редакторе «Русской мысли» Гольцеве, обрисовал в общих чертах подпольную жизнь московских студенческих кружков… Он вовсю старался показать себя человеком, которому очень-очень многое ведомо, который имеет и свои суждения обо всем, и свои собственные идеи.
— Из-за голода, — говорил он, — народ находится в таком возбужденном состоянии, что при желании его весьма несложно подтолкнуть на открытый бунт. Для этого нужно не так и много. Стоит распустить слухи, будто в больших промышленных центрах, таких, как Москва и Питер, в некоторых других, есть возможность устроиться на заработки. Голодные люди тут же устремятся туда, а не найдя никаких заработков, само собой, поднимут беспорядки…
Однако эта авантюрная идея не была одобрена собеседниками Егупова. Иваницким — особенно.
Когда Егупов, «обрисовывая московскую ситуацию», с явным удовольствием подчеркнул, что направление в московских студенческих кружках в основном «народовольческое», Иваницкнй, не сдержавшись, даже надерзил ему. Зато Свидерский и Воллосович дали Егупову понять, что не чуждаются и такого направления…
За небольшое время, прожитое в Варшаве, Егупов несколько раз встречался со студентом Ветеринарного института Осипом Рункевичем и студентами Варшавского университета Василием Шумовым и Алексапдром Архангельским. Все они были товарищами Сергея Иваницкого, входили с ним в один кружок. От них Егупов получил несколько нелегальных брошюр: «Варлен перед судом исправительной комиссии» Веры Засулич, «Речь рабочего Петра Алексеева», «Наши разногласия» и «Социализм и политическая борьба» Плеханова, «Рабочий день» Абрамовского…
С ними же Егупов договорился и насчет адреса в Москве, на который они должны были присылать ему письма. Своего адреса он им не дал, сославшись на частые переезды с квартиры на квартиру. Тогда Василием Шумовым было предложено использовать адрес вдовы бывшего профессора Варшавского университета Никитского. После смерти мужа та переехала в Москву. Правда, надо было найти удобный повод для того, чтоб вдова согласилась стать посредницей в их переписке, ведь Егупова она вовсе не знала. За поводом дело не стало: Егупов везет в Москву небольшую посылку (пакет медовых пряников для малолетних детей Никитской — рождественский подарок) и письмо, в котором бывшие ученики ее мужа, хранящие самую светлую память о своем любимом профессоре, интересуются ее житьем-бытьем на новом месте, ее здоровьем, поздравляют ее с рождестиом, о Новым годом и просят принять от них небольшой, по-студенчески скромный, гостинец. Просят они и о небольшом одолжении… Далее — суть этого одолжения.
В Варшаву, при крайней необходимости, сам Егупов мог писать на адреса Осипа Рункевича и Сергея Иваницкого.
На прощанье Ивапицкий пообещал ому со временем прислать в Москву одного из своих членов для выработки программы дальнейших совместных действий.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
По приезде в Москву Егупов навестил Никитскую, живущую неподалеку от Новинского бульвара, в Полуэктовом переулке, передал ей посылку и письмо. Вдова была весьма растрогана и просьбу «столь милых и чутких молодых людей» назвала «сущим пустяком, о котором и говерить не стоит»: она конечно же будет рада оказать им такую услугу…
Результатами поездки Егупов остался доволен: начало задуманному было положено. Его тайные сопроводители тоже могли быть довольны: им и филерам варшавской охранки многое открылось благодаря этому «резвому, мелькучему революционисту»…
Пока Егупов был в отъезде, не менее резвый друг его Виктор Вановский не терял времени даром. Ему удалось войти в кружок Круковского и Мандельштама. Накануне возвращения Егупова из Варшавы они встретились втроем и сразу же заговорили о том, что необходимо создать «определенную организацию людей с разделением труда и готовых на все».
Узнав об этом сразу же по возвращении из Варшавы, воодушевленный удачной поездкой, Егунов решил побыстрее встретиться с новыми знакомыми Вановского, чтоб, не откладывая в долгий ящик, приступить к созданию тайной революционной организации, во главе которой он видел только себя. При своих варшавских встречах он отрекомендовался именно как руководитель такой организации. Не мог же он сказать правды, по которой вышло бы, что руководимая им «организация»—лишь небольшой кружок…
Весьма, весьма кстати был этот выход Виктора Вановского на Круковского и Мандельштама! Ведь если объединиться с теми, получилась бы действительно уже организация!..
А тут еще, на следующий же день после его возвращения из Варшавы, молодчина Вановский ввалился к нему о очередной приятной новостью:
— Ты знаешь: я наконец-то нашел того универсанта, о котором тебе говорил! Сколько раз заходил в университет! Все спрашивал Михайлова. А он вовсе и не Михайлов! Это у него — конспиративная кличка такая. На самом деле он — Кашинский! Петр Моисеевич Кашинский! Заглянул сегодня наудачу на ту квартиру в Яковлевском переулке, где он жил в прошлом году, а он там и теперь живет! И как это я, голова садовая, раньше-то не додумался?! Ну, должен тебе сказать, вокруг него, видно, группируются интересные люди! Застал я у него двоих… Фамилий они не назвали, однако послушал их и понял, что это люди уже по-настоящему выработанные! Вот с кем нам надо сойтись побыстрее! Особенно один из этих двоих произвел на меня впечатление. По репликам я понял, что он недавно приехал из Питера. Имя, имя у него — как у тебя: тоже Михаил. Такой крепыш, борода — шотландка… Вроде бы в Москве обосноваться хочет. В общем, договорились с ним о новой встрече.
Эта новость тоже заинтересовала Егупова. Все было как нельзя более кстати. Все образовывалось словно бы само собой…
С Кашинским Егупов познакомился вскоре же. Они почти ежедневно встречались, попачалу ведя разговоры в осповпом о новинках нелегальной литературы, наличностью которых Егупов теперь мог козырнуть лишний раз. Намекал он при этих встречах Кашинскому и насчет своих «больших возможностей» по добыванию такой литературы.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Михаил возвратился в Москву из поездки в Смоленск 14 декабря, накануне приезда Егупова из Варшавы. Остановился в меблированных комнатах «Брест» у Тверской заставы, неподалеку от Московско-Брестского железнодорожного вокзала.
На следующий день он отправился устраиваться на работу, а еще через день уже приступил к ней.
Поначалу, пока осваивался в вагонном депо, времени не хватало ни на что другое. За две недели, оставшиеся до нового года, всего дважды побывал в студенческом кружке, в который ввел его Кашинский.
До подыскания какого-либо другого, более подходящего жилья он остался жильцом меблированных комнат. Правда, жить в них было неудобно: постоянно приходилось быть на виду у посторонних людей, да и содержательница комнат, Паулина Карловна Якобсон, оказалась особой весьма неравнодушной к личной жизни своих постояльцев…
Между тем Егупов и Кашинский продолжали встречаться. Уже после нескольких встреч они заговорили об объединении своих кружков для совместной работы, поскольку их теоретическое родство было явным. Оба склонялись к народовольческой программе, хотя и с некоторой долей социал-демократических идей.
Связи Егупова продолжали расширяться. Под самый Новый год, вечером, к нему на квартиру явился с тайным поручением из Риги студент Политехнического училища, еще один бывший его однокашник, Александр Михайловский.
Егупову он сказал, что приехал от Горбачевского, с которым Егунов был знаком опять же по студенческим годам. После того как они расстались в Ново-Александрии, Горбачевский успел побывать в ссылке. Отбыв ее, он обосновался в Риге. По своим взглядам Горбачевский был народовольцем чистой воды.
Михайловский приехал в Москву с письмами Горбачевского к Брусневу и писателю-народнику Николаеву. «Для выяснения московской ситуации» он решил сначала зайти к Егупову. К тому же и адреса Бруснева, недавно появившегося в Москве, у него не было.
Незадолго до приезда Михайловского Егупов побывал у своей знакомой курсистки Леночки Стрелковой, с которой он виделся довольно часто, снабжая ее «кое-какой нелегальщиной» (так он говаривал). Леночка сообщила ему, что ее бывшая подруга по комнате Сонечка Морозова, хорошая знакомая Кашинского, бывает в каком-то студенческом кружке саморазвития ичто на одном из недавних занятий этого кружка побывал некто Бруснев, который произвел на всех кружковцев весьма сильное впечатление.
Егупов был уверен: это тот самый Бруснев, которого Михайловский собирался разыскать в Москве. Он пообещал Михайловскому в ближайшее время «выйти на Бруснева» и познакомиться с ним, рассчитывая попасть в тот же кружок при содействии Стрелковой или Кашинского. Самостоятельно разыскивать Бруснева он Михайловскому не советовал: дескать, «можно наломать дров».
Так Михайловский и уехал восвояси, не повидавшись в Москве с Брусневым. Егуповпросил ого передать Горбачевскому, что в скором времени приедет в Ригу сам, чтобы договориться с тем о дальнейших совместных действиях.
В очередной раз встретившись с Егуповым, Кашинский от имени своей группы предложил ему создать объединенныйкружок с общей кассой и бюро для наведения справок о лицах, малоизвестных кружку, с которыми придется завязывать отношения. Егупов в принципе согласился на объединение, но попросил дать ему время, чтобы «посоветоваться с товарищами». Советоваться, однако, он ни с кем не собирался, поскольку считал себя главной и все решающей фигурой в своем кружке, просто набивал себе цену, предвидя, что Кашинский, предлагающий объединение, явно будет претендовать на главенствующую роль во вновь созданной организации. Егупову нужно было время для поднятия на должную высоту собственного престижа. Надо было опять-таки иметь на руках крупные козыри… Необходима была повая поездка в Варшаву, кстати было бы — побыстрее связаться с Горбачевским в Риге…
После той январской встречи с Егуповым Кашинский почти ежедневно совещался у себя на квартире с товарищами по кружку: он вел свою подготовку к намеченному объединению кружков.
Михаил тоже присутствовал на нескольких из этих собраний. У него теперь была возможность поближе узнать и самого Кашинского, и остальных кружковцев. Чем больше приглядывался к ним, тем больше сомневался в этих людях. Сам Кашинский — то фрондирующий барин, то — азартный игрок в революцию с весьма своеобразными взглядами на революционную работу: склонность к терроризму в нем проявлялась все определенней.
Между тем отступить, порвать связь с этим кружком стало как будто уже и невозможно: все тут зашло далеко, на попятную идти было поздно. Михаилу оставалось надеяться, что в конце концов все окажется на верном пути, было бы лишь дано ему время, а там, постепенно скопив силы, поработав как следует в этой, пока что весьма зыбкой, среде, он исправит все ее вывихи, все поставит на твердую почву, а затем поведет дело к объединению с петербургским «Рабочим союзом».
С накоплением сил было сложновато. Сам он больше не принадлежал к студенчеству, среди которого всегда можно найти подходящих для дела людей, а среди своего брата инженера чувствовал себя еще новичком, близко ни с кем пока не сошелся. С рабочими ему приходилось теперь бывать в тесных отношениях ежедневно и у себя в вагонном депо, и в железнодорожных мастерских, но ведь инженеру подойти с революционной агитацией и пропагандой к рабочему человеку, с которым он связан повседневным трудом, — неслыханное и крайне рискованное дело. К тому же и условия в здешних железнодорожных мастерских для рабочих были довольно сносными: десятичасовой рабвчий день, отпуск — неделя на пасху и на святки — две недели, заработок выплачивался аккуратно, недоразумения с администрацией бывали редко, а если и случались, то обычно на почве сдельных расценок. Свидетелем такого «конфликта» Михаилу довелось быть под самый Новый год. Рабочие паровозоремонтного депо и токарной мастерской собрались перед дверью конторы правления. К ним вышел управляющий мастерскими Ярковский. Начались переговоры. Выступили вперед выборные от бригад, «обиженных расценками». Пошумели, погорячились слегка — и вскоре все разошлись: Ярковский пообещал пересмотреть расценки. Потом действительно последовала прибавка, пусть и грошовая, однако прибавка.
Как бы там ни было, но сам этот факт говорил о том, что среди здешних рабочих существует определенная спайка. Это Михаил про себя сразу отметил.
Из-за большой занятости на работе Михаил на первых порах нечасто виделся с Федором Афанасьевым. При последних встречах тот выглядел уж не так бодро, как после возвращения Михаила из Петербурга. С организацией кружка рабочих на Прохоровской мануфактуре у него вышла заминка. Пожаловался, не сдержался: «Поначалу-то, как говорил, подыскал несколько человек, вроде бы подходящих, а потом все замялось… Не те люди, которые нужны нам… Легковаты. Год-то еще — какой?! Голодом рабочий перепуган. За место держится, боится потерять. Заработок — плевый, а работы! За смену измотаешься так, что на ногах едва стоишь! В месяц больше десяти рублевиков и хороший мастер редко получить может, а жизнь день ото дня все дорожает. Ропоту наслушался всякого много, да что толку! Ропщут и терпят! С агитацией не больно развернешься. Косо на меня поглядывают. Я на фабрике к тому же — чужак… Все друг дружки боятся…»
Михаил не торопил Афанасьева с организацией кружка рабочих. Прежде всего необходимо было иметь хотя бы и вовсе небольшую группу пропагандистов, способных вести работу в таких кружках. Создать ее было пока не из кого. Ни в кружке Кашинского, ни в студенческом кружке самообразования, в который Михаила ввел все тот же Кашинский, но было подходящих людей. Их надо было выискивать, подготавливать самому. Для этого требовалось время.
В начале января Михаил случайно узнал, что в железнодорожных мастерских есть подходящая вакансия — место сборного мастера. Сразу же и подумал о том, что занять это место вполне мог бы кто-нибудь из бывших однокашников, товарищей по петербургскому кружку пропагандистов. Пораскинул: кому бы паписать? Вспомнил: осенью, в Петербурге, узнал от Вацлава Цивиньского, что Роберт Классон после окончания института уехал за границу. От Цивиньского тогда же узпал и адрес Классона. Михаил написал ему, правда без веры в желательный ответ.
Классон откликнулся быстро. Среди января Михаил получил от него письмо, в котором он писал, что в настоящее время не может вернуться в Россию… В конверт была вложена фотокарточка: Классон — на фоне швейцарских гор. На обороте ее — надпись: «Михаилу Ивановичу. Оберните взор на Запад: солнце, вопреки законам астрономии, взойдет с Запада. Видна заря! 12. I. 92. Р. Классон».
Неожиданно Михаил встретил на вокзале, куда заходил иногда обедать в ресторан, своего бывшего однокашника Матвея Зацепина. Тот был земляком и другом Ивана Епифанова (оба приехали в Петербург из Новочеркасска и прожили на одной квартире все пять лет, пока учились в Технологическом), потому Михаил считал его и своим близким товарищем.
Они разговорились, вспоминая студенческие годы. Заговорили, само собой, и об Иване Епифанове. Оказалось: тот не в Пскове, не в Динабурге и не в Воронеже, как предполагал Михаил, а в Новороссийске. Зацепин тут же сообщил и адрес Епифанова.
В тот же день Михаил написал Ивану письмо, предлагая поскорее приехать в Москву и занять вакантное место в ремонтных мастерских.
Епифанов на сей раз откликнулся сразу же, напасав о своем согласии перебраться в Москву.
Михаил с нетерпением ждал приезда друга, которого начал было считать безвозвратно потерянным для себя.
«Интересно: каким ты стал, друже, за эти полтора с лишним года, которые мы не виделись?.. — думал он. И надеялся: Вот приедет Иван — дела пойдут повеселее!..»
С Питером, с «Рабочим союзом» Михаил поддерживал связь в основном через Николая Сивохина, которого ввел в организацию перед отъездом в Москву. Беспокоили его письма Сивохина: судя по ним, много еще путаницы было у того в голове. В одном из последних писем, например, написал такое: «Я теперь горячий защитник беспорядков!..» «Горячий защитник…» Сколько их повидал Михаил за последние годы, таких «горячих защитников беспорядков»!.. Горячность их всякий раз лишь вредила настоящему делу, как и сами «беспорядки», под которыми всегда разумелся террор.
Переписывался Михаил и с юным Валерианом Александровым. В начале декабря тот взял расчет в переплетной мастерской и стал заниматься переплетным делом самостоятельно, у себя на квартире. Дело это Валериану не нравилось, он мечтал заняться чем-нибудь другим.
Михаил решил: как только появится возможность, устроить его у себя в вагонном депо или же рядом, в ремонтных мастерских, куда должен был поступить на работу Иван Епифанов. Из Валериана со временем мог выработаться незаменимый помощник…
Уезжая из Петербурга, Михаил заручился рекомендательным письмом матери своего арестованного и сосланного товарища Виктора Бартенева — Екатерины Бартеневой к московскому литератору и статистику Николаю Михайловичу Астыреву. По приезде в Москву Михаил побывал у него. Это дало несколько новых знакомств. У Астырева собирались и литераторы, и студенты, и курсистки. Сам Астырев склонялся к социал-демократии, но все его окружение было народовольческою толка. Михаил это почувствовал сразу, однако решил попристальнее присмотреться к этому окружению: авось и удастся найти тут будущих союзников…
Так получилось, что почти одновременно с ним, при посредничестве заезжавшего в Москву литератора, познакомился с Астыревым и Михаил Егупов.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
В начале февраля Иван Епифанов вместе с женой приехал в Москву. Михаил, получив от него телеграмму, извещающую о времени приезда, встретил их на Курском вокзале и на извозчике повез через всю Белокаменную к себе — в меблированные комнаты.
Чувствовал он себя празднично, как давно уже не чувствовал. И день этот, как будто нарочно, выдался таким солнечным. После непогодных метельных дней долго скрывавшийся яркий свет затопил Москву. К вечеру он, правда, чуть поослаб, слегка помрачился. Михаил странно ощутил его вдруг, едучи уже по предвечерней Тверской, сидя впереди Епифановых на облучке саней, рядом с извозчиком. Свет этот был словно бы некое печальное напоминание о чем-то невыразимо пракрасном, давно минувшем, невозвратимо минувшем…
Вечерняя Тверская кипела. Скрип полозьев, конский храп, зычные покрики кучеров «собственных запряжек», лихачей и парных «голубчиков», извозчиков сортом пониже — «ванек», «кашпиков», извозчиков так называемых «желтоглазых погонялок»…
Ярко отполыхивали, отражая свет занадаюшего за город солнца, широкие стекла витрин, кое-где витрины и подъезды уже сверкали Яблочковыми фонарями… Тверская обманывала, создавала этакую зимнюю сказочку о веселом и шумном празднике жизни…
Праздник этот расшумелся посреди огромной голодной страны…
После того как Епифановы устроились в заранее приготовленном для них номере, Михаил пригласил их к себе на чай. По дороге от вокзала поговорить с ними ни о чем не удалось: Михаил сидел спиной к ним, лишь иногда оглядывался назад, чтоб обратить их внимание на что-нибудь интересное, истинно московское. Да и о чем поговоришь, если бок о бок с тобой сидит извозчик?!
За чаем Михаил тоже не слишком беспокоил Епифановых расспросами, больше отвечал сам на их расспросы.
Жену Ивана Анну (в девичестве Сиволожскую) Михаил знал уже давно. Вместе с Иваном познакомился с ней в Петербурге, на одной из студенческих вечеринок. В столице она училась на курсах и, как многие курсистки, посещала всевозможные студенческие собрания и вечеринки. Позже, когда между ней и Иваном «завязался роман», Михаил узнал от Ивана, что Aннa входит в народовольческий кружок Качоровского, Фойницкого и Истоминой, с которым они вели постоянную борьбу. Михаил еще пошутил тогда, услышав от Ивана об этом, мол, ситуация — чисто шекспировская: юные Ромео и Джульетта и — непримиримые Монтекки и Капулетти…
Завершилась вся эта драма отнюдь не по-шекспировски. Последний акт ее был «сочинен» в стенах Департамента полиции. «Капулетти» прекратили свое существование… Юная Джульетта оказалась высланной в Воронеж, к себе на родину, под гласный надзор полиции… Верона — Воронеж… Была, была тут этакая ехидная усмешка судьбы…
С тех пор Анна заметно изменилась. Михаил знал ее хорошенькой барышней-хохотушкой, полногубой, румянощекой. Теперь перед ним сидела, как-то напряженно помаргивая, худощавая молодая женщина с заострившимися чертами болезненно-бледного лица…
Сам Иван тоже изменился. Он вроде бы слегка пообрюзг, пообвис весь и смотрел без своей прежней дерзкойусмешливости, то и дело насупливался, будто некая неизживная забота постоянно беспокоила его…
После чая Михаил с Иваном пересели па диван, Анна устроилась рядом — в просторном мягком кресле, обитом лиловым бархатом, местами порядком повытертым.
Первым заговорил Иван:
— Тяжелые, Миша, картины видели мы в дороге… На станциях — толпы голодных… Не году — самые удручающие человеческие трагедии… Такое впечатление, будто ехали мы по какой-то огромной умирающей стране…
— Да, до сих пор перед глазами этот ужас!.. — Анна зябко передернула плечами. — Какое-то всеобщее нищенство, всеобщая песчастиость… Страшный год…
Михаил чуть заметно покивал, взял с журнального столика свежий номер журнала «Русский вестник», отыскал раздел «Внутреннее обозрение», слегка хлопнул согнутыми пальцами по страницам.
— А вот газеты и журналы наши предпочитают писать об этом обтекаемо, без остроты… «Умеренно»!.. — он усмехнулся. — Катастрофический неурожай именуется вних «недородом хлебов»; находящихся на грани голодной смерти и просто умирающих от голода крестьян они называют «не вполне сытыми крестьянами»… Только теперь начинают приближаться к словам, за которыми хоть какая-то правда. Вот — послушайте:
«Настала зима — зима голодного года. Сколько неизреченных страданий для многих миллионов людей вмещают в себя эти три слова! Нет нужды дожидаться тех картин, какие станут рисовать, по местным, частным своим наблюдениям, корреспонденты. Нет необходимости и в особой силе воображения для того, чтобы представить себе вперед, в живых образах, ту грозную действительность, какая должна соответствовать словам — голодная зима. Теперь не осталось уже ни единого дня срока для споров о размерах нужды, о лучшей организации пособий и т. д. Все сословия, все население государства, в силу первейшего долга, связующего граждан одной страны, должны соединиться в одной мысли. Самым решительным образом, всеми способами, какие только доступны для каждого из нас в отдельности, для теснейших кружков и целых обществ, мы должны вступить в борьбу с народным бедствием».
— Один по-настоящему неурожайный год, и обнажилась ужасающая нищета империи… — Михаил захлопнул журнал, положил его на прежнее место. — Причины бедствия — не в случайностях, которые можно свалить на природу… Учредили здесь, в Москве комитет помощиголодающим под председательством великой княгини Елизаветы Федоровны. Звучит громко!.. Это у наших борзописцев называется — «высшие правительственные органы чутко отнеслись к делу предупреждения хлебного кризиса…». Пошленькая трагикомедия какая-то, дешевенькая игра рядом с целым морем человеческого горя… Толку-то от этого Особого комитета… Одно название!.. Да, «каждый из нас в отдельности, и целые кружки, и Целые общества, все мы должны вступить в борьбу снародным бедствием!» Только бедствие это — не просто неурожайный год… — Михаил со значением глянул на Ивана. Тот опустил глаза под его взглядом.
— А вы, Михаил Иванович, мало изменились за эти два года… — сказала вдруг Анна. — Совсем даже не изменились. Разве что повозмужали. А так — все тот же серьезно-добродушный голубоглазый молодой человек, с пламенными идеями и идеалами, со святым негодованием…
Сказано было усталым, слабым голосом, но Михаилу послышались в этом сказанном явные нотки раздраженности и желание сбить начавшийся разговор на что-нибудь другое, не касающееся ничего острого, тревожного…
Он перехватил взгляд Анны, сидевшей за кругом света, падавшего от висячей керосиновой лампы на стол, за которым они только что чаевничали. Темные крупные-глаза ее смотрели напряженно и словно бы просяще, умоляюще-просяще…
— Стало быть, не изменился?.. — в растерянности от неожиданно услышанною спросил он.
— Нисколечко…
— Он, Аннушка, холостяк, причем убежденный, — с шутливой веселостью заговорил Иван. — Забот у него — никаких, вот и сохранился!.. Он так мне и заявил однажды: «Революционер жениться не должен!..» Представляешь?!
— Представляю!.. А сам уж, наверное, держит тут на примете какую-нибудь хорошенькую москвичку!..
— Да уж, наверное!..
— Знаем мы вашего брата!..
Михаил обескураженно сидел под сыплющимися на него шутками Епифановых: так вдруг и так нелепо подменилось в разговоре то, о чем он хотел бы поговорить с ними…
— Ну, ладно обо мне!.. — в тоне этой внезапно возникшей веселости сказал он. — Расскажите-ка лучше; как жили все это время… Ведь точно в воду канули…
— Как, говоришь, жили?.. — Иван словно бы обмяк вдруг весь, провел ладонью по колену, будто сметая с него что-то невидимое. — Раньше, в студенческие годы, все как-то проще было. На языке, на уме — прекрасные идеалы, все преобразующая деятельность… А вот поваришься в этой жизни, помытаришься как следует… — Иван махнул рукой, — иначе на многое начинаешь смотреть… Идеалы, Миша, идеалами, а жизнь жизнью. У нее — свои к нам требования. Намытарился я за эти неполные два года!.. Окончил институт. Куда?.. К ней вот — в Воронеж. Женился. Она — поднадзорная, никуда с ней из Воронежа не уедешь, а в Воронеже места мне подходящего не было. Поступил на железную дорогу помощником машиниста. А тут у Ани отец умер. Мария Павловна, моя теща, осталась почти без средств. Два младших сына у нее на руках — Илья да Сергей. Гимназисты. У моих родителей в Новочеркасске — тоже не блестяще. Пенсион у отца не такой уж и большой, а при нем — мать да три незамужние сестры. Старший брат Дмитрий живет там же, служит, но заработок имеет мизерный, едва концы с концами сводит. Сам — семейный. Брат Аркадий поступил учиться в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, молодой человек, погусарить охота, все просит у родителей денег… Так что мне — хоть разорвись! Всем помогать надо. А велик ли заработок у помощника машиниста?! Сам знаешь!.. Теща побилась-побилась да и решилась ехать в Новороссийск. У нее там небольшой собственный домик. Надумали и мы за ней податься, а как? Аня-то — поднадзорная. Начали ходатайствовать. Сколько нервов потратили! Кое-то как получили разрешение полиции на переезд в Новороссийск… В общем, хватили лиха. — Иван умолк, резко, навскидку, глянул на жену, словно бы спрашивая ее о чем-то этим взглядом, и заговорил снова: — Аня еще в результате всех переживаний, сильно стала сдавать… В общем, нервы, но и не только они… Нужно серьезное лечение. Твое письмо — будто глас божий! Мы за твое предложение сразу ухватились. Авось нам повезет здесь, в Москве… И медика тут хорошего можно сыскать для Ани… И заработок, может, наконец-то будет… — И над как-то искательно улыбнулся и, достав из кармана платок, смакнул им выступивший на лбу пот. — Вот такие дела, друг Горацио!..
Михаил в рассеянности покивал, покусывая нижнюю губу и глядя в пол. По сути дела, перед ним теперь оказался словно бы другой человек. Ивана как будто подменили за эти неполные два года. А он-то надеялся, что обретет в нем прежнего единомышленника, друга-товарища… Вида, однако, не подал, ничем не выказал своего разочарования, даже с ободряющей улыбкой глянул на Ивана, сказал:
— Ничего, друже! Начнете жить на новом месте, в новых условиях, все наладится! Только хорошо бы сразу заняться подысканием подходящей квартиры, где-нибудь неподалеку от службы. Признаюсь: мне за полтора месяца этот hotel garni, эта «меблирашка» Паулины Карловны Якобсон порядком надоела. Неудобно в ней жить. Весь — на виду. Кто бы ко мне ни пришел — хозяйке тут же все известно… Так что, ежели вы не возражаете, нам не худо бы подыскать общую квартиру. Вы ее снимете, а я буду вашим жильцом. Буду платить вам и за стол, и за жилье. Заживем! А то мне, холостяку, снимать квартиру — просто чрезмерная роскошь! Так как — согласны?!
— Да чего бы лучше! — воскликнула Лина и посмотрела на мужа: — Правда, ведь, Ваня?..
— Само собой! — растроганно сказал тот.
— Ну и прекрасно! Завтра же надо будет побегать по Пресне, поискать, может, что-либо и найдется подходяшее поблизости от Грузинского Камер-Коллежского вала, под боком у мастерских. Район тут за Трехгорной и Пресненской заставами — подходящий! — Михаил уже совсем весело подмигнул Ивану. — Рабочий район! Я его уже весь исходил пешком. Дух тут такой же, как на питерских рабочих окраинах!..
Квартира вскоре была подыскана в Малом Тишинском переулке, рядом с Тишинской площадью, в домо мещанина Аверьянова. Дом этот был типичным московским двухэтажным особнячком, каких много можно увидеть и на Сретенке, и на Пречистенке, и на бульварах Белокаменной, и в Замоскворечье.
Друзья сразу же перебрались на эту квартиру, состоящую из двух довольно больших комнат, кухни и прихожей, разделяющей их. Тут можно было жить, не стесняя друг друга. Одно было плохо: квартира оказалась сыроватой, поскольку занимала первый, кирпичный, этаж, к тому же чуть ли не по самые окна вросший от древности в землю. Но они пока и этому жилью были рады.
Иван поступил на службу. Правда, место он получил временное, с небольшим жалованьем, однако в ближайшем будущем ему было обещано другое — постоянное и более денежное.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В Ригу, к Горбачевскому, Егупов собрался съездить лишь спустя полтора месяца после визита в Москву Михайловского. Опять сказав Вановскому и Петрову, куда и зачем уезжает, в нервый день великого поста, 16 февраля, он отправился в путь.
Заодно Егупов намеревался посетить и своих знакомых в Варшаве: надо было закрепить знакомства, завести новые, надеялся и на получение свежей «нелегальщины». В зависимость от результатов этой поездки ставил он объединение с кружком Кашинского, которое все оттягивал. Нужны, нужны ему были новые «козыри»!..
Вместе с ним, как и в прошлую его поездку, отправились из Москвы два филера со строжайшим наказом старшего чиновника для поручений Московского охранного отделения — не упустить этого «резвого на ноги и чрезвычайно мелькучего революциониста».
У Егупова и его тайных сопроводителей поездка и на сей раз была удачной. В Риге Егупов, на виду у последних, «четыре дня общался с Горбачевским и Михайловским, встречаясь и с теми, кто был связан с обоими».
22 февраля оп выехал через Динабург и Вильно в Варшаву и на следующий день был уже там.
Остановился Егупов снова у Сергея Иваницкого. Тот сразу же сходил за Константином Воллосовичем, который пригласил их к себе — на нелегальное собрание университетского кружка.
Егупов был представлен собранию, как «один из активнейших деятелей революционного движения в Москве». Затем ему было предложено выступить. Он, разумеется, постарался, обрисовав Москву этаким клокочущим вулканом, до извержения которого — чуть ли не считанные дни…
Из поездки в Ригу и Варшаву Егупов возвратился окрыленным. Не терпелось показать привезенное Кашинскому — утереть нос этому «студентику, претендующему на верховодство», дать ему почувствовать: кто есть кто, от кого по-настоящему может зависеть дело, за которое они взялись… А показать Егувову было что. В Варшаве он получил второй сборник плехановского «Социал-демократа». Сергей Иваницкий добавил к этому несколько экземпляров только что появившейся в нелегальных кружках брошюры Плеханова «Всероссийское разорение». Таким образом, Егупов прибыл в Москву с весьма неплохими «козырями»…
В добавление к этому, уже перед самым отъездом он договорился насчет транспортировки в Москву в ближайшем будущем запрещенной литературы…
Первые радостные новости — другу-приятелю Мише Петрову, заждавшемуся его…
Тут же явился и Вановский. У этого — просто нюх на всякое событие. Не знал ведь, в какой именно день вернется Егупов, а пришел, как специально кем-то оповещенный! И — сразу за брошюры! Даже чуть ли не обнюхал их, каждую в отдельности…
На другой день, в сумерках, Егупов с Вановским отправились к Кашинскому, который жил теперь на Большой Никитской. Новый адрес Софья Морозова сообщила Вановскому в полдень, и тот сразу же помчался к Егупову.
Кашинского они не застали, правда, Терентьев был на месте. Пока раздевались и отогревались, пока осматривали новую «штаб-квартиру союзников» (как пошутилось Егупову), явился и сам Кашинский.
За вечерним чаем он принялся рассказывать, как па днях заехал к нему вернувшийся из-за границы брат Софьи Морозовой и ему пришлось разъезжать с ним по Москве. Затем приступил к заграничным повестям, которые привез Морозов.
— Ну а как ваши дела? — обратился он к Егупову, и словно бы только теперь, вспомнил: — Да! Вы ведь собирались в Варшаву съездить…
— Уже вернулся… — покривившись, прервал его Егупов.
— Вот как?! Однако же прыткий вы человек! И ка~ковы результаты?..
— «Результаты»?.. — Егупов глянул на Вановского. — Ну-ка, Виктор, покажи!..
Вановский поднялся, взял сверток с брошюрами, развернул его, протянул одну брошюру Кашинскому. Тот, далеко отставив ее от себя, подслеповато жмурясь, прочитал:
— «Всероссийское разорение»… — Щелкнул пальцами. — Автор, стало быть, — сам Плеханов!..
— Есть вот и еще кое-что… Это вот — второй сборник «Социал-демократа»… Тоже — новинка! Но я договорился о более солидных делах… — начал было Егупов и осекся, многозначительно подмигнув Кашинскому.
— Ладно, потом расскажете, — понимающе кивнул Кашинский и тронул Терентьева за рукав:
— Ты только посмотри, Миша, на все это богатство! Не правда ли, впечатляет?!
— Да-а… — протянул тот, не столь темпераментпый, как сам Кашинский. — Впе-чат-ля-ет…
— Прекрасно, прекрасно! — Кашинский даже слегка обнял Егупова. — Я думаю, ситуация такова, что теперь нам надо немедленно объединяться! Хватит, хватит работать в разрозненности! Мы делаем одно общее дело, и делать его надо объединенными силами! Так ли я толкую? — он опять слегка обнял и встряхнул Егупова, глядевшего именинником.
— Так! Само собой, так! В единстве — сила! — сказал тот. — Да ведь в принципе-то мы уже и договорились об этом…
— Ну так вот… — Кашинский искоса глянул на Терентьева, словно готовя его к тому, что будет сказано, и снова обратился к Егупову: — Фамилия Бруснев вам что-нибудь говорит?..
— Бруснев? — переспросил Егулов, — Вы не о том ли самом инженере-технологе, который не так давно появился в Москве и с которым я сам теперь ищу встречи? Не о Михаиле Ивановиче Брусневе?..
— О нем самом! — воскликнул Кашинский. — Вот как, однако же, выходит: вы, стало быть, сами хотели выйти на него?! А от кого вы о нем узнали?..
— Да со слов Софьи Морозовой… Вернее, от Леночки Стрелковой, а та узнала от Морозовой…
— Вот как… — пробормотал Кашинский, деланно-сердито насупившись, — однако, болтливы эти сороки…
— Я слышал от Стрелковой: этот Бруснев — весьма сильный марксист… — заметил Егупов.
— В теориях мы все сильны, — Кашинский, ухмыльнувшись, щелкнул пальцами, — вот в смысле практическом… Тут нужны дельные и решительные люди! Иначе все может потонуть в одной лишь подготовке и болтовне… Вы ведь, Михаил, тоже за решительные действия?..
— Я?.. Я — да, за решительные! — кивнул Егупов.
— Ну так вот: через два дня мы собираемся на квартире у Бруснева… — Кашинский взял листок бумаги и, быстро написав на нем несколько слов, протянул его Eгуповy. — Тут — адрес Бруснева. Живет он в Малом Тишинском переулке, отсюда — рукой подать. Да и от вашей квартиры это не так уж и далеко. В общем, найдете! Собираемся в семь вечера. Приходите! И вы, Виктор, приходите!.. Только — осторожность и осторожность!..
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Начальник отделения по охранению безопасности и порядка в городе Москве отдельного корпуса жандармов подполковник Бердяев не любил визитов в кабинет московского обер-полицмейстера генерал-майора Юрковского. Нелюбовь эта объяснялась многими мотивами. Первейший среди них: слишком часто Юрковский совал свой полицейский нос в дела отделения, то бишь, — в жандармские дела. Вмешивался, «путал карты», указывал… Наверное, о таких, как Юрковский, сказано «дядя всему свету»: всех норовит поучать, всем дает советы и наставления…
И еще одна скверная манера, вернее, начальственная привычка Юрковского, унижающая его, Бердяева, достоинство: ни разу не было такого, чтоб тот проявил так называемую «вежливость королей» — точность. Еще не было случая, чтоб принял приглашенного посетителя в точно назначенное время. Обязательно поманежит в приемной… Правда, потом рассыплется в извинениях и любезностях, но в следующий раз все повторится. Так что от этих его извинений и любезностей Бердяев обычно лишь морщился (разумеется, отвернувшись, без демонстрации!).
Вот и на сей раз ему предложено было «немпого обождать» в приемной. Садиться он не стал. В раздражении подошел к высокому, слегка обметанному морозными узорами окну, остановился перед ним, заложив руки за спину, рассеянным взглядом окинул видневшиеся за окном дома. В стылом сером воздухе мелькали крупные хлопья. Над крышами во многих местах вились дымы — еще не окончена была утренняя топка печей.
Глядя на город, Бердяев вдруг вспомнил сочиненную им, еще в начале жандармской карьеры, прибаутку:
Дома-домишки, и в них — людишки, в людишках — умишки, в умишках — мыслишки, в мыслишках — излишки, на те излишки нужны задвижки!Вот так же однажды стоял у зимнего окна. Был он тогда в чине ротмистра. Имел уже кое-какие собственные идеи «по искоренению и пресечению…». Между прочим, баловался сочинительством. Умел в московских салонах блеснуть удачным каламбуром, недурно сочиненной эпиграммой… Умение никуда не делось. Просто ныне он этого себе не может позволить.
— Нужны задвижки… — вслух пробормотал Бердяев, глядя в окно.
Вот так же он глядел тогда на этот город, на суету людскую… Только окно было другое. Другой кабинет. И — пришло на ум, сочинилось… Пустячок, словесное баловство как будто… А ежели вникнуть — не пустячок, не баловство! Отнюдь!.. Все смуты начинались там, где не перекрывались вовремя эти самые излишки-излишества! Да, именно так — вовремя! И — с умом! Вовремя и с умом — вот великий руководящий принцип всякого охранителя общественного спокойствия и общественных, сиречь государственных, устоев!..
Бердяев вдруг усмехнулся. От сознания, что он-то этим принципом овладел вполне. Где-то там, в глубинах этого города, заваривается смута, завелись там, зашевелились эти самые излишки в мыслишках… Заварщики смуты ведут игру в конспирацию, в кружковые тайны… И ведать не ведают, что все они у него па виду, что каждый очередной ход их он знает наперед… Он лишь ждет, когда созреет момент! Ибо — «вовремя и с умом»!.. Только так! Сети им расставлены надежные. Охота уже давно началась. Все идет по разработанному плану. В Петербурге будут довольны результатами принятых им мер! Главное теперь — не проявить излишней поспешности!.. И только не подталкивали бы под руку, не подсказывали очередных ходов, не сбивали с хитроумно задуманного… А ведь наверняка именно этим чревато приглашение Юрковского… Тому нужны «немедленные и решительные меры по пресечению и искоренению революционной заразы»! Ох уж этот полицеискпй-торопыга с его чинами, званиями н полномочиями!.. Если бы он вовсе не лез в жандармские дела!.. Только под нотами путается. Главное для него — чтоб его обер-полицмейстерский мундир был незапятнанным, чтоб в его вотчине всё было спокойненько и благопристойненько: «Немедленно обезвреживать всякого, делающего хотя бы и малые попытки антиправительственной деятельности…» Выходит, надобно гоняться за каждой подозрительной фигурой… При таких методах тайный сыск должен превратиться в громадную армию… Нет, за каждой подозрительной фигурой не набегаешься! Это не годилось уже и вчера. Так называемая «революционная зараза» давно захлестнула всю Европу. Тайные общества Россия знала еще и в конце прошлого столетия и в первой четверти этого века, ныне же — последняя на исходе. Общества эти, увы, не спали — действовали, так что речь должна вестись не о подозрительных фигурах, а именно о тайных обществах, причем не отдельных, а составляющих целую сеть и имеющих явно всемирные цели. Так ныне обстоят дела…
Бердяев имел свою теорию относительно борьбы с этой самой «революционной заразой». Поскольку она проявляет себя все шире, все масштабней, с ней и бороться надо по-крупному, масштабно. «На крупную дичь — крупную сеть!» — так вроде бы самим народом русским сказано. Не гоняться за всяким потенциальным революционером, а выявлять своевременно целые зарождающиеся организации, держать их деятельность под контролем, не прерывая ее до поры до времени, до необходимого момента. Надо достигать того, чтобы все ниточки этой самой революционной паутины были на виду! Надо видеть, как и где они переплетаются… И когда дело за пахнет настоящим поличным — смести все разом!
Да, если бы он, Бердяев, ныне был поставлен во главе всего антиреволюционного дела в России!.. При его-то понимании проблемы!..
Рядом слабо щелкнуло и зашипело, ударило мягко… Четверть двенадцатого. Бердяев в раздражении глянул на стоящие рядом шкафообразные часы, затем на высокую двухстворчатую белую дверь, ведущую в кабинет обер-полицмейстера. И тут, будто от напора его взгляда, створки двери приоткрылись, затем распахнулись, появилась фигура, одетая в статское платье:
— Господин подполковник! Их превосходительство просят!..
Слегка кивнув и набычившись, Бердяев быстро вошел в кабинет, едва не зацепив широким плечом фигуру, нерасторопно освободившую ему путь к дверям.
Генерал-майор Юрковский встретил его, стоя впереди своего громоздкого письменного стола, стоя примерно в той же позе, с тем же поворотом корпуса в три четверти к входной двери, что и царствующий император, написанный в полный рост на большом холсте, занимающем, вместе с богатой золоченой рамой, немалую часть стены позади стола.
— Прошу извинить, прошу извинить, Николай Сергеевич, — заставил ждать! — зарокотал он, сделав шаг навстречу Бердяеву. — Дела, дела, дела!.. С утра как белка в колесе! Обязанности обер-полицмейстера — это, знаете ли, нечто безбрежное!..
— Понимаю… — пожимая протянутую пухлую руку Юрковского, Бердяев слегка пристукнул каблуками ярко начищенных сапог.
— Давайте-ка сядем вот тут — у огонька, на диванчике… — Юрковский сделал приглашающий жест и, дав сначала сесть Бердяеву, грузно опустился с ним рядом, заговорил снова, глядя на невысокое пламя, поплясывающее рядом, в камине: — Конец февраля, а на воле стыловато… Даже зима нынешняя немилостива к людям… Одно к одному: и голодно, и холодно! Мда-с!..
Оба помолчали какое-то время: словно бы уйдя в скорбное раздумье по поводу козней уходящей немилосердной зимы. В уютном, на три окна, кабинете слышно было лишь тихое потрескивание и гуденье: огонь за каминной решеткой жил своей веселой, легкой жизнью…
— Ммм… да-с, Николай Сергеевич… — Юрковский покачал головой. — Сложное время переживаем мы… И на нас с вами лежит громадная ответственность! Россия неспокойна… Из голодающих губерний каждый депь приходят самые горестные вести… Вам ли об этом не известно?! Трудное положение не только в деревне. Тяжело и в городах по всей России. Неурожай не мог не сказаться и на отечественной промышленности, и крупной, и мелкой. И кустарные, и фабрично-заводские изделия не имеют сбыта. Кустари бедствуют, крупные предприниматели переводят производства на неполные часы, а то на время и вовсе их останавливают… Рабочий тоже оказывается в бедственном положении. Бедствие становится всероссийским! Вот каково положение, извольте заметить! При таком положении надо быть готовым ко всему. Особенно нам с вами, ибо мы находимся, можно сказать, на особом положении… — Юрковский метнул взгляд в сторону большой карты Европейской России, висящей на стене: — Петербург, он — вон где! А мы — вот где: в самом центре голода, если говорить образно. Тут у нас все — острее, нагляднее! Куда прежде всего. стремятся все голодные, ищущие хлеба? К нам, в Москву! С нищенством и бродяжничеством мы ведем возможную для нас борьбу. Но при создавшемся положении нам следует проявлять особую бдительность…
— Тем и заняты, ваше превосходительство… — жестко заметил Бердяев.
— Я не хотел задеть вашего самолюбия, Николай Сергеевич, — уловив эту жесткость, сказал Юрковский. — Знаю и высоко ценю ваше усердие, ваши исключительные деловые качества. Положение таково, что обязывает лишний раз заговорить о наших бедах и о нашей повышенной ответственности…
— Понимаю, ваше превосходительство…
— Полагаю, что особое внимание ныне следует обратить на печать. Наше российское щелкоперство любит поднимать шум вокруг чего угодно, лишь бы явился повод… Чуть что — сразу крик о «бедствиях народных»! А тут — такой соблазн! Уж на что наши «Московские ведомости» лояльнейшая газета, а и та ныне ищет причины голода в общем и несомненном расстройстве русского крестьянского хозяйства!.. Правда, она не доходит до причин этого расстройства… Но — тем не менее!.. Тон — нежелательный!..
— Нами разработан специальный циркуляр, кроме того, цензуре специально указано… — опять жестко сказал Бердяев, весь напрягаясь: последние слова обер-полицмейстера прозвучали хоть и не прямым, но явным, но все-таки укором…
— Да, кстати, Николай Сергеевич! — словно бы случайно вспомнив о чем-то, воскликнул Юрковский. — Как обстоят дела с этим… э-э-э… «Русско-кавказским кружком»?.. Так как будто он вами именуется?..
— Именно так, ваше превосходительство, — Бердяев слегка кивнул. — Дело это… дозревает. Разумеется, при самом пристальнейшем контроле с нашей стороны.
— Не перезрело бы! А? — Юрковский слегка ткнул кончиками пальцев широкое колено Бердяева. — Хитроумность, само собой, необходима в нашем деле, но…
— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство… — нажимая на «ваше превосходительство», ответил Бердяев и едва заметно отстранился от собеседника, дышавшего, говорившего почти в самое лицо ему. Запахи от обер-полицмейстера исходили отнюдь не великопостные…
— А кружок универсантов?..
— Вы имеете в виду кружок Кашинского?
— Да, Кашинского… и… этих…
— Круковского — Мандельштама?
— Да, их самых…
— Как раз намечается слияние всех этих кружков… Думаю, что мы не должны помешать этому…
— А может, Николай Сергеевич… — Юрковский выставил перед собой пухлую белую руку ладонью кверху, хлопнул по ней другой рукой, — все-таки, не мешкая слишком-то, прихлопнуть бы всго эту компанию разом, и — дело с концом?! А?..
— Считаю, что рано. Нам нужно настоящее поличное. Пока его нет. Думаю, что ждать осталось недолго. Нe далее как вчера мне было доложено нашим шефом наружного наблюдения о возвращении в Москву из второй уже поездки в Варшаву руководителя «Русско-кавказского кружка» Михаила Егупова. Обе его поездки были совершены под нашим контролем. Выявлен целый ряд адресов в Варшаве, Риге и Люблине. Кроме того, при Егупове у нас есть свой человек. Некто Михаил Петров — мелкий банковский служащий, тоже, как и сам Eгупов, бывший студент Ново-Александрийского института. Так что мы — в курсе всего! Идет очень интересная игра, которая должна дать хорошие результаты. Расстраивать, обрывать эту игру в настоящее время нельзя… Нецелесообразно!
— Разумеется, разумеется, коли так все у вас складно получается… — покивал Юрковский…
— Кстати, ваше превосходительство, — продолжал Бердяев, — о голоде в России выпущена за границей брошюрка эмигранта Плеханова. Несколько экземпляров ее привез с собой из Варшавы все тот же Егупов.
— Вновь, стало быть, зашевелились писаки!.. Ясное дело: чем у нас тут тяжелей, тем им там легче! Для них наш российский голод — такая возможность для ловли «рыбки в мутной воде»! Сами и намутят, сами и ловить будут… А тут еще наши собственные возмутители… Ведь дай такому вот, как этот ваш Егупов, волю, он всю Европу обежит, размахивая бомбой и вопя во всю глотку… И откуда только берутся такие жалоносные людишки?! — Юрковский тяжко вздохнул. — Нет бы с сочувствием отнестись к бедствиям своей страны, они — наоборот, они лишь возликуют!..
— Все не так просто, ваше превосходительство. Мы проявляем удивительное непонимание всей сложности и опасности своего положения. Нам все кажется, что в стране действуют лишь ничтожные кружки и группки, возникающие сами по себе, стихийно, и не представляющие собой ничего по-настоящему грозного. Политики Запада уже давно уразумели, какая великая сила стоит за всеми этими группками. Причем надо иметь в виду, что действия, уловки этой силы меняются. Ныне она всеми средствами и путями втягивает в свои мировые козни простых пролетариев. Вот на что мы должны теперь обратить самое пристальное внимание. Это по-настоящему грозно! Группки бомбометателей-террористов к дьявольской игре этой тайной силы отходят на второй план, ныне она стремится использовать в своих, далеко простирающихся интересах мирового пролетария. Призыв, венчающий «Манифест Коммунистической партии», звучит однозначно: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Соединяйтесь для чего? Для того, чтоб диктовать свою волю и сокрушать государственные устои! Этот призыв, разумеется, услышан раньше не самими пролетариями, а той самой тайной и коварной силой, которая, само собой, оставит пролетариату возможность сокрушать государственные устои… Европа уже знает, что такое организованные выступления рабочих, что такое рабочие конгрессы, манифестации, демонстрации… Это уже проникает и к нам…
— Да, да… — Юрковский в задумчивости остановился у среднего окна, вглядываясь в февральскую Москву. — Как тут не вспомнишь забастовку на Морозовской мануфактуре в январе восемьдесят пятого?.. Каких-то семь лет назад… Вот я и говорю: надо сегодня ухо держать востро!.. Не дай бог ежели в такое время опять что-нибудь заварится!.. Кстати, Николай Сергеевич, — он повернулся к Бердяеву, — я имею сведения, что у литератора Астырева проводятся всевозможные собрания, журфиксы, диспуты, на которых говорятся весьма крамольные вещи…
— С этим будет покончено, очевидно, в самое ближайшее время, ваше превосходительство! — опять жестко сказал Бердяев.
— И полноте, Николай Сергеевич! Что это вы все как официально! — воркотливо заговорил Юрковский, осторожно приложив руку к широкой груди Бердяева. — Давайте-ка попросту. Я, кажется, подаю вам пример! Забудьте вы свое «ваше превосходительство»! На людях — другое дело! А тут мы — тет-а-тет… Зачем же?!.
— Привык чтить субординацию! — усмехнувшись едва заметно, сказал Бердяев, и вновь его лицо стало лицом чиновника, находящегося «при исполнении…». — С астыровской компанией — дело довольно простое, Евгений Корнилович… Действует она почти в открытую. Единственная сложность заключается тут в том, что необходимо избежать шума так называемой «общественности…». В теперешней ситуации это крайне нежелательно. Потому надо выбрать подходящий момент. Поймать их на чем-нибудь явном, чтоб опять-таки было настоящее поличное. У нас и там имеются свои глаза и уши, так что в нужный момент мы будем извещены… Мы тут тоже ие очень спешим: надо довыяснить еще кое-какие связи астыревского кружка с кружками Кашинского и Егупова… Да еще появился в Москве не так давно один инженер-технолог, вступивший в контакты и с Кашинским, и с Астыревьм. Бруснев его фамилия. По нашим запросам установлено: ранее вращался в столичных студенческих кружках, имел связи с людьми весьма сомнительных умонастроений. За участие в студенческих беспорядках подвергался аресту. Упоминавшийся мною агент, со слов Егупова, уже наслышанного об этом технологе, характеризует его как весьма сильного марксиста… Пока что сам Егупов на него не вышел, но завтра вечером должна состояться их встреча на квартире этого технолога… Будет там и Кашинский… Речь якобы пойдет об объединении кружков. Что ж, пускай объединяются… — Бердяев усмехнулся. — Легче будет наблюдать за ними!.. Пусть сбиваются в кучу!..
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Перед масленой неделей нежданно-негаданно к Михаилу, переехавшему с Епифановыми на подысканную квартиру, зашла Люба Миловидова — невеста Леонида Красина. В Москве она оказалась проездом: возвращалась в Петербург из Нижнего Новгорода, куда ездила повидаться с Леонидом.
Она передала Михаилу просьбу Леонида — приехать в Нижний, хотя бы на день-два. Михаил и сам собирался навестить друга. Не видел его уже восемь месяцев. Надо было о многом поговорить, поделиться с ним своими планами и сомнениями, надо было просто поддержать его морально, живущего в Нижнем в вынужденной оторванности от товарищей по институту и организации. Из осторожности они переписывались довольно редко. Да и о чем, по-настоящему интересующем их, Михаил мог написать Леониду, высланному под надзор полиции?.. И что Леонид, живущий поднадзорно, мог написать ему?.. Нужна была встреча.
Люба Миловидова рассказала Михаилу о житье-бытье Красина в Нижнем. В октябре тот поступил в армию вольноопределяющимся. Солдатскую лямку ему, недоучившемуся, бывшему студенту, пришлось бы тянуть так или иначе, время же в Нижнем все равно пропадало почти впустую, да и жить ему, не имевшему там никакого заработка, было не на что.
От Любы Михаил узнал последние петербургские новости, связанные с целым кругом его знакомых, с жизнью «Рабочего союза».
Перед самым отъездом Любы он вручил ей несколько писем к своим питерским товарищам — Егору Климанову, Вацлаву Цивиньскому, Николаю Сивохину…
Несколькими днями раньше Михаил послал Сивочику денежный перевод на десять рублей и письмо, в котором просил Сивохина передать эти десять рублей Валериану Александрову, с тем чтобы тот смог перебраться в Москву. Михаил уже и место для него приглядел в ремонтных мастерских.
В четверг, на масленой неделе, Михаил отправился в Нижний Новгород к Красину.
С Леонидом он близко познакомился около двух лет тому назад, оказавшись с ним в камере Коломенского полицейского участка.
Он приглядывался к Леониду задолго до того случая, сведшего их. На вид тот был совсем еще юнцом, хорошеньким круглолицым юнцом без усов и бороды, со свежим румянцем на щеках: не студент-третьекурсник, а гимназистик пятого-шестого класса… Но это лишь на вид. Михаил слышал о нем: весьма активен, является подпольным институтским библиотекарем, то есть одним из тех, на ком держится тайная студенческая библиотека, целиком состоящая из нелегальных, запрещенных изданий. Наблюдал, слышал его несколько раз во время мартовских волнений в институте, выступающего перед студентами. Говорил Леонид убежденно, дерзко. И — толково.
За те несколько дней, проведенных в камере, они стали друзьями. Однако после освобождения пути их разошлись до осени: по решению Учебного комитета Леонид был исключен из института. Тут же его выслали из Петербурга, и он, вместе с братом Германом, тоже участвовавшим в беспорядках и наказанным таким же образом, уехал в Казань.
В конце лета, правда, братья были восстановлены в институте, хотя и без перевода на следующий курс.
В октябре состоялось собрание студенческого кружим пропагандистов, на котором решался вопрос о создании центрального рабочего кружка и об объединении всех рабочих кружков в единую организацию. Тогда заговорили о нехватке пропагандистов-интеллигентов, и Михаил предложил кандидатуру Красина.
Тот согласился сразу. Выбрали ему конспиративную кличку — Василий Никитич. Перед тем как Леонид пероый раз шел в рабочий кружок, Бруснев напутствовал его: «Продумайте порядок занятий с рабочими, обязательно проверяйте усвоение. У нас уже есть среди рабочих такие, которым по плечу стать в самое ближайшее время рабочими вождями!»
Молодой пропагандист не подвел Михаила. Сам Федор Афанасьев, на квартире которого собирался кружок, одобрительно говорил о Красине.
Однако быть пропагандистом Леониду довелось недолго, всего полгода. До шелгуновской демонстрации На другой день после нее Михаилу в институте сообщили тревожную новость: утром, когда братья собирались в институт, к ним пришли два жандарма с околоточным надзирателем, Леонида арестовали и препроводили в градоначальство…
В тот же день Михаил узнал об исключении Леонида из института и о его высылке в Нижний. А на другой день, к вечеру, Михаил отправился на Забалканский проспект, на квартиру к братьям Красиным, чтоб попрощаться с Леонидом, которому полицией было предложено немедленно покинуть Петербург и отправиться к месту высылки.
Проститься с ним пришло еще несколько студентов-технологов — Роберт Классов, Глеб Кржижановский, Степан Радченко… Раньше других пришли Люба Миловидова и Надя Крупская.
Леонид держался бодро, как всегда, даже какая-то отчаянная веселость была в нем. Когда Михаил попенял ему, перед самым расставаньем, мол, досадно, что и «сгорел» ни на чем, и образование не завершил, он, усмехнувшись, так знакомо свел тонкие брови, потер резкую складку над переносьем, возразил:
— Ну, образование в общем-то уже получено, пайден, так сказать, сам источник света, составлены по основным, для меня, вопросам определенные честные убеждения… Это — уже немало! Это — уже мое!..
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
В Нижний Новгород Михаил приехал в пятницу. С вокзала сразу отправился на Отарскую улицу, где Красин еще в апреле снял небольшую комнатушку в старом деревянном двухэтажном доме.
Время было уже не раннее, Леонида на месте не оказалось. От хозяев, занимающих нижний этаж, Михаил узнал, что друг его каждый день, еще затемно, уходит к месту службы и возвращается на квартиру лишь часу в шестом. Делать было нечего. Оставалось одно — ждать. Михаил отправился бродить по городу.
На Нижнем базаре он набрел на гостиницу и надумал было снять там номер на одни сутки, однако раздумал: остановиться в гостинице — значит оставить для полиции след своего пребывания тут, в Нижнем.
Покружив по городу, заваленному снегом, обильным этой зимой, порядком устав, Михаил к пяти часам вернулся на Отарскую улицу. Леонида все еще не было дома. Не заходя к хозяевам, Михаил опять вышел на улицу, бесцельно побрел вдоль нее и тут, почти нос к носу, столкнулся с худощавым молоденьким «унтером», в котором тотчас же узнал Леонида, оторопевшего от столь неожиданной встречи. Оба с трудом воздержались от объятий: мимо шли люди, и без того с любопытством поглядывающие на них.
Волю проявлениям дружеских чувств дали, оказавшись в комнатушке Леонида.
Слегка отстранив от себя друга и попятившись шага на два, Михаил, изумленно покачивая головой, забасил, нарочито огрубляя голос:
— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что на тебе за хламида? И эдак все ходят в нашей доблестной армии?..
— Не смейся, не смейся, батьку! А как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу! — ответствовал Леонид.
— Ах ты, такой-сякой сын! Как?! Батька?! — Михаил, рассмеявшись, опять обнял друга.
Леонид заметно изменился за эти месяцы. В июне уезжавшего в Москву Михаила на нижегородском вокзале провожал загорелый стройный юноша, в сатиновой рубашке-косоворотке, быстрый и точный в каждом движении. А тут — долгополая шинель, с какой-то «шлагбаумной» окантовкой; неуклюжие, от этой самой шинели, движения, над грубым шинельным воротом — по-мальчишески тонкая шея. Зато лицо стало явно более мужественным. Может быть, из-за того, что появились иа нем усики и бородка?..
Поразглядывав друг друга (не без привычной иронии на лицах), отметив все изменения друг в друге (не без привычных подтруниваний), они наконец разделись и, перебрасываясь словами, принялись хозяйничать в высту-жепном за день жилье Леонида: затопили печку-плиту, поставили самовар. Михаил выложил из небольшого бокастого саквояжа прихваченные съестные припасы, бутылку «шустовской».
Выпив со встречей по рюмке и как следует закусив, с кружками горячего чая в рунах они пересели к потрескивающей и шумящей печке, помолчали, глядя на огонь, играющий, пляшущий в печном зеве.
— Да! — словно бы спохватившись, первым заговорил Михаил, — я не спросил: что за служба у тебя?.. Не слишком тяготит?..
— Тяготит… Но, считаю, как скажет мой братец: держаться на поверхности земли можно. Начальство мое непосредственное — военный инженер Георгий Петрович Ревенский. Человек по всей сути штатский. У него отвращение и к муштре, и к солдафонству. С таким — вполне терпимо. Как у тебя-то — в Москве?..
Михаил рассказал обо всем подробно, ничего не упустил. Обрисовал и ситуацию, в которой оказался, высказав свои сомнения и насчет Кашинского, и насчет других членов его кружка.
— А мне Кашинский показался таким «рубахой-парнем» и «своим в доску»… — Леонид в задумчивости покачал головой.
— Да ведь если бы о каких-то обыкновенных человеческих отношениях шла речь!.. Тогда — да! Компанейский малым!.. Но речь-то — о другом!.. И тут мы имеем человека неопределившегося и словно бы играющего в революционера… И путаницы у него мною в словах, в понятиях, в главном, и позерства всякого… Чую: с этими людьми недолго на свободе поживу… Дело у них идет вширь, не углубляясь. При последней встрече Кашинский толковал об объединении с кружком какого-то Егупова… Не советовался. Нет. Лишний раз продемонстрировал: насколько он деятелен и насколько все зависит именно от него. Чувствую себя, друже, пересаженным на какую-то чуждую почву. Похоже, что не прижиться мне на ней, похоже и приживаться не для чего… Но поглядим, поглядим… Не хватает своих людей. Вот беда! Год труден. Потому и Афанасьич наш пока что не может по-настоящему развернуться у себя на фабрике… Вот если бы ты был там, в Москво-то!.. Глядишь, была бы уже своя группка…
Михаил улыбнулся кашлянувшему напряженно Леониду.
— Другое дело было бы!.. Да если бы еще Епифанов, если бы он еще…
— Вот как, оказывается, бывает: и тот, в ком был уверен, как в себе, может отойти в сторону, отстраниться… — Леонид взял кочережку, лежавшую у вог, поворошил прогорающие поленья.
Напряженная эта пауза, это замечание Леонида… Открылся неожиданный и нежелательный для Михаила поворот в разговоре — к Ивану Епифанову.
— Что ж мы — все обо мне да обо мне?! Как ты-то здесь жил после моего отъезда? Что тут, в Нижнем, за ситуация?.. С кем поддерживаешь отношения?.. Есть ли здесь подходящие люди? — Михаил ушел от этого поворота, миновал его. Он все-таки не считал, что с Иваном все уже определилось, что тот — окончательно потерянный для их дела человек. Не хотел верить в это. Рассказав Леониду об Иване, он тут же и спокаялсяь: не надо было говорить этого!.. Даже ему — близкому человеку… Сорвался, не удержался, рассказывая о своих московских делах…
— Стоящих, по-настоящему полезных знакомств почти не завел, — начал рассказывать Леонид. — Летом общался со студентами, приезжавшими к родным. Осенью все заглохло. Марксизм здесь, надо сказать, в новинку. Основная идейная сила в здешних интеллигентских кругах народники. Толкуют о бедствиях русской деревни, о голоде, о горькой мужицкой доле… Сам знаешь, на чем стоят народники!.. Есть среди них настоящие зубры: Зверев, Шмидт… Пришлось однажды столкнуться… Поспорить. Аргументы у них — «статистические данные» да цитаты из статей Михайловского, публикуемых «Русским богатством». Говорят — будто проповеди с амвоне читают: громогласно и складно. Пока они тут еще очень сильны. Из марксистов повстречал одного истинного. Да ты его, должно быть, знаешь по статьям в «Юридическом вестнике»… Павел Николаевич Скворцов…
— Как же — читал! — сказал Михаил.
— В общем-то фанатик и по сути марксист-начетчик, — продолжал Леонид, — но мыслит очень толково и остро. И — бескомпромиссность предельная! Раздолбил он «Судьбы капитализма в России» Воронцова. Огромную статью этой книге посвятил. Камня на камне от воронцовских аргументов не оставил. Я читал. Статья — огнь палящий! Блеск! Но сунулся он было с ней все в тот же «Юридический вестник», а там потребовали от него переработки, смягчения… Он расскандалился с редактором Муромцевым, забрал статью и был таков! Жаль. Пропадает такая вещь!..
За разговорами друзья засиделись далеко за полночь. Наутро Леонид отправился на службу. А к вечеру, перед закатом, они пошли вдвоем на вокзал: Михаилу надо было возвращаться…
На воле они виделись в последний раз, встретиться вновь им предстояло уже «на Востоке», как пророчески было написано Леонидом на фотокарточке, подаренной Брусневу в апреле минувшего года.
Вернувшись в Москву, Михаил в тот же день выехал в Тулу — проведать Николая Руделева и Гавриила Мефодиева, работавших там на Патронном заводе.
Эта поездка ничем особенным не порадовала. Руделев, высланный в Тулу из Петербурга, действовал там в одиночку до ноября прошлого года, до приезда Мефодиева.
Он рассказал Михаилу, как взялся было (вместе с рабочим Ананьевым, с которым сдружился здесь, и еще с несколькими рабочими) за устройство артельной мастерской, этакой трудовой коммуны, где все было бы общее. Им даже часть денег удалось достать, необходимых для обзаведения и организации такой мастерской, однако дело это у них «рассохлось». А ведь совсем было собрались подавать прошение на имя губернатора — о разрешении устройства мастерской…
Михаил лишь посмеялся над этой наивной затеей. Свободная артельная мастерская… Какая находка для здешней полиции! Никакого сыска не надо содержать: те рабочие, которые должны интересовать полицию, сами о себе заявляют!..
Договорились о том, что в дальнейшем Руделев и Мефодиев будут поддерживать связь с Михаилом, наезжая в Москву. Расходы на их поездки Михаил взял на себя. Договорились и о том, что, когда в Туле сложится кружок из наиболее подходящих для этого рабочих, Михаил будет посылать туда пропагандистов-интеллигентов из Москвы, будет наезжать и сам.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
Накануне собрания, которое должно было состояться на квартире у Михаила, в последних числах февраля, к нему забежал ненадолго Петр Кашинский. Сразу же выпалил новость: тот самый Егупов, с кружком которого он уже предлагал объединиться, только что вернулся из поездки в Варшаву и привез несколько свежих, совсем недавно изданных в Швейцарии, нелегальных брошюр.
— Я считаю, нам завтра же надо с ним встретиться! Я уже договорился об этом и с ним, и с его ближайшим товарищем по кружку — Виктором Вановским. Они придут на наше собрание! — не давая Михаилу раскрыть рта, сыпал Кашинский. — Я думаю, нам немедленно надо объединяться. Без Егупова нам нельзя! Егупов — это весьма широкие связи с другими городами, Егупов — это заграничные издания…
— Но все-таки надо было сначала обсудить этот вопрос, — заметил Михаил.
— Чего же тут обсуждать?! — загорячился Кашинский. — Чего обсуждать, когда все яснее ясного?! Вот увидите, как пойдут наши дела, если мы объединимся!..
Возражать Кашинскому, спорить с ним было невозможно. Он уже все решил сам.
— Ну что же… Если вы так в нем уверены, тогда пусть будет по-вашему… — сказал Михаил и добавил: — Но все-таки надо бы по таким серьезным вопросам сначала посоветоваться как следует…
После ухода Кашинского он пригласил в свою комнату Ивана Епифанова, только что вернувшегося из мастерских. Накануне назначенного в их общей квартире собрания он должен был еще раз поговорить с Иваном. Поело сообщенного Кашинским Михаил особенно остро ощутил свое положение: ему не на кого пока что опереться, не от кого ждать поддержки. Кто на его стороне? Один Федор Афанасьев, с которым Кашинский, пожалуй, не очень-то будет и считаться. Афанасьев для него — представитель «темной рабочей массы». Это уже и прежде можно было почувствовать. Если бы на завтрашнем собрании присутствовал еще и Епифанов, было бы уже легче.
О намеченном собрании Михаил сказал ему не сразу. Сначала заговорил о том, что связано было с их работой, с ремонтными мастерскими, с вагонным депо. И только затем, словно бы спохватившись, словно бы только что вспомнив, сообщил:
— Да! Иван! У меня тут завтра вечером соберутся люди… Для разговора. Сам понимаешь… Хозяйке я сказал: мол, решил справить новоселье с приятелями. Только о себе сказал. Насчет тебя не заикнулся даже. Но… вот тебе… хочу сказать: было бы крайне желательно, чтоб па этом собрании присутствовал и ты: речь пойдет об объединении кружков и, по всей видимости, о выработке единой линии, единого курса… Без обиняков тебе скажу: люди, с которыми я тут вступил в контакты, к сожалению, не избавились еще от народовольческой ереси, еще много путаются в том, что для нас с тобой давно уже сама истина. Между тем за ними — большинство. И они, увы, склонны диктовать условия… К тому же завтра намечается на этом собрании объединение, как я уже сказал. Есть тут, в Москве, один очень резвый деятель… Некто Егупов. Я о нем пока что лишь слышал. Скорее всего, он чистой воды конспиратор, увлекшийся игрой в «опасную деятельность», в «революционера»… Так, по крайней мере, мне показалось по тому, что я о нем знаю. Вот с кружком этого Егупова на завтра намечено объединение кружка, в который здесь вошел я. Руководит нашим кружком Кашинский — студент университета. Он только что побывал тут, у меня. Поставил, так сказать, в известность насчет завтрашнего объединения с Егуповым.
У меня есть серьезное опасение, что завтра они, объявив об этом объединении, постараются сразу же задать тон, поскольку, видимо, сходятся в своих взглядах… Они — подавляющее большинство, после слияния мне трудно будет им противостоять. На моей стороне — кто? Афанасьев. Один. Вот если бы еще ты…
— Видишь ли… — замявшись, заговорил Епифапов. — Я уже толковал тебе, что есть обстоятельства… Болезнь жены… Ей нужен покой. У нее — нервная болезнь… А ведь если я вновь включусь в эту деятельность… Да еще и натура я такая: в каждый пустяк вкладываю всю наличность своих душевных сил, все свое сознание… Затянет это меня… И если что со мной случится, Аня этого не перенесет… Я знаю… Такие-то дола, друг Горацио…
— Ну, что же… Будем считать, что разговора этого не было…
— Нет, нет, Михаил! Я не отказываюсь совсем!.. Если так надо, то я завтра обязательно поприсутствую, обязательно! Я о том, что не смогу постоянно участвовать в этом, но завтра… Завтра — обязательно!.. Мы же друзья! И потом: разве же я смогу подвести тебя? Ведь ты сделал для меня, для нас с Аней, такое доброе дело!..
— Да ведь не в этом суть, не в дружеской отплате… Не в этом суть, Иван… Святое дело оставляем… А между тем нас так мало!.. Я понимаю: мне — проще, поскольку меньше тебя связан… Но ведь и за мной стоят живые люди: мать, отец, братья, сестры… Разве мне их не жаль?! Но как же оставишь дело?! Для понявшего истинный путь обратной дороги нет и другой дороги — тоже нет…
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
На другой день, около семи вечера, к Михаилу начали сходиться участники назначенного собрания. Первым пришел Федор Афанасьев, за ним пришли, один за другим, Михаил Терентьев, Болеслав Квятковский и сам Петр Кашинский.
— Ого! — восхитился он, кинув взгляд на стол, на котором виднелись тарелки с закусками и конусообразная бутылка «шустовской». — Пир среди великого поста?!
— Небольшое новоселье! Всего лишь — небольшое новоселье! — в тон ему ответил Михаил.
Последними явились Егупов и Вановский. Кашинский подвел Михаила к ним. Представил с некоторой театральностью:
— Это вот — Михаил Иванович Бруснев — наш радушный хозяин! А это (широкий жест в сторону вновь прибывших) — Виктор Вановский и… сам Михаил Михалыч Егупов! Великий конспиратор и большой специалист по добыванию нелегальной литературы!
Нервно поежившись от этой аттестации, в которой прозвучали явно иронические нотки, Егупов протянул Михаилу руку, негромко сказал:
— Весьма рад знакомству! Много слышал о вас…
— Вот как?! — Михаил укорно глянул на Кашинского (от кого еще мог «много слышать» о нем этот Егупов?..).
— Нет, нет! Я тут — ни при чем. У Михал Михалыча — своя агентура! — Кашинский рассмеялся и, тут же оглядев собравшихся, деловито потер руками, кивнул в сторону стола: — Ну что ж… Все как будто в сборе. Давайте рассаживаться. — Он чувствовал себя в роли распорядителя.
— Да, да, прошу всех к столу! — подхватил Михаил. Когда все расселись вокруг стола, в дверь постучала робкая рука. Вошел Епифанов. Тихо сказал всем: «Добрый вечер!»
«Все-таки пришел…» — подумал Михаил и пригласил его:
— Проходи, присаживайся к столу, Иван Павлович!
Епифанов, как-то бочком, ссутулившись, прошел к столу, опустился на свободное место.
— Простите, должен представить, — сказал Михаил. — Это — Иван Павлович Епифанов, мой весьма близкий товарищ по институту и по кружку, в который мы вместе входили в Петербурге… Ныне мы с ним и служим на одной железной дороге, и живем на одной квартире.
Напротив Михаила поднялся, отодвинув стул, Кашинский.
— Ну что ж, друзья… — начал он. — Поскольку я взял на себя инициативу по организации нашего собрания, видимо, мне надо и вести его…
— Да, пожалуй, так! — резко кивнул Егупов.
— Мы собрались с вами в очень сложное, тяжелое для нашего народа время, — продолжал Кашинский. — Народ ждет от нас решительных действий. Терпение его на исходе…
«Резво начал, — подумал Михаил, — сразу про «решительные действия» и «народное терпение»… Сразу, напрямую — к своей заветной цели…»
— Не далее как прошлой весной, в Петербурге, прошла незабываемая демонстрация, в которой участвовали простые пролетарии. Это было внушительное шествие, — продолжал Кашинский. — Какая это грозная сила — рабочий народ, организованный рабочий народ! Здесь присутствуют несколько свидетелей той необычной для нашей страны демонстрации. Они, видимо, могут сказать то же самое. — Кашинский бросил взгляд в сторону Михаила. Тот утвердительно кивнул. Едва-едва кивнул и Афанасьев, сидящий с ним рядом. Михаил уловил и кивок Егупова, подумав: «Неужели и он был тогда там?..»
— Все это, — Кашинский поднял над головой указательный палец, — наводит на мысль, что пришла пора самых решительных и смелых революционных действий и поступков.
— Пришла пора, когда рабочий класс должен брать в свои руки революционное дело… — Михаил негромко поправил Кашинского.
— Брать — чтобы действовать! Решительно и смело действовать! — Кашинский вел свою линию.
— Прежде всего ему необходимо вооружиться идейно, чтоб выступать организованно, сплоченно… — опять поправил его Михаил.
Кашинский развел руками:
— Ну что ж… У нас уже началась дискуссия… Наверное, так и должно быть. Мы — собеседники. У нас — беседа. Мое дело было — начать… — Он опустился на стул, улыбнулся Михаилу, обиженно улыбнулся: — Продолжайте…
— Хорошо… — Михаил крепко оперся ладонями о стол, но подниматься не стал (раз беседа — так беседа!). — Думаю, что мы сразу коснулись главного, поскольку рабочий вопрос для нас должен быть вопросом вопросов. Ведь если мы себя мыслим революционерами, то со всей определенностью должны понимать, что вся наша сегодняшняя деятельность—это работа на завтрашнюю пролетарскую революцию. Только так.
Правительство не верит, что русский рабочий может более или менее самостоятельно развиться. Поэтому даже теперешние наказания, которые оно применяет к рабочим, никак не назовешь жестокими. Обычно все кончается высылкой либо на родину, либо в другой город. Правительство полагает, будто вся революционная пропаганда ведется исключительно интеллигентами, а сами рабочие даже и усвоить-то как следует не способны революционные идеи. Впрочем, не одно правительство заблуждается на сей счет. И в самой интеллигентской среде заблуждающихся хватает. Сколько мне приходилось слышать ссылок на Петра Лаврова, на его «Исторические письма», в которых он утверждает, что прогресс человечества есть результат деятельности критически мыслящих личностей. Между тем рабочее дело жизненно, и в Петербурге, например, оно в основном ведется уже самими рабочими. Я это берусь утверждать, и… — Михаил кивнул на Федора Афанасьева, — это может подтвердить один из бывших питерских рабочих, ныне живущий и работающий в Москве, — Федор Афанасьевич Афанасьев… Сухощавый, сутуловатый Афанасьев, степенно откашлявшись, поправив очки, сильно увеличивающие его зрачки, оглядел сидящих за столом. Пальцы жилистых, тонких рук, положенных на край стола, пришли в движение. Многолетняя привычка управляться с тонкой хлопчатобумажной нитью…
— Да, в Питере… это в самом деле так!.. — начал он. — Там наше движение крепко налажено. А вот в Москве пока что нет этого… Я здесь с прошлой весны работаю и могу сказать, что везде тут трудно начинать пропаганду. — Сухой кашель прервал его речь. Справившись с ним, Афанасьев продолжал: — Да, могу сказать, что у здешних рабочих пока что мало интереса к нашему делу. Я сужу, конечно, по рабочим-текстилям, поскольку всю жизнь работаю на ткацких фабриках, и здесь — все на них же. Трудно здесь, в Москве, начинать. Рабочий здешний, как я замечаю, и газетами вовсе не интересуется… Одна беспросветная работа. Заработок небольшой. Да еще и год-то такой тяжелый. Все глядят, как бы не потерять работу. Уж какие тут, при таком всероссийском голоде, требования к хозяину!.. Чуть что — за ворота и разговаривать не станут! Попробуй тут — разверни пропаганду… На своей шее испытал! О том, как дело было поставлено у нас в Питере, только вспоминать приходится!.. Сил тут у нас вовсе мало…
— Да, да! — перебил Афанасьева Кашинский. — Сил пока что действительно маловато. — Он опять резко поднялся, поерошил в возбуждении свой рыжеватый ежик, вновь вскинул указательный палец над собой. — Но мы, но мы, друзья, как мне представляется, сегодня для того и собрались все вместе, чтоб объединить свои малые силы! Я считаю, что все-таки начинать надо с объединения интеллигентских групп! В общем-то, в предварительных разговорах, мы уже подошли к этому и вот с Егуповым, и другими членами его кружка… Думаю, что и Михаил Иваныч не против объединения… — Кашинский так же резко сел и, усмехнувшись, пошутил: — Уже сам факт, что мы все собрались сегодня на его квартире, символичен!..
— Я не против объединения… — Михаил посмотрел на Афанасьева, при этих его словах насупившего брови. — Но! — Он опять крепко приложил к столу ладони. — Объединяются в единую организацию люди единых взглядов, единой точки зрения на то, ради чего они объединяются; люди единых принципов, единой программы…
— Программу выработаем! За ней дело не станет! — выкрикнул Кашинский.
— Тогда сразу хочу спросить: какую именно программу мы для себя выработаем, какой будет ее основа — социал-демократической, то есть марксистской, или народовольческой?.. — Михаил обвел взглядом сидящих вокруг стола.
Взгляд его остановился на Егупове. Тот сидел, мрачно потупясь, покусывая тонкие губы. Пальцы его рук то хватались за пуговицы сюртука, будто проверяя, целы ли они, то касались тугого воротничка сорочки. Михаил вдруг подумал, что в самой внешности Егупова какая-то невнятица, какое-то сочетание резких противоположностей, неким образом являющих собой единство.
Егупов, почувствовав на себе пристальный взгляд Михаила, нервно передернул плечами, выпрямился, резко сказал:
— Что касается меня, то я охотно поддержу любую аптиправительственную акцию, независимо от того, какая революционная организация или группа предпримет ее, лишь бы эта акция была настоящей борьбой с царизмом!
— Вот в том-то и дело: что считать ныне «настоящей борьбой с царизмом»! — подхватил Михаил. — Знать, точно знать, что мы сегодня должны делать, знать точные перспективы своего дела, а не блуждать в глухом лесу эмпирики! В основе должна быть прочная позиция, которой не может быть без настоящей теории. Действовать практически, тем более других еще ввергать в эту деятельность, и не вполне понимать, что к чему, — это… — он запнулся, подыскивая нужные, но не слишком резкие слова, — это — даже непорядочно, если хотите. Надо определенно понять: какова теперь программа, что есть наша истина и наша правда, где, в чем наш путь? Без этого действовать невозможно. Мы должны, повторяю, знать наши цели и задачи сегодняшние, цели и задачи перспективные…
— Ну так и в чем они?.. — резко спросил Егупов.
— Наши цели? Наши задачи?.. Они выражены довольно прямо и точно Плехановым. Он сказал именно о нас, революционных интеллигентах, что задача наша в следующем: мы должны усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Он сказал совершенно определенно: революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого пути нет и не может быть…
— Но рабочих, стало быть, надо сначала просветить, привить им социалистические взгляды? — не без ехидства спросил Егупов.
— Именно так, — Михаил спокойно кивнул.
— Стало быть… нужны постепенные действия?.. — вставил Квятковский.
— Именно так, — снова утвердительно кивнул Михаил.
— Да что могут значить все ваши постепенные действия для такой силы, которая ни с чем другим не считается, кроме силы же? Только проявлением своей силы и решительности, только постоянным террором мы, революционеры, сможем заставить эту силу считаться с собой! — выпалил Егупов и гляпул на Кашинского, как союзник на союзника.
— Таким образом, мы в глазах народа, с помощью всо той же силы, имеющей для того много средств, становимся просто преступниками, смутьянами, от которых можно ожидать чего угодпо, — подытожил сказанное Егуповым Михаил. — Вспомните убийство предыдущего Александра… Что произошло после того? Эта самая сила послала во все концы телеграммы, курьеров, поднялась целая волна «народного возмущения», и народ действительно стал поглядывать на всяких революционеров весьма угрюмо, не очень-то разбираясь, кто из них есть кто. Я помню это по Ставрополю, по своей станице, помню тогдашние разговоры. Нет, террор — не путь! Террор — это всегда группка, горсточка заговорщиков. И какими бы светлыми мотивами эта группка ни руководствовалась, она останется всего лишь горсточкой «возмутителей спокойствия», «преступной группой», и еще, и еще невесть кем и чем, по жандармской терминологии…
— Так, выходит, — горячился Кашинский, — надо ждать, когда весь народ познает научные осповы социализма?.. Х-ха! Этого мы никогда не дождемся! Жесткая, решительная борьба должна сама просветить массы. Она им и покажет их настоящих врагов!
— Во-первых, не «ждать», а во-вторых, не о каком-то поголовном просвещении социализмом идет речь, но о создании рабочей партии, которая организует рабочий класс и поведет его на борьбу. Наша цель и должна быть именно таковой — вызвать рабочее движение и организовать рабочую партию… — Михаил усмехнулся. — А ставка на горстку героев, одухотворенных идеей, — это вчерашний день! Ныне мы твердо должны стать на почву западноевропейского рабочего движения, если хотим серьезно отдать себя классовой борьбе рабочих.
— Ага-ага! Давайте жить, как сказано в одной сказочке: помаленьку-то покойнее, а потихоньку — вернее! — Егупов усмехнулся. — Оно ведь как: и капля камень долбит! Слышали! Но чтоб продолбить камень, этой капле понадобятся миллионы лет! У нас таких сроков нет в распоряжении! Но у нас есть кое-что подейственпей…
— Все тот же террор? — прямо спросил Михаил.
— Да, все тот же террор… — с вызовом ответил Егупов.
— Весь террор стоит на гордом избранничестве, на групповом или одиночном героизме. И в этом вы видите путь?! — Михаил покачал головой. — Не клан заговорщиков, а общность с теми самыми людьми, ради которых объявлена борьба!
Егупов поморщился, усмехнувшись, спросил:
— Неужели вы и впрямь верите, что можно пробудить в какие-то несколько лет весь народ?! — Не дожидаясь ответа, выкрикнул: — Да этого века еще надо ждать! Века! Только набат, только решительные действия могут поднять массы! Уверен! Любые действия, ведущие к обострению борьбы, к созданию революционной ситуации, годятся для нас, революционеров! Любые! Цель оправдывает средства! Я так считаю!
— Цель оправдывает средства?.. Эти слова мне приходилось слышать уже не раз. Нет! Скверные средства способны сделать столь же скверной и саму цель. Привыкнув к дурным средствам, человек неизбежно исказит и саму цель. Эти три слова столь же пошлы, как и вот эти три: «Победителей не судят…» Есть в таких словах явный разлад с совестью, даже полный отказ от нее…
Люди, исповедующие такие принципы, не имеют права называться революционерами, ибо революционер доджей быть человеком твердых и чистых принципов.
— Значит… вы… совершенно не приемлете террор? — спросил Кашинский, и Михаилу стало ясно, что спрошено было с подвохом.
— Совершенно не приемлю, — твердо ответил он.
— Хорошо… Хорошо… — Кашинский принялся листать тетрадочку, лежащую перед ним на столе. — Давайте посмотрим, как об этом сказано самим Марксом… Вот! — Он хлопнул по тетрадочке. — Я специально выписал, послушайте: — «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». Что вы на это скажете?! — он уже с вызовом посмотрел на Михаила. — Тут не может быть двух толкований. Понимать эти слова можно лишь однозначно, лишь так: когда старая общественная форма уже готова разрешиться от бремени новым общественным строем, насилие должно сыграть роль повивальной бабки! То есть помочь родам!..
— Да, толкование верное, — Михаил усмехнулся, — но в том-то и дело, что тут разумеется не террор, а именно сама революция! Разве же не понятно?! Революция — да! Тут насилие — неизбежность. Старое не уступит новому своего без борьбы. Но к этому надо еще подойти! К этой явной беременности старого общества новым, к этим родам! В нынешнем положении все еще весьма далеко от родов. Мы с вами еще так малочисленны. Надо накапливать силы, глубоко и серьезно готовиться к тому последнему акту. При беременности, — Михаил подмигнул Кашинскому, — не торопятся, иначе может получиться выкидыш…
Егупов неожиданно расхохотался:
— Браво, Михаил Иваныч! Ловко сказано!..
Кашинский глянул на него, как на перебежчика, захлопнув тетрадочку, сказал, ни на кого не глядя:
— Не знаю… Сказано, может быть, и ловко… Но на всем этим нет революционной поэзии, нет порыва… У некоторых марксистов все расписано, все по полочкам. Вот тут — политэкономия, вот тут — натурфилософия, вот тут—«Манифест»… Мне больше по душе схватка! В открытую! Импровизация борьбы… Хотя… я тоже считаю себя марксистом…
— Им-про-ви-за-цня… — усмехнулся Михаил. — Вот-вот… А истинная революционность — большое, трудное, рассчитанное на терпенье и годы дело…
— Ладно! — примирительно махнул рукой Кашинский. — Мы собрались не ради того, чтобы иметь возможность продемонстрировать, так сказать, свое полемическое мастерство.
— Само собой! — Михаил согласно кивнул. — Да мы этим и не занимались. Мы, так сказать, пытаемся установить истину. Это необходимо. Особенно — для начала.
— Да, да. Именно в спорах рождается истина! — вставил свое слово и Егупов.
Кашинский пристально посмотрел на него: какую же новорожденную истину тот имел в виду?..
Егупов нервно передернул плечами и опустил глаза.
— Ну что же, — сказал Кашинский, — поскольку у нас сегодня сразу же возник разговор о заблуждениях, существующих в интеллигентской среде, с упоминанием заблуждений Петра Лаврова, я полагаю на следующем собрании нам необходимо более конкретно поставить этот вопрос. Ведь он касается именно нас!
— Да, да, об этом надо потолковать как следует! — поспешил согласиться Егупов.
— Так вот я предлагаю, — продолжал Кашинский, — иа следующем нашем собрании прочесть и обсудить статью Веры Ивановны Засулич. Статья эта так и называется: «Революционеры из буржуазной среды». Думаю, Михал Михалыч возьмется ее прочесть, а также выступить со своими комментариями к ней…
Егупов согласно кивнул.
— Только вот что… — добавил Кашинский, — статья для чтения на собрании великовата, так что, я полагаю, из нее надо исключить те места, которые вы найдете лишними, необязательными для нас. Главное — сохранить суть статьи. Думаю, со мной все согласны но этому вопросу?
Все были согласны.
— Так-с, значит, этот вопрос исчерпан! — Кашинский хлопнул рукой по своей тетрадочке, словно бы ставя последнюю точку в разговоре, — Только осталось выяснить, где и когда мы соберемся в следующий раз… — Он вопрошающе посмотрел на Михаила.
— Ну, насчет «где»—дело ясное: собираться я предлагаю и впредь здесь же, у меня, — сказал Михаил, — а насчет «когда» — давайте подумаем…
— Откладывать особо не надо, — быстро вставил Егупов, явно торопясь высказаться раньше Кашинского, — организационные и всякие теоретические вопросы, — тут он усмехнулся, — надо решить как можно быстрее, чтоб приступить к настоящей работе…
— Давайте соберемся через неделю, в этот же день… — предложил Кашинский и окинул сидящих вокруг стола взглядом председательствующего. — Для вас это удобно, Михаил Иваныч?..
— Вполне, — Михаил кивнул. — Только вот что… Не исключены всякие неожиданности. Может быть, у руководителей кружков возникнет необходимость срочно повидаться со мной. Ежедневно я прихожу к двенадцати часам к себе на квартиру — обедать. В это время меня можно тут застать…
— Так, стало быть, и этот вопрос исчерпан… — Кашинский щелкнул пальцами и поднялся первым. — На ceгoдня — все! Будем расходиться. Разумеется, о предосторожностями! По одному…
Прощаясь с Егуповым, Михаил сказал:
— У меня к вам просьба: вы не смогли бы принести мне экземпляр «Всероссийского разорения»?
— Хорошо, — кивнул Егупов, — завтра, вечером, часиков в семь, занесу…
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Из присутствовавших на этом первом собрании в комнате Михаила остался вскоре один Федор Афанасьев (Михаил попросил его задержаться).
Федор одиноко сидел за столом, пальцы его рук, лежащих на столе, отбивали мелкую, нервную дробь. Михаил несколько раз прошелся по комнате из угла в угол, обхватив себя руками. Инерция незавершенного разговора, не состоявшегося так, как надо бы, разговора, не давала ему успокоиться, гнала одну мысль за другой.
— Ну, каковы впечатления, Афанасьич?.. — наконец спросил он. — Как тебе все это?..
— По правде сказать, не шибко нравится… — Афанасьев усмехнулся. — Глядел я на них, слушал… Нет, не серьезный это народ!.. Болтуны… Кашинский этот мне давно не нравится. Краснобай какой-то…
— Да, такому только дай слово, он и о тарифе на воблу так скажет, что впору Цицерону или Гамбетте… — Михаил остановился рядом с Афанасьевым у окна, глядя в черноту заоконной ночи. — Главное — не красивые фразы, а ясное, определенное понимание цели и средств борьбы…
Он это теперь ясно видел: Кашинский этот принадлежит к тому переходному типу революционно настроенных людей, которые соглашаются с некоторыми положениями социал-демократов, но, вслед за народовольцами, признают и необходимость террора, как средства политической борьбы…
«Пожалуй, таковы же и его друзья — и Терентьев, и Квятковский… Эти, правда, в основном помалкивали, но и по прежним разговорам если судить, они — то же самое…» — подумал он и спросил Афанасьева:
— А как тебе этот Егупов?..
— Одного поля ягода… — Афанасьев махнул рукой. — Все на языке-то у него — «решительные действия»! Затвердила сорока Якова… Самолюбия у него не меньше, чем у Кашинского… А для революционера, как я понимаю, нет ничего сквернее, чем ложное самолюбие… Лицо, лицо само у него какое-то заговорщицкое. И борода, будто приклеенная, и глаза какие-то бегающие, неспокойные… От него за десять шагов заговорщиком пахнет, а не революционером!
Михаил рассмеялся от души: до чего же острый и умный глаз у Афанасьича!
— Оба они мне не нравятся, — продолжал Афанасьев. — У обоих — «на грош амуниции, на рубль амбиции».
— Но других у нас пока что тут, в Москве, нет, — заметил Михаил. — Надо сотрудничать с ними, постепенно накапливая силы. Истина — на нашей стороне, так что мы все равно возьмем верх, дай только срок! Ведь и в нашей питерской организации разве все сразу понимали все, как надо?.. Взять хоть того же Вацлава Цивиньского: тоже — весь еще недавно был в переходном состоянии, но с помощью товарищей нащупал, угадал верную дорогу и оторвался от народовольческих воззрений, хотя, может быть, и не совсем, еще способен иногда сбиваться кое в чем, не в главном, в «народовольческую ересь», как говаривал Леонид Красин. Если угодно, он еще вчера был этаким переходным типом революционера, но сегодня он уже видит бесплодность террора, уже понимает, что пришла пора кропотливой работы по созданию политической организации рабочего класса. Марксист в нем уже одержал верх! Так что «народовольческая ересь» — это пока неизбежность для нас. Мы еще — в самом начале. Мы еще нащупываем путь борьбы. Нам нужна единая четкая программа, а ее у нас пока еще нет, не успели мы ее разработать…
Михаил вспомнил вдруг про письмо, которое недавно отправил в Питер с Любой Миловидовой. В нем он писал Николаю Сивохину: «Только приведением в порядок смоих теоретических положений, только неуклонным следованием в строгом порядке этим положениям можно достигнуть ощутительных результатов». Таким «приведением в порядок своих теоретических положений» и должна бы стать единая социал-демократическая боевая программа.
Такую программу в Петербурге выработать они так и не успели, хотя и ощущалась всеми членами «Рабочего союза» ее необходимость. С выработкой программы они не торопились, ощущая себя более революционерами-практиками, нежели теоретиками.
Сам Михаил был уверен, что, прежде чем приступить к составлению такой программы, надо было до конца выяснить тактику организации, пути ее борьбы. Он лишь приступил в Питере к разработке такой программы.
Кстати, в своей программе он хотел окончательно размежеваться с народовольческими и народническими взглядами на революционную борьбу. И вот — оказался тут, в Москве, в таком положении… С кем он тут связан? С одной стороны, кружок Астырева. Явно народнический. С другой, кружки Кашинского и Егупова. По сути — народовольческие кружки. И вот только что кружки двух последних фактически слились в одну организацию, и слияние это произошло при его непосредственном участии, к тому же — на его квартире… А что было делать? На абсолютно пустом месте не начнешь…
— Как у тебя-то дела?.. — спросил Михаил, повернувшись к Афанасьеву.
— Да затеваю кое-чего… Прохоров уволил тут враз человек семьдесят ткачей… Рабочие забеспокоились, мол, если так будет хозяин широко размахиваться, то доброго ждать нечего… Хочу использовать этот случай — что-нибудь организовать… Забастовку или еще что… Есть у меня теперь несколько надежных товарищей на фабрике…
— Не поторопись, Афанасьич! Прикинь как следует… Стачка может все разом порушить… Может, лучше созданием по-настоящему крепкого кружка заняться тебе? А стачка никуда не уйдет! Поводов для нее твой Прохоров даст тебе еще немало. На то он и фабрикант! Жаль будет, если нз-за этой стачки с тобой что-нибудь случится: арестуют или вышлют… И так сил-то у нас гут — сам видишь, сколько… Ты да я, да мы с тобой… Не торопись, не торопись, Афанасьич! Дай срок — и здесь организацию рабочих создадим! Погоди, вот туляков наших скоро пригласим на одно из ближайших собраний, из Питера я кое-кого хочу позвать сюда на подмогу. Наше большинство будет!.. Наберись терпения, друже!..
— Ладно… Насчет стачки я погляжу, как оно повернется, — Афанасьев поднялся из-за стола, направился к вешалке — одеваться, — но ежели что, ежели она сложится, значит, быть ей! Текстили наши забеспокоились, момент жаль будет упустить…
Уже надев шапку, Афанасьев кивнул на дверь, спросил почти шепотом:
— А Иван-то Павлыч — как?.. Что-то не узнаю я его. Будто подмененный он… В Питере он не таким был… Просидел тут — ни словом не обмолвился, будто его и не было…
— Ничего не скажу пока, Афанасьич… Поживем — увидим… — так же тихо ответил Михаил.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
На другой день, вечером, Егупов отправился к Брусневу, имея при себе экземпляр плехановской брошюры «Всероссийское разорение». Для него эта брошюра была лишь поводом для того, чтобы еще раз повидаться с Брусневым. Было, было для него в этом спокойном, крепком человеке что-то притягательное, располагающее к сближению.
Егупова раздражало покровительственно-снисходительное отношение к нему Кашинского, слишком явное стремление Кашинского главенствовать. В Брусневе он этого не заметил. Вместе с тем именно в нем Егупов почувствовал того, кто со временем мог стать во главе всей их организации…
Михаил ожидал прихода Егупова. У него уже готов был самовар, так что вечерний гость сразу же оказался за столом.
Разговор за чаем поначалу, словно бы сам собой, стал продолжением вчерашнего разговора.
Егупов со вздохом заметил, что вот, к сожалению, они еще не могут считать себя полными единомышленниками, поскольку есть кое-какие разногласия.
— Да, это — к сожалению… — сказал Михаил. — Нас так мало… Согласие, нужно согласие! Нужно единство, порожденное единством ясно осознанной цели! Только в этом единстве наша сила, а между тем столько плодится разноголосицы, притом разноголосица эта чаще всего порождается такими вопросами, которые ныне не имеют определяющего, практического значения! И, что особенно горько, опять же чаще всего именно мы, социал-демократы, и обвиняемся нашими противниками в пристрастии к спорам о якобы несущественных теперь вопросах…
— Да, от согласия и малые дела растут, от несогласия и большие распадаются! Так самим народом сказано!.. — сказал Егупов, солидно кивнув. Неожиданно он усмехнулся, по-свойски подмигнул Михаилу: — Мне кажется, что мы-то с вами должны достичь этого согласия! Ведь мы — земляки! Я от Кашинского слышал: вы тоже кавказец…
— Да, я — из кубанцев… — сказал Михаил, с радостным удивлением глянув на Егупова. — А вы?
— Я — бакинец!
— Действительно земляки!..
— Вам, наверное, интересно знать обо мне поподробнее… — Егупов испытующе посмотрел на Михаила. — Я ведь вчера еще заметил, как вы на меня поглядывали: будто насквозь меня хотели увидеть…
— Ну… — Михаил невольно усмехнулся, — это во мне, видимо, уже выработалось… Приходится на всякого нового человека не слишком доверчиво поглядывать…
— И понимаю, и разделяю! — сказал Егупов. — В нашем деле, — добавил он с несколько чрезмерной пафосностью, — иначе нельзя! Мы — братья по борьбе, а братья должны знать друг друга!
— Пожалуй, что так… — Михаил кивнул.
— Ну так, чтоб вам все было на мой счет ясно, я могу рассказать вам о себе…
— Сделайте одолжение… — опять кивнул Михаил. Ему действительно было интересно узнать о Егупове поподробнее.
Егупов некоторое время посидел, меланхолически помешивая ложечкой чай в стакане, словно бы забывшись.
— Ну так вот… — начал Егупов. — Как я уже сказал, родился — тоже на Кавказе, в Баку. Отец был офицером. Погиб на последней русско-турецкой войне. Мать умерла вскоре же, так что надо мной и моими тремя сестрами опекунство взяла моя тетка. После смерти матери я поступил в пансионат Бакинского реального училища, а поскольку родители с ранних лет приохотили меня к чтению книг, то, учась в этом училище, я со страстью принялся за чтение. Опекунша оставила меня совсем одного. Да я, надо вам сказать, не очень-то и поддавался на руководство. Не терплю никакого подавления! — Егупов горделиво вскинул голову и огляделся вокруг, будто только что высказанное замечание относилось ко всему миру. — Напротив реального училища, в здании армейского училища, помещалась библиотека. Принадлежала она Армянскому человеколюбивому обществу. Вот ее-то я усердно и посещал. Там я и прочел, в читальне, Писарева, Михайловского. Это было в шестом классе училища. Потом я получил от своего соученика номер «Народной воли». Все это и составило, так сказать, фундамент моего образа мыслей. В 87-м году, окончив курс, я уехал из Баку в Кронштадт, к дяде моему, Василию Григорьевичу Егупову, а оттуда — в Ново-Александрию. Поступил там в Пулавский институт сельского хозяйства и лесоводства. Нет, ни к сельскому хозяйству, ни к лесоводству тяготения я не испытывал. Просто надо было куда-то поступать. Познакомился со своими сверстниками, много спорили, читали. Я достал прокламацию «Народной воли», а потом заполучил и «Вестник «Народной воли». Вскоре меня пригласили участвовать в кружке, где я отстаивал больше мирную программу. Мне было тогда 20 лет. Я твердо решил стать революционером-пропагандистом. На втором году учебы я заведовал студенческой кухней, помещавшейся в доме врача Вернера и потому называвшейся «Вернеровкой». Всех обедавших в ней было около сорока человек, из них и составился кружок самообразования. Мы читали кое-что по политической экономии, кое-что из нелегальных сочинений, дальше этого не шли. Нелегальные сочинения доставал обычно я — в Варшаве. В апреле 89-го года я навсегда распростился с институтом, поняв окончательно, что иду не по той дорожке, и опять уехал к., дяде. Тот посоветовал мне поступить в Московское юнкерское училище. Я поступил. Проучился там три месяца, и… — Егупов усмехнулся, — был отчислен. Не для меня и сей путь!.. Вернулся к дяде. Он предложил мне самое простейшее — пойти охотником в Каспийский полк, квартировавший тогда в Кронштадте. И вот, весной этого года, отбыв воинскую повинность, я переехал в Москву. — Егунов спохватился: — Да! До Москвы было еще около двух недель петербургской жизни! Я сначала-то подался в Питер. Там встретился со своим товарищем по институтскому кружку. Тот тоже распрощался с Пулавским институтом, перебрался в Петербург и поступил слушателем в археологический институт. Он привез с собой все нелегальные издания, которые хранил еще в Ново-Александрии. До похорон писателя Шелгунова мы жили с ним вместе, на одной квартире. А после шелгуновских похорон его выслали из Петербурга, за участие в них. Ну а поскольку обыска на квартире у нас не было, то вся его нелегальная библиотечка осталась у меня, я ее так и привез с собой, в Москву… А мощная была демонстрация! — неожиданно воскликнул Егупов.
— Что?.. — не понял его Михаил.
— Я — о шелгуновских похоронах…
— А! — Михаил улыбнулся. — Да, впечатляюще было…
— Вот ведь что удивительно, — продолжал Егупов, — ведь и я, и вы, и Кашинский, стало быть, участвовали в той демонстрации! Мы не знали друг друга, а были вместе!.. Не символично ли это?! А?! — Он в изумлении покачал головой и подмигнул Михаилу: — Впрочем, все — закономерно! Ведь это только кажется, будто жизнь человеческая движется по кривым и ломаным линиям, только кажется, что руководят в ней всем неожиданность и слепой случай… Если ты с кем-то идешь к одной цели, то обязательно, рано или поздно, соприкоснешься! Обязательно!..
— Да, наверное, есть такой закон… — согласился сним Михаил.
— А вы в Питере слышали о «Рабочем союзе»? — вдруг спросил Егупов.
— Да, что-то слышал… — сказал Михаил, едва сдержав усмешку.
Егупов говорил еще долго и ушел лишь в позднем часу, около двенадцати.
Уже лежа в постели, Михаил все думал о своем новом знакомом.
Эта внезапная откровенность Егупова… Все выложил, хотя и увиделись лишь во второй раз… Можно было бы принять такое за проявление открытой доверчивой души, жаждущей скорого сближения, жаждущей поскорее устранить мешающее сближению чувство отчужденности, мол, вот он я — весь перед тобой, так что и ты будь со мной таким же… Однако «открытой доверчивой душой» Егупов явно не был. Михаил как следует пригляделся к нему накануне. Откровенность его имела какую-то иную подоплеку. Скорее всего, проявилось свойство натуры несдержанной, импульсивной, нетвердой, сыгравшей в откровенность именно из-за ощущения своей нетвердости. Отсюда и такое множество подробностей, упоминать о которых не было никакой нужды… С ним разоткровенничался человек болтливый по своей природе, но вынужденный жить скрытной жизнью, уставший от этой скрытности…
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
Принесенную Егуповым брошюру Михаил понес Астыреву лишь в среду на следующей неделе, приурочив свой визит к очередному астыревскому журфиксу.
Епифановы, которых квартира в Тишинском переулка ееустраивала, главным образом из-за сырости, неожиданно подыскали новую квартиру на Малой Грузинской. Квартира оказалась куда удобней прежней, находилась она на верхнем этаже деревянного двухэтажного надворного флигеля. Нижний этаж занимала сама хозяйка, глуховатая тихонькая старуха, при которой жили кухарка н дворник.
Квартира состояла из четырех комнат. В двух из них поселились Епифановы, две другие занял Михаил. Жить тут можно было и вовсе обособленно друг от друга, комнаты Михаила от комнат Епифановых отделяла довольно просторная прихожая.
Из-за неожиданного переезда Михаил и не смог повидать Астырева вскоре же после разговора с Егуповым.
Народу у Астырева собралось много. Были тут статистики Московского земства, студенты-универсанты, курсистки (одна из них оказалась уже знакомой Михаилу — Мария Курнатовская, с ней его познакомил как-то Кашинский), было и несколько именитых гостей, среди которых Михаил сразу же узнал известпого на всю Россию публициста Николая Константиновича Михайловского и писателя Павла Владимировича Засодимского. И того и другого он видел год назад, во время похорон Шелгунова. В траурной процессии те шли рядом, сразу за катафалком, как ближайшие друзья покойного, торжественно-скорбный пышноусый, высоколобый Михайловский и сухонький, сутуловатый, словно бы согнутый горем, Засодимский.
Кроме этих двух знаменитостей Михаил увидел в гостиной у Астырева еще двоих, пожалуй не менее знаменитых людей, — писателя Николая Николаевича Златовратского и Виктора Александровича Гольцева — редактора журнала «Русская мысль» одного из деятельных сотрудников журнала «Вестник Европы» и газеты «Русские ведомости». Позже появилась еще одна знаменитость — писатель-публицист Николаев, бывший ишутинец.
Когда Михаил вошел в гостиную, разговор там велся о голоде, о печатных выступлениях Льва Толстого, опять же связанных с голодом. Михаил отыскал свободный стул, сел в сторонке, прислушался. Слова произносились громко, без опасений:
— И в Петербурге, и здесь, в Москве, ходят упорные слухи о решении Комитета министров — выслать Толстого за границу!
— Ну уж хватили! Думаю, все это — одни слухи!
— А я слышал даже о предположенни заточить его в Суздальский монастырь!
— Пустые слухи!
— Нет, не слухи! Предложения подобного рода действительно обсуждались при дворе! Знаю из безусловно надежного источника!
— Да! Вы слышали, господа, что сказал Александр? «Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование»!
Тут раздалось густое покашливание Михайловского, и все посмотрели в его сторону.
— Правительство, господа, — начал Михайловский, — озабочено отнюдь не действиями Льва Толстого! Оно озабочено более всего тем, чтобы печать наша не волновала читающую публику слишком мрачными известиями. Истину хотят прикрыть цензурной рогожкой. Взять хоть «Русские ведомости», которые считаются передовой московской газетой и к которым сам я всегда относился с уважением. Но что может сказать своему читателю и самая прогрессивная газета при таких шорах цензуры?! Газета получила второе предостережение за одну лишь опечатку в материале, касавшемся продовольственного вопроса! При таком положении всей нашей печати остается одно — «спокойно обсуждать меры необходимой помощи» голодающим!.. «Спокойно обсуждать»! Более того, она вовсю старается образумить людей, склонных к «шуму и треску», она вообще считает излишним пугать общественное мнение страшным призраком голода!.. Нужен набат, авместо набата — словесная кашица. Между тем речь — о целой национальной трагедии! Голодный тиф, голодная смерть, самоубийства от голода, убийства близких сцелью избавления их от невыносимых мучений… Вот ведь что стоит за всей этой словесной мишурой для миллионов русских людей!.. Год — страшный! Год — исытательный для России! И стать он должен переломным! Правительство и все мыслящее общество страны, все мы получили хороший урок! Все стало абсолютно явным. Нужны неотложные и кардинальнейшие перемены!
— Это — очевидность! — кивнул Астырев. — Но как вы себе представляете, Николай Константинович, эти перемены? Какие шаги должны быть предприняты? Куда и как все должно направиться?..
— Моя точка зрения мной не единожды была высказана. Она ясна и проста: все — в укреплении крестьянского общинного строя, осуществить которое можно, лишь, передав всю землю земледельческим общинам! — Михайловский гляпул на сидевших напротив него Засодимского и Златовратского. Те дружно кивнули ему. — Я знаю, — Михайловский возвысил голос, — я знаю, что существует противоположная точка зрения. Точка зрения марксистов, прямых врагов крестьянской общины. Эти самые марксисты спят и видят лишь одно: как бы поскорее подтолкнуть исторический процесс в нужном им направлении! Они рады любому народному бедствию, рады разорению русского крестьянина! Для них хорошо все, что работает на их идею! Им ведь как все видится-то? Голод наверняка ускорит разложение старой сельской общины, ускорит он и обогащение кулаков, ибо поможет им превратиться в крупных землевладельцев, в руки которых перейдет и помещичья земля, и земля крестьян, разоренных голодом. Таким образом, и крестьянин перейдет в лагерь пролетария, который, по мнению марксистов, должен стать могильщиком нашего самодержавия…
Бруснев едва сдержался, чтоб не перебить Михайловского. То, о чем заговорил тот, было для него неново: эти выпады против марксистов Михайловский делал не впервые. Но в воинственности этих выпадов было больше запала, нежели истинности. Как, например, можно было говорить всерьез о передаче всей земли крестьянским общинам в то самое время, когда необыкновенно сильно почувствовали себя только что упомянутые Михайловским кулаки, когда сама крестьянская община подошла к явному упадку?! И разве можно говорить о крестьянском общинном строе, как о панацее от всех бед, и не видеть того, что крестьянство, уже в силу одной своей извечной хозяйственной разобщенности, не способно к последовательной организованной борьбе?! А без такой борьбы невозможны никакие «кардинальнейшие перемены», о которых Михайловский заговорил.
— Мы, интеллигенты, та сила, которая призвана самой историей для искоренения народных бедствий, стало быть, наш долг — всячески способствовать разрешению упомянутого вопроса… — продолжал Михайловский.
И опять Михаилу хотелось возразить ему: нет, не интеллигенция призвана для искоренения народных бедствий, такое ей не по силам, сам народ, лишь он сам, способен искоренить свои бедствия, а долг интеллигенции — помочь народу организоваться, подняться на борьбу, и путь к победе тут один — через пролетарскую революцию! Только через нее!
Михаил понимал, что возражать Михайловскому, окруженному в основном единомышленниками, — дело напрасное. Таким образом он лишь раскрыл бы себя.
В том, что кружок Астырева был по сути своей народовольческпм, Михаил уже имел возможность убедиться, побывав в этом доме на нескольких предыдущих журфиксах. Правда, сам Астырев не чуждался и социал-демократических взглядов (потому-то в основном Михаил и не порвал с ним сразу же), но народовольческие тенденции пока что одерживали в нем верх. Да и другое надо было брать в расчет: слишком в открытую действовал астыревский кружок, слишком вызывающе-громко, почти не соблюдая никаких правил конспирации. В этом доме, на очередном журфиксе, мог оказаться кто угодно… После Михайловского слово взял хозяин дома.
— Господа! — начал он, подняв над собой небольшой сероватый листок. — Вот письмо к голодающим крестьянам! Послушайте:
— «Тяжелая беда навалилась теперь на Россию: в 20 губерниях народ голодает. Все крестьянское хозяйство рушится, и крестьянину ничего не остается делать, как идти в батраки к помещику или купцу. Народ разоряется потому, что земли у него было мало, подати брались с него большие, а в случае нужды он ниоткуда помощи не получал. Правительство помогало богатеть помещикам, купцам и фабрикантам, а крестьянин управлялся со своей бедой, как умел. Народ напрасно верил тому, что царь сделает для него что-нибудь настоящее. Теперь народ надеется на царя и не хочет понять, что вся беда его произошла оттого, что царь дружит с дворянами, чиновниками и купцами. Пойми, русский народ, что тебе надеяться не на кого, кроме как на свою силу могучую. Много теперь в городах людей, которые хотели бы помочь народу; надо бы вам с этими людьми столковаться!.. А пока прощайте!
Мужицкие доброхоты. Типография народовольцев. Март 1892 года».
Листовка подействовала на всех возбуждающе. Все заговорили разом, перебивая друг друга.
Михаил чувствовал себя случайным гостем на чужом празднике.
Уходя в позднем часу от Астырева, он улучил минуту, передал тому принесенную брошюру, однако Астырев, мельком глянув на нее, тут же ее и возвратил:
— Статью Плеханова я уже прочел. Мне ее еще в конце прошлой недели принес один знакомый. Должен вам сказать: от Плеханова можно было ожидать лучшего писания. Я, например, в своем реферате о неурожае, который недавно читал в Юридическом обществе, приводил те же факты, какие Плеханов привел в своей нелегальной статье.
— Ну вот… — Михаил растерянно улыбнулся, — а я-то полагал, что вы, Николай Михайлович, этого прочитать не имели возможности…
Он не знал о том, что на следующий день после собрания, состоявшегося на его прежней квартире, к Егупову забежал Василий Тихомиров и Егупов попросил его передать экземпляр «Всероссийского разорения» Марии Курнатовской, с тем чтобы та отнесла брошюру Астыреву.
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ
Забастовку на Прохоровской мануфактуре Афанасьеву с его товарищами по кружку организовать удалось-таки. О том, что она состоится, Афанасьев известил Михаила накануне. Для нее нашелся новый подходящий повод: работающие на разбраковке рабочие обнаружили явный обмер. Во многих кусках и ситца, и молескина оказалось на несколько аршин больше, чем записано было по табели, то есть рабочие-ткачи «гнали» лишние, неоплачиваемые, аршины. Шум был поднят на мануфактуре большой. Дело дошло до вызова полиции. И хотя перетрусивший хозяин согласился на удовлетворение целого ряда претензий, предъявленных ему рабочими, дело не обошлось без арестов. Победа далась дорогой ценой, арестовано было около двадцати человек, в том числе почти все члены кружка, только-только организованного Афанасьевым. Сам Афанасьев ареста избежал, но заставил Михаила как следует поволноваться. Ведь, окажись Афанасьев в числе арестованных, Михаил остался бы во вновь созданной организации вообще в одиночестве и без надежды на скорую связь с какой-нибудь группой московских рабочих. Михаил считал, что забастовка была несвоевременной, скороспешной, неосновательной. Афанасьеву надо было заниматься не подготовкой и организацией этой забастовки, а дальнейшим укреплением и расширением своих связей в рабочей среде, созданием кружка, в котором Михаил предполагал в ближайшее время начать занятия. Он понимал торопливость Афанасьева. Прожив в Москве около года, в оторванности от товарищей по «Рабочему союзу», от живой революционной практики, тот просто не удержался, когда представилась возможность организовать и провести забастовку.
Между тем на новой квартире Михаила состоялось два очередных собрания. На первом из них было образовано что-то вроде организационного комитета из шести человек. Вошли в него кроме самого Михаила Кашинский, Егупов, Терентьев, Квятковский и Вановский.
На том же собрании занялись подсчетом сил и средств, которыми организация могла располагать. Егупов сказал об учениках Технического училища, о бывших студентах Ново-Александрийского института, продолжающих обучение в институтах Москвы и Харькова, о студентах Варшавского университета, о своих рижских знакомствах. Кашинский смутно упомянул о себе, Терентьеве и Квятковском, как о революционных деятелях среди московского студенчества. Михаил рассказал о «Рабочем союзе» в Петербурге.
«Подняв вопрос о подсчете сил (так сказано было Кашинским), они подсчета этого так и не сделали, поскольку не имели определенного плана дальнейших действий. Решено было постепенно и осторожно привлекать имеющиеся силы к конкретной революционной работе по море того, как работа эта станет приобретать более целенаправленный и последовательный характер. Попутно заговорили и о средствах организации. Деньги нужны были и на покупку нелегальных изданий, и на разъезды — для поддержания контактов с другими организациями. Егупов пообещал внести в общую кассу двести рублей, которые должен был прислать ему из Риги Горбачевский; Михаил сказал, что тоже сможет раздобыть кое-какие деньги, имея в виду занять примерно такую же сумму в кассе «Рабочего союза», в Петербурге. Наметили план сбора денег, используя подписные листы, лотереи и личные взносы.
Кашинский заговорил об устройстве общего съезда, на котором была бы выработана точная и определенная программа действий и минимума требований на случай государственного переворота. Возможность такового для Кашинского была вполне реальной, поскольку «неурожай прошлого года и голод, последовавший за ним, сделали обстановку в России взрывоопасной».
«Обстановка такова, — говорил он, — что мы должны торопливо приняться за создание общероссийской революционной организации, за составление ее программы, причем все прежние программы революционных сообществ и организаций России для нас непригодны. Мы должны выработать новую, боевую, программу. Самая пора теперь — приниматься за быструю, живую работу! Сил в обществе накопилось достаточно, надо эти силы лишь сплотить посредством знакомств и, главное, посредством съезда!..»
Михаил высказался за неторопливые, осмотрительные действия.
Закончилось это собрание тем, что решили поставить две конкретные задачи: во-первых, найти постоянный и надежный источник, позволяющий иметь в изобилии нелегальные издания, во-вторых, образовать достаточный денежный фонд, который обеспечил бы поездки членов организации для связен с другими городами России до осени текущего года.
Спустя два дня после этого собрания к Михаилу в обеденное время явился Егупов. Вид у него был заговорщицкий. Молча он положил перед Михаилом две прокламации.
— Что это? — спросил Михаил.
— Да вот сегодня ко мне забежал Василий Тихомиров и вручил по пяти экземпляров той и другой прокламации, — сказал Егупов и торопливо пояснил — Обо прокламации отпечатаны и составлены какой-то неизвестной народовольческой организацией. Первую Тихомиров раздобыл через своего приятеля, вторую дала ему Мария Курнатовская. У той их — целый пук, и она не знает, куда их девать. Главное-то в том, что вот где-то в Москве, с нами рядом, действует очень активная народовольческая организация, у которой, как видите, даже типография своя имеется! Прокламации, должен заметить, написаны очень шаблонно, а «программа» их прямо показывает незнакомство с социалистической критикой буржуазно-капиталистического строя… Но как действуют, заметьте, эти люди! Как действуют!..
Михаил прочитал обе прокламации, рассмеялся:
— Да, действительно, написано путано… Вот тут у нихперечисляются те положительные требования, которые они хотят осуществить при перевороте… Так они сначала толкуют об общности земель и орудий производства, а потом вдруг о прогрессивном подоходном налоге!.. Большие путаники!..
— Но каков размах у них! — опять завосклицал Егупов. — Своя подпольная типография! А мы еще только мечтаем о ней!..
— Мне теперь на службу надо спешить. Мой обеденный перерыв окончился, — сказал Михаил, глянув на часы. — Я полагаю, нам необходимо срочно собраться, потолковать и насчет этих прокламаций, и насчет нашего собственного печатного дела…
— Да, да! Надо собраться! — подхватил Егупов.
— Тогда давайте соберемся завтра вечером, тут, у меня. В семь вечера. Вы предупредите остальных. А эти прокламации, если можно, не уносите: мне хотелось бы еще вчитаться в них… — сказал Михаил.
— Разумеется, — пробормотал Егуиов. — Все равно ведь их и другим завтра надо будет показать.
Вечером следующего дня у Михаила собрались все члены комитета, избранного на предыдущем собрании.
Прокламации особенно возбуждающее действие произвели на Кашинского.
— Я же говорил, — загорячился он, — я же говорил, что надо действовать активнее, что нам надо поторапливаться, побыстрее надо заканчивать со всякими организационными делами и впрягаться в настоящую работу! Вот же люди делают дела! А мы?! Разве мы уже теперь не готовы начать настоящую партизанскую борьбу тут, в Москве?! Ведь раз собралось нас достаточное число, так и должны начаться дела! Надо начать с какого-нибудь эффектного действия! Именно так!
— Вы имеете в виду те «эффектные действия», которыми ныне снискали себе известность анархисты, то есть взрывы бомб и всевозможные политические выходки?.. — Михаил в упор посмотрел на него.
Кашинский стушевался было, но тут же нашелся:
— Не обязательно метать бомбы… Я имею в виду более активную жизнь нашей организации. Нынче надо усиленно готовить нам съезд!..
— И это вы называете «эффектным действием»?! — Михаил усмехнулся.
— До организации съезда мы могли бы организовать выпуск подобных прокламаций! Это и было бы таким действием! — вывернулся Кашинский.
— Да, да! — поспешил поддержать его Егупов. — Именно этим мы должны заняться теперь! Безотлагательно! Я предлагаю создать сегодня же группу, которая взяла бы на себя все хлопоты по организации печатного дела! Я вот принес рукописную тетрадочку — перевод с польской брошюры «Рабочий день». Нам можно начать с издания этой брошюры… — с этими словами Егупов достал из нагрудного кармана сложенную вдвое тетрадь, положил ее на стол. — Это, думаю, вполне подойдет…
— Печатать мы найдем что! — перебил его Кашинский, резко поднимаясь и окидывая сидящих вокруг стола взглядом председательствующего. — Главное — найти, где бы можно было отлитографировать наши издания! Необходимо найти какую-нибудь легальную типографию!
— Она почти найдена уже! — выпалил Егупов. — Не далее как вчера Авалиани мне сообщил, что в Москве есть легальная типография, в которой можно тайно литографировать нелегальные брошюры. Авалиани узнал об этом от своего приятеля. Он может сообщить и адрес типографии…
— Ну вот и прекрасно! — воскликнул Кашинский. — Что же нам мешкать с этим делом?! Я предлагаю сейчас же составить отдельный кружок для издания нелегальных брошюр и прокламаций, который заведывал бы как хозяйственной частью этого дела, так и сохранением самих изданий. Думаю, что во главе этого кружка должен быть сам Михал Михалыч.
— Лучшей кандидатуры я не вижу! — вставил слово Вановский.
— Да, он и организатор у нас подходящий, и, как никто другой, уже имеет опыт по добыванию нелегальной литературы. Так что беритесь за это дело, Михал Михалыч, и действуйте! — Кашинский поощряюще посмотрел на сидящего рядом с ним Егупова. — Состав кружка определите сами.
— Да я его уже и определил, — усмехнувшись, сказал Егупов. — Думаю привлечь к этому делу Вениамина Авалиани, Анну Рыжкину, Бориса Громана и Алексея Первушина. Людей этих я хорошо знаю, ручаюсь за них.
— Ну и прекрасно! Полагаю, с вашим предложением тут все согласны! — Кашинский быстрым взглядом окинул сидящих вокруг стола. Все были согласны. — Значит, этот вопрос исчерпан. Переходим к другому.
— Но мы ничего не сказали о материальной стороне этого непростого дела! — заметил Бруснев. — Ведь нужны деньги.
— Ах, да! — воскликнул Кашинский. — Без разговора о презренном металле и тут не обойтись… Совсем было упустил из виду!..
Егупов молча, с каким-то торжественным выражением на лице, полез в нагрудный карман, достал бумажник:
— На днях я получил из Риги, от Горбачевского, обещанные им деньги. Основа, можно считать, уже имеется. Затем будем иметь деньги уже от продажи нелегальных изданий…
— Цены вам нет! — растроганно произнес Кашинский, обращаясь к Егупову. — Все у вас так складно получается! Значит, и в этом вопрос исчерпан… Таким образом, вы, Михал Михалыч, получаете как бы особое задание, очень важное задание — организацию нашего печатного дела! Так что — в добрый час! Начинайте!
— Мы еще упустили из виду, что возможна доставка нелегальной литературы от моих варшавских знакомых! — напомнил Егупов.
— Но прежде всего будем надеяться на собственную активность! — важно заметил Кашинский.
— Кстати, насчет «собственной активности»… — заговорил Михаил. — Вот мы уже предполагаем привлечь к конкретной работе людей, не очень-то представляющих, что такое наша организация, что такое ее цели… Уже не об одной «собственной активности» речь, стало быть. К конкретной и весьма опасной революционной деятельности должны привлекаться люди, вполне осознанно берущиеся за нее…
— Но я же сказал, что ручаюсь за тех, кого назвал! — почти выкрикнул Егупов.
— Я — не совсем об этом. Я — о подготовленности людей к делу, об их подлинной, глубоко осознанной причастности к делу. То есть сначала эти люди должны не формально, а по-пастоящему, на правах наших товарищей, почувствовать себя членами единой организации, а затем уже действовать, — сказал Михаил.
— Так что вы предлагаете? — спросил Кашинский.
— Предлагаю в ближайшее время устроить вечеринку, на которую каждый из нас, входящих в организационный комитет, пригласит своих знакомых, таких, которым вполне можно доверять, которые могли бы участвовать в делах нашей организации.
— Да, да! Это — дельное предложение! Я — за такую вечеринку! — заговорил вновь вскочивший Кашинский. — Такая вечеринка должна показать тем, кого мы хотим привлечь к своей деятельности, что речь идет о целой революционной организации!
— Да, это — дело стоящее! — поддержал Михаила и Терентьев. — Это произведет на них впечатление!
— Так вот давайте соберемся тут, у меня, вечеров, в страстную субботу, вроде бы встретить пасху! — предложил Михаил.
— Прекрасная мысль! — воскликнул Кашинский. — Вполне подходящее объяснение нашего собрания, ежели что!.. Я полагаю, что на таком собрании необходимо будет что-то прочесть, соответствующее нашим общим запросам. Не худо было бы написать кому-либо из нас статью, заключающую в себе ответ на вопрос: «Что делать в настоящее время революционному деятелю в России?»
— Да, такая статья была бы кстати! — сказал Михаил. — Только надо бы предварительно составить план ее и обсудить его на ближайшем собрании нашего комитета.
— Я мог бы взяться за такую статью! — торопливо предложил Егупов, точно опасаясь, что кто-то опередит его в этом.
— Ну что ж… Пожалуй… — произнес раздумчиво Кашинский, как бы находясь в некотором сомнении.
— Но обязательно составьте предварительный план, и мы его обсудим, — твердо сказал Михаил и добавил: — Вoпpoc весьма непростой и для нас крайне важный, без предварительного обсуждения тут не обойтись. По сути дела, это — программный вопрос, а мы еще не выработали стою четкую программу, с чего бы нам и следовало начать.
— Программу выработаем в самое ближайшее время! — бодро заметил Кашинский. — Главное для нас теперь— укрепить и сплотить наши силы пока что тут, в Москве, а затем, выработав программу, мы двинемся дальше — попытаемся создать единую организацию, имеющую несколько центров в крупнейших городах России!..
Получив «особое задание» по организации «кружка печатников», Егупов резво взялся за дело. На другой же день, с утра пораньше, он забежал к своей знакомой — курсистке Леночке Стрелковой, предупредил ее: «Хочу на один вечерок воспользоваться твоей квартирой, так чув сегодня, к шести вечера, жди гостей!..» От нее помчался в Мытищи — к Борису Громану, из Мытищ вернулся в Москву и в полдень, успев забежать еще к Анне Рыжкиной, покатил на конке в Петровское-Разумовское — к Авалиани. Филеры наружного наблюдения в этот день с ног сбились, гоняясь за ним.
Вечером, как было условлепо, все «печатники» собрались у Елены Стрелковой. Не было только Первушина, накануне уехавшего в Петербург. Не остудивший, не растерявший за суетный день своего горячего усердия, Егупов и тут повел дело резво. Рассказал о состоявшемся накануне собрании, о решении этого собрания создать «кружок печатников», объявил состав кружка, спросил, все ли согласны взяться за столь непростое дело. Согласились все. Руководство кружком Авалиапи взял на себя охотно. Впрочем, об этом Егупов договорился с ним заранее минувшим днем. Авалиани же взялся отыскать в Москве какую-нибудь литографию и вести с ней дело. С прежней, о которой он узнал от своего знакомого, Авалиани не советовал связываться, поскольку, как ему на днях сказали, за ней ведется слежка.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
Обор-полицмейстер Москвы генерал Юрковский вновь пригласил к себе Бердяева. На сей раз принят Бердяев был почти тотчас.
«Дурной знак…» — подумал он у самых дверей обер-полицмейстерского кабинета, подавив едкую усмешку.
Сухо поздоровавшись с ним, Юрковский, без обиняков, с плохо сдерживаемым раздражением, начал:
— Что же получается, Николай Сергеевич? Вы говорили мне: мол, с астыревской компанией покончить совсем несложно, а она между тем действует почти вызывающе, собирается чуть ли не в открытую, произносятся громкие антиправительственные речи! Наконец, — Юрковский быстро взял со стола сероватый листок, потрепал им перед Бердяевым, — появляются вот такие обращения к народу, подбивающие на прямой бунт!.. Так что нет ничего удивительного в том, что и бунты эти самые уже имеют место, причем у нас с вами под самым носом. Случай на Прохоровской мануфактуре — для нас предостережение! Вслед за «Письмом к голодающим» (кстати, оно именуется «первым», стало быть, надо ждать и «второго», и «третьего»!) появились вот эти листки… — Юрковский, наклонившись вперед, подвинул в сторону Бердяева еще две прокламации.
Бердяев лишь мельком глянул на них: они, как я «Первое письмо к голодающим», были ему хорошо знакомы.
— Не получится так, любезнейший Николай Сергеевич, что, пока вы занимаетесь «довыяснением связей» кружка этого самого Астырева с кружком Егупова, Кашинского и прочая, и прочая, эти кружки такого тут у нас накрутят, что потом и не расхлебать?..
— Ваше превосходительство, — жестко начал Бердяев, — дело наше приближается к развязке. Кружок Астырева мои люди могли накрыть с поличным еще неделю назад, когда на очередном журфиксе на квартире Астырева читалось вот это самое «Первое письмо». Однако, вследствие того, что на том журфиксе оказалось сразу несколько весьма известных у нас, в России, лиц, пришлось отсрочить меру пресечения… Сами понимаете, что в противном случае мы имели бы крайне нежелательный общественный резонанс…
— Ох уж эта наша боязнь «общественных резонансов»! — Юрковский, поморщившись, махнул рукой: мол, продолжайте, я слушаю.
— Астыревский кружок будет ликвидирован в самые ближайшие дни. В этот кружок у нас внедрена хорошая агентура. Нам удалось выявить и ту частную литографию, которая занималась печатанием вот этих листовок, — Бердяев быстро глянул на лежащие перед ним прокламации. — Все это прямыми нитями связано с кружком Астырева. Так что п о л и ч н о е тут нам обеспечено! Несколько сложнее пока с кружком Кашинского — Егупова. Он до сих пор не проявился вполне. Но последнее его собрание наметило кое-какие акции… Интересно тут проследить и связи с другими городами, которые пока что тоже лишь наметились. С ликвидацией этого кружка торопиться не следует. Вот с кружком Астырева и кружком Круковского — Мандельштама пора уже кончать, и покончено с ними будет в самые ближайшие дни. Тут для нас картина выявлена полностью. А там подойдет черед и этих — Кашинских, Егуповых и иже с ними. Чистка нами намечена основательная! Кстати, я имею сведения, ваше превосходительство, что начальник Варшавского жандармского округа генерал Брок осуществил весьма широкую операцию в самой Варшаве. Арестовано несколько десятков человек.
— Да, да! — пухлая ладонь Юрковского похлопала по столу. — Нужны решительные меры! Решительные! Эта самая зараза въелась в тело нашего государства, возможно, гораздо глубже, нежели мы предполагаем! Руси нужно очищение! Все негодное, гнилостное выскрести, самое дрянное, зловредное уничтожить! Между тем всюду — беспечность и благодушие! Мы привыкли думать, что все это не слишком опасно, мол, речь о каких-то кучках болтунов и смутьянов. Вспомните, Николай Сергеевич: Москва сгорела с грошовой свечи! Мда-с! Так что давайте относиться к этому без умаления, без благодушия! «Второго письма к голодающим» не должно быть, Николай Сергеевич! Не должно!
— Оно не появится, — побледнев, коротко сказал Бердяев.
У Михаила вновь собрался весь организационный комитет. Собрание на сей раз длилось недолго. Все были встревожены новостями, которые принесли Вановский и Егупов. Первый сообщил о том, что накануне в Москве было произведено несколько арестов. Егупов, накануне же, получил из Варшавы, от Иваницкого, зашифрованное сообщение о том, что там прокатилась целая волна обысков и арестов.
Михаил предложил временно затаиться, не обнаруживать себя. Остальные с ним согласились. Однако собрание, намеченное на страстную субботу, отменять не стали.
В тот же вечер Егупов зашел к Леночке Стрелковой и услышал от нее еще одну тревожную новость: арестован Астырев, и вместе с ним арестовано несколько студентов, пришедших к нему на очередной журфикс.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
В четверг, на страстной, неугомонный Егупов с утра поехал в Петровское-Разумовское. Авалиани в общежитии он не застал. Товарищ Авалиани по комнате сказал, что тот около часа назад с каким-то незнакомцем уехал в Москву. Раздосадованный такой неудачей, Егупов отправился восвояси.
Выйдя из вагона конки у Арбатских ворот, он пошел к себе на квартиру, уверенный в том, что Авалиани обязательно заглянет к нему, если уже не заглянул.
У себя он застал не Авалиани, а Вановского, причем ие одного.
— Вот, знакомься: Павел Филатов, о котором я тебе говорил! — Виктор представил ему довольно рослого и весьма странно одетого молодого человека.
С этим Филатовым Вановский, гораздый на скорые и легкие знакомства, встретился прошлым летом в Курской губернии, под Щиграми, в имении помещика Русанова. Приезжал он тогда к своему бывшему однокашнику по Пулавскому институту, гостившему у матери в том же имении. Вановскому этот Филатов показался человеком стоящим, он намекнул ему: дескать, знает в Москве целый круг людей, увлекающихся революционными идеями. Филатов разоткровенничался и сказал ему о своем давнем желании принять участие в какой-либо конкретной революционной работе, например в печатании и распространении нелегальных брошюр. Он даже удачное название придумал для этого занятия—«печь хлебы». Печь хлебы истины и правды — для изголодавшихся, для ищущих хлеба сего!..
Возвратившись в Москву, Вановский рассказал Егупову об этом революционно настроенном земце. Решено было держать Филатова на примете, войти с ним в сношения. Как земец, Филатов неплохо знал, по словам Вановского, положение дел в своем уезде и в своей губернии, при необходимости от него можно было получить какие угодно статистические данные для использования их либо в листовках, либо в пропагандистских целях, и кружковой работе.
Сразу же после собрания у Бруснева Вановский написал Филатову письмо, в котором предложил ему приехать. По получении письма Филатов выехать из своих Щигров не смог. Между тем после арестов и обысков, случившихся в Москве в конце марта, не до «печения хлебов» стало… Так что Филатов приехал совсем некстати.
Егупову тот «активно не понравился» с первого взгляда.
«Копспиратор, черт подери тебя! — подумал он, холодно поздоровавшись с Филатовым. — Даже одеться, как надо, толку не хватило!..»
На приезжем была сатиновая синяя рубаха навыпуск, поверх нее — какая-то нелепая охотничья куртка, из кармашка которой свешивалась серебряная цепочка часов, на ногах — огромные смазные сапоги, распространявшне по всей квартире удушливый запах свежего дегтя.
«Дворник, да и только! — неистовствовал про себя Егупов. — И стрижка-то у него — «под мужика»! Ну чистый дворник! Истинная дубина! Разве же такое годится для Москвы?! Тем более что пришел он ко мне! Ведь прислуга наверняка уже обратила на него, такого, особое внимание!..»
Он незаметно кивнул Вановскому, чтоб тот вышел сним в соседнюю комнату.
— Ты зачем его привел ко мне? — зло зашептал ему, когда они оказались вдвоем.
— Так я и сам не знаю, куда его девать, — тоже шепотом ответил Вановский. — По рукам и ногам связал! Ночь у меня переночевал. Больше нельзя, не могу!.. Оставь пока у себя! Прошу, как друга! Мать расстраивается…
— Да что я прислуге-то объясню?! — уже шипел в неистовстве Егупов. — Ведь он — дворник с виду-то! Зачем у меня ночует дворник?! Сообрази: что тут объяснишь?!
— Что-нибудь наври… Только оставь его у себя! — взмолился в полный шепот Вановский и, откашлявшись, вдруг сказал: — К тебе недавно Авалиани заходил с каким-то незнакомцем. Что-то срочное у него… Мол, позарез ему тебя надо видеть. Оставил адрес, но которому его сможешь найти… Это — у Арбатских ворот. И еще вот — книжечкуоставил на немецком с шифрованной запиской.
Егупов, сразу забыв о Филатове, выхватил из рук Вановского записку и книгу со вложенной в нее второй запиской.
— Это — из Варшавы… — опять шепотом подсказал Ваковский.
— Вижу, знаю, — Егупов резко кивнул.
В книге по строчкам шел шифр по ключу «черемуха».
Расшифровав его, Егупов прочел: «Ключ к записке — «Шпицберг». Иваницкий, пославший эту книгу, напоминал ему ключ к шифрованной переписке. Расшифровав записку, Егупов получил: «Мы посылаем вам нелегальные издания с Семеном Григорьевичем, который достоин всяческого доверия. Деньги за них передайте ему, остальное узнаете от него».
Егупова едва не лихорадило: так возбуждающе подействовало на него все это. Он забыл и о неудачной поездке в Петровское-Разумовское, и об этом нелепейшем Филатове, как снежный ком свалившемся на его голову. «Вот оно — настоящее дело!..» — словно бы зажглась в нем жаркая, будоражащая сознание мысль.
— Вы тут посидите, побеседуйте, — кивнул он Вановскому на дверь в другую комнату, — а я — помчался! Интереснейшее известие, Виктор!..
Вановский и рта не успел раскрыть, чтоб спросить его, что за известие им получено, куда и зачем он «помчался». Только охнула со всего маху захлопнутая дверь.
— Извозчик! Извозчик!.. — заметался Егупов, выбежав па улицу с книжкой в руках. Даже мальчишеская фистула ворвалась вдруг в его крик.
Извозчик подкатил тут же:
— Куды изволите?!
— К Арбатским воротам! Поживей!..
День был не по-апрельски стыловатый. Словно бы отрезвленный им, Егупов в пути вспомнил о недавних обысках и арестах в Москве. Вспомнил и о полученном недавно же тревожном сообщении Иваницкого, писавшего о варшавских обысках и арестах, вспомнил и о его совете быть поосторожней… Вспомнил и вдруг обеспокоился: «А что, если Иваницкий арестован и шифр стал известен охранке?! Маловероятно, а все же не исключишь и такое! Вдруг тут западня?! Уж больно неподходящее время для специальных курьеров, перевозящих нелегальщину!..» Однако тут же и успокоил себя: «Нет, быть такого не может!..»
Выкатив на извозчике к Арбатским воротам, Егупов заметил Авалиани и его спутника, идущих далеко впереди. Те пересекали площадь, направляясь к Пречистенскому бульвару.
Егупов остаповил извозчика и, расплатившись, скорым шагом пустился догонять их. Со спины ему трудно было определить: видел ли он у кого-либо из своих варшавских знакомых шагавшего рядом с Авалиани человека.
Жестикулируя, как могут жестикулировать одни лишь коренные кавказцы, Авалиани о чем-то разговаривал со своим спутником. Почти поравнявшись с ними, Егупов услышал:
— Верно говорю, дорогой: у нас, на Кавказе, тэперь сады уже отцвэтают! А тут — посмотри, пожалуйста: холод еще какой!..
«Ностальгические мотивы!..»—усмехнулся про себя Егупов, обгоняя их. Не сбавляя шага, он прошел вперед, затем, глянув по сторонам (нет ли слежки), развернулся и пошел им навстречу.
Авалиани, чуть заметно кивнув ему и беспечно махнув рукой своему спутнику, как старому доброму знакомому, свернул направо — в Сивцев Вражек.
Егупов человека этого никогда прежде не видел. Он опять испытал смутное чувство тревоги. Однако справился с собой, как ни в чем не бывало подошел к незнакомцу, обменялся с ним рукопожатием:
— Михаил Михайлович…
— Семен Григорьевич… — со значением глянул на него тот.
Какое-то время шли молча. Не доходя до Пречистенских ворот, повернули обратно к Арбатской площади. Семен Григорьевич оказался довольно красивым человеком, лет тридцати — тридцати двух. Одет он был во все черное: черная широкополая шляпа, черное легкое пальто… Егупову напомнил он своим видом польских ксендзов. «Приметная в московской толпе фигура…» — уже по привычке все оценивать с точки зрения конспиративности подумал он с неудовольствием и спросил:
— Вы где-нибудь остановились?
— Да, у госпожи Никитской.
— Знаю ее. Был у нее однажды…
— Я бы хотел задержаться в Москве подольше… — услышал вдруг Егупов.
— Ну, об этом мы поговорим позже… Мы решим, как с этим быть… — уклончиво ответил Егупов, однако подчеркивая это свое «мы решим», дескать, решаю не я один — организация. Тут же быстро спросил: — Вы от кого приехали?
— Я в Варшаву прибыл из-за границы, от Плеханова и Акселърода… В Варшаве никого близко не знаю, не могу назвать никаких имен. Был там весьма недолго… Могу сказать лишь, что ночевал на улице Видок…
«Стало быть, у Рункевича…» — отметил про себя Егупов.
— У меня заграничный паспорт на имя Франца Ляховича… — продолжал Семен Григорьевич.
— Литературы много привезли? — перебил его Егупов, торопясь узнать главное.
— Около пуда. Почти полный чемодан… — услышал он в ответ. — Самые свежие оттиски!..
— Это все — у Никитской?
— Да, у нее.
— Так чего ж мы?! Пойдемте к ней! Тут ведь совсем рядом!..
Никитской, к удаче Егупова, дома не оказалось.
«Семен Григорьевич — Франц Ляхович и прочая, в прочая» (так про себя окрестил его Егупов, всегда склонный к язвительной усмешке) притащил в залу тяжелый чемодан желтой кожи и, плотно притворив дверь, откинул крышку.
Егупову даже жарко вдруг стало. Чемодан оказался доверху набитым «нелегальщиной». Опустившись перед ним на колени, как Али-Баба перед сокровищами, Егупов с минуту созерцал обложки верхних книг и брошюр, вдыхая запах свежей типографской краски. Результат его поездок в Варшаву — вот он, перед ним!.. Что рядом с этим «деятельность» марксиста Бруснева и суета полумарксиста-полутеррориста Кашинского?! Порывшись в чемодане, насладившись самой реальностью этих «сокровищ», он отобрал два экземпляра «Социал-демократа» (третий и четвертый номер) и несколько мелких брошюр.
— Это я заберу с собой! Надо показать своим, — сказал Егупов, поднимаясь с пола и берясь за фуражку. — Вы тут пока отдыхайте с дороги. Утром к вам заглянет один человек, он возьмет все это вместе с чемоданом, а потом я сам зайду к вам. До завтра! Бегу!.. Тороплюсь!..
Выйдя в тишину глуховатого Полуэктова переулка, Егупов потоптался в радостной растерянности со свертком в руках: куда теперь с этим — прежде всего?! Глянул иа часы. Было около двенадцати. Вспомнил: Бруснева в это время можно застать дома…
Только подумал об этом, а уж ноги понесли в сторону Пресни. По Кудринской, мимо Пресненских прудов, мимо Зоологического сада, через Георгиевскую площадь (всюду — почти бегом) — к Малой Грузинской.
Оказавшись на Малой Грузинской, запаленно глянул ва краснокирпичный скалообразный портал польского костела, успев смутно подумать о странном совпадении: этот польский костел, возникший у него на пути, и прибывший из Варшавы «Семен Григорьевич — Франц Ляхович и прочая, и прочая», с которым он только что расстался… Будто некое знаменне заключалось для него в сем совпадении…
Михаил был у себя. Он обедал. За столом сидел не один. Егупов подслеповато сощурился на его сотрапезников, не сразу узнав в одном из них Николая Руделева, в другом — Гавриила Мефодиева. Даже опешил слегка: не ожидал встретить тут двоих своих тульских знакомцев… Растерянно кивнул им.
— Ну вот, как раз к обеду угадали! — улыбаясь, Михаил вышел из-за стола, протянул Егупову руку, друге й приглашающе указал на свободный табурет: — Давайте присаживайтесь с нами!..
— Не откажусь! С утра на ногах, и почти ни крошки во рту! Не откажусь! — сказал Егупов, раздеваясь. — Только сначала — на пару слов, Михаил Иваныч!.. — он кивнул на дверь соседней комнаты, служившей Брусневу одновременно и спальней и кабинетом. — Извините, друзья! — Тут он слегка поклонился Руделеву и Мефодиеву.
— Да, да, извините… — сказал и Михаил, меняясь а лице: по Егупову было видно, что явился тот с какой-то важной новостью. — Вы — ешьте, ешьте! Мы — сейчас…
— Ну, что у вас?.. — ожидающе глянул он на Егупова, когда они оказались вдвоем за плотно закрытой дверью. — Что за новости?..
— Вот… — Егупов торжественно развернул бумажный сверток и разложил па столике перед Михаилом два сборника и три брошюры. — Вот какие новости! Только сегодня — из Варшавы! Человека специально прислали. Целый чемодан привез!
— Да! Вот это новости! — Михаил восхищенно покачал головой. — Прекрасные новости! «Социал-демократ? «Задачи рабочей интеллигенции в России. Письма к русским рабочим» — Аксельрод, «Русский рабочий в революционном движении» — Плеханов… То, что нам теперь так нужно! Прекрасно, друже! Прекрасно!.. И как раз — к нашему собранию! Туляки вон уже прибыли. Пойдемте к ним пока. Потом поговорим. Обед остынет…
— Михал Михалыч, так вы с Михал-то Иванычем, стало быть, знакомы?.. — спросил Мефодиев, когда оба Михаила вернулись в комнату-столовую.
— Как видите!.. — усмехнулся Егупов, подсаживаясь к столу.
— Да я так и подозревал, что они знакомы! — воскликнул Руделев и подмигнул Мефодиеву: — Я же тебе говорил, что хорошие люди всегда сойдутся друг с дружкой! Раз Михал Михалыч человек хороший, то он должен был сдружиться с Михал Иванычем!..
— Да, это уж так! — Мефодиев солидно крякнул, наклоняясь над тарелкой.
— У вас, Михал Иваныч, сегодня — как, бывало, вот у Гавриила, на квартире в Сивках! — сказал Руделев.
— Да… Славная была жизнь! Настоящей коммунией жили! За стол, бывало, сядем артелью обедать али ужинать, так будто каждый раз праздник у нас: тут и шутки, и прибаутки! — подхватил Мефодиев. — А какие чтения застольные были! Боже ж ты мой!.. — Он, улыбаясь, покачал головой н вдруг спросил Егупова: — Вы, Михал Михалыч, не бывали в те поры в Питеро-то?
— Мы с ним познакомились тут, в Москве, — поторопился подсказать Михаил, сообразив, что Руделев с Мефодиевым заблуждаются насчет давности его знакомства с Егуповым.
Мефодиев крякнул, как человек невольно проговорившийся, и умолк. Так и дообедали почти молча.
Егупов чувствовал себя обиженным: он столько делает для создания организации, мотается целыми днями по Москве, ездит то в Ригу, то в Варшаву, рискует, терпит неудобства, но вот только что ему дали почувствовать, что полного доверия к нему нет. Бруснев и эти двое, они — заодно, а он тут, при них, — так себе, попутчик, подручный…
Когда вышли из-за стола, он подошел к Михаилу, придержал его за локоть:
— Так получается, Михаил Иванович, что реферат для прочтения на следующей вечеринке мне написать не удастся: времени вовсе нет. Да вы и сами только что сказали, что можно будет прочесть какую-нибудь из этих брошюр, которые я принес. Выберите наиболее подходящую статью для возбуждения разговора, ее и прочтем. Вот — хотя бы из «Русского рабочего в революционном движении». Правда, я эту брошюру прочитать еще не успел, но вы сами просмотрите и решите, что именно читать…
— Хорошо. Я посмотрю… — Михаил озабоченно гляпул на часы. — Ого! Заобедался я сегодня с гостями-то! Опаздываю в депо… Дел там — прорва… Вы уходите? — глянул он на Егупова, — а то посидите, потолкуйте тут с нашими гостями…
— Нет, понимаете ли… дела неотложные! Надо бежать! — ответил Егупов.
— Ну что ж… — Михаил улыбнулся. — Тогда еще будет у вас возможность потолковать. Они приехали сюда специально на наше субботнее собрание. Так что в субботу увидитесь!
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ
Придя от Бруснева к себе на квартиру, Егупов застал там кроме Вановского и Филатова своего приятеля Михаила Петрова и Авалиани. Публика — почти вся своя, перед ней и похвастать бы можно сегодняшней удачей, покрасоваться слегка, подпустить значительности, ведь даже Авалиани вряд ли знает о том, что привез заграничный гость… Вот только этот Филатов… Расставил свои смазные сапоги, развалился на стуле, талдычит что-то несусветное насчет толстовского учения всклокоченному и уже ошалело озирающемуся Вановскому… Разве же при нем о таком скажешь?
Раздевшись, Егупов прошел в комнату, сел на свою кровать, обменявшись многозначительным взглядом о Авалиани. Он решил послушать этого «пекаря из Щигров», приглядеться к нему, увлекшемуся спором: спорящий человек со стороны ах как хорошо виден!..
— Здоровое развитие жизни — не через рознь и вражду, не через кровь, — говорил Филатов, — но — через духовную терпеливую подготовленность к новой жизни! К братству путь — через братские устремления! Вот чему учит Толстой…
«Что он болтает?! Что он плетет?! — неистовствовал Кгунов пока что про себя. — Какие «хлебы» он хочет впечь» при такой каше в голове?!
Наконец, не выдержав, он без обиняков обратился к Филатову:
— Вы, как я только что убедился, совершенно не созрели для такого спора. У вас, по сути дела, еще нет никаких твердо сложившихся, определенных общественных убеждений. А отсутствие у человека определенных общественных убеждений — большой недостаток!
— Почему же?! У меня есть свои, вполне определенные убеждения! — отпарировал тот. — Если они не вполне совпадают с вашими, то это еще ничего не означает…
— Я сейчас имел возможность почувствовать, насколько они неопределенны… Простите, но в научных знаниях, например, вы обнаруживаете полное невежество!
— Вот как?! — широкое лицо Филатова стало пунцовым. — В чем же вы это увидели?!.
— А в том!.. Вот послушал я вас — ни единого аргумента, за которым бы стояло твердое научное знание. Одна эмпирика! Один хаос! Материалом вам служат исключительно одни критические и философские воззрения Льва Толстого. О чем же с вами спорить и рассуждать?!
— Стало быть… стало быть… — Филатов растерянно, невидящим взглядом пометался по лицам сидевших вокруг. — Толстой, стало быть, для вас не великий мыслитель?!
— Богоискатель и путаник! — выпалил Егупов. — Его мировоззрение антинаучно!..
— Вот как?! — совсем угке растерялся Филатов.
— Друзья! Друзья! Зачем жо так резко?! — миротворчески заговорил Вановский. — Давайте спокойнее и с уважением друг к другу!
— Да, вот так! — не слушая Вановского, горячо продолжал Егупов. — Ваш Толстой придумывает какие-то путаные идеи, разглагольствует, когда народ находится в самом бедственном положении и нуждается в коренном изменения всей сложившейся у нас действительности!..
— Разглагольствует?! — красный от возбуждения, Филатов даже не усидел, вскочил со стула. — Разглагольствует, говорите?! Нет, он не разглагольствует! Он бросил все и уехал вон в Бегичевку Данковского уезда, поселился среди голодающих и спасает их самым конкретным способом! Не разглагольствует, а добывает для них хлеб насущный!.. Разглагольствуют другие…
— Ну поселился-то он не среди голодающих, допустим, а в имении помещика Раевского, насколько мое известно, — отпарировал Егупов. — Это — во-первых. А во-вторых: что такое его помощь?! При его-то возможностях, при его-то авторитете, разве это — помощь?! Ну накормит он одну несчастную Бегичевку, а голодают-то двадцать губерний! Тут не в деревню какую-то надо зарываться, а в набат бить на весь мир! И на это у него есть сила! А он ее расходует на пустяки!..
Его азартом, его доводами Филатов был смят и повержен.
— Ладно, у вас тут сэгодня и бэз мэня много шуму! — сказал, поднимаясь, Авалиани. — Я завтра загляну!
Простившись, он ушел. За ним вышел и Филатов. Этот — по нужде.
Егупов, укорно глянув на Вановского, кивнул на дверь:
— Зря ты его привел. Такое сырье!..
— Так ведь некуда его деть!.. Мы же сами его пригласили… — Вановский развел руками. — Я вижу теперь, что он никуда не годен… А что делать?! Я думаю, что ему все-таки надо дать кое-что из наших запасов литературы. Он говорит, что может хорошо заплатить. Ну а когда он разовьется и разовьет других своих знакомых, им можно будет воспользоваться…
— Дать, пожалуй, надо, — кивнул, соглашаясь Егупов. — Тем более что нам срочно понадобятся деньги… — Он вопрошающе посмотрел сначала на Петрова, потом на Вановского. — Вам Авалиани ничего не говорил?
— Нет… — Вановский пожал плечами. — А что?..
Петров с острым любопытством глянул на Егупова.
— А то, что… — Егупов сделал паузу. — А то, что сегодня ко мне прибыл человек из-за границы, от Плеханова! Привез целый чемодан новейшей нелегальщины!.. — он почти выпалил эту новость, распиравшую его.
— Да ну?! — изумился Ваковский.
— Неужели?! — как бы в сомнении спросил Петров, поджигая Егупова, и без того горящего.
— Да, целый чемодан! — Егупов важно кивнул. — Кстати, Михаил, у меня к тебе в связи с этим вот какая просьба. Ты завтра перевези этот чемодан к своему знакомому, о котором ты мне говорил как-то. Человек-то он подходящий? Надежный?..
— Еще бы! — Петров едва сдерживал себя, чтоб не фыркнуть слишком обрадованно. — Надежней некуда!
— Этот… — Егупов кивнул на дверь, — этот гость из Щигров у нас, Михаил, будет ночевать сегодня, так что ты не проговорись при нем иасчет чемодана-то и насчет всего прочего!
— О чем ты говоришь?! Что я — не понимаю? — Петров обиженно передернул плечами.
— Ладно, ладно! Тише! Он — идет…
Филатов вошел, стуча сапогами и зябко потирая руки:
— Однако, холодновато сегодня!
Егупов с тоской глянул на него: принесло же этого «пекаря» в такой день!..
Он уже и думать не хотел о каком-то кустарном «печении хлебов»: благодаря его хлопотам открылась совсем иная возможность!.. Чемодан «Семена Григорьевича — Франца Ляховича и прочая, и прочая», набитый нелегальщиной, — вот что занимало его теперь. Этот первый транспорт «нелегальщины» открывал перед ним головокружительные перспективы…
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
В тот же день, к вечеру, подполковник Бердяев получил сообщение о приехавшем из-за границы эмиссаре Плеханова и Аксельрода. Бердяев был доволен. Так неплохо получилось у него с этнм «подсадкой» Петровым! Этот агент просто находка! Все самые свежие новости о кружке Кашинского и Егупова регулярно поступают от Петрова в жандармское отделение.
— Так как теперь с этим кружком? Может, прихлопнуть пора? Такое поличное!.. — старший чиновник для поручений, обычно делающий Бердяеву доклад в начале и в конце каждого дня обо всем «особо важном», хитро сощурился, склонив голову к левому плечу.
Бердяев почти весело глянул на него, даже слегка подмигнул:
— Ни в коем случае! Им надо дать возможность как следует проявиться. Вот теперь обязательно зашевелятся! Такое количество нелегальных изданий в руках держать не станут, наверняка начнут искать возможности распространения, так что круг расширится в самое ближайшее время. Пускай пока поиграют в «конспирацию»!
— Вот именно: пускай поиграют! — старший чиновник даже подхихикнул вдруг. — Они и ведать не ведают, что каждый их шаг у нас на виду! Забавно наблюдать эту игру, ваше превосходительство! А как они все скачут с квартиры на квартиру! Вроде бы запутывают следы… Вон Кашинский за полгода сколько переселений совершил; с половины сентября до рождества проживал в Яковлевском переулке, затем переехал в Салтыковский переулок, через полтора месяца перебрался в Малый Кисельный переулок, теперь вот живет со своим приятелем Терентьевым на Петровке…
— Ну что ж… — Бердяев усмехнулся. — Недолго им теперь «скакать». Скоро им квартира будет обеспечена постоянная…
— Это уж так!.. — старший чиновник кивнул. Бердяев вдруг нахмурился, глянув на часы, вновь напустил на себя начальственно-суровый вид:
— Однако, мы заговорились сегодня… Довольно о долге гражданском, пора подумать и о долге христианском! Не забыл, Евстафий Павлыч, какой сегодня день?..
— Как можно?! Великий четверток! — старший чиновник вскинул густые темные брови, сросшиеся над переносьем, поставил их «шалашиком». — Распорядиться насчет пролетки?..
— Да, пускай через часок подадут!
— Слушаюсь!..
Прилежным христианином Бердяев, пожалуй, не был, служба не оставляла ему на это времени, однако храм божий по большим церковным праздникам посещал. На страстной седмице неизменно постился, а перед ней обязательно исповедовался, всякий раз испытывая какое-то неловкое чувство: он, начальник жандармского отделения в самой Первопрестольной, он, призванный бороться не с какими-то грешками людскими, а со всевозможными антигосударственными кознями, вдруг оказывался в роли ответчика…
В храм Христа-спасителя Бердяев поспел почти всамому началу вечерни. Встал, как обычно, в сторонке, напротив правого клироса. Первых почетных мест у аналоя избегал. На публике «выпячиваться» ему, человеку, занятому делами тайными, негоже.
Диакон, в облачении, отполыхивающем золотистыми теплыми бликами, буйногривый и огромный, словно бы доказывал стекшимся в храм прихожанам свою принадлежность к первоклассным басам. От его возгласов дрожали и падали огоньки лампад и свеч. Слова священника в чередовании с его львиным рыком казались Бердяеву далекими слабыми криками о помощи погибающего во время страшпой бури человека.
Наконец пришло время абсолютного единовластия этого потрясающего баса. Диакон спустился с амвона, встал перед аналоем, лицом к царским вратам, взял лежавшее на аналое огромное, в позолоченном чеканном окладе Евангелиеи, не раскрывая его, в знак того, что все, содержащееся в этой тяжелой книге, он знает наизусть, начал:
— Бррра-ти-е-е!..
Грозное, низкое, кровожадное какое-то, рокотание диаконского баса затопило все немалое пространство храма, темной жадной водой плеснулось под самым куполом, заставило ознобно содрогнуться Бердяева. Он даже ссутулился вдруг и голову наклонил, будто оказался стоящим под угрозно нависшей над ним великой тяжестью.
«Вот таким должно быть слово верховной власти! Вот так чтобы доходило!.. Чтоб озноб и трепет!..» — неожиданно подумалось ему, и пальцы правой руки его, сложенные было в троеперстие, для крестного знамения, сжались в кулак. И мысль перескочила вдруг на то, чем жила до того, как он вошел в этот храм. Представилось, увиделось вновь, как в самое ближайшее время будет покончено с еще одним «осиным гнездом» в Москве. «А там надо будет как следует взяться за студентов-поляков. Их землячество, их Польское коло тут, в Первопрестольной, заметно оживилось. Надо, надо как следует приструнить их! Но! Вовремя и с умом! — Трубный возглас диакона заставил Бердяева вздрогнуть. — Господи, прости и помилуй! — Он вознес взор свой горе и перекрестился истово. — И в доме твоем не могу не думать о делах своих!..»
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
Вечером у Михаила собралось сразу пятеро бывших членов петербургского «Рабочего союза»: сам он, Иван Епифанов, Федор Афанасьев и два гостя из Тулы — Мефодиев и Руделев, приехавшие по приглашению Михаила. Приехали они почти в полдень, Михаил в обеденное время не успел поговорить с ними, да еще и Егупов явился к нему с такой важной новостью…
И вот они, впятером, сидели у горячего самовара, чувствуя себя как на празднике. Даже Иван Епифанов на сей раз был не таким скованным и молчаливым, вместе со всеми предавался воспоминаниям о Питере, об общих питерских знакомых и товарищах по организации.
Михаил рассказал гостям из Тулы все, что знал о жизни «Рабочего союза» за последние месяцы, рассказал, что дела в Питере идут неплохо, несмотря на аресты, случившиеся в конце минувшей зимы и в начале весны, что организованы новые кружки, что готовятся там к проведению второй маевки…
— Да, — со вздохом заметил Гавриил Мефодиев, — в Питере идет настоящая работа, а мы вот с Николаем Рудслевым оказались в этой Туле будто на острове… Пока еще не очень шибко идут наши дела…
— Что верно, то верно, — согласился с ним Руделев.
— Признаться, и мы тут, в Москве, почти не в лучшем положении, — сказал Михаил, посмотрев сначала на Афанасьева, затем на Епифанова. Афанасьев напряженно кашлянул, Епифанов опустил глаза.
— А помнишь, Михал Иваныч, — Мефодиев хитро усмехнулся, — про свою «прогрессию»-то?! Как по ней все гладко выходило!..
— Да, был такой грех, — усмехнулся ответно Михаил. — Замечтался тогда! Теперь сам вижу…
Как-то, на очередном занятии, излагая рабочим своего Гаванского кружка эволюционную теорию Дарвина, он пришел к неожиданной, тут же захватившей, увлекшей его мысли о распространепии передовых идей в рабочей среде и о том, как скоро это распространение должно привести к желанному результату. Померещилась некая «прогрессия»… Он тут же и принялся объяснять своим кружковцам суть этой «прогрессии»:
— Смотрите, друге, как все просто!.. Допустим, имеется двадцать хорошо подготовленных для революционной пропаганды рабочих. Если каждый из них через два года подготовит таких же двоих, то там, где было двадцать, будет уже шестьдесят! А еще через два года вместо шестидесяти окажется сто восемьдесят! А еще через два — пятьсот сорок! А затем — тысяча шестьсот двадцать, а там — четыре тысячи восемьсот шестьдесят!.. То есть через десять лет первоначальное число увеличится в двести сорок три раза!.. Это же — потрясающе! С такой силой уже горы можно своротить!..
В возбуждении он широко улыбался сидевшим перед ним людям, потирая ладонью затылок. Так все ясно и просто было по этой его «прогрессии», так заманчиво!.. Вот осуществить эту счастливо пришедшую идею, и… Даже дух захватывало от воображенного результата!..
— Понятная штука!.. — солидно кивнул Федор Пашин и врастяжку, почти нараспев, повторил незнакомое слово: «Прогрессия…» И, повторив, словно бы спохватился: — Но про жандармов-то забыли!.. Они эту «прогрессию» мигом нарушат!..
— Не исключено… — Михаил кивнул ему. — Но ведь продолжать дело можно и в местах высылки или ссылки… Наше дело, таким образом, будет расширяться, охватит другие места и города, нас будет уже так много, что мы обязательно придем к своей победе и весьма скоро придем! Только постоянно готовиться надо, действовать!..
Тогда, в увлеченности этой идеей насчет «прогрессии», он изложил ее суть и в Центральном рабочем кружке. Вроде бы все гладко получалось по ней. А вот в самой жнзни, оказавшись в отрыве от «Рабочего союза», увяз он в рыхлой организации Кашинского и Егупова…
— Нечего сказать! Увлекся я тогда… — продолжал Михаил. — На деле все сложней, поскольку и жизнь сама сложной любой придуманной нами хитрости. Вот — оказались мы с Афанасьичем в Москве, в новой обстановке. Много ли удалось нам сделать? Хвастать пока нечем. Вошли в организацию. А организация какая? Полустуденческая, полународническая, полумаркснстская… Многое в ней не так и не туда клонится, а направить по-своему, как надо, — нет сил. Мы — меньшинство. К тому же пришельцы. И другое надо взять в расчет: в Питере у нас организация в основном рабочая, как и должно быть, а тут из рабочих — опять же один Афанасьич. Такого быть не должно! Пока же укрепить организацию за счет прилива рабочих нет возможности, ибо слабы или почти вовсе отсутствуют связи со здешними фабриками и заводами. Без более широкого участия в организации рабочих этих связей не установить. В ближайшее время я хочу съездить в Питер и поговорить там насчет переезда в Москву кое-кого из нашего «Союза». Вот тогда и здесь мы сможем развернуться как следует! Есть у меня в Питере подходящий парнишка. Думаю устроить его у себя в депо. Через него вполне можно будет вести пропаганду среди наших рабочих. Толковый малый! А рабочие подходящие у нас, в мастерских, есть. Только мне, инженеру, трудно войти с ними в сношения. Нужны рабочие-посредники. Хочу вызвать сюда еще и Наташу Григорьеву… Помните такую?..
— Эту Наташу-швею?.. — спросил Мефодиев.
— Ее, — Михаил кивнул.
— Толковая девка! — заметил Руделев.
— Так вот и собралась бы у нас сила! — торопливо продолжил Михаил. — Устроиться нашим на работе можно здесь же на Пресне. Здесь много всего! Взять хоть «Трехгорку»: несколько тысяч рабочих сразу! Даниловский сахарный завод, заводы Оссовецкого, братьев Мамонтовых…
— Да, конечно, вам тут надо иметь надежных, своих людей! Без широкой поддержки рабочих, грамотных, понимающих, что к чему, не обойтись! — сказал Мефодиев, крепко пристукпув ладонями по столу.
Михаил улыбнулся невольно: такой знакомый жест, столько в нем уверенности и основательности!..
К Мефодиеву он всегда испытывал чувство особенной приязни. Не одним именем, но и характером тот напоминал ему старшего брата.
Мефодиев — потомственный питерский пролетарий, родился и вырос в Питере, жил там до апреля прошлого года, до ареста и высылки в Ревель. С двенадцати лет он стал учеником на фабрике, затем поступил в инструментальную мастерскую Варшавской железной дороги, где проработал токарем шестнадцать лет. Образование у него вовсе небольшое (всего один год учился грамоте в железнодорожном училище), но через самообразование, через чтение книг и занятия в рабочих кружках многого достиг в своем развитии, стал неплохим оратором. Имел он и немалый опыт конспиративной работы, которую начал еще лет десять назад в одном из рабочих кружков «Народной воли». В «Рабочем союзе» Мефодиев был одним из главных организаторов.
За разговором Михаил не заметил, как время подошло к двум часам ночи. Спохватился:
— Ого, други, как мы забеседовались! Спать, спать пора! Завтра-послезавтра еще наговоримся! Будет время!..
И оба тульских гостя, и Федор Афанасьев ночевать остались у него. Уже лежа в постели, Михаил слышал, как они переговаривались вполголоса в соседней комнате, где им было постелено:
— Да, нынче у Михал Иваныча, как у тебя в Сивках!..
— И не говори, Афанасьич! Так-так!..
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Следующий день вновь был суетным для Егупова. В этот день он повидался на квартире Векшина с Борисом Громаном и Алексеем Первушиным, пригласил их прийти в субботу, под пасху, на вечеринку к Брусневу.
С заговорщицким видом втолковывал обоим «техникам»: «Собираться будем по двое, по трое, в разное время. Мы должны прийти к Брусневу в четверть десятого, так что вы оба ждите меня здесь же, у Векшина, я за вами зайду, отсюда мы вместе и отправимся. Оденьтесь в статское платье!..»
Передав им свежий экземпляр брошюры «Русский рабочий в революционном движении», он помчался к Никитской в Полуэктов переулок, где ожидал его «Семен Григорьевич — Франц Ляхович…». Тот, истомленный ожиданием и неопределенностью своего положения, сразу заговорил о том, что ему неудобно и далее оставаться у незнакомой, ничего не подозревающей женщины да еще с таким чемоданом, что от содержимого этого чемодана ему надо поскорее избавиться, после чего он намерен перебраться в гостиницу, где пропишется по заграничному виду…
Егупов аж руками на него замахал:
— Да вы что? Вы же сразу попадетесь! В гостиницу — ни в коем случае! На вас же сразу обратят внимание! Рабочий! Из-за границы! Франц Ляхович!.. Да вы что? Только не в гостиницу! Я вас завтра же пристрою к кому-нибудь из своих знакомых. По Москве только что прокатилась волна обысков и арестов! Мы тут живем в последние дни как на бочке с порохом! Нужна осторожность и осторожность!.. — тут он кинул опасливый взгляд в сторону окна, за которым виднелся уголок уютного московского дворика, освещенного уже предзакатным солнцем, там, устроившись на небольшом штабельке теса, кухарка Никитской сушила только что намытую дубовую пасоченцу.[6]
— Вы меня простите, Семен Григорьевич: теперь я не имею времени, должен спешить на встречу с одним человеком… — продолжал Егупов многозначительно. — Завтра я устрою вам ночлег в другом месте, там мы поговорим обо всем…
— Но — хотя бы чемодан!.. — заикнулся Семен Григорьевич.
— Ах, да! — Егупов хлопнул себя по лбу. — Совсем было забыл. За чемоданом вот-вот должен приехать наш человек. Он вам скажет, что приехал от Михаила Михайловича, от меня стало быть. Чемодан этот человек отвезет в надежное место. Ну а насчет всего дальнейшег потолкуем потом! Не беспокойтесь! Ждите меня завтра Впрочем, за вами может прийти и кто-либо другой! — тряхнув на прощанье руку вовсе растерявшегося заграничного эмиссара, Егупов выскользнул за дверь.
«Семен Григорьевич — Франц Ляхович и прочая, и прочая», метнувшись к окну, успел увидеть лишь спину промелькнувшего «руководителя московской революционной группы» (так сказано было ему об этом человеке в Варшаве)… Он даже фамилии его не знал. В Варшаве названо было лишь имя-отчество этого «руководителя», и сам он, при знакомстве, назвался лишь по имени-отчеству.
Райчин сгорбленно замер у окна, почувствовав вдруг странную ватность, размягченность во всем теле. Столько дней жил единым напряжением, готовностью встретиться с любой опасностью, с такими надеждами ехал сюда, в Россию, в Москву, и вдруг столкнулся с какой-то неопределенностью… Проявив немалую радость по поводу привезенных нелегальных изданий, этот Михаил Михайлович вот уже второй день словно бы ускользает от него…
«Уж не водит ли он меня за нос?.. — подумалось вдруг Райчину. — Может быть, тут и нет никакой серьезной революционной группы?.. Но нет же, в Варшаве мне говорили!.. Сомневаться нельзя! Ведь существуют же здесь на самом деле те явочные адреса, которые мпе дали варшавские знакомые этого «Михаила Михайловича». Возможно, он не доверяет мне?.. Но где основания для этого?.. Одни шифрованные записки, которые я привез, уже говорят в мою пользу… Впрочем, осторожность понятна. В Варшаве тоже не вдруг мне поверили… Но я же приехал не сидеть тут по конспиративным квартирам, а действовать!..»
Райчин покинул Россию около семи лет назад. В Швейцарии, в Винтертуре, он окончил техническое училище, после чего переехал в Женеву, где сблизился с Плехановым и стал работать в типографии группы «Освобождение труда». В Женеве он серьезно занимался самообразованием, читал работы Маркса и Энгельса, немецких социал-демократов. Являясь членом женевского Общества польских рабочих, он выступал на его собраниях. Вообще он тяготел к самостоятельной революционной деятельности, роль заведующего типографией группы «Освобождение труда» не очень-то устраивала его. И вот самим Плехановым ему было предложено — съездить в Россию, завязать сношения с основными русскими и польскими революционными группами, даже попытаться объединить их под эгидой группы «Освобождение труда», если представится возможным такое… В поездку он отправился не с пустыми руками…
Русскую границу Райчин пересек 20 марта. Приехав в Варшаву, он разыскал там Даниила Вислицкого, которого хорошо знал по годам совместной учебы в Винтертуре. Спустя неделю Вислицкий пристроил его на конспиративной квартире социал-демократической группы Иваницкого — Пескина, а затем познакомил со своими товарищами по «Союзу польских рабочих».
Члены группы Иваницкого — Пескина не сразу решились на содействие Райчину, поскольку он показался им недостаточно конспиративным и мало подготовленным теоретически для ведения политических дискуссий с социал-демократами и народовольцами по столь непростому вопросу, как объединение общих сил основных революционных групп России. Однако Райчин заявил, что поручение дано именно ему, не кому-либо другому, дано самим Плехановым, а это — достаточно веский аргумент для того, чтоб ему было оказано полное доверие. И доверие было оказано. От Шумова и Рункевича Райчин получил адреса Авалиани и Никитской в Москве для встречи с Егуповым.
После свидания с Райчипым Егупов направился к себе на квартиру. В голове его все шло кругом. Столько забот свалилось разом! А тут еще этот «пекарь из Щигров», этот Филатов, которому он, несмотря ни на что, пообещал дать «нелегальщины»… Сделать это можно было не вдруг, сначала надо было с помощью Петрова понадежнее пристроить чемодан «Семена Григорьевича — Франца Ляховича и прочая, и прочая». Пока же Филатова предстояло куда-то определить на ночлег, у себя оставлять его еще на одну ночь Егупов никак не хотел.
На квартире поджидал его Авалиани. Он взялся устроить ночлег Филатову у какого-то своего земляка-приятеля лишь на следующую ночь, так что Егупову пришлось примириться с тем, что нежелательный гость останется у него еще на одну ночевку. Семена Григорьевича он решил определить на субботний ночлег к Василию Дмитриеву.
Вернувшийся на квартиру уже поздно вечером Михаил Петров сказал Егунову, что чемодан им перевезен на Большую Сернуховку, в дом Общества приказчиков, в котором жила его замужняя сестра Елизавета Подгорнова.
— Забыл тебя попросить вот еще о чем, — сказал Егупов, поблагодарив друга за оказанную услугу. — Ты завтра или послезавтра составь список всего привезенного, выпиши все названия брошюр и против каждого названия проставь количество экземпляров. Список мне нужен: надо точно знать, чем мы располагаем.
— Обязательно составлю! — пообещал Петров, с усмешкой подумав про себя: «Уже составлен такой список, только не для твоей милости и не мной, а кем следует…»
— Про завтрашний вечер не забыл? — спросил Егупов.
— Как можно?!.
— У меня завтра день опять суетливый. Убегу с утра, так что ты запомни: у Бруснева вы должны быть в половине девятого. Авалиани и Вановского я уже предупредил. Соберетесь здесь. Втроем и отправитесь, Вановский вас отведет. А я зайду за «техниками» к Векшину. Мы придем попозже.
— А этого куда? — Петров кивнул в сторону соседней комнаты, из которой доносилось похрапывание «пекаря из Щигров», уже давно спавшего.
— Его Авалиани отведет ночевать к какому-то своему знакомому. Ты тут без меня — осторожнее с ним в разговорах!
— Что я — не понимаю?! — Петров изобразил искреннюю обиженность.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Наступила страстная суббота. В полдень Авалиани отвез Филатова к своему приятелю, затем отправился, по договоренности с Егуповым, к Никитской, откуда вместе с заграничным гостем поехал к Василию Дмитриеву.
Егупов, успевший с утра обежать пол-Москвы, в это время, по пути к Дмитриеву, повстречал Громана и Первушина и сказал им, чтоб они стукнули часов в семь в окно квартиры Дмитриева, на этот стук он выйдет в поведет их к Брусневу. Егупов опередил Авалиани и его спутника, оказавшись у Дмитриева раньше их: ему заранее надо было договориться с Дмитриевым насчет ночлега для Семена Григорьевича. Однако Дмитриева он дома не застал. Занимал тот со своим однокашником Буржинским две комнаты. Буржинского дома тоже не было. В комнате Дмитриева трое учащихся Технического училища чертили какой-то план. Егупов решил было подождать Дмитриева на улице, но в прихожей послышались шаги. Вошли Авалпапп и Семей Григорьевич. Авалиапи тут же ушел, сказав, что спешит по делам. Егупов пригласил Семена Григорьевича в комнату Буржипского. Плотно притворив двустворчатую дверь, оп окинул бедно обставленную комнатушку быстрым взглядом, кивком пригласил Семена Григорьевича садиться. Сел и сам.
— Вот тут вы и переночуете сегодня, а там поглядим, — сказал он. — Возможно, подыщем что-нибудь другое.
— О, теперь я вижу: у вас тут, в Москве, действительно целая организация! Признаться, я не думал! — Семен Григорьевич как-то искательно улыбнулся. — Я полагал, что есть, в лучшем случае, лишь разрозненные кружки, и мне представлялось, что я своими речами в этих кружках поспособствую их объединению в организацию, а также объединению с организациями других городов. Но, так или иначе, я думаю, что мне надо будет задержаться в Москве. Надеюсь, что своими знаниями и. практичностью я буду здесь полезен…
— Напрасно вы думали, что в Москве все так слабо! — перебил Егупов. — Я заметил по своим варшавским знакомым: есть такое заблуждение, мол, в России революционная деятельность ещо в самом зачаточном состоянии. Но здесь у нас есть уже и боевые организации, и стремление их к объединению!
Семен Григорьевич так и просиял:
— Мне очень-очень приятно все это слышать! А потому моя задача должна измениться. Я имею от Плеханова еще несколько серьезных поручений… Но о них я могу говорить вполне открыто, лишь зная, каково направление вашей организации, каков, так сказать, образ мыслей руководителей ее.
— Мы — за самую активную борьбу с существующим строем… — уклончиво сказал Егупов.
Почувствовав, что имеет дело не просто с единомышленником, но и с родственной натурой, Семен Григорьевич разоткровенничался:
— Мне, раз уж я оказался здесь, надо бы встретиться и поговорить с русскими рабочими, а также со здешними революционно настроенными интеллигентами…
— Насчет встречи с рабочими теперь очень сложно… — сказал Егупов. — Я уже говорил вам о том, что прошли тут у нас обыски и аресты… Ну а о встрече с нашими интеллигентами… можно подумать… Только предупреждаю, что из-за опасности теперешнего положения очень может быть и так: поговорить вам придется лишь со мной…
— Что же… Если не будет возможности более широкой встречи, то я согласен переговорить обо всем и лично с вами. — Семен Григорьевич развел руками и, улыбнувшись, сказал: — Может быть, мне больше повезет в других местах…
— Что вы имеете в виду? — спросил Eгупов, насторожившись.
— В моих дальнейших планах — поездки в Ростов и Воронеж… У меня есть там несколько адресов…
— Вот этого вам делать нельзя!
— Почему же?
— Ездить теперь по России по заграничному виду на имя рабочего Франца Ляховича?! Да вы что? Вы сразу же привлечете к себе внимание!
— А вы не могли бы достать для меня чужой вид?
— Нет.
— Как же так?! Вы называетесь организацией! Вам же надо рассчитывать на связь с эмигрантами, привлекать их к кружковой работе!.. Ведь они, как люди опытные, могут принести большую пользу! Но вот из-за какого-то вида на жительство это невозможно… Порядочная организация обязательно должна иметь на всякий случай несколько видов для приезжающих из-за границы. Вот, например, я! Отлично знаю ведение типографского дела, кроме того, я — механик, а стало быть, могу устроиться на любой завод и вести пропаганду среди рабочих. В этом у меня большая заграничная практика. Разве вам не нужны такие люди?! Нужны! А как вы их привлечете, если не имеете самого элементарного?!.
— Видите ли… — уклончиво ответил Егупов, поморщившись (приходится повторяться!), — очень сложное время теперь… Обыски, аресты… Деятельность организации нам необходимо временно свернуть, поскольку все теперь связано с большим риском…
— Я понимаю… — сказал Семен Григорьевич, и Егупову послышалось в этом «я понимаю» плохо скрытая ирония. Он почувствовал себя уязвленным и заговорил вдруг резко:
— Нет, вы, видимо, не совсем понимаете, сколь непростое время мы тут переживаем. Вам к этому надо отнестись посерьезнее. Если вы хотите вести со мной дальнейшие переговоры и повидаться с кем-либо из моих товарищей, без согласия с которыми я ни о чем положительном не могу с вами договориться, то вы должны здесь, в Москве, ни с кем более не встречаться и по окончании переговоров с нами сразу же возвратиться в Варшаву, а там — и за границу, как можно скорее, нигде не задерживаясь и не прописываясь по своему заграничному паспорту.
— Хорошо, хорошо! Я согласен! Мне много говорили о вас в Варшаве, я верю вам! — торопливо сказал Семей Григорьевич, словно бы опасаясь, что все вдруг может расстроиться.
Егупов, глянув на часы, поднялся. Было уже около семи, а Дмитриев все не появлялся, да и в окно, как было условлено, вот-вот должны были постучать.
— Мне надо сейчас уйти, — сказал он. — Вы оставайтесь. Я напишу записку хозяину квартиры. Он, должно быть, скоро объявится…
Вырвав из записной книжки листок, Егупов быстро написал карандашом: «Василий! Прошу тебя дать переночевать у себя подателю сей записки. С ним ни о чем, что касается меня, не говори и фамилии моей не сказывай».
Записку он передал было Семену Григорьевичу, сложив се наподобие аптечного пакетика, но тут же услышал в прихожей шаги и голос Дмитриева.
— Ну вот и хозяин пожаловал! — воскликнул он и, взяв записку назад, вышел в прихожую. Поздоровавшись с Дмитриевым, почти шепотом заговорил с ним о ночлеге для Семена Григорьевича, выдав того за студента Рижского политехникума, которому негде остановиться в Москве. Дмитриев принялся было отказываться, ссылаясь на то, что ему надо готовиться к экзаменам, но Егунов бесцеремонно ввел его в комнату, где продолжал сидеть Семен Григорьевич, и, не дав Дмитриеву опомниться, громко сказал:
— А вот и гостеприимный хозяин сих апартаментов! Знакомьтесь, Семен Григорьевич! Это — мой добрый приятель Василий Дмитриев! Он чрезвычайно рад приютить вас у себя!..
В это время раздался стук палки по наличнику окна, в. почти пропев: «Это — за мной! Это — за мной!..», Егупов выскользнул за дверь. Дмитриев и рта не успел раскрыть.
К Малой Грузинской Егупов с Громаном и Первушиным пришли раньше назначенного времени, так что им пришлось покружить по ближайшим улочкам и переулкам. Ровно в четверть девятого они вошли в квартиру Бруснева, где у;ке было несколько человек: Анна Рыжкина, Афанасьев, Мефодиев и Руделев. Около девяти часов пришли Вановский, Авалиани и Петров, в четверть десятого появились еще трое — Кашинский, Квятковсквй и Терентьев.
Перед началом собрания Анна Рыжкина заняла всех тем, что принялась пересказывать содержание гектографированной брошюры, которую ей случайно удалось прочитать у своей знакомой, тоже курсистки.
Михаил, прочитав накануне брошюру Плеханова «Русский рабочий в революционном движении», принесенную ему в четверг Егуповым, нашел ее для чтения на собрании неподходящей. Когда все оказались в сборе и собрание можно было начинать, он сказал об этом Кашинскому и Егупову. Посоветовавшись, решили отказаться от чтения статьи. Для чтения избрали отрывок из романа Степняка «Андрей Кожухов», опубликованный в «Социал-демократе». Прочесть его предложили Анне Рыжкиной.
В половине десятого началось собрание. Поднялся Кашинский и, опершись длинными, тонкими пальцами о стол, сказал:
— Итак, друзья, сегодня мы впервые собрались в таком солидном составе! Все присутствующие на этом собрании — не просто зрители, но у каждого есть свое конкретное дело, которое каждый и ведет! — Тут он откашлялся со значением и высоко вскинул брови. Весь он был исполнен важности и значительности.
Михаил, глядевший на него, невольно вдруг вспомнил, что конспиративная кличка у Кашинского — Генерал. Едва справился с собой, чтоб не рассмеяться: важность была и впрямь генеральская.
— Теперь, вот в эти самые часы, по всей несчастной голодной России люди стекаются к храмам, — продолжал Кашинский, покосившись на темные по-ночному окна. — У нас с вами свой праздник — вот это наше собрание, у нас с вами свой бог — борьба! Пусть нас пока немного, но настанет день, и наш бог, наша борьба, будет иметь на своей стороне не единицы, не десятки, а тысячи и миллионы! Вот ради того, чтоб это было именно так, мы с вами и объединились в единую организацию!..
Кашинский говорил довольно долго и пафосно. Затем Лина Рыжкина приступила к чтению. Читала она слишком тихо и торопливо, так что вскоре ее сменил Вановский.
Во время чтения в другой комнате Епифановыми был накрыт стол, туда все и перешли по окончании чтения, чтоб перекусить и выпить чаю. Разговор не вязался, хотя Кашинский и старался оживить его, предлагая обменяться мнениями по поводу прочитанного отрывка.
Егупов сказал, что Степняк неверно осветил мотивы, которые заставляли деятелей партии «Народная воля» совершать политические убийства.
— Из этого отрывка выходит, — продолжал он, — что толчком к террору в прошлом служила месть за осужденных товарищей. Мне же кажется, что ими руководили отвлеченные идеи «для общего блага» и невозможность вести более мирную революционную деятельность при тех условиях.
— А мне думается, что Степняк прав, — коротко возразил ему Вановский.
На этом весь разговор по поводу прочитанного и завершился.
После чаепития все опять перешли во вторую комнату. Тут Михаил обратился к Егупову, попросив его высказать мнение о том, какую основную задачу должны ставить перед собой современные революционеры.
Коротко очертив направления прошлых революционных брожений среди интеллигенции, Егупов заговорил о «текущем моменте»:
— Следует указать на разноголосицу теперешних революционных мнений. Основной вопрос, как я полагаю, — вопрос об участии рабочих в революционном движении. Хотя среди рабочих и необходимо создавать организации, но при настоящих полицейских условиях ото выполнить крайне трудно. Поэтому главная организационная работа должна вестись среди интеллигентских слоев нашего общества. Среди же рабочих ее надо вести так, чтоб не терялась лишь связь с ними. В случае же достижения путем террористической борьбы представительного правления в России при новых полицейских условиях, которые должны быть несравненно легче, надо будет двинуть в рабочую среду всю интеллигентскую организацию для возможно скорейшего составления рабочей организации, которая могла бы принять участие в политической жизни при представительном управлении страной. Я имею в виду составление социал-демократической партии наподобие такой, какая уже есть в Германии и других европейских государствах. Последние обыски и аресты, случившиеся здесь, в Москве, и в Варшаве, подтолкнули меня именно к таким выводам…
Михаила подмывало перебить Егупова, но он дал ему договорить. Затем поднялся, словно бы попружинил, но привычке, руками воздух перед собой.
— К сожалению, мне придется повториться, — начал он. — Я уже излагал свою точку зрения на «рабочий вопрос», уже говорил о том, что революционное движение в России может победить только как революционное движение рабочих. И вот опять слышу рассуждения насчет «террористической борьбы», насчет ставки на интеллигента-террориста… Приходится вновь повторять, разъяснять, что главным в государственной жизни являются экономические вопросы, ане вопросы политические, юридические.
— Все это мы знаем, — вскочил напротив него Кашинский. — Я готов повториться тоже, что рабочие — великая сила, организованные рабочие! Но!.. Эта сила пока что не может быть использована достаточно широко. Я полагаю, что ей конечно же незачем отсиживаться, дожидаясь, когда придет ее час, когда ее пригласят к участию «в политической жизни при представительном управлении», как выразился наш Михал Михалыч… — Кашинский язвительно усмехнулся. — Она вполне может участвовать наравне с интеллигентами-революционерами вупомянутой им террористической борьбе!
— Ну вот, — Михаил развел руками, — еще полегче! Какое-то помешательство на терроре!..
Так, стоя друг перед другом, они заспорили, по вскоре Михаил махнул рукой, отказавшись от бесполезной траты слов, опустился на место: с Кашинским, вошедшим в раж, спорить невозможно, он просто не слышит никаких доводов другой стороны… Заключил тот тем, что рабочую партию в настоящее время составить невозможно, стало быть, самое реальное — составить боевую организацию из интеллигентов и рабочих для борьбы с правительством, причем «для ускорения результатов этой борьбы можно воспользоваться и механическими смесями, то есть взрывчатыми веществами…». Кашинский тут же сослался на какого-то французского профессора Колло, который вроде бы так прямо и утверждал, что прогресс ускоряется взрывчатыми веществами…
Когда Кашинский кончил наконец говорить, Вановский заметил: мол, тот, по сути, сказал то же самое, что и Егупов, лишь не так резко.
Все примолкли вдруг, наступила неловкая пауза.
— Буммм!.. — стекла в окне слегка задребезжали. Густой, низкий гул вплыл в прокуренную комнату через распахнутую настежь форточку. Все, как по команде, поглядели в сторону окна.
— Иван Великий заговорил! — каким-то осевшим голосом сказал Егупов.
Гул долго не терял своей устойчивой силы, замирал медленно, словно бы накрывая собой ночной город, расстилаясь над ним.
С новым ударом самого большого кремлевского колокола грянули сначала другие большие колокола, за ними — средние, за средними — малые колокола-подголоски, и заиялась, разгорелась незаливаемым пожаром медная музыка Ивана Великого. И тут же, как по сигналу, ожило многоголосье всех колоколен и звонниц Москвы, по-праздничному освещенных зажженными плошками.
— Ну что ж… — Михаил оглядел сидящих за столом. — Может быть, прервемся? Кто хочет — пейте чай! Под такой звон только чаи и гонять!
Все поднялись, переговариваясь, потянулись в соседнюю комнату.
— Пойдемте-ка на кухню, — Михаил кивнул Егупову и Кашинскому, — пусть тут пока почаевничают без нас…
На кухне он обратился к Егупову:
— Нам надо потолковать о привезенных из-за границы брошюрах…
— Да, да! — подхватил Кашинский. — Эти брошюры прибыли как нельзя кстати. Они так необходимы в теперешней ситуации.
— Вы поговорили с этим… Семеном Григорьевичем? — спросил Михаил, обращаясь вновь к Егупову.
— Поговорил!
— Ну и что он?..
Егупов коротко изложил суть своих разговоров с Ляховнчем, добавив:
— Как видите, он ищет более тесных контактов с нами…
— Насчет этого надо подумать. Надо быть осторожней! С приезжающими из-за границы дело иметь опасно, — Кашинский нервно поерошил волосы. В нем еще не улеглось возбуждение спорщика.
— Да, с этим приезжим надо быть осторожней, — согласился Егупов. — Но, судя по впечатлению, которое он на меня произвел, с ним все-таки следовало бы нам встретиться и поговорить. Конечно, если за ним ничего не окажется после ночлега у Дмитриева. Один я могу составить о нем ошибочное мнение.
— Ладно, об этом мы окончательно договоримся завтра вечером, — Михаил спохватился: — Ой, какое там «завтра», ведь час ночи уже! Стало быть, сегодня вечером. Соберемся опять у меня. Нам еще надо будет потолковать с тульскими гостями поконкретпей, а то мы сегодня больше друг с другом пикировались… Завтра ночью они уедут к себе, в Тулу. Давайте-ка вернемся к ним! Как бы не обиделись там: мол, обособились, секретничают… — он кивнул на стенку, за которой слышались приглушенные голоса. — Да и расходиться пора, Анне Федоровне, наверное, спать не даем…
Разошлись, однако, лишь в три часа. Уже растекались из храмов по домам под колокольные перезвоны прихожане. В рассветных сумерках слышалась то и дело перекличка: «Христос воскресе!..» — «Воистину воскре-се!..»
Мефодиев, Руделов и Афанасьев остались ночевать у Михаила.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Райчин, переночевав пасхальную ночь у Дмитриева, уехал от него наутро к Никитской. В полдень туда же явился Егупов, побывав сначала у Дмитриева и расспросив его о Райчине: не заметно ли было за ним чего-либо подозрительного? Подозрительного Дмитриев ничего не заметил.
Рейчина и Никитской дома не оказалось. «Барыня с детьми и с Семеном Григорьевичем пошли гулять на Девичье поле», — сказала Егупову прислуга Никитской. Он остался ждать их.
Вернулись они вскоре. Радушная хозяйка предложила Егупову отобедать у нее. Он согласился.
После обеда Райчин опять заговорил было с ним насчет встречи с другими руководителями московской подпольной организации, на что Егупов ответил уклончиво, попросив подождать еще немного.
— Скорее всего, определенно об этом я смогу вам сказать лишь завтра. А сегодня вы отдыхайте. День — праздничный. Походите по Москве, посмотрите на нее!.. Перепочуете вы, наверное, здесь, у госпожи Никитской?..
— Нет, это неудобно, даже невозможно!..
— Что так?
— Я уже сказал ей, что перебрался к вам на квартиру…
— Да, поторопились… — Егупов досадливо поморщился. — Ну… тогда… поезжайте опять к Дмитриеву.
— Хорошо…
Около семи вечера Егупов вновь был у Бруснева, где застал Кашинского, Афанасьева и гостей из Тулы, которые в этот же вечер должны были уехать домой.
Разговор сначала зашел о том, как установить с туляками более тесные отношения, как помочь им в пропаганде среди рабочих.
Михаил предложил Егупову с наступлением лета поочередно ездить в Тулу, где Руделев и Мефодиев к каждому их приезду будут организовывать им встречи о рабочими. Тут же договорились и о том, что 1 мая, по старому стилю, Руделев и Мефодиев устроят сходку рабочих на квартире у кого-либо из них— для «семейного» празднования этого дня. На эту сходку Михаил пообещал приехать сам.
Вскоре туляки ушли на вокзал. Федор Афанасьев отправился их провожать.
После их ухода Михаил спросил Егупова:
— Ну как заграничный гость?
— Я считаю, что нам надо с ним встретиться, вот так — втроем, поговорить обо всем, — ответил Егуцов.
— Да, повидаться с ним, пожалуй, надо, — согласился Михаил.
— Я тоже — за эту встречу, — кивнул и Кашинский.
— Тогда поступим так, — предложил Михаил, обращаясь к Eгупову. — Завтра, к десяти часам вечера, когда уже как следует стемнеется, вы приведете его сюда, ко мне. К вашему приходу я погашу на лестнице лампу, чтоб он не прочел на дверях моей визитной карточки. Он не должен знать наших фамилий.
— Хорошо. К десяти часам я приводу его, — сказал Егупов и добавил: — У меня есть вот какое предложение. Мне надо немедленно съездить в Варшаву. Во-первых, я разузнаю там все о Райчине. Во-вторых, в скором времени там заканчивают обучение Иваницкий и Андрусевич. Попробую уговорить их перебраться сюда, в Москву. Они вполне могли бы подыскать себе место на каком-нибудь московском заводе. В-третьих, мне надо договориться со своими варшавскими знакомыми насчет того, как лучше и скорее пересылать в Москву будущие транспорты нелегальной литературы. По пути я думаю заглянуть и в Ригу. Квятковский обещал мне на четверг достать даровой билет на проезд до Бреста и обратно.
— Ну что ж… поезжайте! — разрешающе сказал Кашинский. — О подробностях поездки поговорим потом. Теперь я спешу: надо повидаться с одним человеком. Через него вроде бы можно выйти на интересный кружок… Вскоре он ушел. Егупов же остался и пробыл у Михаила до первого часа ночи.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Утром Егупова разбудил Михаил Петров, собравшийся на службу. Он передал ему список брошюр, находившихся в чемодане Райчина.
— Вот сделал все, как ты просил. Тут указано и число экземпляров к каждому названию.
— Молодец! — похвалил его Егупов. — А как насчет брошюр для Филатова?
— Я их уже отобрал. К его приходу, часам к двум, забегу на обед — занесу.
— Молодец! — еще раз похвалил Егупов.
Около двенадцати к нему пришел Вановский. Вскоре появился и Петров. Он принес брошюры для Филатова, который вот-вот должен был прийти за ними.
— Ну, сколько мы за них возьмем с нашего «пекаря»? — спросил Егупов, не без самодовольства глянув на Вановского, которого брошюры, разложенные Петровым на столе, словно бы заставили преобразиться.
— Я полагаю, не меньше сорока рублей, — сказал Вановекий.
— Да, меньше никак нельзя! — согласился Егупов с такой миной на лице, как будто вести подобные разговоры для него было делом давно привычным, даже обыденным. Он тут же по-хозяйски пожурил Петрова: — Конспиратор, Миша, из тебя пока не очень! Кто же т а к о е распихивает по карманам?! Это тебе — не какие-нибудь памятные книжки, а запрещенные, не-ле-галь-ны-е!.. Впредь давай будь поосторожней! Придумал бы какую-нибудь хитрость, а то напихал во все карманы таких брошюр, аж раздуло всего, как утопленника, и вышагивает по Москве!.. А что, если бы тебя задержали?! А?! Ведь не открутился бы! А вот если бы у тебя в руках был какой-нибудь сверточек или узелок, который ты — в случае чего — «просто нашел на улице», — было бы другое дело! Учиться надо конспирации!
— Учту на дальнейшее! — скромно ответил Петров.
— Да уж учти! Тем более что ты у нас — вроде хранителя! Может быть, в самое ближайшее время тебе придется иметь дело с транспортами куда крупней!..
Вскоре появился и Филатов. Егупов показал ему приготовленные брошюры и назвал цену. Тот сразу же согласился, сказав, что вышлет эти деньги на имя Вановского, как только возвратится к себе в Щигры.
Уложив брошюры на дно объемистого саквояжа, раздутого московскими покупками, Филатов тут же ушел, он торопился на поезд. Следом за ним ушел и сам Егупов, оставив Вановского у себя. Он направился сразу к Никитской, где должен был ожидать его Райчин после ночевки у Дмитриева.
— Ну как?! Какие новости?! — встретил его вопрошаниями истомившийся в ожидании заграничный гость.
— Могу вас порадовать: сегодня вечером с вами встретятся два представителя нашей организации!
— Вот как! Прекрасно! — просиял Райчлн.
— Я им пообещал, что вы подробно расскажете о загранице и о целях, ради которых хотели с ними встретиться…
— А как же иначе?! — воскликнул Райчин. — Обязательно расскажу! Затем, собственно, я и приехал!..
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Около семи часов вечера они вышли от Никитской. Егупов был сверхосторожен. Он то и дело озирался и оглядывался, в каждом прохожем ему мерещился шпик. К тому же он решил как следует запутать и самого Райчина, чтобы тот не запомнил дороги к Брусневу. Сначала долго водил его по близлежащим переулкам, потом в Большом Афанасьевском переулке увидел извозчика, поджидавшего седоков, и предложил Райчину «немного прокатиться». «Куда ехать господам?» — спросил извозчик. — «Поезжай прямо! — Егупов неопределенно махнул рукой. — Я скажу, где свернуть». Далее он только приказывал извозчику, коротко выкрикивая то «направо», то «налево». Потом направил извозчика к углу Садовой-Кудринской и Большой Никитской. Тут он отпустил извозчика, заплатив ему полтину, и далее повел Райчина к Владимиро-Долгоруковской улице, где они вновь сели на извозчика и начали кружить по Пресне под короткие выкрики Егупова: «Направо!», «Налево!». Наконец Егупов направил извозчика к Тишинской площади, и тут с Райчиным что-то вдруг приключилось: он замычал, сильно закачал головой, словно бы сдерживая приступы рвоты.
— Что с вами?! — испуганно спросил Егупов, придвинувшись к нему.
Рэйчин опять усиленно закачал головой и наконец с трудом выговорил, вышептал:
— Это… я… изображаю… пьяного… но… на… самом доле… Я… Из… предосторожности… съел… шифрованные… записки…
Егупов посмотрел на него с недоверием и ничего более не сказал. На углу Тишинской площади он вновь щедро расплатился с извозчиком и глухими, уже ночными, переулками повел Райчина в сторону Малой Грузинской. В темноте запутать на Пресне не знающего Москвы человека — простое дело. Тут от Кудринской площади тянутся к заставам узкие улочки и кривые переулки с покосившимися домишками, рабочими казармами и огородами.
Шли молча. В Курбатовском переулке Райчин вдруг пробормотал, опасливо оглядевшись:
— Если тут убьют, то никто и не услышит… И ночь-то какая темная… В такую только чертям в свайку играть…
— Ничего, скоро придем, — откликнулся Егупов. Однако он поводил своего спутника взад-вперед еще и по Малой Грузинской. Наконец свернул во дворик — к двухэтажному флигелю с одним-единственным светящимся окном на втором этаже.
Ощупью они поднялись по темной лестнице. Егупов нашарил ручку звонка, подергал за нее. Дверь открыл Михаил. Второй день вся квартира была в его полном распоряжении. На первый день пасхи Епифановы с трех часов дня уехали в гости к инженеру Калишевскому и вернулись почти в полночь. В этот — второй— праздничный день уехали с самого утра в Кусково — к инженеру-технологу Семенову, где намерены были заночевать. Вернуться они предполагали лишь в среду, вечером. Иван, предупреждая Михаила об этом, конфузливо улыбался: «Решили с Аней пожить как истинные московские обыватели. Ей надо развеяться, отвлечься от тяжелых мыслей, от болезни… Доктора советуют…»
В последнее время Михаилу было особенно видно, как Иван все дальше отходит от него, как все больше меняется… И сам он, и жена его уже с явным неудовольствием смотрели на собрания и встречи, организуемые Михаилом. Правда, в страстную субботу они помогли ему накрыть стол для собравшихся у него, но тем и ограничились. Иван лишь раза два заглянул в комнату, где проходило собрание.
Заграничного гостя Михаил решил принять не в своей холостяцкой квартире, а на половине Епифановых. За полчаса до прихода Егупова и Райчина к нему пришел Кашинский. Он уже сидел в передней Епифановых, где было довольно уютно: круглый стол под камчатной скатертью, вокруг стола три мягких кресла, обитых черной клеенкой, здесь же — мягкий диван…
Кашинский, сидевший в кресле, поздоровавшись с Райчиным, но не назвав себя, пригласил его сесть рядом с собой в кресло, стоящее спинкой к входной двери. При этом, как бы машинально, он подвинул настольную лампу поближе к краю стола, так, чтоб лицо Райчина было хорошо освещено.
Михаил и Егупов опустились на диван, как раз напротив Райчина, в тени, за кругом света, падавшего от лампы.
— Ну что ж… — первым заговорил Егупов, глядя на Райчина. — Нам хотелось бы, Семен Григорьевич, для начала услышать о Плеханове, о его группе, чтоб иметь, так сказать, определенное представление…
Райчин кивнул и принялся рассказывать:
— В Швейцарии Георгий Валентинович больше не живет. Он вынужден поселиться во Франции, в Морне — пограничной деревушке. Из Швейцарии его выслали, как «нежелательного иностранца». Есть, знаете ли. такая статья… Из-за террористов пострадать пришлось… Три года назад под Цюрихом, в горах, два народовольца испытывали бомбу. Она у них не вовремя взорвалась, оба получили тяжелые ранения. Один из них даже скончался вскоре. С этого все и заварилось. Начались обыски, аресты, высылки. И не только одних русских политических эмигрантов это коснулось, но и кое-кого из русских студентов, обучавшихся в Швейцарии. В печати развернулась настоящая травля всех русских революционеров без разбору. Таким вот образом и Плеханова, и Веру Ивановну Засулич выдворили за пределы Швейцарии, при всем их самом критическом отношении к террору и анархизму…
Михаил посмотрел на Кашинского. Тот слушал, нервно покусывая губы. Глянул на Егупова. Невольно усмехнулся про себя: состояние их было настолько одинаковым, что сделало похожими их лица.
«Вот так-то приятели-бомбометатели!..» — подумал он, снова сосредоточив внимание на Ранчине.
— Георгия Валентиновича хотели выслать вместе с семьей, — продолжал тот. — Однако Розалии Марковне помогли женевские профессора, у которых она училась. Они добились отмены этого решения властей. Но теперь, чтоб посетить свою семью в Швейцарии, Георгий Валентинович должен выписывать разовый пропуск. Такая жизнь, знаете ли, крайне неудобна!..
— И, наверное, это сказывается на делах?.. — спросил Михаил.
— Да не сказал бы… — Райчин пожал плечами. — Он очень много работает! Вера Ивановна ему хорошо помогает: и выписки всякие добывает, и переписывает черновики. Достаточно сказать, что за это время ему удалось издать три номера «Социал-демократа»! Это литературно-политическое обозрение, по сути, целый журнал, как сами можете теперь убедиться, и многие статьи в нем написаны самим Георгием Валентиновичем… — Райчин вприжмурку посмотрел на Михаила. — Затруднения он испытывает, знаете ли, не в этом… Слаба все-таки связь с Россией, с ее рабочим движением. Собственно, ради налаживания этой связи я и оказался здесь, у вас… — он опять со значением глянул на Михаила, зацепил этим взглядом и Кашинского, и Егунова. Однако они никак не откликнулись на его последние слова, и он продолжал рассказ:
— Вообще за границей теперь очень осторожно ведутся дела. Работать стало весьма трудно. И в материальном смысле — тоже нелегко. Но несмотря на все сложности, о которых я сказал, жизнь группы весьма интересна.
Потом Райчин коротко рассказал о выступлении Плеханова на конгрессе II Интернационала в Париже, состоявшемся около трех лет назад, о том, как после конгресса Георгий Валентинович вместе с Павлом Аксельродом побывал у Энгельса в Лондоне…
Послушав еще несколько минут Райчина, Михаил незаметно подмигнул Кашинскому, затем сказал, обращаясь к нему же:
— Пойдемте-ка на кухню! Надо заняться самоваром. Поможете мне…
Поднимаясь с дивана, он коснулся плеча Егупова: мол, выйди с нами тоже. Они прошли в комнату Михаила.
— Ну, каково ваше мнение? — спросил он и кивнул в сторону прихожей, имея в виду оставленного в передней у Епифановых Райчина.
— На меня он произвел впечатление хорошее. По-моему, с ним стоит войти в более близкие сношения, — сказал Кашинский.
— Я — того же мнения, — поторопился высказаться Егупов. — Тут для нас такие перспективы!..
— Да, мне тоже думается, что этот Райчин — не подделка и вступить с ним в деловые отношения стонт, — Михаил потер ладонью затылок. — Надо выслушать предложения, с которыми он приехал. Кстати, вы, Михал Михалыч, — обратился он к Егупову, — должны тут взять на себя все, что касается практического выполнения наших договоров с ним: все подробности о способе переписки, об адресах и шифрах…
— Разумеется! — воскликнул Егупов. — У меня же в общем-то все это уже и налажено. С Варшавой. А я думаю, что и в дальнейшем мои варшавские знакомые будут тут посредниками.
— Ладно, пойдемте к нему. Неудобно оставлять его одного так долго, — сказал Михаил…
— Вы, Семен Григорьевич, сказали, что прибыли к нам, чтоб наладить связь с нашим рабочим движением, — обратился к Райчину Кашинский, садясь на прежнее место. — У вас есть что-то конкретное в этом смысле?..
— А как же?! — воскликнул Райчин. — Георгий Валентинович дал мне несколько поручений. Прежде всего, такое: в августе будущего года, кажется в Цюрихе, намечено провести очередной конгресс Второго Интернационала. Георгий Валентинович просил, чтобы к нему приехал из России представитель социал-демократической группы. Вам надо будет послать на конгресс депутатов от русских рабочих.
— Мы об этом обязательно подумаем, — побарабанив пальцами по столу, сказал Кашинский и быстро гляпул в сторону Михаила.
— Послать своего представителя для переговоров с Плехановым мы, пожалуй, теперь не сможем, — заметил Михаил, — но депутатов от рабочих обязательно пошлем, и они по пути встретятся с Плехановым. Нас только надо известить о том, когда и куда следует отправить депутатов.
Говоря об этом, Михаил имел в виду послать на предполагаемый конгресс либо кого-то из питерских рабочих, руководителей «Рабочего союза», либо Мефодиева и Афанасьева.
— Конгресс — дело еще дальнее, — продолжал Райчин. — Георгий Валентинович предлагает русским кружковым деятелям, с которыми мне удастся вступить в контакты, незамедлительно связаться с ним. Он нуждается в материальной поддержке, без которой его группе трудно развернуться по-настоящему. Такую помощь он ждет из России. Деньги прежде всего нужны для того, чтоб увеличить выпуск нелегальных брошюр. Нужна и другая помощь. Он предлагает присылать ему нелегальные сочинения, написанные в России. Мы будем печатать их. Наконец, он предлагает издание газеты, разумеется в том случае, если дело это будет обеспечено из России деньгами и литературными материалами…
— А во что обойдется издание газеты? — поинтересовался Михаил. — И какая у нее будет периодичность?..
— Издание одного номера в две тысячи экземпляров будет обходиться примерно в двести рублей. Без доставки. Причем формат будет подобен формату газеты «Неделя», — ответил Райчин и добавил — Издание газеты предполагается где-то в Восточной Пруссии, неподалеку от русской границы. Что же касается того, выпускать ли ее еженедельно или в более длинные сроки, так это будет зависеть от сбора средств и от снабжения газеты материалами.
— Средства мы, пожалуй, сможем достать, — сказал Кашинский.
— Только для начала, я думаю, — заметил Михаил, — хватит и двух выпусков в месяц.
Кашинский и Егупов кивнули: да, хватит и двух.
— Поскольку в деле издания газеты мы рассчитываем исключительно на вашу материальную и литературную помощь, я согласен со всеми вашими условиями. Хорошо было бы, если бы газета имела много интересных для русского рабочего статей. Эмигранты могут датв интересные статьи для интеллигенции, но не для рабочих, — Сказал Райчин.
— Мысль очень верная, — согласился Михаил. — Статья для рабочего человека должна содержать живые факты из близкой и понятной для него повседневности, а такие факты эмигранту добыть негде. Я думаю, что в газете должен быть широкий раздел хроники рабочей жизни, в которой найдут место и сведения о заработной плате, и всевозможные случаи обмана рабочего фабрикантом, и прочее, и прочее… Такие материалы мы посылать для газеты сможем. Мне думается: газета могла бы давать сведения об арестах рабочих, о кружковой жизни…
— Прекрасная идея! — воскликнул Кашипский. — Такая газета всю нашу работу сделает более четкой и целенаправленной. Я даже название ей уже придумал — «Пролетарий»! Как — подходяще?!
— Вполне!
— То, что надо!
— Да, я думаю, Георгий Валентинович это название одобрит!
— Ну что ж, — Кашинский потер ладонью о ладонь, — стало быть, этот вопрос исчерпан. Я имею в виду направление газеты. Переходим к другому — к вопросу о деньгах… Первые двести рублей мы вышлем вместе со статьями… Когда сможем-то?.. — он посмотрел на Михаила, потом на Егупова и, не дожидаясь их ответов, решил сам — Вышлем все к концу мая, не позже, с тем расчетом, чтобы первый номер «Пролетария» мог выйти к концу июня.
— Прекрасно! — Райчин даже по столу хлопнул обеими руками. — Со своей стороны могу обнадежить быстрой доставкой газеты сюда, к вам!
— Стало быть, и этот вопрос исчерпан! — с какой-то лихой веселостью, словно азартный игрок, воскликпул Кашинский.
Райчин выложил еще один козырь:
— Газета газетой. Но я пока не сказал о том, что до выхода ее первого номера мы сможем организовать доставку большого транспорта брошюр из-за границы. Что-нибудь около девяти пудов. Скорее всего, это будет в середине мая. Сами понимаете: в этот раз я не мог привезти слишком много. Поездка моя — разведывательною характера. Ну а теперь, когда я сам убедился, что тут, в Москве, есть настоящая революционная группа, речь может идти и о большем.
— Все это — прекрасно! — Кашинский в возбуждении опять потер ладонью о ладонь. — Но где мы будем хранить все эти брошюры и газеты? Надо подумать и о безопасной их переноске…
Михаил, лукаво улыбнувшись, сказал:
— Я предполагаю вызвать из Питера одну швею… Очень надежный человек. Она снимет тут квартиру, и к ней, под видом жениха, будет ходить кто-нибудь из рабочих. Он, таким образом, будет вне подозрений. Ведь в делах любовных допускается таинственность и скрытность! Литература будет храниться у нее. Он же будет доставлять ее к ней и потом брать, сколько потребуется. — Согнав улыбку с лица, Михаил обратился к Егупову: — Но прежде всего надо подумать о том, как переправить из Варшавы такой большой транспорт. Это — по вашей части…
Явно польщенный, Егупов кивнул.
— Я об этом подумаю. Пока что ясно одно: насчет договоренности с Плехановым относительно газеты надо использовать моих варшавских знакомых. Все будет идти через них. И об этом, и о доставке литературы в Москву мы договоримся с Семеном Григорьевичем вдвоем. Тут у меня многое уже продумано и осуществлено, например шифрованная переписка с моими варшавскими знакомыми.
— Ну что ж, и с этим вопросом пока покончено, — сказал Кашинский. — Я думаю, что нам необходимо устроить собрание нашего организационного комитета, чтоб поговорить на нем об издании газеты. Дело это непростое, надо его обсудить в деталях, сообща.
— Да, собраться надо бы, — поддержал его Михаил.
— И неплохо бы — до моего отъезда, до пятницы, — подсказал Егупов.
— Тогда — послезавтра. У меня. Как обычно. А сегодня, пожалуй, пора и на покой, — Михаил глянул на часы и поднялся первым, — уже третий час!
— Ого! — воскликнул Кашинский, тоже вставая.
Вскоре oн ушел. Егупов и Райчин остались ночевать у Михаила, с тем условием, что к восьми часам утра они уйдут, поскольку могли вернуться Епифановы, а ему не хотелось, чтоб те увидели новых ночлежников, тем более что Райчину он постелил в их передней, на диване.
Несмотря на позднее время, Михаил долго не мог уснуть. Одолевали тревожные мысли. В застольном азартном разговоре он увлекся вместе со всеми. II было от чего. Возможность иметь свою газету, перспектива получения в самое ближайшее время большого транспорта нелегальных изданий… Было от чего закружиться голове! И вот, едва остался наедине с самим собой, все начало видеться по-другому, трезвее.
Вместо того, чтоб затаиться, хотя бы ненадолго, они вдруг активизировались, начали собираться каждый день и, наконец, затеяли такие большие дела… Приезд Райчина словно бы подхлестнул их, и они уже не могли остановиться. Между тем им не следовало бы торопиться ни с доставкой в Москву еще одного, уже многопудового, транспорта нелегальных брошюр, ни с изданием газеты. Организация была еще слишком малочисленной для того, чтобы так широко размахиваться, у нее вовсе не было средств для таких крупных начинаний. И уже в этом смысле они оказались теперь в сложном положении. Надо было теперь же расплатиться с Райчиным за доставленные брошюры, а в мае предстояло оплатить девятипудовый транспорт и отправить деньги на выпуск первого номера «Пролетария». Между тем, даже и при осуществлении всего задуманного, неясно было: что делать со всеми этими пудами брошюр и тысячами экземпляров газеты. В самой Москве сбыть все это, распространить они не смогут. Оставалось одно: немедленно искать связей с другими городами. Между тем отовсюду приходили слухи об арестах, обысках, высылках и ссылках. Лучше всего было бы на какое-то время свернуть деятельность организации, выждать, не искушать судьбу… Но Михаил понимал: приостановить уже набравшие ход события невозможно. Егупов а Кашинский и слышать об этом не пожелали бы…
Ровно в восемь часов утра Егупов и Райчин ушли от Михаила. По пути к Большой Пресненской, где можно было сесть на конку, Райчин все восторгался по поводу знакомства с Брусневым и Кашинским. Про Михаила он сказал: «Это, видно, чисто русский человек и человек весьма положительный, чистый и честный». «А Петр Моисеевич, очевидно, — ваша литературная сила?» — спросил он про Кашинского. Егупов в ответ лишь пожал плечами.
У Пресненской заставы оп посадил Райчина на конку, объяснив, какему добраться до квартиры Никитской.
К двенадцати часам Егупов заехал за Райчиным на извозчике и повез его к Дмитриеву, на квартире которого они договорились и насчет адресов и о способах переписки. Затем они поехали на Брестский вокзал, но до самого вокзала Егупов не доехал. Вручив Райчину сто рублей за доставленные им брошюры, он сошел на Разгуляе.
Спустя два часа Райчин отбыл из Москвы варшавским поездом в сопровождении двух филеров. В Варшаву он вернулся 9 апреля. Два дня спустя его арестовали. Арестованы были и те, с кем он вступал в контакты поело возвращения из Москвы.
После отъезда Райчина отправился в Варшаву и Егупов, также в сопровождении двух филеров. Только выехал он не с Брестского, а с Николаевского вокзала, поскольку в планах его было попутное посещение своих рижских знакомых.
Собрался в путь, в тот же самый день, и его приятель Михаил Петров, этот — до Новой Александрии, где ему предстояло держать выпускные экзамепы. Роль свою, по сценарию подполковника Бердяева, он сыграл неплохо. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Наступало время разгрома, он должен был вовремя выйти из «игры»…
За два дня до поездки Егупова подполковник Бердяев встречался с исполняющим обязанности московского обер-полицмейстера полковником Власовским, совсем недавно переведенным в Москву из Риги. Генерал Юрковский ноожиданно подал в отставку. Правда, неожиданности тут для Бердяева не было. Юрковский ие устраивал директора Департамента полиции Дурново: он был явно не «полицейским человеком». И вот Дурново подыскал уж слишком «полицейского человека»… Бердяев слышал о Власовском прежде и ничего доброго от этой замены не ожидал. Власовский — откровенный хам, хитрец и проныра. У него и вид хама-держиморды. К тому же все свободное от служебных обязанностей время он проводит в кутежах. В Риге, как слышал Бердяев, Власовский внедрил в полиции начала поголовного взяточничества. Порядок он навести умеет, но — с чисто внешней стороны, показной порядок, держимордовский. Выслужиться, пустить пыль в глаза — по этой части он дока. Видимо, именно этим Власовский и подкупил Дурново. Тот рекомендовал его великому князю Сергею Александровичу как «человека весьма энергичного и ничем не стесняющегося», то есть как такого человека, который «сможет водворить в Москве должный порядок». Для великого князя Власовский прежде всего оказался удобным человеком. Весь двор великого князя в Москве сразу же стал обращаться с ним как с хамом, и он весьма услужливо принялся исполнять всевозможные поручения великокняжеской дворни.
Власовский, как Бердяев и ожидал, ретиво полез в дела охранного отделения. Первая же их беседа стояла Бердяеву немало нервов. Власовский начал ту беседу с весьма грубого настояния: «Немедленно упрятать за решетку всех здешних смутьянов!» Он прямо заявил, что не очень-то признает «жандармские хитрости и тонкости», предпочитая действовать напрямую. «Наша сила должна быть именно силой! Ей надлежит не заигрывать с преступниками, а карать их!»— таким афоризмом обогатил он память Бердяева при той первой их беседе.
Потому Бердяев и поторопился вдруг, заранее послав в Ригу телеграмму с требованием арестовать Егупова в момент его встречи с тамошними конспираторами.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
В Риге, по чистой случайности, Егупову удалось ускользнуть от филеров. Переговорив с рижанами, он в тот же день отправился далее.
Извещенный об этом, Бердяев послал телеграмму начальнику Варшавского жандармского округа генералу Броку, в которой, уведомляя о вероятном приезде Егупова, просил уже не спешить с его арестом. Бердяеву удалось уговорить Власовского отсрочить этот apecт: поездка Егупова могла помочь выявлению новых имен и связей, кроме того, преждевременный арест Егупова мог спутать карты перед ликвидацией всей московской организации. Надо было дать ей, явно заспешившей в последнее время, как следует проявиться и только тогда, одним ударом, прихлопнуть ее, всю, с настоящим поличным. Вовремя и о умом!.. Пока же еще лежали невостребованными в доме Общества приказчиков, на Большой Серпуховской, у сестры Петрова, уехавшего из Москвы, привезенные Райчиным брошюры. Лежали. А должны бы по замыслу Бердяева «сработать», стать тем самым «настоящим поличным».
13 апреля Егупов в третий раз появился в Варшаве, а на следующий день генерал Брок получил телеграмму директора Департамента полиции Дурново: «Вчера известный вам Егупов прибыл в сопровождении филеров и Варшаву. Вероятно, посетит тех, у кого был «Ляхович». С последним Егупов виделся в Москве. Полковник Власовский полагает не арестовывать Егупова, но я, находя его разъезды вредными, прошу арестовать его со всем, что при нем окажется, при соблюдении осторожностей относительно московских свиданий».
Генерал Брок, получив две телеграммы, противоречащие одна другой, запросил директора Департамента полиции о том, как ему действовать. Сам он склонялся к тому, что арестовывать Егупова в Варшаве не следует: аресты, которые произвела варшавская охранка перед самым приездом Егупова, в основном коснулись лишь тех, у кого побывал возвратившийся из Москвы «Ляхович»; Егупов, встречавшийся с «Ляховичем» в Москве и приехавший в Варшаву почти вслед за ним, мог навести на новых людей; арестовать его, уже вступившею в контакты с варшавскими конспираторами, — значит не вовремя подергать за ниточку, с помощью которой он, Брок, надеялся вытянуть целую подпольную организацию в Варшаве.
Телеграмму Брока Дурново получил почти одновременно с телеграммой Власовского, вновь просившего (по настоянию Бердяева) воздержаться от ареста Егупова. Дурново решил удовлетворить просьбы обоих.
По приезде в Варшаву Егупов прежде всего встретился с Сергеем Иваницким. Первая же новость, которую Иваницкий сообщил ему, оказалась недоброй: накануне арестовали двух руководителей «Союза польских рабочих» — Бейна и Зелинского. Подробности провала была пока неизвестны. Известно было лишь то, что перед арестом у Зелинского ночевал Райчин, возвратившийся из Москвы. Сразу же после ночлега тот должен был уехать за границу. Удалось ли ему уехать или его тоже арестовали — этого не знал никто. Все уцелевшие варшавские знакомые Егупова были в тревоге, так что ему пришлось спешно возвращаться назад, в Москву, не выполнив намеченного. Од лишь договорился насчет того, что Рункевич пришлет ему письмо с подробностями последних варшавских событий. Насчет же транспорта нелегальной литературы, ожидаемого из-за границы, Егупов намеревался договориться с варшавянами болео подробно в свой очередной приезд, пока же лишь условился, что то известят его письмом о прибытии транспорта в Варшаву.
16 апреля Егупов был уже в Москве, где сразу нее встретился с Брусневым и Кашинским, рассказав им о своей неудачной поездке.
Решено было собрать всех членов организационного комитета, чтоб обсудить создавшееся положение и решить, как действовать далее.
Перед самым собранием Егупов забежал к Никитской — узнать, нет ли письма из Варшавы. Как раз в это время почтальон принес ожидаемое им письмо, посланное Рункевичем почти вослед ему. Из письма Егупов узнал, что Райчин арестован.
С этим письмом он и явился на квартиру к Михаилу, гдезастал кроме самого хозяина Кашинского, Квятковского и Терентьева. Письмо тут же прочли, затем Михаил с Кашинским вышли на кухню и сожгли его в печке.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
Известие об аресте Райчина всех встревожило. Арест последовал сразу же после возвращения Райчина из Москвы в Варшаву; вполне могло быть так, что Райчин оказался выслеженным еще в Москве или и того раньше, то есть, следя за ним, московская охранка могла обнаружить и их… Стало быть, со дня на день, с часу на час можно было ожидать разгрома… Близость опасности особенно возбуждающе подействовала на Кашинского и Егупова.
— Если так пойдут дела, то… — Кашинский щелкнул пальцами и срывающимся тенорком пропел — «И встретимся мы снова в неведомой стране…» — И все-таки думаю, — продолжал он, — что в нынешнем положении нам таиться особо-то нечего. Надо успеть осуществить связь с другими городами, о чем мы не раз говорили. Надо создавать общероссийскую революционную организацию! Иначе нас, имею в виду революционеров России, будут разбивать по отдельности и все начинания наши будут пропадать бесследно. В ближайшее время, — продолжал он, — я намерен для начала съездить в Харьков и Киев, чтоб завязать сношения с тамошними революционными группами, которые несомненно есть. Затем, если все обойдется, съезжу в Одессу. Мы должны действовать! Еще весной позапрошлого года наш Союз землячеств намечал объединение с революционными кружками других университетских городов, и если бы нас не разгромили в марте позапрошлого года…
Кашинский начал было рассказывать известную всем присутствующим историю разгрома московского Союза землячеств, однако Егупов перебил его:
— Да, да! Сидеть сложа руки нельзя! Я тоже намерен вновь съездить в Ригу и Варшаву!
Почти выкрикнув это, он глянул на Михаила, как бы приглашая высказаться и его.
— Лучше бы, как мне думается, теперь все-таки не искушать судьбу, — начал Михаил, по привычке погладив ладонью затылок. — Конспирация должна быть делом спокойным и глубоким, она — не азартная картежпа игра, где ходят ва-банк. И потом… о какой конкретно общероссийской организации разговор?! Несколько знакомых студентов в Харькове и Киеве, небольшая студенческая группа в Риге, Ревеле и Варшаве?.. На таких основаниях намерены мы строить столь значительную организацию или на других, более прочных?! Я уже не раз говорил и повторюсь теперь: только как рабочее, пролетарское, дело должна нами мыслиться революционная работа. Только так она не прервется и проявит свою живучесть в любой ситуации. Да и смысл ее — именно в этом!
Кашинский перебял его:
— У нас есть связи и с рабочими: в Туле, в Питере есть целая организация, с которой вы сами же связаны, есть, наконец, здесь, в Москве, Афанасьев — ваш же человек… Правда, надежд, которые вы на него возлагали, он пока не оправдал… — Кашинский язвительно усмехнулся.
— Да и в Варшаве у меня не только со студентами связи! — вставил свое слово и Егупов. — Есть там люди, через которых я в ближайшее время должен выйти на целую подпольную организацию, состоящую преимущественно из рабочих, — Союз польских рабочих! К сожалению, я не смог сделать этого в нынешнюю свою поездку: обстоятельства не позволили, арестовали сразу двух руководителей этой организации, с которыми я был знаком. Об этом я вам рассказывал…
— В создавшемся положении нам следует, по моему убеждению, не искать новых, более широких, связей, а получше использовать те, которые уже есть, и прежде всего связи с рабочими, — вновь заговорил Михаил. — Связаться с Союзом польских рабочих — заманчиво, но, думаю, связь эту надо отложить на потом, на более благоприятную пору, теперь же я предлагаю укрепить нашу связь с «Рабочим союзом» Питера и помочь нашим тулякам в создании кружка у них на Патронном заводе. В ближайшие дни я намерен съездить в Питер. Надо договориться со своими о переезде сюда двух-трех человек — в номощь Афанасьеву. Думаю договориться там и о нашей совместной деятельности с ними, чтоб все шло по общему плану. Очевидно, надо будет подумать о небольшом съезде либо тут, у нас, в Москве, либо в Питере. На этом съезде мы и смогли бы выработать такой общий, единый план, единую тактику действий. Кроме того, предполагаю взять в кассе «Союза» рублей двести, поскольку мы остались теперь без средств, а деньги нам нужны. Примерно на такую сумму надо отвезти туда брошюр из привезенных Райчиным. — Михаил глянул на Егупова. — Как насчет этого?..
— Брошюры будут, — кивнул тот.
— Вам бы я посоветовал теперь съездить в Тулу, а не в Варшаву. Кстати, и тулякам нашим надо иметь подходящую литературу для кружковой работы, вот заодно и отвезли бы им, — заметил Михаил.
— Да, да! Я такого же мнения! — обратился к Егупову и Кашинский. — Ехать тебе, Миша, надо именно в Тулу. Мефодиев и Руделев просили нас послать к ним кого-нибудь побыстрее. Ехать надо именно тебе. Ты ведь уже дважды бывал у них. А в Ревель и Ригу съездишь потом. В Варшаву же ехать пока не стоит. Опасно.
Егупов обиженно сгорбился у окна: его, человека с размахом, имеющего столько связей, столько сделавшего, хотят использовать на малых делах… Разве сравнима поездка в Тулу с той, которую он вновь хотел предпринять?!
— А я все-таки должен съездить в Харьков и Киев, — продолжал Кашинский. — От идеи создания общероссийской революционной организации мы не должны отказываться. У меня немалые надежды на эту поездку. Думаю, что либо в Харькове, либо в Киеве я смогу найти пути к южной революционной группе. О ней я слышал не единожды. Говорят, она довольно сильна и умело и очень конспиративно ведет свои дела. Я слышал, будто она даже хочет взять на себя инициативу объединения всех существующих революционных групп в России. Очень возможно, что в Киеве уцелели еще те кружки, которые я знал, учась в последних классах гимназии. Возможно, что они входят в эту самую южную группу. Есть у меня и несколько хороших знакомых, с которыми я поддерживаю постоянную связь, братья Липкины например. Старший из них, после отсидки к тюрьме «за политику», живет в Харькове, младший — в Киеве. Они должны мне помочь.
— Кстати, когда в прошлом году я был в Киеве, я останавливался как раз у Липкиных и убедился, что среди тамошних кружков есть нечто весьма серьезное, — заметил Квятковский.
— О чем я и толкую! — воскликнул Кашинский.
— Я могу дать вам письмо к моим бывшим однокашникам по Новой Александрии, живущим теперь в Харькове, — пообещал ему Егупов.
— И все-таки не время теперь для поисков новых широких связей, — начал было Михаил, однако Кашинский перебил его:
— Я уверен, все будет в порядке! Для моей поездки теперь самое время. На носу летние вакации. Надо успеть застать и там и там всех в сборе, пока они не разъехались по домам и летним практикам. Да и мне в случае чего будет неплохое оправдание: еду на эти самые летние вакации к старшему брату, офицеру, в Киев!..
Понимая, что возражать Кашинскому, уже все заранее решившему, бесполезно, Михаил лпшь пожал плечами и обратился к Егупову:
— Кстати, Михал Михалыч, насчет этого самого, «в случае чего», упомянутого сейчас… Я думаю, вам надо бы устроиться на службу… Ведь ни на чем можно погореть. Сунется к вам квартальный, к примеру, с вопросом: «Чем изволите заниматься, на какие средства живете?! — что ответите?! Окажетесь «человеком без определенных занятий»… Есть у нас место конторщика в паровозной мастерской, где Иван Павлович Епифанов занимает теперь место помощника начальника. Я говорил с ним. Он обещает устроить. Так что, если вы согласны… Должность спокойная, вполне подходящая. Жалованье — сорок рублей в месяц.
— Я согласен, — быстро сказал Егупов. — И сам ужо давно думаю об этом…
О том, чтоб устроиться на какую-нибудь «службу», он действительно подумывал. Занятия с сестрой Ваковского, дававшие ему 15 рублей в месяц, прекратились еще в ноябре, деньги, данные ему в Кронштадте дядей, «на дорогу и на первое время», были прожиты еще летом. Прожиты были им и полторы сотни рублей, полученные Вановским от лотереи… Это было совсем плохо: деньги-то предназначались на революционные цели… Оправдывал он себя: мол живу, служа все тем же целям, но все равно в этом своем существовании постоянно ощущал какую-то ненормальность, даже ущербность…
Услышав о его согласии, Михаил сказал:
— Ну что ж, тогда вы, сразу после собрания, договоритесь с Иваном Павловичем о дальнейшем, он теперь дома, у себя…
Егупов в ответ лишь кивнул, насупившись: этот разговор о службе, о каком-то жалком месте конторщика в какой-то паровозной мастерской… Он словно бы во второй раз за вечер понизил его, привыкшего считать себя чуть ли не профессиональным революционным деятелем…
— Мне бы вот о чем хотелось вновь напомнить, Петр Моисеевич, — обратился Михаил к Кашинскому, — если уж речь вновь зашла, и так настоятельно, о всероссийском размахе… Мы ведь так и не выработали единой и четкой программы. А без нее — как?.. Мы все только говорим о ней…
— Так за чем дело стало?! — воскликнул Кашинский. — Разве мы не можем в самое ближайшее время выработать эту программу?! Я, кстати, уже не единожды обдумывал ее основные пункты…
— Так вот вам и надо поручить составление проекта программы! — подсказал Егупов, оживляясь, и добавил — Райчин не зря в разговоре со мной высказал предположение, что вы — наша «литературная сила»!
— Я не против взяться за такое дело, — покосившись на него, пробормотал Кашинский. — Думаю, что уже послезавтра мы сможем собраться и обсудить этот проект…
— Вот и прекрасно! — подхватил Егупов. — С выработкой программы нам действительно тянуть незачем.
Терентьев и Квятковский поддержали его предложение — поручить Кашинскому разработку проекта программы организации.
Михаил промолчал, обругав себя: зря заговорил о программе так некстати, в результате чего все вдруг так скоропалительно и так скверно разрешилось. До сего времени он не торопился с разработкой программы, понимая, что состав московской организации не обеспечит принятия программы, выдержанной в социал-демократическом духе, что предстоит борьба, в которой он может оказаться в меньшинстве. Разговор такой надо было оттянуть, приурочить его к задуманному им съезду представителей московской организации и «Рабочего союза». Теперь же он был поставлен в такие условия, при которых не мог заранее обсудить основные программные установки, которыми Кашинскому затем следовало бы руководствоваться при разработке проекта программы…
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
Вечером, в воскресенье, собрались для обсуждения проекта программы, составленного Кашинским. На сей раз присутствовали еще и Вановский с Афанасьевым.
Когда все расселись, Кашинский, заметно нервничая, достал из нагрудного кармана два листка почтовой бумаги, сложенных вчетверо, развернул их, разгладил, положив на стол. Руки его заметно подрагивали. Натужно откашлявшись и покосившись на Михаила, он объявил глуховатым голосом:
— Итак, я предлагаю вашему вниманию проект программы временного организационного исполнительного комитета…
По этому косому взгляду, по напряжению, с каким пагонорил Кашинский, Михаил сразу понял, что за программу тот составил, и тоже весь напрягся, сцепив замком руки на краю стола.
— Я тут счел необходимым начать вот с такого восклицания, — продолжал Кашинский, — «Да здравствует всеобщий союз социалистов!» Ведь и всем нам известный «Манифест» начинается со слов, как бы сразу мобилизующих, призывных: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..»
«Да, именно с таких слов, обращенных именно к пролетариям, со слов нацеливающих и все сразу определяющих, начинается «Манифест», а ваш «всеобщий союз социалистов»— это нечто туманное!» — тут же хотел возразить Михаил, но сдержался, решив высказать свои замечания уже при обсуждении проекта программы.
— В моей программе двенадцать пунктов. Дюжина — хорошее число! — по лицу Кашинского проскользнула усмешка. — Итак, пункт первый:
«Убежденные социалисты-революционеры, мы стремимся к созданию в ближайшем будущем боевой социально-революционной организации». — Сделав тут паузу, Кашинский снова глянул на Михаила словно бы с вызовом, так что тому окончательно стало ясно, о какой «боевой социально-революционной организации» пойдет далее речь.
Расплывчатая народовольческая терминология, употребленная Кашинским уже в самом начале, была хорошо знакома Михаилу еще по Петербургу, где ему и его товарищам не раз приходилось сталкиваться с народовольцами, вступать с ними в полемику. С напряженным вниманием слушал он Кашинского, словно бы ожидая, когда же тот употребит свое заветное словцо «террор». И словцо это произиеслось, прозвучало…
— «Мы глубоко убеждены, что при современном соотношении общественных сил в России политическая свобода в ближайшем будущем может быть достигнута лишь путем систематического, в форме политического террора, воздействия на центральное правительство со стороны строго централизованной и дисциплинированной партии…
Стремясь к созданию боевой социально-революционной организации, мы утверждаем, что таковая может и должна быть создана на почве широкой устной и письменной пропаганды идей социализма в связи с пропагандой идей политического террора среди демократической интеллигенции всех общественных категорий, среди рабочего пролетариата и отчасти среди сектантов-рационалистов…»
На Михаила как будто повеяло вдруг запахом той химической лаборатории, которую он несколько лет назад хранил у себя на квартире… Он невольно покосился на Афанасьева, сидящего справа от него, едва заметно покивал ему, мол, вот что пришлось нам с тобой услышать, дорогой друже… Тот опустил глаза под его взглядом и прижал к столу ладони нервно-подвижных, не знающих покоя рук.
В своей программе Кашинский выдвинул на первый план интеллигенцию, за которой следует «рабочий прояетариат». Только в десятом пункте он вспомнил о постановке пропаганды среди рабочих «с целью непосредственного создания элементов будущей рабочей партии». Однако уже в следующем пункте он вновь призывал рабочих бороться с царизмом совместно с интеллигенцией путем политического террора. То, что политический террор должен стать главным средством борьбы организации, было подчеркнуто еще раз и в заключительном пункте.
— Вот такова программа… — Кашинский кончиками пальцев потер взмокший от волнения лоб.
— Ну что ж… По-моему написано весьма толково. Программа боевая, живая… — поторопился высказаться Егупов.
— Я лично такой программы принять не могу, — с расстановкой сказал Михаил.
— Что же вас, собственно, в ней не устраивает?.. — Сероватые, навыкат, глаза Кашинского глянули на него как бы свысока. Этакие надменно-печальные очи.
— Дайте мне, пожалуйста, текст, так будет легче нести разговор, — попросил Михаил.
— Извольте, — Кашинский небрежно подвинул свои листки в его сторону.
Взяв их, Михаил пробежал по ним взглядом и при полной тишине начал:
— Прежде всего замечу, что сам подход к составлению программы оказался неосновательным. Мы не раз заговаривали о ней, и вдруг все так скоропалительно разрешилось… Необходимо было обсудить в к о м и т е т е основные программные установки, которыми и следовало бы затем руководствоваться при разработке программы. По сути дела, эта разработка должна была стать работой стилиста, редактора, который облек бы все, заранее оговоренное, обсужденное, в подходящую литературную форму. Получилось же так, что всего один человек взял на себя задачу, решить которую мог и должен был весь к о м и т е т.
— Позвольте!.. — Кашинский даже вскочил, не усидев. Михаил, едва заметно усмехнувшись, глянул на него: выдержки тому никогда не хватало. И эта манера: поднимать указательный палец над головой, чтоб остановить того, кто говорит рядом, в данную минуту, и говорить самому, самому завладеть всем разговором… Он дажерукой, все с тем же выставленным пальцем, так при этомпокачивал, будто дирижировал самим собой…
— Позвольте! — повторил Кашинский. — Во-первых, я не самочинно взялся за составление программы, этобыло волей всех присутствовавших на прошлом собрании. Во-вторых, я не отсебятину какую-нибудь писал, а выражал, как мне представлялось, волю большинства нашего комитета. Это я должен теперь же заметить, раз уж на то пошло…
Кашинский так же резко сел, как и поднялся.
— Да, вы правы и «во-первых», и «во-вторых». Все— так. Но если по существу, то все получилось в какой-то нелепой поспешности. Речь же о весьма серьезном для нас шаге, — продолжал Михаил. — Вот тут Егупов уже выразил свое мнение: мол, программа и боевая, и живая…
— Да, я от своих слов не отказываюсь! Это так и есть! — выпалил Егупов.
— Мое же мнение — совсем иное, — Михаил по привычке словно бы попружинил ладонью правой руки воздух перед собой. — Программа ставит с ног на голову самые коренные вопросы революционного движения в России: вопрос о роли интеллигенции я рабочего класса, вопрос о методах борьбы и подготовки революции… Вопросы эти трактуются, подаются в программе совершенно в духе народовольчества, даже с соблюдением всей народовольческой терминологии. В первом же пункте — «социалисты-революционеры», «боевая социально-революционная организация»… Во втором — упоминается «социалистический идеал», под которым подразумевается нечто зыбкое, отличное от научного социализма. В третьем хотя и упоминается значение экономического фактора в общественном развитии, но все сводится на нет утверждением насчет «активного воздействия на общественные формы живой человеческой личности с ее свободной волей». Вот — пункт пятый, характеризующий царизм, как врага, стоящего на пути к социализму. В пем — ни слова о капитализме; между тем передовые рабочие уже явно видят именно в капитализме своего основного врага. Я вспоминаю первомайские речи прошлого года своих питерских товарищей по организации, обыкновенных рабочих… Ведь эти рабочие уже полностью все осознают, прекрасно во всем разбираются, для них, кстати, провозглашаемый этой программой политический террор был бы просто немыслим.
— О терроре у нас в «Рабочем союзе» даже и речи никогда не заходило, — вставил свое слово Афанасьев.
— А тут вот, например в восьмом пункте, этот самый террор прямо преподносится как форма борьбы против правительства, упоминается и централизованная партия, которая этим террором устрашает правительство. Террор провозглашается как единственное средство для завоевания политической свободы. Зато ни словом здесь не обмолкился автор программы ни о рабочих, ни о народе, лишь упомянул некие «живые силы страны», чье дружное содействие встретит будущая партия, о которой, кстати, сказано весьма туманно.
Нет, не с целью вербовки смелых террористов шли к рабочим мои товарищи по петербургской организации, а с целью подготовки из них сознательных руководителей рабочего движения, близких к массам. Не террористические акты, а пропаганда среди рабочих, организация рабочих кружков, рабочего движения — в этом было главное для нашей питерской организации, считающей себя социал-демократической. Стачки, манифестации, политические демонстрации, развитие и объединение рабочих — вот методы такой организации. Пропагандистская деятельность не означает пассивного ожидания, пока царский режим падет сам собой. Необходимо энергично и неутомимо подготавливать окончание этого режима, оттачивать идейное оружие, которое покончит с ним. Члены организации должны быть абсолютно уверены в гибели капитализма под ударами пролетариата, они должны видеть главную свою цель на сегодпя в том, что их пропаганда поможет этому, в этом символ веры подлинного революционера. Планомерная, организованная, хорошо подготовленная борьба, никакого анархизма, никаких шумных «беспорядков» — вот основной принцип деятельности организации! Ей необходимо пройти школу организованной борьбы с работодателями, именно организованной, последовательной борьбы! Мы должны выработать кадры для будущей рабочей социалистической партии России. Эта задача реальна, и вытекает она из объективных исторических условий, из условий данного времени. Таковы наши конкретные задачи. Эти задачи и должна со всей определенностью поставить программа, которую нам необходимо иметь как руководство к действию.
— Руководство к действию, которое будет более смахивать на бездействие, на ожидание «у моря погоды»… — Кашинский криво усмехнулся.
— Вновь повторяю, — спокойно возразил Михаил, — не ждать, не сидеть в спокойном ожидании, а неутомимо подготовлять окончание режима, ковать оружие для победы над ним! И главное тут — возмущение, объединение, обучение и организация рабочего класса, единственпо революционного, по Марксу. Вести такую работу — этои значит быть революционером! Мы ясно должны понимать, что на первых порах сплотить рабочих можно только на почве их экономических интересов. И это тоже должно найти отражение в нашей программе. Мне лично очень близка мысль о том, что подготовка народных масс к революции должна быть именно постепенной и вестись она должна путем пропаганды. Мы должны творчески развить и применить в практике классовой борьбы определяющие положения Маркса…
— Террор, беспорядки — вот что, по-моему, наилучшим образом послужит и возмущению, и объединению, и обучению, и организации рабочего класса! — почти выкрикнул Кашинский.
— А я вам скажу на это, что террором и беспорядками вы ничего не добьетесь. Только приведением в порядок своих теоретических положений, только неуклонным следованием этим положениям можно достигнуть ощутительных результатов!
— Господа! Господа! — Егупов примиряюще замахал руками. — Не горячитесь! Ведь была же договоренность, что комитет рассматривает эту программу как временную. Окончательная программа будет выработана на предполагаемом нами съезде, после того, как мы установим прочные связи с революционными группами других городов… А мы начинаем копья ломать!
— Я не могу согласиться с такой программой даже как с временной, — Михаил отодвинул листки от себя.
— Я — тоже, — поддержал его Афанасьев. — Тут действительно все с ног на голову поставлено. Михал Иваныч правду сказал.
— Я настаиваю на исключении из программы всех пунктов, утверждающих террор как метод нашей борьбы, — твердо сказал Михаил.
— Но что же тогда останется?! — Кашинский с растерянной улыбкой оглядел сидящих вокруг стола. — Ведь это означало бы перечеркивание всей программы… Мне казалось, что я нашел довольно-таки удобоприемлемый вариант… Ведь вы не могли не заметить, что в программе нашли отражение и социал-демократические идеи… Вот, к примеру, в пункте десятом у меня говорится о постановке пропаганды среди рабочих с целью создания элементов будущей рабочей партии…
— Но уже в следующем пункте вы вновь призываете рабочих «бороться с царизмом совместно с интеллигенцией путем политического террора». И заключаете вы все тем же, в вашем двенадцатом пункте, прямо говоря о том, что террор должен стать главным средством борьбы нашей организации… Нет, «удобоприемлемого варианта» у вас явно не получилось, да и не могло получиться, поскольку абсурдна сама идея объединения в одном программном документе двух столь разных направлений!
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Как ни возражал Михаил против программы, составленной Кашинским, большинством голосов она была принята комитетом, хотя и не без оговорок. Кашинский все-таки пошел на «некоторый пересмотр некоторых положений» программы, как хитро выразился Егупов, явно раздваивавшийся при обсуждении программы, затянувшемся почти до полуночи.
После обсуждения заговорили о дальнейшей деятельности организации. Вновь решили на какое-то время прервать ее в связи с тревожной обстановкой. Возобновление ее должно было зависеть от результатов поездок, намеченных на предыдущем собрании. В путь отправиться уговорились через неделю.
— Да! Михал Михалыч, не забудьте о брошюрах! — напомнил Михаил Егупову.
— Перед нашим отъездом я возьму извозчика и съезжу в Замоскворечье за чемоданом, оставленным у сестры Петрова, — пообещал Егупов. — Чемодан я привезу сюда, к вам, если не возражаете…
— Можно и сюда, — согласился Михаил.
— Вот у вас мы и поделим меж собой его содержимое. Кстати, я бы попросил вас вот о каком одолжении… — Егупов замялся. — Видите ли, после отъезда Петрова я остался на квартире один. Я говорил вам, что у меня есть целая библиотечка нелегальной литературы, которую я собрал еще до приезда в Москву. Я ее держу в плетеной корзине, под замком, но… чем черт не шутит!.. Вот я уеду, а кухарка хозяйки — прелюбопытная бабенка… Может и пошарить… А у вас тут есть постоянно жена Епифанова, да и квартиру свою вы запираете… Хорошо бы и эту корзину привезти заодно на хранение…
— Ладно, привозите и ее, — согласился Михаил.
— Тогда в пятницу, часов в шесть вечера я подъеду…
Вскоре все разошлись, остался лишь Афанасьев, которому Михаил предложил переночевать у себя. Оба снова подсели к столу. Помолчали.
— Вот такие делишки, Афанасьич… — первым нарушил молчание Михаил. — Самое время — подводить итоги… А они — не радуют. Этот московский год, можно сказать теперь, прошел у нас почти впустую… Наука нам: не сходитесь с людьми случайными, шаткими… Ведь говорил себе: «Бойся приходящих в революцию не по убежденности, а по инерции, по моде… Господа сии суть обыватели при революции, они играют в нее, а не живут ею…» И вот — сошелся. И получил урок…
— Я же предупреждал еще когда: незачем нам с ними якшаться, не те они люди! — напомнил Афанасьев.
— Так ведь видел и я, что они за люди, а вот надеялся, что все повернется в конце концов куда надо… Не повернулось. И не могло повернуться. И надо было это давно понять…
— Что ж… На ошибках люди учатся, — Афанасьев ободряюще улыбнулся Михаилу. — Теперь надо поскорее порвать с ними. Тянуть волынку нечего.
— Да, надо рвать… Вот только заполучу обещанные Егуповым брошюры, чтоб не с пустыми руками ехать в Питер.
Рассказав Афанасьеву о целях своей поездки в Петербург, Михаил сказал:
— Вот вернусь оттуда, и начнем все иначе. «Союз» наш должен нам помочь людьми. А будет здесь побольше наших, и дела пойдут повеселей!..
— А Епифанов, смотрю, вовсе отошел в сторону, — сказал вдруг Афанасьев. — Уже и не появляется у тебя…
Михаил ответил не сразу: больного коснулся Афанасьев, с Епифановым действительно дело шло к полному разрыву. Два дня назад, как раз после прошлого собрания, бывший его друг предложил ему подыскать другую квартиру, сославшись на нездоровье жены, которой нужен покой… Как будто подменили Ивана два последних года. За последнее время эта подмена проявилась, обнаружилась еще резче, особенно же после того, как тот получил повышение по службе, став помощником начальника паровозоремонтной мастерской. В новой должности Иван начал проявлять особое рвение. На днях, слышал Михаил, случилась у того в мастерской спешная и большая работа. Слесарям пришлось работать сверхурочно, даже по ночам, они начали выказывать неудовольствие, кое-кто из них даже не вышел в конце концов на работы. И вот никто другой, а именно он, Иван Епифанов, объявил им, что не выходящие на работы будут оштрафованы… Таким языком заговорил этот вчерашний борец за рабочее дело… И когда пришлось говорить с ним насчет места для Егупова, видно было, как разговор этот для него неприятен…
Долго не мог в эту ночь Михаил заснуть. Мысли возвращались к обсуждению программы Кашинского, к тревожным событиям последнего времени. Вспомнилось, как в пятницу на минувшей неделе, когда возвращался со службы к себе на квартиру, почувствовал вдруг какую-то смутную тревогу, точно кто-то преследовал его. Оглянувшись, увидел идущего следом человека. По виду — обыкновенный мастеровой. Но эти его воровато забегавшие глазки… Потом никак все не мог отделаться от неприятного, ознобного ощущения, будто что-то холодно-колющее прилипло к спине… Тогда еще посомневался насчет того, что шел за ним филер, а тут, в бессонном лежании, припомнив этот вороватый взгляд, просто уверился вдруг: да, именно филер… Смутные тяжелые предчувствия в последнее время все чаще беспокоили его, но такого острого предощущения грозившей беды он еще не испытывал.
Утром опи поднялись рано, до пробуждения Епифановых. Первым ушел Афанасьев. Михаил проводил его долгим, словно бы прощающимся взглядом, остановившись у окна на кухне, откуда хорошо был виден дворик, по которому шел Афанасьев. Следующую встречу с ним Михаил назначил на день своего отъезда в Питер, через неделю.
Сам Михаил вышел из дому в шестом часу: в вагонном депо его ждала срочная работа. Малая Грузинская была еще безлюдна, еще обнимала дома серая рассветная мгла, и лишь в вышине, над крышами, было по-весеннему глубоко и сине.
Оглядевшись, Михаил не заметил ничего подозрительного. Улица была пуста, безлюдна, лишь в отдалении, там, где возвышалась скалообразная краснокирпичная громада польского костела, маячила на углу какая-то фигура, не сразу и разглядел ее. Михаилу надо было идти направо, в другую сторону, и он подумал, что если бы то был филер, так тому было бы сподручней ожидать его не там, а где-нибудь на пути в мастерские. Однако, пройдя два квартала и огляпувшись, он увидел, что человек, которого он заприметил, движется следом. Впереди уже завиднелись паровозоремонтные мастерские, и Михайл решил зайти туда, побыть там какое-то время, а затем другим ходом выйти оттуда и таким образом оторваться от следящего за ним филера, если это действительно был филер. Подходя к мастерским, он еще раз оглянулся. Человека, шедшего за ним, нигде не было видно. «Каждого случайного прохожего начинаю бояться», — усмехнулся про себя Михаил.
В паровозоремонтные мастерские он, однако, зашел, застав там привычную картину: несколько слесарей-ремонтников в промасленных блузах, громко переговариваясь, стояли возле потухшего паровоза. Михаил знал почти всех их по именам и по фамилиям, поскольку паровозоремонтные и вагоноремонтные мастерские не просто соседствовали, а имели общую цеховую контору, общую токарную мастерскую, после же того, как в паровозоремонтной стал работать Епифанов, Михаил частенько наведывался сюда и просто так (обычно заходил за Иваном в обеденное время, чтоб вместе идти на квартиру — обедать, заходил за ним и в конце рабочего дня).
От Епифанова он как-то узнал о том, что в паровозоремонтных есть вроде бы кружок рабочих, занимающихся самообразованием. Об этом тот услышал от мастера Елисеева, с которым близко сошелся на первых порах. Епифанов даже назвал некоторых членов кружка. Михаил намекнул ему: мол, неплохо бы войти с ними в сношения; но Епифанов от разговора об этом уклонился; мол, он человек новый, еще не укрепившийся в мастерских… А в последнее время все обернулось так, что такой разговор меж ними стал как будто и невозможным…
— Раненько вы сегодня на службу пожаловали! — шагнул навстречу Михаилу мастер Егор Елисеев.
— Да срочная работа: литерный вагон поступил в ремонт.
— Что с ним?
— Лопнул бандаж на переднем…
— Вон что! А мы вот тоже с утра пораньше! Вот этого надо подлечить!.. Бригаду Кукушкина вызвали…
Михаил, разговаривая с Елисеевым, покивал и слесарям, среди которых увидел Сергея Рогова и Николая Лазарева. Был тут и помощник машиниста поставленного на ремонт паровоза Сергей Прокофьев, вроде бы тоже входящий в кружок рабочих-ремонтников; Епифанов, рассказывая об этом кружке, как будто упоминал и его.
— К нам по какому делу зашли? — спросил Елисеев.
— Да с начальником токарного хотел поговорить, — сказал Михаил первое, что пришло в голову.
— Его пока нет.
— Тогда зайду попозже.
Оглядевшись в дверях, Михаил вышел из мастерских. «Хвоста» как будто не было.
В вагонных мастерских он также застал несколько человек, пришедших на работу раньше обычного, по срочному вызову. Осмотрев с ними ходовую часть вагона, нуждавшегося в экстренном ремонте, и отдав необходимые распоряжения, Михаил не сразу поднялся к себе, наверх, постоял возле приступивших к ремонту рабочих, огляделся вдруг в какой-то странной зоркости.
В сквозпяковом гулком здании депо было холодно и сыро. Почерневшие стальные фермы под крышей, кирпичные закоптелые стены, пропитанный мазутом каменный пол под ногами, полукруглые окна над распахнутыми воротами… Все это как будто запросилось в глаза, в память… За воротами с одышливым сипом попыхивал старый маневровый паровоз, весь жирно-черный, приземистый. Станционный крикун и работяга. За ним — стальные нити рельсов, отражающие холодный спет апрельского утра, ряды красных, желтых, синих и зеленых вагонов, серые, все в потеках, нефтеналивные цистерны, открытые платформы с балластом… В отдалении виднелся семафор с красным жестяным диском, раарешающе приподнятым… Померещилась вдруг дорога, уводящая в некую тревожную, опасную мглу…
Словно бы торопясь избавиться от этого видения, Михаил резко развернулся и скорым шагом направился в железной винтовой лестнице, ведущей наверх — в контору вагонных мастерских. Наверху он отпер дверь кабинета начальника мастерских (своего, отдельного кабинета у Михаила не было, потому его письменный стол находился здесь). Выдвинув ящик стола, он в рассеянности начал рыться в нем: надо было сделать соответствующую запись в журнале распоряжений по вагонной мастерской, но журнал куда-то запропастился. На глаза попалась тетрадь лекций о сопротивлении материалов, тетрадь лекций по магнетизму и электричеству, еще несколько тетрадей извлек он из ящика.
Перерыв стопу газет и всевозможных служебных бумаг, вдруг глянул па стол начальника мастерских и хлопнул себя по лбу: сам же в конце прошлой недели положил журнал на тот стол! Совсем рассеянным стал за последнее время!..
Ему даже душно стало вдруг. Подошел к окну, распахнул форточку, постоял перед ней, подставив горячее лицо потоку свежего воздуха, ворвавшегося в кабинет вместе с шумом оживающего города. Вспомнилось вдруг, как примерно об эту же пору в прошлом году запимался в большой чертежной института, готовясь к защите диплома. Кто-то тогда нараспашку открыл окно, и весна словно бы влетела в чертежную с дребезжанием и грохотом экипажей и конок, с криками разносчиков, со всем шумом быстролетящей столичной жизни. Так возбуждающе подействовали на него тогда ворвавшиеся весенние голоса и звуки! Да и время-то было какое! Только что состоялась организованная «Рабочим союзом» шелгуновская демонстрация и велась подготовка к проведению первой в России маевки… Точно в какой-то иной жизни было все это… И вот за окнами шумел другой весенний город, и в его шуме не звучало для Михаила ни нотки праздничной. Тревогой отзывался в нем этот шум…
ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ
В пятницу, в шесть часов вечера, во двор дома Жуковой въехал легковой извозчик. На дрожках восседал Eгупов. Соскочив на землю, он крикнул дворнику, укладывавшему в возок хозяйские вещи для перевозки на дачу:
— Помоги извозчику, дворник!
Дворник подошел к дрожкам, вдвоем с извозчиком они сняли с дрожек белую плетеную корзину-сундучок и потащили ее наверх — в квартиру Епифановых. Сам же Егупов нес впереди них чемодан желтой кожи, с которым прошел в комнаты Михаила.
Когда извозчик с дворником вышли, оставив корзину в прихожей, он весело подмигнул Михаилу:
— Ну, вот — все мои сокровища перед вами! Те брошюры, которые мной отобраны для туляков, я пока оставил у сестры Петрова. Те, что необходимо вам, вы теперь можете подобрать когда угодно. А я — опять помчусь по Москве! Кашинский сегодня уже едет в Киев, его надо проводить. Да еще кое-какие встречи намечены… Я сейчас с этим же извозчиком поеду к Кашинскому, а завтра на службе увидимся, расскажу, как он уехал. Завтра же, ночным поездом, еду в Тулу…
— Я выеду в Питер послезавтра, утренним поездом, — сказал Михаил.
На следующий день, в субботу, Егупов после конторских занятий пришел к себе на квартиру, немного поспал и в семь часов вечера, взяв с собой узелок с нелегальными брошюрами, отправился к Елене Стрелковой, чтоб отнести ей несколько номеров «Социал-демократа», которые она просила. У нее Егупов пробыл до четверти двенадцатого, после чего поехал на Курский вокзал.
На вокзале его удивило многолюдство: у окошечек касс было толкучно и шумно.
Он в растерянности поозирался вокруг: до отхода его поезда оставалось совсем немного, а купить билет в такой толчее — нечего было и думать…
— Вот столпотворение-то! Вот столпотворение! — заговорил, обращаясь к нему, какой-то крепко взмокший толстяк, утираясь платком. — Вы тоже без билета?
— Тоже, — кивнул Егупов.
— А куда едете, позвольте полюбопытствовать?..
— В Тулу.
— Вот как! Я — тоже в Тулу! — обрадовался толстяк. — Давайте действовать вон через того солдатика! Он купит нам билеты! Я тут понаблюдал за ним: шустрый солдатик! На «чай» ему пообещать — достанет!
— Будьте любезны, — опять кивнул Егупов.
— Э-э! Служба! Подъ-ка сюда! — толстяк замахал солдату руками.
— Чего изволите? — спросил солдат, подходя к нему.
— Раздобудь-ка нам вот с этим господином билеты до Тулы! Мы уж тебя за это уважим! Нам — третий класс. Тут недалеко ехать-то! Выручи! — толстяк протянул солдату деньги, тот взял их и, пробормотав «сей момент», ринулся к ближнему окошечку кассы.
Вскоре Егупов со своим неожиданным доброхотом-попутчиком уже сидел в вагоне. Поезд должен был отойти ровно в двенадцать. До отправления осталось всего несколько минут, и тут в вагон вошел жандарм. Сердце Егупова, глянувшего на этого жандарма, сжалось в тревожном предчувствии, он тут же подумал: «Это — за мной!..» Жандарм действительно сразу же подошел к нему:
— Господин Егупов вы будете?
— Я…
— Вас кто-то спрашивает на перроне…
Под его усмешливым взглядом Егупов поднялся, не чувствуя под собой ног. Он хотел было оставить узелок на скамье, но не смог этого сделать, так и пошел с узелком в руках вслед за жандармом, направившимся впереди него к выходу…
На перроне он был арестован.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
В эту ночь, перед отъездом Михаила в Питер, у него вновь ночевал Федор Афанасьев. Засиделись опять допоздна, разговаривая о предстоящей поездке Михаила, о «Рабочем союзе», о том, как дальше вести революционную работу тут, в Москве…
На рассвете Афанасьев ушел. Проводив его, Михаил снова лег и тут же уснул, словно бы провалился в тяжелое забытье.
Очнулся от грозного топота в прихожей. С заколотившимся сердцем приподнялся на локте, сразу же догадавшись, что пришли за н и м. Тут же распахнулась дверь. Впереди двух жандармов и двух понятых в комнату вошел пристав — щекастый, плотный человек средних лет.
— Долгонько изволите почивать, господин Бруснев! — пошутил он. — Вставайте! Мы должны произвести у вас обыск. Одевайтесь и ознакомьтесь с постановлением…
Быстро одевшись, Михаил взял из рук пристава постановление, принялся читать, от волнения почти не понимая того, что в том постановлении было написано:
«1892 года Апреля 26 дня, я, Исправляющий должность Московского Обер-Полицмейстера, Полковник Власовский, получив сведения, дающие основания признать Технолога Михаила Иванова Бруснева вредным для общественного порядка и спокойствия, руководствуясь § 21 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного в 14-й день Августа 1881 года Положения об усиленной охране, постановил: Бруснева, впредь до выявления обстоятельств дела, заключить под стражу при Сретенском Полицейском Доме с содержанием, согласно ст. 1043 Уст. Уголовного Судопроизводства, в отдельном помещении. Настоящее постановление, на основании 431 статьи того же Устава, объявить арестованному, а копии с постановлением препроводить Прокурору Московской Судебной Палаты и в место заключения задержанного…»
— Потрудитесь расписаться вот тут в том, что с настоящим постановлением вы ознакомлены, — приста ткнул пальцем ниже вихревато закрученной росписи полковника Власовского.
Михаил расписался, не возражая.
— Ну-с, а теперь посидите вот тут, на стуле, мы произведем обыск.
Михаил опустился на стул, так же — без единого слова. Что он мог тут говорить? Возмущаться? Протестовать?.. Так ведь вон чемодан Егупова с нелегальными изданиями. Вон корзина Егупова. Вон собственный чемодан, с которым намеревался отправиться через несколько часов в Питер, в чемодане этом тоже уложено около сотни брошюр… Все — на виду… Михаил в досаде прикусил нижнюю губу: все время других наставлял насчет конспирации, а сам в такую вот минуту оказался в таком положении — улика на улике вокруг…
Обыск длился около трех часов. Михаил был обыскан и сам. Обыск одновременно производился и на половине Епифановых. Жандармы тщательно осмотрели сарай, погреб, чулан, заглянули даже в ватерклозет, топот их сапог Михаил слышал и на чердаке.
После того как был составлен протокол, Михаила и Епифановых, у которых тоже было что-то найдено из запрещенного, вывели во двор, где их ожидали две тюремные кареты.
Михаил глянул на Ивана. Тот был бледен, губы его тряслись, в глазах стояли слезы. Еще более жалко выглядела его жена. Оторвав платок от заплаканных глаз, она с ненавистью посмотрела в сторону Михаила, как бы желая сказать ему: «Это все — вы, вы! Мы с мужем хотели только покоя, а вы довели нас вот до чего!..»
Накануне Бердяев наконец решил, что пришло время покончить одним ударом с «Русско-кавказской организацией» Кашинского — Бруснева — Егупова. По аресте Егупова было тут же отдано распоряжение о производстве одновременных обысков у супругов Епифановых, у Бруснева, Квятковского, Терентьева, Вановского, Афанасьева, Рыжкиной, Авалиани, у братьев Громанов и Векшина… Кроме того, были даны депеши: в Киев — об обыске и аресте Кашинского, в Тулу — об обыске и аресте Руделева и Мефодиева, в Харьков — о Борзенко и Красильникове, в Нижний — о Красине…
Жандармское управление начало дознание по делу о социально-революционной пропаганде, к которому вначале было привлечено около двадцати человек.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
С Курского вокзала Егупов был доставлен в Гнездниковский переулок, в жандармское отделение, где провел остаток ночи в одиночной камере.
Утром его вызвали на первый допрос. Вел допрос сам Бердяев. К этому времени был произведен обыск на квартире Егупова, давший немало новых улик.
Бердяев долго рассматривал сидящего перед ним бледного, невыспавшегося Егупова. Взгляд его был укоризненно-насмешливым. Взгляд этот словно бы говорил:
«Я улавливаю всякий самонадеянный, всякий, даже самый хитроумный, умысел в глазах любого человека, так что со мной лучше не хитрить, не лукавить, а выкладывать все по чистой совести!..»
После формальных протокольных вопросов Бердяев положил руку на стопу отобранных у Егупова брошюр, спросил неожиданно резко:
— Вы признаете себя виновным в принадлежности к тайному революционному обществу?
— Нет. Не признаю! — быстро ответил Егупов, нервно передернув плечами.
— Тогда почему все вот это оказалось у вас? Потрудитесь объяснить. Мне будет крайне интересно услышать ваши объяснения…
— Эти книги… — Егупов запнулся, хотя заранее заготовил ответ. — Эти книги я купил в Кремле, в конце страстной недели. Я проходил от Ильинских ворот к Никольским по одной из улиц, когда ко мне подошел человек, чуть выше среднего роста, в больших сапогах, цвет пальто за темнотой я разглядеть не мог, лишь заметил большую окладистую бороду и маленькие глаза. Он спросил меня, не читаю ли я революционных изданий. Я ответил: мол, читаю. И тут же спохватился. Он же взял меня за рукав и спросил, не желаю ли я купить кое-что из таких изданий. Тут же добавил, что не выдаст меня. Я вгляделся в его лицо и тут же решился купить. Заплатил десять рублей. Потом раскаялся, но было поздно. Книги эти я принес к себе…
— Допустим… Но зачем вы повезли их с собой в Тулу?
— Опасался, что у меня на квартире будет обыск… Что же касается тех революционных брошюр, которые найдены у меня при обыске, на квартире, то я их забыл…
— Допустим… Но почему у вашего знакомого Бруснева оказались такие же брошюры? Их только что доставили после обыска на его квартире.
— Почему?.. Просто, желая очистить свою квартиру от купленных мною брошюр, я передал их в упакованном виде Брусневу, якобы на сохранение, так что он и не знал, что там заключается… Я ему сказал: «Подержите эту покупку пока у себя, а я завтра же возьму ее, поскольку теперь мне с ней ходить неудобно, так как я иду еще за покупками». Пакет с книгами я передал Брусневу не у него на квартире, а на улице, не помню теперь, в каком именно месте, помню лишь, что встретился с Брусневым позавчера, накануне поездки в Тулу…
— Кстати, зачем же вы отправились в Тулу?..
— Зачем?.. Затем, чтобы узнать: нет ли расширения заказов на заводах — Оружейном и Патронном, поскольку поговаривают, будто бы возможна война… Вот я и подумал: если деятельность этих заводов действительно расширяется, то, может быть, я смогу устроиться там… Получить, к примеру, место конторщика…
— А почему вы поехать решили в воскресный, нерабочий день?
— Не хотел пропускать службы в Москве, на Московско-Брестской железной дороге, где я служу конторщиком службы тяги…
Углы рта подполковника Бердяева брезгливо оттянулись книзу: какой жалкий лгунишка сидел перед ним! Если бы знал этот напропалую врущий революционеришко, какими сведениями о нем, о них располагает охранное отделение!..
— Ну да, ну да! — жестко усмехнулся он. — Я тас: и полагал: вы — agnus dei.[7]
Подполковник имел обыкновение пересыпать свою речь иноязычными словами, особую слабость он питал к латыни, ближайшие его помощники тоже отличались этим: черта, ставшая своеобразным шиком здешних высших жандармских чинов.
— Ну да, вы всего лишь конторщик, ищущий выгодного места и чисто любительски интересующийся революционной литературой! — усмехаясь, продолжал Бердяев.
Егупов, почувствовав за этими словами подвох, лишь пробормотал чуть слышно:
— Я правду говорю…
— Допустим, допустим… — Бердяев опять усмехнулся, и тут же лицо его стало жестким, взгляд — острым, колющим. — А зачем вы ездили в Варшаву? — резко спросил он.
Не ожидавший этого вопроса, полагавший, что о его поездках в Варшаву московским жандармам ничего не известно, Егупов растерялся, однако тут же овладел собой:
— В Варшаву… я ездил… ходатайствовать перед попечителем Варшавского учебного округа о держании выпускных экзаменов… Я ведь несколько лет назад обучался в Пулавском институте, который, как вам конечно же известно, входит в Варшавский учебный округ… Я подготовился и хотел сдать выпускные экзамены экстерном…
— Очень интересно, очень интересно… — Бердяев побарабанил кончиками пальцев по столу. — Допустим, допустим… — Ну-с, а скажите-ка мне: кто это запечатлел вот на этой фотографии, изъятой у вас? — он взял со стола фотокарточку, лежавшую поверх стопы брошюр, изъятых у Егупова при аресте, и поднес ее почти к самому лицу Егупова.
Тот, слегка отстранившись и всем видом своим стремясь выказать предельную откровенность, открытость дальше некуда, воскликнул:
— Так это сам Бруснев и есть!
— Где вы с ним познакомились?
— В Москве. Здесь.
— При каких обстоятельствах?
— Когда я искал место конторщика на Брестской железной дороге. Раньше этого знаком с ним не был, не знал его…
— Очень интересно, очень интересно… — пальцы Бердяева вновь выбили дробь. — А может быть, это знакомство состоялось несколько раньше? Месяца этак на три?..
Егупов вновь смутился и, не найдя что сказать, пробормотал опять:
— Я говорю правду…
— Ой ли?! Правду ли?! — Бердяев укоризненно покачал головой. — Должен вас предупредить: основные улики против вас у нас имелись задолго до вашего ареста. Я только что намекнул вам на это, спросив о ваших поездках в Варшаву. Так что советую вам впредь говорить действительно правду и не строить из себя этакую ingenue. Дать откровенные показания — в ваших же интересах! Запомните это! Еще раз подчеркиваю: мы знаем о вас, о вашей организации все до ноготка, до точности! По сути дела, вы, например, и являлись чем-то вроде главаря этой преступной организации. Разве не так?!
— О какой организации вы изволите говорить?! Я не понимаю… — Едва слышно пробормотал Егупов. — Какой главарь?..
— О святая простота! О sancta simpli citas! — Бердяев хлопнул себя по коленям. — Не советую вам отпираться! Теперь для вас самое лучшее — чистосердечное, откровенное признание во всем!..
По тем данным, которые были собраны за последние месяцы о деятельности «Русско-кавказского кружка», Бердяев действительно считал Егупова основной, главной фигурой этой организации. Именно таковым обрисовывал его в своих донесениях Михаил Петров, в пользу такого заключения говорили и сами факты: от Егупова исходили многие инициативы. Егупов, и никто илой, совершал поездки в Ригу, Люблин, Варшаву для «наведения мостов», кроме того, дважды ездил в Тулу, он же, по словам Петрова, организовал доставку целого транспорта нелегальной литературы в Москву при посредничестве своих варшавских знакомых… Потому даже дело временной канцелярии при министерстве юстиции по производству особых уголовных дел, начатое еще 3 марта, поименовано было так: «О дворянине Михаиле Егупове и других».
На «чистосердечное, откровенное признание» Егупова Бердяев очень рассчитывал. Он имел уже заранее некоторое представление о характере и натуре этого суетливого «конспиратора». Личный допрос Егупова убедил Бердяева в его нетвердости.
Предварительное следствие Бердяевым было поручено жандармскому подполковнику Дьякову. Прокурорский надзор за следствием осуществлял товарищ прокурора Московского окружного суда Стремоухое.
На первый допрос Михаил был вызван лишь череа несколько дней после ареста.
Он не стал отрицать, что все найденные у него на квартире и в конторке вагонной мастерской брошюры и рукописи революционного содержания принадлежат ему, но откуда они у него, объяснять отказался. Отказался давать объяснения и насчет обнаруженных у него писем и заметок.
На вопросы о тех, кто «проходил» по одному с ним «делу», отвечал: Ивана Павлова Епифанова он знает как товарища по Технологическому институту, загем случайно оказался с ним вместе на службе, в последнее время нанимал в квартире Епифанова и его жены Анны Федоровны две комнаты; как бывшего студента Технологического института он знает и Леонида Красина, которого, однако, давно потерял из виду; с Егуповым познакомился в Москве, но при каких обстоятельствах, этого объяснять не желает; Петра Кашинского, Болеслава Квятковского, Михаила Терентьева, Павла Филатова, Ивана Борзенко и Михаила Красильникова он совсем не знает и даже не слышал никогда их фамилий, виновным в принадлежности к какому-либо тайному обществу или революционному кружку себя не признает…
Этот первый допрос дал Михаилу понять, что арестован даже кое-кто из побочно связанных с их организацией.
Поскольку подполковник Дьяков ничего не спросил его о Федоре Афанасьеве, он решил, что тому удалось избежать ареста.
Так оно и было. В то утро, когда Михаила арестовали, Афанасьев, выйдя от него на рассвете, заметил за собой «хвост», он долго плутал по Москве, пытаясь оторваться; это удалось ему только к вечеру в толчее Каланчевской площади. Потом исхитрился забраться в вагон товарного поезда, отправлявшегося до Твери. R Твери он купил билет до Петербурга. Так через год Афанасьев снова оказался в столице, где перешел на нелегальное положение.
4 мая, в сопровождении жандарма, Михаил был перевезен в Московский губернский тюремный замок — Таганку.
Таганская тюрьма считалась едва ли не образцовой. Чисто выбеленные стены коридоров, натертые графитом до блеска полы, надраенные до сияния поручни перил.
Увы, и здесь Михаил был заключен в одиночную камеру. Правда, «вид из окна», если встать на табурет и заглянуть в зарешеченное оконце, находящееся почти под потолком, тут был не тот, что в Сретенской тюрьме: там можно было видеть лишь глухую кирпичную стену, здесь — башни Кремля, золоченые маковки церквей. Надзирателей не слышно, бесшумны их шаги по коридорам, поскольку обуты они в валенки. Лишь иногда, когда в камеры передают пищу, хлопают дверные окошечки-«волчки».
Еще при подъезде к Таганке Михаилу вспомнился сентябрь прошлого года, вспомнились слова старичка, объяснявшего ему, как добраться до новой квартиры Кашинского: «Там новая тюрьма построена. Вот вы на нее путь-то и держите…» Не знал он тогда, шагая мимо этой тюрьмы, что именно в ней ему придется оказаться через каких-то восемь месяцев…
В этот же день прокурором Московской судебной палаты Акимовым был отправлен рапорт на имя министра юстиции о том, что «начато формальное дознание о технологе Михаиле Иванове Брусневе, сыне капитана Михаиле Михайлове Егупове, студенте Московского университета Иване Антонове Квятковском, технологе Иване Павлове и жене его Анне Федоровой Епифановых, обвиняемых в преступлении, предусмотренном 250 ст. Уложения о наказаниях…».
В рапорте сообщалось:
«… 26-го того же Апреля, в г. Киеве, по требованию Московского обер-полицмейстера, был задержан и обыскан студент Московского Университета Петр Моисеев Кашинский, при котором оказалось письмо крайне конспиративного содержания…»
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Спустя два дня, на очередном допросе Егупова, подполковник Дьяков заговорил с ним об этом письме:
— При аресте вашего товарища Петра Моисеева Кашинского было при нем обнаружено письмо, подписанное инициалами «М. М. Ег.». Нетрудно определить, что письмо это было писано вами. В этом письме вы просите своего знакомого, имя и фамилия которого не названы, оказать содействие подателю сего письма, поясняя, что этот податель должен «обнюхать все, что ему нужно, и не только ознакомиться с тактикой и выдержкой людей, считающих себя готовыми, но и с группами, если они серьезны, а не московские болтуны…». Затем вы пишете: «Новинок у нас вдоволь. Для вас была припасена полная библиотечка, именно та, которую вы просили. Жду вас после ваших экзаменов. Сообщите Борзому, что на пасхе был у нас Земец из его Палестин и увез библиотеку на сорок рублей…»
Оторвавшись от чтения, подполковник устремил на Егупова свой допытливый жандармский взгляд:
— Нуте-с… Объясните, истолкуйте это письмецо… Авторство свое вы, по крайней мере, не отрицаете?
— Писал я…
— Вот и прекрасно! Итак, жду объяснений… Прежде всего: кому написано письмо?..
— Написано оно лицу, с которым я познакомился в складе Калмыковой… вернее, в книжном магазине «Посредник», где он покупал книги, сказав мне, что думает еще купить рублей на сорок. Он спросил: не могу ли я ему указать лицо где-нибудь в южном городе, чтоб узнать через него, как обстоят дела со школьными библиотеками на юге. Я оставил у себя его петербургский адрес и потом написал к нему: мол, в Харькове есть у меня подходящий человек, но знаю только его имя и фамилию, адреса же не знаю…
— Почему столь конспиративно написано ваше письмо?
— «Конспиративно»?.. Я не думаю, что это именно так… Я просто подражал эффектам… Не более…
— Допустим. Назовите имя, фамилию этого лица… Адрес…
— Этого я теперь не помню. Могу лишь сказать, человек этот попросил меня на всякий случай дать ему письмо: мол, он в Харькове, через своих знакомых, учителей, сможет найти того человека, с которым я тоже познакомился, кстати, случайно… Знаю лишь, что он учитель.
— Любопытно у вас получается: пишете такие таинственные письма, а не помните даже имен… Как можно поверить в такое, если письмо ваше даже начинается вон как: «Удивляюсь, почему вы не приезжали, между тем о важности этой поездки я вам достаточно намекал…» Тут не пахнет случайным одноразовым знакомством!..
— Дело в том, что из Харькова в Москву приезжал знакомый этого человека, он мне, при случайной встрече, говорил: мол, тот думает опять побывать в Москве, чтоб сходить в склад «Посредника». Вот я и передал ему, чтаэто действительно важно, поскольку поступило много новинок…
— Но вот эту-то строчку как вы объясните: «Сообщите Борзому, что на пасхе был у нас Земец из его Палестин и увез библиотечку на сорок рублей»?.. Как этополучается: человека, к которому пишете, не знаете, а поминаете каких-то общих знакомых, причем называете их по кличкам, что доказывает ваши более чем близкие отношения?..
— Этот Борзой — тоже знакомый моего петербургского знакомого, который увез книги «Посредника». Я и сам не знаю, что это за Борзой, то есть прозвище это или фамилия…
— Ну а Земец?..
— Земец назван мною так потому, что мы с ним много говорили о земстве. Этого Земца я видел только один раз, в конце пасхи, и раньше не знал. Он приходил ко мне на квартиру от петербургского знакомого…
— Феноменальный случай! — не сдержавшись, воскликнул подполковник. — Сплошь у вас — одни неизвестные вам лица!.. Ну а как вы объясните все-таки эти слова: «обнюхать все, что ему нужно, и не только ознакомиться с тактикой и выдержкой людей, считающвх себя готовыми, но и с группами, если они серьезны, а ке московские болтуны»?..
— Я уже сказал, что писал это, подражая эффектам… — сказал Егупов, бледнея от напряжения. — Между тем речь идет всего лишь о людях, занимающихся школьными библиотеками…
Подполковник покачал головой, бросив выразительный взгляд в сторону товарища прокурора Стремоухова:
— Неужели в таком простом деле, как школьные библиотеки, нужна какая-то тактика и выдержка?! Неужели тут все так сложно, что человеку, занимающемуся этим, нужна какая-то особенная готовность; неужели, наконец, тут может идти речь о каких-то группах?..
— Библиотечное дело — не такое уж простое, как может показаться неосведомленному человеку. Тут нужны и тактика, и выдержка, и готовность, и в одиночку в этом деле не всегда можно рассчитывать на успех…
Егупов приободрился вдруг, почувствовав чуть ли не прилив вдохновения: так ловко он находил ответы даже там, где ответить как будто было и невозможно! Ловко он придумал эту легенду о школьных библиотеках!..
11 мая Бердяев пригласил к себе в кабинет своего помощника подполковника Иванова.
— Александр Ильич, — обратился он к нему, — вам придется самому заняться дознанием по делу этого Егупова и прочих. Дело как будто и не такое сложное, но тут речь, как вы сами знаете, о клубке, который нам надо поскорее распутать…
Иванов лишь глухо кашлянул в кулак. Да, он знает, о чем заведена речь, он давно посвящен в нлан, разработанный лично Бердяевым. Осуществление этого плана позволило бы уловить в одну сеть за один з а к и д большую часть преступных революционных группировок Рэссии, может быть даже полностью прекратить их деятельность. «Одним махом семерых побивахом!..» План бял неплохим. Пока что осуществлена была лишь его первая часть. Вторая, завершающая, стало быть, зависела теперь от него, подполковника Иванова, от его умения…
— Пока что о н и либо отказываются давать показания, либо врут напропалую, в чем особенно силен их главарь Егупов. Ну, это — пока. — Бердяев, усмехнувшись этакой авгуровой улыбкой, как свой своему, подмигнул Иванову — Когда они как следует поймут, что нам известно очень-очень многое, они начнут давать показания как миленькие!
— Ну и потом: в такой большой массе людей, проходящих по одному делу, всегда найдется человечек, а та и не один, который растеряется, перепугается и начнет давать подробнейшие показания, самые что ни есть откровеннейшие! — подсказал Иванов.
— Вот именно! — Бердяев, уже без улыбки, глянул на своего помощника. — К тому же они уже достаточно перепуганы. У меня тут есть бумаженция, посланная к нам, в Москву, при сопроводителях Кашинского начальником Киевского жандармского управления генерал-майором Новицким… Вот он пишет о Кашинском: «Со времени задержания его он обнаруживает крайне болезненное нервное состояние, происходящее от сотрясения грудобрюшной преграды и сопровождающееся бессонницей, упадком сил и нервно-истерическими припадками с криками и дурнотою». Здесь, у нас, Кашинского допрашивал всего один раз подполковник Крылов. Вел себя этот подследственный весьма жалко, хотя и пытался лгать: мол, ни Бруснева, ни Егупова, ни Епифановых и в глаза никогда не видывал… Сознался лишь, что знает Квятковского, Липкина, Терентьева. Знаю, мол, и Красина, жил с ним в Нижнем Новгороде на одной квартире недолго, затем не переписывался и не встречался. В общем, этот Кашинский, видимо, наиболее слабое звенышко в их девочке, но ныне он находится в тюремной больнице с припадками истерии, так что пока трогать его нельзя: к сожалению, существует прокурорский надзор… Егупов — тоже не из крепких. Это видно было еще по материалам, накопленным до ареста этой компании. Главная пружина в таких, как он, — ложное самолюбие. Вот ее-то и надо заставить сработать. Понаблюдал я его при первом допросе… Поначалу такие подследственные становятся в позу, врут, извиваются, но когда им дашь почувствовать всю сложность и безвыходность их положения да слегка припугнешь, такие, как правило, ломаются, и тогда из них вытягивай что хочешь. Вот на Егупове я вам и посоветую сосредоточиться особо. К тому же он несомненно играл главную роль в делах этой организации. Третья фигура — Бруснев. Держится пока. Сдержан. На слова скуп… Однако у него на квартире собиралась эта компания! И поличное, изъятое у него, оказалось самым солидным… В Москве он недавно. Мы запросили Петербург насчет сведений о нем. Сведения эти весьма любопытны. Сами убедитесь… В общем, беритесь за это дело засучив рукава! Главная ваша задача, Александр Ильич, — выявить как можно больше их связей! Они, как нам известно, носили весьма широкий характер!
— Следствию потребуется время на ознакомление с поличным, необходимо будет связаться с другими городами… — заметил Иванов.
— Постарайтесь не затягивать! Надо делать все…
— «Вовремя и с умом!» — едва не сорвалось у Иванова с языка излюбленное выраженьице Бердяева.
— Вовремя и с умом! — закончил тот сам.
— Постараюсь, Николай Сергеевич!
— Ну так и с богом!
Бердяев проводил своего помощника до дверей кабинета, затем вернулся к столу, улыбаясь, подумал: «Как. обманчива природа человеческая. Ведь вот глянуть на этого Иванова — добряк из добряков: пухленький, гладенький, пушистые усы, голубоглазый даже. А попадись-ка мышка такому коту в лапки!.. Не отвертится, нет!..»
Да, подполковник Иванов умел «потрошить» своих подследственных, умел пользоваться слабыми чертами их характера, чувствовать и выявлять эти черты, он не брезговал ни шантажом, ни прочими мерами психического воздействия. Бердяев всегда был уверен в нем, и тот его нe подвел ни разу.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Доставленный на очередной допрос в Георгиевский переулок, Михаил увидел за следовательским столом не подполковника Дьякова, а другого подполковника. Тот глянул на Михаила с каким-то печально-усталым выражением лица: мол, я видывал всяких людей, они мне давно и порядком надоели, посмотрим, что ты-то за птица…
Словно бы демонстрируя свой слишком малый интерес к подследственному, подполковник вдруг повернулся в кресле, потянулся к столику, стоявшему сзади, у стены, почти под самым портретом царствующего монарха. Широкий бугорчатый затылок подполковника, над которым начала просвечивать небольшая плешинка, словно бы тоже излучал некое бесстрастнюе спокойствие.
Михаил невольно поднял взгляд на портрет царя. Холодное, вернее бы сказать, ледяное, без единой морщинки, парадное, сановное, надменное лицо… Поймал себя на мысли о том, что это холодное и парадное непостижимым образом разлито и по лицам таких вот людей, как этот подполковник, верных царевых слуг.
Подполковник, снова повернувшийся лицом к Михаилу, заговорил каким-то скучным, ровным, стеклянным голосом, будто перед ним сидел не подследственный, им же специально и вызванный, а некий проситель из давным-давно надоевших ему, от которого надо побыстрее отделаться:
— Я — подполковник Иванов. Мне поручено дальнейшее расследование деятельности организации, в которую входили и вы… Будем считать, что я вам представился… — Пышные усы подполковника тронула едва заметная усмешка. — Теперь — ваш черед… Неизбежные протокольные формальности… Они конечно же раздражают своей кажущейся нелепостью, когда приходится вновь и вновь говорить одно и то же… Но!.. Не пами это заведено, не нам с этим и покончить… Увы!.. — Тут подполковник неожиданно даже подмигнул Михаилу, будто меж ними возможен был чуть ли не нравственный сговор. — В нашей с вами власти — другое: мы можем сократить число этих самых нелепых формальностей!.. До минимума! Лично я буду только рад этому, да и вам от этого выйдет лишь одно облегчение. Мне всегда бывает искренне жаль тех бесполезно упорствующих упрямцев, которые неизбежно в конце концов сдаются: какому психическому и нравственному изнурению они себя подвергают, а зачем?! Результат всякий раз — один и тот же!..
На лице говорившего подполковника появилась ироническая улыбка, хотя глаза по-прежнему глядели чуть ли не лениво. Так хитрущий кот-палазутник до поры до времени поглядывает на дичь, находящуюся под хозяйским присмотром, но — отвернись хозяин!.. В звуке ею голоса, во всей манере держаться словно бы сказывалась снисходительность человека, давным-давно постигшего иронию жизни и научившегося быть снисходительным и к отдельно взятому человеку и ко всему однородно-безотрадному течению бытия. Было во всем этом что-то исподволь расслабляющее волю, как бы усыпляющее ее.
После соблюдения «протокольных формальностей» подполковник положил короткопалую пухлую пятерню на высокую стопу поличного:
— Итак, вот это все найдено у вас, в вашей комнате и в вашем столе, находящемся в конторе при вагонной мастерской, в которой вы изволили служить. Тут — брошюры и рукописи революционного и социалистического содержания. И, как видите, немало! Вы не будете отрицать, что все это принадлежало вам?
— Нет. Я уже подтверждал на первом допросе. Вернее, подтверждал то, что все это найдено у меня.
— Прекрасно. А откуда такое обилие запрещенной литературы?
— Этого я объяснять не желаю.
— Вот как… Ну тогда потрудитесь сказать что-либо но поводу вот этой тетрадочки, в синей обложке. Озаглавлена опа: «Введение в историю и политическую экономию…»
— Принадлежит она не мне, хотя и изъята у меня.
— Кому же принадленшт?
— Этого я объяснять не желаю.
— Напрасно. Я уже намекнул вам: упорствовать ве следовало бы! Положение ваше весьма серьезно, и только чистосердечные, откровенные показания могут помочь вам. Советую подумать об этом! Ведь так или иначе мы все выясним. Мы никуда не торопимся. К тому же мы немало и знаем уже… — подполковник пододвинул к себе какой-то лист. — Вот, к примеру, могу сказать вам, что вы обратили на себя внимание еще в 86-м году, когда обучались на втором курсе института. Уже тогда вы были замечены в числе знакомых бестужевки Югилевич, позднее арестованной за антиправительственную деятельность. В сентябре 89-го года на квартире студента-технолога Переверзева происходила сходка, имевшая революционный характер. В числе прочих присутствовали и вы. Во время беспорядков, учиненных в Петербурге студентами в марте позапрошлого года, вы вместе со студентами Цивиньским и Переверзевым были главными подстрекателями и руководителями беспорядков… — Подполковник отодвинул от себя лист, с усмешкой посмотрел на Михаила. — Пожалуй, довольно?..
Михаил лишь пожал плечами.
— Хочу предупредить еще раз: тех улик, которые у нас имеются, вполне достаточно для того, чтоб рука закона покарала вас, — продолжал подполковник. — Собственно, следствие ведется не столько ради того, чтоб изобличить вашу преступную организацию, сколько ради того, чтоб помочь каждому из вас осознать всю пагубность и тщетность содеянного! И не думайте, что, говоря это, я играю с вами, — заметив усмешку Михаила, подполковник постучал согнутым пальцем по краю стола. — Мы действительно знаем очень многое о каждом из вас!..
Подполковник умолк, посмотрев на Михаила долгим изучающим взглядом.
Эта спокойная внешность упрямца-правдолюбца, этот прямой, спокойно-отвергающий взгляд… Трудный подследственный. Такой лазаря не запоет! «Ну да ничего, — усмехнулся про себя подполковник, — раскусим и этот орешек с божьей помощью!..»
Более всего не терпел подполковник вот этого выражения гордыни и непокорства в лицах политических, этого неискоренимого упрямства «свободного разума». В одном этом для него уже имелся состав престуиления. «Да, черт побери, именно состав преступления!» — порой подмывало его крикнуть прямо в такие лица.
Подполковник считал себя физиономистом. Порой приходила ему на ум этакая щекотливая идея, может быть и слишком уж дерзостная идея… Состояла она в следующем: он назначен (монаршей или божьей волей — неважно), просто назначен свыше возглавляющим особую миссию по чистке народных масс, по отделению, так сказать, зерен от плевел. Ему, его прозорливости дана чрезвычайная власть и воля, он облечен неограниченными полномочиями. Перед его прозорливыми, всевидящими очами проходят бесконечной чередой соотечественники, и он, единственный, определяет: кто относится к людям добронравным, чистым, законопослушным и кто — увы… Он бы их развел на две стороны! Сумел бы! Безошибочно! Ведь так это просто — увидеть нутро человека, только стоит попристальнее посмотреть ему в глаза. Он, подполковник Иванов, сумел бы это сделать! А операция сия давно необходима! Всяческая мерзость и гнилость давиым-давно перепуталась в народе с добродетелью, и последняя просто на глазах все более и более заражается… Человечество погубит эта игра в либерализм.
Всякий раз, когда он сталкивался с такими, как этот Бруснев, ему становилось как бы тесно в самом себе: надо было вести с ними хитроумную игру, тогда как особенно-то возиться и не стоило. Пожизненное заключение, отлучение от всякого иного общества, кроме общества таких же смутьянов, вот и все!.. Нужна каленая метла!.. Однако он отлично умел вести и ту «хитроумную игру»…
Подполковник справился с приступом раздраженности, погасил в себе ее взрыв. На его холеном и как будто вовсе бесстрастном лице вновь светился покой уверенного в себе человека. Неторопливые, плавные движения рук, трогавших разложенные на столе улики.
— Так-с… На шестой странице вот этой тетрадочки читаем. «Предмет третьей лекции. Социально-политическое значение русского рабочего народа. Рабочий народ — единственная общественная сила, которая может осуществить социально-политические задачи русского государства. Осуществление каких бы то ни было социальные задач в России безусловно зависит от рабочего класса…» Любопытные слова! А посему хотелось бы знать: принадлежите ли вы к социально-революционной партии?
— Нет.
— Но такой интерес к рабочему вопросу?!
— Я просто интересовался рабочим вопросом, положением рабочих вообще…
— Стало быть, любознательный одиночка?!
— Стало быть…
— Ко вот же в тетрадочке, проходящей у нас под номером двадцать вторым, на первой и второй странице поставлен вами целый ряд вопросов, обнаруживающих иной характер вашего интереса… Вот тут вашей рукой написано: «Знакомство с членами кружка…» И далее: «…предметом первого знакомства должно быть выяснение следующих вопросов: на какой фабрике или заводе работают члены данного кружка, давно ли и на каких условиях работают…»
— Там написано: «должно быть». Так что это не означает еще, что уже было осуществлено…
— Слабая, слабая аргументация, Бруснев!.. Не надо наводить тень на ясный день! — Подполковник осуждающе покачал головой. — Ладно, пока оставим это… У нас будет еще время поговорить по так называемому «рабочему вопросу». Поговорим вот об этих, более ранних, свидетельствах вашего гражданского падения… Вот, например, об этом разорванном письме от редакции «Вестника Народной воли», датированном 4 марта 1835 года.
— Оно хранится у меня как старый любопытный документ.
— Откуда оно у вас?
— Этого я объяснять не желаю. Скажу лишь, что получено оно мною в недавнее время, приблизительно в прошлом году.
— А вот этот листок, озаглавленный «Народная воля», за 84-й год?
— Взято у меня, по мне не принадлежит.
— Кому же?
— Объяснять не буду. Вообще все эти брошюры и рукописи были у меня на сохранении, а от кого я их получил, этого объяснять не желаю.
— Ну, такие ответы мне не в новинку! Они были известны еще ante Ghristum![8] Так что напрасно вы обольщаетесь возможностью отделаться ими!..
Михаил лишь пожал плечами: что тут можно было сказать?!
— Я понимаю ваше затруднение, — явно ища другого тона, заговорил подполковник после небольшой паузы, поглаживая легкие волнистые усы, — Всякие там ложные представления о чести… круговая порука… Все это понятно. Все это у молодежи всегда обострено. Но вот я вам помогу… Вот эти брошюры были найдены не у вас, а у вашего знакомого Михаила Егупова. Они совершенно тождественны с вашими. Не потрудитесь объяснить: может быть, Егупов — источник сих брошюрок?..
— Нет, их я от него не получал и ему не давал.
— Напрасно, напрасно упорствуете!.. У нас есть показания самого Егупова, который утверждает, что 24 апреля, за день до своей поездки в Тулу, он передал вам зти брошюры…
Сонный, какой-то глубокий, будто допесшийся из подземелья, раздался бой шкафообразных часов, стоявших в углу, справа от сидевшего перед Михаилом подполковника, прервав его.
— Я не могу отвечать за измышления Егупова, если он действительно дал такие показания, — ответил Михаил не сразу. Сказанное подполковником было правдой, однако Михаил не мог и допустить такого, чтоб Егупов так вот сразу, на первых же порах, раскрылся… Тут было что-то не то, не так… Скорее всего, этот хитроглазый подполковник Иванов попытался уловить его в одну из своих сетей…
— Хочу напомнить еще раз: чем скорее вы дадите следствию правдивые показания, тем скорее завершится следствие! — Подполковник уставился на Михаила. Эти голубые, слегка навыкате глаза… Они умели глядеть так, будто насквозь проскваживали, и вместе с тем они были словно бы подернуты чем-то, некой пеленой… Пеленой казенного отдаления…
Михаил не опустил своих глаз под этим испытующим взглядом.
— На этом мы закончим сегодняшнюю беседу, — сказал подполковник, поднимаясь. — Подумайте как следует о том, что я вам советую! До встречи!..
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Когда Михаил скрылся за дверью, сопровождаемый конвоиром, подполковник, усмехнувшись, покачал головой:
— А?! Каков?! Как держится! Глазом не моргнет! Товарищ прокурора, складывавший бумаги, провел плоской длинной, как у обезьяны, ладонью по черным нафиксатуаренным волосам.
«Экая прилизанная, законопослушная голова!» — про себя усмехнулся подполковник. Он недолюбливал Стремоухова. Отвращал его сам тип такого прилизанного бесстрастного человека, отвращала и раздражала эта выработанная годами медлительность движений, этот «уныло-департаментский» вид, когда никаких страстей на лице, одна трезвость юриста, правоведа, и ничего более. Даже низкий голос Стремоухова был каким-то замораживающим, студено-мертвящим, словно бы вяжущим по рукам и ногам.
— Да-а… Нелегкий у вас подследственный… Не-лег-кий… — не вдруг отозвался Стремоухов на замечание подполковника.
— Ничего! Исподволь расколем и этот орешек! Сам, сам будет давать откровенные показания! — подполковник даже кулаком пристукнул по столу.
— Только вы уж не очень… Порой вы слегка перебарщиваете в своем стремлении выжать из подследственного показания. Следствие, судопроизводство должны быть абсолютно…
— Ах, Андрей Михайлович! — не дал ему договорить подполковник. — Все-то вам мечтается оправильном судопроизводстве! Забудьте! Забудьте о Фемиде с завязанными глазами! Не те времена-с! Не те! Не до игры в либерализмы! Доигрались, можно сказать!.. — подполковник осекся, как человек сказавший лишнее, и уже в другом тоне заговорил вновь: — Я замечаю, Андрей Михайлович: политический арестованный ныне стал другим. Ведь вот вспомнишь былые процессы… Взять тех же декабристов. Ведь у многих из них дело доходило до покаянных писем государю. Или вспомним процесс над петрашевцами. Тогда еще как-то проще все было: арестованный русский человек считал себя обязанным отвечать чуть ли не на всякий вопрос ведущего следствие начальства. А ныне?! Ныне — не то!.. Смерть предпочтут унижению! По слову из них тянешь. Возьмите вот этою Бруснева: ведь уж все улики против него, и улик-то сколько, а какое упорство! Но ничего! Ничего!.. Дайте срок! Нам нельзя проявлять мягкости! Вон на днях из Петербурга заезжал к нам ротмистр Крылов. Рассказывал: рабочие тамошние опять провели маевку, помноголюдней прошлогодней! Стало быть, идет наростание этого мутного вала!.. И если мы не проявим необходимой твердости, то бог весть, до чего все может докатиться… Кстати, этот вот самый Бруснев по ответу Департамента полиции на наш запрос имел в Петербурге связи в рабочей среде… Так что вполне возможно, фигура он куда более важная в этом процессе, нежели всо остальные!..
Перед очередным допросом Бруснева подполковник Иванов внимательно читал программу обучения пропагандистов-рабочих, обнаруженную им среди поличного, oтoбранного у Бруснева (его рукой она и была написана).
Программа состояла из десяти разделов, включавших в себя весьма широкий круг вопросов, начиная с элементарной грамотности. Упоминались в ней основы химии, физики, ботаники, зоологии, анатомии, астрономии… Однако основной упор делался на общественные дисциплины, им было посвящено семь разделов из десяти.
«Да, — подумалось подполковнику, — именно Бруснев, именно он и есть главная фигура в этом процессе. Просто развернуться тут, в Москве, он не успел! А дать бы ему время!.. Нет, не Егупов — ключевая фигура! Насчет него Николай Сергеевич заблуждается. Бруснев, Бруснев! Вот кто нас должен более всего заинтересовать. Один ого интерес к рабочему вопросу о многом говорит!..»
Подполковник в который уже раз перебрал лежащие перед ним брошюры, найденные при обыске у Бруснева: «Русский рабочий в революционном движении» Плеханова, «Задачи рабочей интеллигенции в России. Письма к русским рабочим» Аксельрода, «Ежегодный всемирный праздник рабочих» — все того же Плеханова… Только названия брошюр чего стоили!.. Подполковник поднялся, подошел к окну, за которым сиял погожий и совсем уже по-летнему теплый день. Пожмурившись на это заоконное сияние, он с неудовольствием подумал о том, что вынужден среди такого великолепного дня заниматься этим расследованием, тогда как все его семейство уже три недели благоденствовало на даче, под Марфином. Он же почти всякий день занят. Бердяев поторапливает. Допросы, допросы, допросы… Слава богу, не все так упрямы, как этот Бруснев… Супруги Епифановы, например, вели себя на допросах как люди, перепуганные дальше некуда, в их ответах сквозила заискивающая готовность выложить перед следствием все без утайки. Особенно словоохотлив был сам Епифанов.
Подполковник Иванов взял подписанный Епифановым протокол допроса, перечитал:
— «С Брусневым знаком. Учились вместе. Однако, окончив институт на год раньше, чем он, уехал к месту работы и не виделся, и не переписывался с ним. Почему оказались с женой в Москве? По простой прпчине: жена моя серьезно больна, я хотел давно перебраться в Москву, надеясь получить здесь для нее настоящую медицинскую помощь. И вот в феврале я получил место в Москве. Жалованье было небольшое. Снять отдельную квартиру мне было не по карману, а поселиться с женой в меблированных комнатах было бы крайне неудобно, имея в виду характер лечения жены. Поэтому мы на первое время решили взять квартиранта. Бруснев предложил мне себя. Это нам было удобно, поскольку знакомый человек. Мы отдали ему две отдельные комнаты с особым ходом из передней. Он платил нам за квартиру со столом 35 рублей в месяц. Согласитесь, деньги хорошие. Жена была все время здесь сильно больна и не выходила из комнаты. В середине апреля материальное положение мое улучшилось настолько, что я предложил Брусневу, чтобы он подыскал себе квартиру, поскольку болезнь жены и способы ее лечения не позволяют иметь рядом постороннего человека…»
На «тонкое» замечание насчет того, что Бруснев, видимо, был неудобным квартирантом, поскольку его часто навещали всевозможные гости, Епифанов отвечал:
«Да, его посещали многие лица. Однажды, а именно в пасхальную ночь, у него сразу собралось человек десять…»
Епифанова не надо было «тянуть за язык». Он тут же сообщил, что велись при этом разговоры с упоминанем какого-то «воззвания к голодающим». Тут же и оговорился, мол, сам он в тех разговорах не участвовал, лишь заглянул к Брусневу ненадолго и снова вернулся к больной жене. Он и раньше ни о каких революционных делах с Брусневым не говорил. Не замечал у него и революционных изданий. По крайней море, Бруснев ему их не показывал ни разу…
Затем Епифапов дополнил первоначальные показания, сказав, что на страстной, 4 апреля, днем, видел у Бруснева двоих незнакомых мужчин. В предъявленных фотографиях узнал тульских рабочих Руделева и Мефодиева. Сказал, что по разговорам счел их за людей образованных, никак не мог предположить в них простых рабочпх.
Последнее замечание было ценно: при допросах Руделева и Мефодиева следствию заранее было ясно, какие это рабочие, так что тем не удалось свалять ваньку, сыграть в «темноту беспросветную»!..
Свою непричастность к тайным делам Бруснева Епифанов особенно старался подчеркнуть:
«Я на службе проводил почти все свое время. Так что ни о чем не мог знать. Все праздничные дни я был ранят с семи утра до двух дня, по средам и субботам — от семи утра до шести вечера, по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам — от семи утра до одиннадцати ночи. У меня едва хватало времени на прочтение газеты. Это может подтвердить токарный мастер господин Эрман! Да вот вам факт: я начал заведовать мастерской с половины апреля и слишком рьяно взялся за дело. Работа была спешная, работали, прихватывая часто и ночное время и воскресные дни. Рабочие даже стали высказывать неудовольствие и часто не выходили на работы. Тогда я объявил им, что невыходящие будут оштрафованы. И штрафовал! Сами посудите: мог ли я участвовать в делах Бруснева, мог ли я штрафовать рабочих, а дома говорить об их освобождении?!»
На вопрос, знаком ли он с Егуповым, Кашинским, Квятковским, Терентьевым, Борзенко, Лнпкипым, Филатовым, Красиным, Епифанов отвечал:
«Егупова я узнал на днях. Его рекомендовал мое Бруснев на место, которое открыли у нас в конторе. Бруснев уговорил меня просить господина начальника мастерских зачислить Егупова. Знаю, лишь по фамилии. Кашинского. Остальных не знаю вовсе. Во время моего пребывания в институте я знал, что среди студентов были два брата Красиных, которые были тремя курсами младше меня. У них я никогда не бывал, особого знакомства с ними не заводил. После окончания института с ними не встречался и не знаю, где они находятся. Вообще, прежних, студенческих, связей я не поддерживаю…»
Кашинский тоже не упорствовал. Этот сразу почти со всем признался, хотя не обошлось и без вранья. Арест перепугал его, как никого другого из этой компании. Дав откровенные показания, он опять попал в тюремную больницу, и, как видно, надолго. Нервные припадки…
В его показаниях тоже в основном упоминался Бруснев.
Дал откровенные показания и рабочий Руделев. И в его показаниях основная фигура — Бруснев…
«Бруснев, Бруснев…» — пробормотал подполковник и оглянулся на дверь: что-то запаздывал Стремоухов. Часы показывали уже без двух минут одиннадцать. Брусвева, должно быть, угке доставили из Московского тюремного замка… Едва он подумал об этом, как дверь приоткрылось и вошел товарищ прокурора:
— Прошу извинить, Александр Ильич. Задержался… Подследственный уже здесь.
— Будьте добры, скажите там, чтоб его ввели, — кивнув, попросил подполковник.
Очередные протокольные формальности, после которых подполковник Иванов поудобнее откинулся на спинку стула, будто собираясь начать беседу с добрым приятелем, а не с упорно нежелающим разговаривать подследственным.
— Итак, начнем нашу беседу, как говорится, с новой строки. Начнем ее хотя бы вот с этой книги. — Рука подполковника вознесла над столом учебник английского языка, взятый Михаилом у Кашинского незадолго до ареста. — Вот тут, на титульном листе, есть надпись: «Кашинский». Между тем в прошлый раз вы отпирались насчет своего знакомства с этим Кашинским… Есть тут и визитная карточка все того же Кашинского…
— Да, эта книга взята мною у студента Кашинского, с которым я знаком, — быстро сказал Михаил.
— Сразу бы так! — поощряюще кивнул подполковник. — А не потрудитесь разъяснить характер ваших с ним отношений?..
— Этого я делать пе буду.
— М-да… — подполковник усмехнулся. — Что значит «не буду»?! Придется! Преступные связи меж вами подтверждают неопровержимые улики! Вот эти два листка, например, содержащие весьма любопытную программу, найдены были тоже у вас. Начинается она вот с каких слов: «Да здравствует всеобщий союз социалистов!..» Написана программа рукой все того же Кашинского. Это признано экспертами!.. Каким образом она оказалась у вас?
— На этот вопрос я отвечать не желаю.
— М-да… Вы, смотрю, не поняли моих добрых пожеланий… Я ведь как будто советовал вам не усугублять своего положения, весьма сложного положения! Ведь одна вот эта тетрадочка — весьма серьезная улика! — подполковник взял за уголок тетрадь, содержащую «программу обучения пропагандистов-рабочих», покачал ею над столом, как бы на вес определяя то, что было в ней крамольного. Ваши «не желаю» — бессмысленны! Все будет распутано. Не сомневайтесь! Так что они лишь удлиняют следствие… — Отложив тетрадь в сторону, подполковник пододвинул к себе небольшой листок бумаги, в котором Михаил сразу же узнал «план», набросанный им накануне несостоявшейся поездки в Петербург.
— В вашей переписке есть вот этот лоскуток бумаги с латинскими буквами, представляющими собою условный текст. Что это?
— Не знаю… не припоминаю… — Михаил с деланным равнодушием пожал плечами.
— Ну что ж… Зная, что вы мне ответите, я сумел расшифровать ее. Вот что в ней: «Мои обязанности в Петербурге. Для книг адрес. Голод и мужик. Агентура для книг. Общие деньги… Адрес П. П. — угол Колокольной и Поварского переулка, 12/17 I, с Поварской, со двора…»
Не дочитав, подполковник глянул на Михаила:
— Ну как? Продолжать?
— Не надо, не трудитесь…
— Вами написана эта записка? И верно ли она расшифрована?
— Написано мной. Расшифровано верно. Но давать какие-либо пояснения по этой записке отказываюсь.
— Вот как! — Подполковник в деланном недоумения вскинул брови, пододвигая к себе новые листы. — В числе бумаг, отобранных у вас, оказались и вот эти письма условного содержания за подписью «Валериан», присланные из Петербурга, в которых, между прочим, упоминается имя «Николая Павловича». Не потрудитесь объяснить, что это за личности?
— Нет. Не помню.
— Ну что ж… Нам не составит труда сделать запрос, и «запамятованные» вами «Валериан» и «Николай Павлович» будут возвращены вашей худой памяти! Благо у нас и адресочки есть… Как конспиратор вы действовали не лучшим образом, благодаря чему следствие теперь располагает многими адресами и фамилиями, которые вам, само собой, хотелось бы скрыть… — подполковник усмехнулся. — Разумеется, вы «не помните» и еще одного вашего знакомого — Цивиньского, письма которого также обнаружены у вас.
— Отчего же? Помню. Учились вместе…
— И не более того?
— Не более того…
— Проверим и сие! Вот и его адресок: угол Невского проспекта и Екатерининской улицы, дом Ушакова, квартира пятидесятая… Все сами же и сберегли для нас, а теперь упорствуете. Впустую… А вот-с письмецо из-за границы, от 15 апреля сего года… Начинается такими словами: «Вчера получил Ваше письмо…» Пишет Роберт Классон… Товарищ по институту, стало быть…. Сподвижник, так сказать… За границу сбежал от возмездия. Кстати, он тут упоминает еще одного вашего приятеля — Балдина, называя его «Алекс. Ник.». — Подполковник взял новое письмо. — А сие письмецо — от самого Балдина, из Тифлиса, от 13 апреля сего года. Подпись — «А. Б.». Этот ваш «А. Б.» привлекался в прошлом году в Петербурге к дознанию по обвинению в преступной переписке с проживающими: за границей революционными деятелями. Подвергнут был в начале позапрошлой осени тюремному заключению, в марте освобожден и выехал на жительство в Тифлис, с подчинением гласному надзору!.. М-да-с… — Ловкие пальцы подполковника развернули новый лист. — А это… это письмецо — от Леонида Красина, в апреле прошлого года исключенного из вашего института и поселившегося в Нижнем… Прелюбопытнейшая коллекция, скажу я вам. От каждого вашего приятеля одинаково пахнет… Как говорится, «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам»… А вот — фотографические карточки этих самых ваших приятелей, подаренные вам ими. — Подполковник хмыкнул. — Что-то уж слишком однообразны они в своих надписях. Видимо, сказывается общий стереотип мышления… «Оглянемся на Запад и встретимся на Востоке». Это — Красин. «Оберните взор па Запад: солнце, вопреки законам астрономии, взойдет с Запада. Видна заря!..» Это — Классом…
Подполковник вновь откинулся на спинку стула, с иадкупающе-простодушной улыбкой посмотрел на Михаила:
— Я нарочно сейчас продемонстрировал, так сказать, чем мы располагаем… И это — далеко не все. Сами видите, сколько в наших руках «ниточек», и каждая ведет к конкретным личностям… Было бы лучше — прежде всегo для вас, для вас, Бруснев! — если бы вы, не затягивая следствия, дали откровенные показания. Еще раз говорю вам об этом!..
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
— Moгy вас порадовать, Бруснев, — с таких слов начал новый допрос через несколько дией подполковник Иванов. — Санкт-петербургским градоначальником установлено, что автором означенных писем является незаконнорожденный сын дворянки Валериан Александров, по ремеселу типографский наборщик и переплетчик, и что имя «Николай Павлович» относится к студенту Петербургского лесного института Сивохину. У обоих были проведены обыски, по результатам которых оба оказались арестованными… Вот видите: я обещал вам разузнать об этих «забытых» вами людях и слово свое сдержал! Уж такая у нас должность: мы ничего не должны забывать! Это ваше дело— «забыл» да «не помню», а наша память ничего ронять и терять не должна! Тут, — подполковник постучал согнутым указательным пальцем по скошенному назад лбу, — тут должно быть все в порядке!.. Подполковник не случайно не назвал Цивиньскою: арестовать его не удалось, тот успел скрыться.
— Ну что ж… — продолжал подполковник. — Попробуем освежить кое-что и в вашей памяти… Могу сказать, что у этого вашего Сивохина обнаружено немало любопытного. Есть н ваши письма, в которых вы высказываетесь куда откровенней, нежели в разговоре со мной. Вот-с, к примеру: «Вам хорошо известно, что мирным культурным деятелем я не был. Вам, я думаю, известив, что я всегда был революционером, только я никогда не пропагандировал стучать лбом о стену, а советовал запастись более совершенными орудиями…» Вами написано? — подполковник поднял глаза на Михаила, глядевшого в сторону зарешеченною окна.
— Написано мною, но по содержанию письма я никаких объяснений давать не желаю.
— Неново, неново, Бруснев… Ваше упорство между тем может повредить тому же Сивохину… Вы не желаете давать объяснения, таким образом, мне остается выводить доказательства и заключения из вашего умалчивания! Таким образом, может не поздоровиться вашему другу… Вы это понимаете?.. Так вот: давайте-ка по порядочку… О Сивохине сначала…
— Рассказывать тут в общем-то и нечего. Обыкновенное знакомство… С Сивохиным я встретился впервые в 90-м году, когда жил с ним на одной квартире у Софьи Антоновны Вейдо. Знакомство наше сохранялось до окончания мною курса в 91-м году.
— Так, — поощряюще кивнул подполковник. — А каким было ваше знакомство, какие разговоры вы вели?
— Не помню наших разговоров…
— Опять «не помню»!..
— Я просил Сивохина заняться с Валерианой Александровым, с которым занимался по общеобразовательным предметам.
— Видимо, по какой-то специальной программе?.. Судя по изъятому у Александрова, «образовывали» вы его в определенном направлении…
— Нет, я не давал Сивохину никакой программы.
— А может быть, вы просили об этом Леонида Красина?
— Его я не мог просить об этом, поскольку он был выслан из Петербурга за несколько месяцев до того…
— Это неправда, Бруснев. Но пока — ладно. А не давали вы Александрову в переплет книги или брошюры революционного содержания?
— Нет.
— Ну а пишущую машинку — не давали?..
— Не давал, поскольку у меня никогда и не бывало таковой…
— Это мы установим, — пообещал подполковник. — А приспособлений для гектографирования вы Александрову не давали?
— Нет, не давал.
— И, разумеется, не обучали его технике гектографирования?..
— Не обучал. Не обучал и не мог обучать, поскольку не знаком с этой техникой.
— Однако при обыске у Александрова обнаружены были все принадлежности для гектографирования! Oткуда они у этого юноши?
— Этого я не могу знать…
— Александров, я думаю, не столь же упрям, надеюст, что он пояснит все это… Но… вернемся к вашим письмам Сивохину.
— О письмах я говорить отказываюсь.
— Категорически?
— Категорически.
— Ну что ж…. Пока, стало быть, запишем так: «Бруснев, допрошенный по поводу адресованных им Сивохину писем, дать какие бы то ни было показания отказался…» К сожалению. Ибо переписка ваша прелюбопытна! Вот, к примеру, письмецо с заграничным адресом. В нем говорится о пересылке писем и книг, а также — об анархизме и социализме… Кстати, Бруснев, не ответите, все-таки, к какому революционному направлению вы принадлежите? Судя по этому письму, вы — социал-демократ… Судя по программе, отобранной у вас, вы — социал-террорист, то бишь, народоволец… Правда, написана программка рукой Кашинского, однако найдена она у вас…
— На эти вопросы я также отказываюсь отвечать. Содержание этой программы я не знаю, я ее не читал.
— Я так и полагал! — усмехнувшись, подполковник взял в руки новое письмо. — А что у нас здесь? Ах, да: письмецо из Тифлиса. От «А. Б.». От Алексея Балдина, стало быть. «Пишите обо всем интересном, о политических и социальных событиях и о том, что вам пишут из-за рубежа…» Одно и то же, одно и то же во всей вашей переписке! Политическое и социальное!.. Социальное и политическое!.. И переписка ваша, и знакомства ваши — одного характера. Кстати, Бруснев, о знакомствах ваших… Вы замечены были среди компании писателя Астырева, арестованного примерно месяцем раньше, чем вы. Каковы были ваши с ним отношения? Где, когда, при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
— С писателем Астыревым я познакомился здесь, в Москве. Я первый сделал ему визит и был у него всего дважды. Он же у меня не бывал вовсе. Познакомился я с ним как с литератором.
— И только?
— И только.
— Хорошо. А что вы скажете насчет ваших поездок в Тулу? Мы располагаем сведениями, что вы там бывали… Бывал там и ваш приятель Егупов с целью открыть там какую-то мастерскую…
— В Тулу я не ездил ни разу. О поездках Егупова туда ничего не знаю.
— Разумеется, разумеется!..
После допроса Михаил долго не мог успокоиться. Из-за его неосторожности жандармы добрались и до петербургских его знакомых… И вот — первые жертвы: Николай Сивохин, Валериан… Что обнаружено было при обыске и у того и у другого? Куда потянется от них «ниточка», на кого еще выйдут жандармы? Ведь и тот и другой, судя по сказанному Ивановым, тоже хранили при себе всю свою переписку… Особенно угнетало Михаила то, что у Валериана были найдены пишущая машинка и гектограф, которые он передал тому перед отъездом в Москву. За такие улики жандармы наверняка ухватятся как следует!.. Ведь просил же он Сивохина взять все это к себе. Не взял… И теперь Валериану придется туго. Именно из-за Валериана Михаил и переживал больше всего: он так полюбил этого диковатого смышленого юношу, так хотел помочь ему, а получилось вот как: тот оказался в тюрьме…
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
По характеру предлагавшихся ему вопросов Михаил догадывался, что с каждым днем жандармы узнают все больше подробностей и об организации, в которую он входил тут, в Москве, и о его личной роли в этой opганизации. Брала досада: так нелепо все получилось — арестовали с такими уликами! С первого же дня заключения беспокоило особенно то, что в руках жандармов оказалась вся его переписка, располагая которой те могли выйти на его немосковские связи… И вот они зацепились за эти связи… И потянули одну «ниточку» за другой…
Михаил старался держаться на допросах спокойно, осмотрительно, но позволяя втягивать себя в расставляемые следователем сети. Вначале он вообще не хотел давать никаких показаний, однако решил сменить тактику: слишком многое было известно следователю, слишком много бесспорных «фактических данных» было у того в распоряжении. Пришлось все-таки давать показания, не раскрывая новых имен, отказываясь говорить что-либо о лицах, интересующих жандармов; если же и говорил, то лишь в тех случаях, когда был уверен, что свиоми показаниями никому не принесет вреда.
В одиночке он привык жить воспоминаниями. Минувшее постоянно окликало его. Являлось одно и тянуло за собой другое…
Как он жил все последние годы? В вечной спешке. Так много надо было успеть!.. И вот — некуда более торопиться… Он втиснут в эту каменную клетку… День уходит за днем. Время, в котором ничего не происходит, время, в котором лишь ощущается бесполезное утекание жизни. Каждый день, если не везут на допрос в Георгиевский переулок, одно и то же, какая-то норная жизнь.
Видеть можно лишь трех-четырех стражей да тюремного надзирателя, когда тот подходит к откидному окошечку в двери, совершая вечернюю поверку арестантов.
Однажды Михаил вспомнил о своей «прогрессии». Как все ясно виделось, воображалось по ней тогда, в Питере! И вот — дни полного бездействия, полной оторванности ото всего… И впереди не ожидало его ничего лучшего. Не мог он знать, сколько протянется это следствие, не мог знать, каково будет наказание. Одно было ясно: уповать на милосердие суда ему нельзя.
«Вот и вся твоя «прогрессия», — покивал он своим невеселым мыслям. — Какая нелепость: прийти к ясному пониманию новых путей жизни и оказаться вычеркнутым из жизни…»
Вспомнились ему как-то и слова Пахома Андреюшкина, сказанные тем накануне готовившегося покушения на царя. Тогда Пахом принес к нему на квартиру остатки своей химической лаборатории. Он и накануне т а к о г о д н я оставался самим собой — улыбался, шутил, этот безунывный Пахом Андреюшкин… Лишь при прощании вдруг принахмурился: «Может, больше и не увидимся, Михаило…» Но тут же упрямо мотнул головой: «А! Но надо теперь об этом! Где наша не пропадала! Мы, брат, с тобой — казаки, а казаки всегда шли на рисковые дела! Все первопроходцы Руси-матушки были из казаков! Они, а не кто-нибудь, открывали неведомые земли! Так что, ежели что, — не поминай лихом! Считай, что ушел твой Пахом с ватагой надежных товарищей на поиски своей неведомой земли! И сам не засиживайся — отправляйся следом!..»
Не засиделся… Только иначе увиделся ему путь к той «неведомой земле». Не с ватагой отчаянных храбрецов можно достичь ее. Надо, чтоб было широкое, неостановимое движение… И он увидел въявь зачатки этого движения, там же, в Питере. Всего через три года после того неудавшегося покушения. Но вот и сам он, избравший иной путь борьбы, оказался в тюрьме, в у з и л и щ е…
На втором месяце заключения тюремный режим полегчал. Пришло разрешение пользоваться книгами, правда, выбора особого тут быть не могло: согласно циркуляру министерства внутренних дел, как объяснено было Михаилу, заключенным разрешалось читать только классиков и некоторые книги по истории, философии, биологии. Поскольку времени у него теперь было в избытке, Михаил решил «подтянуть» себя в иностранных языках, особенно во французском. Английский и немецкий он знал довольно сносно.
Самым непростым делом для Михаила было писание писем родным. Тут была двойная трудность: неизбывная мука от сознания причиненного всем им горя и мука от казенного посредничества между ним и ими (каждое письмо, написанное им самим и присланное ему, обязательно прочитывалось его следователем). Несколько раз его собственные письма возвращались к нему с одной и той же надписью на конверте: «Заключающееся в означенном конверте письмо признано мною не подлежащим отправлению по назначению». Тут подполковник Иванов не утруждал себя словесным и стилевым разнообразием…
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
— Ну, что новенького в вашем расследовании, Александр Ильич? — спросил Бердяев вошедшего в его кабинет подполковника Иванова. И пригласил: — Садитесь! — Каждый день что-нибудь новенькое, — неопределенно ответил тот, опустившись на стул. — Но дело движется не так скоро, как того хотелось бы… Одни, как Бруснев, к примеру, упрямятся и упорствуют, другие отлеживаются в больнице. Вот опять сразу трое оказались там: Егупов, Вановский, Райчин. Я уже не говорю о Кашинском, который застрял в больнице основательно… В Петербурге преемником Бруснева остался Сивохив, он занялся пропагандой среди тамошних рабочих, читал им запрещенные сочинения, которые сам он имел в большом количестве.
— Это для нас крайне важно, Александр Ильич, — заметил Бердяев. — Через Сивохина мы сможем выйти на петербургскую рабочую организацию, если таковая существует! То-то было бы неплохо! Сами понимаете, как сие было бы престижно для нас! Организация действует под боком у Департамента полиции, а мы, из Москвы, обнаруживаем ее!..
— По-моему, это реально. Сивохин — далеко не Бруснев. Пожиже. Пока что он топорщится, но не очень. Думаю, что в самое ближайшее время он даст нужные нам показания. — Иванов усмехнулся. — Есть тут у меня соображение… вот какого характера… Вместе с Сивохиным был арестован в Петербурге некто Александров. Совсем еще юнец. Ершистый. Неуравновешенный. На допросах плетет всякую околесицу. В ходе расследования была выявлена еще одна фигура: дружок его Василий Воробьев. На квартире отца Воробьева Александров и проживал в последнее время. Этот Василий после ареста Александрова был тоже арестован. Зацепили его на пустяке, но вот этот-то пустячок я и намерен использовать, зная теперь натуру Александрова, который за друга, видимо, готов в огонь и в воду. Ну а ежели Александров разговорится, то, используя его показания, нетрудно будет нажать и на Сивохина… А может быть, и на Бруснева!.. Но весьма, весьма неподатлив этот Брусвов.
— Постарайтесь, Александр Ильич! Надо как-то убыстрить…
— Стараюсь, Николай Сергеевич! Дело-то весьма разветвленное, непростое.
— Не я тороплю вас. Сам понимаю: как важно тут все распутать неторопливо, основательно. Но вот и сам Дурново интересуется (сегодня от него запрос по этому делу получен!), и наш новый обер-полицмейстер проявляет нетерпение… — лицо Бердяева тронула усмешка. Усмешка означала: «Ох уж этот Власовский! Лучше бы он не лез не в свои дела, этот фанфарон и держиморда! Такому не дело важно, такому лишь бы побыстрее отрапортовать вышестоящему начальству…»
Усмехнулся ответно и Иванов: он прекрасно знал о неприязни своего шефа к Власовскому, за короткое время прославившемуся на всю Москву своими кутежами и самодурством.
— Думаю, что в ближайшее время следствие значительно продвинется… — сказал он.
Бердяев кивнул, поднимаясь:
— Не смею вас долее задерживать, Александр Ильич!..
Утром следующего дня подполковник Иванов вызвал на допрос Валериана Александрова.
— Зимой прошлого года, — начал он допрос, — вы дали своему приятелю Василию Воробьеву вот эту тетрадочку, писанную обыкновенными чернилами и озаглавленную «Письма вечного каторжника к случайной знакомой в Сибири». Вы попросили его переписать эту тетрадочку, не сказав, для какой цели. Цель же была преступная: переписанное Воробьевым затем подлежало гектографированию… Получилось так, Александров, что вы подвели своего друга, который, как мне теперь известно, делал вам только доброе. И вот он оказался под следствием, как политический преступник… — Заметив, что Александров побледнел, подполковник сделал паузу и, неожиданно возвысив голос, продолжил: — Но! Своего невинно тонущего друга вы можете спасти, поведав следствию обо всем, без утайки…
— Я все скажу, все! — в крайнем возбуждении заговорил Александров. — Будь что будет, но умоляю об одном: не губите моего товарища! Он ни в чем не виноват!..
— Тогда — пожалуйста! Рассказывайте. Напомню: нас интересуют Бруснев, Сивохин, Цивиньский, Красин… Все, что знаете об их деятельности!
Александров кивнул, как норовистый конь, понуждаемый уздой, и начал рассказывать.
Подполковник Иванов удовлетворенно покачивал головой: мол, рассказывайте, рассказывайте, Александров, не останавливайтесь! Он был доволен: удалось-таки подобрать ключик и к этому упрямцу, который наговорил ему до этого допроса «семь верст до небес и все лесом». Любой, самый упорный, подследственный обязательно «раскроется», надо лишь подобрать этот самый «ключик»!
— Так вот мне хотелось бы спросить вас, Александров… — В голосе подполковника появились чуть ли не отеческие нотки. — Вот вы так старались не выдать Сивохина, ни Бруснева, а ведь если бы задумались, увидали, что и тот и другой поступали бесчестно по отношению к вам. Они использовали вас, ничего не подозревающего, в своих тайных и опасных целях! Разве так поступают порядочные люди?! Более того, они через вас ввергли в преступную деятельность и вашего товарища, вовсе уж ничего не подозревавшего! Вы не выгораживать их должны бы, а как можно больше помочь следствию в их изобличении!
— Так я и помогаю… — произнес Александров.
— Что можете сказать о Цивиньском и Красине?
— Студента-технолога Цивиньского знаю. Ходил к нему с книгами и письмами от Сивохина. Несколько раз. У Бруснева я Цивиньского не встречал ни разу. Красина, показанного мне на фотографической карте, видел у Бруснева часто, когда тот жил на Можайской улице. Позапрошлой зимой Красин приходил к Брусневу в форменном платье и, переодевшись в другую одежду, уходил, а куда уходил — этого я не знаю. С Брусневым они говорили, мешая французский язык с русским, так что я не понимал их.
— Вот видите! У них к вам полного доверия не было, а вы им так доверялись! — опять не преминул заметить подполковник.
Александров никак не откликнулся на это замечание.
— Мне все-таки любопытно было бы услышать от вас: почему вы так сошлись с Брусневым? Только поменьше ваших рассуждений и побольше фактов! — Подполковник поморщился: ох уж этот разговорчивый юноша!
— Но какие тут факты?! Это вытекает прямо из того моего нравственного состояния, в котором я находился во время моего первого знакомства с Брусневым. Я всю кизиь видел вокруг себя людей, которые меня ненавидели и которых я презирал. Один Бруснев подал мне руку, расспросил меня, выслушал, принял во мне участие. Мне было тогда пятнадцать лет. Естественно, что я к нему привязался. Какой же тут может быть факт?!
Подполковник поморщился: эти восхваления Бруснева — они отнюдь не ласкали его слуха. Вон и Сивохин на последнем допросе тоже воздал Брусневу от всей доброй памяти о нем: «Впечатление он на меня произвел весьма сильное как своею начитанностью, так и своим гуманным обращением, которого мне ранее не приходилось встречать… Его ровные и гуманные отношения ко всем без исключения, его ласковые и добрые слова ко всему бедному люду и труженикам должны были, вероятно, отразиться на мне… Я видел в нем человека в высшей степени развитого, гуманного и образованного…»
— К Брусневу душа сама тянулась, — продолжал Александров. — Сивохин уже не то. Я с ним постоянно спорил, даже грызся, потому что Сивохин — это вопиющее противоречие. Я же этого не сношу.
— А почему вы доверялись Сивохину?
— Доверялся, скорее, он мне, поскольку мои дела не требуют, чтоб я с ними скрывался.
— Тогда почему Сивохин доверялся вам?
— Спросите самого Сивохина: почему он мне доверялся, как он на меня смотрел, к чему меня готовил? Я этого не знаю…
— Ах, Александров, Александров! Пустые все слова! Не чувствуется в вас искреннего раскаянья. Из вас показания надо вытягивать… — подполковник поморщился.
— Это — неправда! Я говорю все, что знаю. Не могу же я сочинять то, чего не знаю! Относительно Бруснева и Сивохииа я больше ничего не могу сказать…
— А вот те два стихотворения революционного держания, отобранные у вас при обыске… Сам факт их написания вами, он не свидетельствует о влиянии Бруснева на ваши умонастроения?..
— Стихи написаны мною были в 89-м году, весною. Тогда я с Брусневым еще мало был знаком, а потому источник надо искать не в нем, а во мне самом. Всю жизнь был забит и загнан. Был очень отзывчив на чьибы то ни было страдания. Это — раз. Затем: я ведь постоянно был среди студенчества.
— Довольно, довольно, Александров! — в нетерпении остановил подполковник чрезмерно словообильного юношу. — Поменьше рассуждений. Отвечайте лишь по существу.
— Я отвечаю «по существу», как вы изволили выразиться… — Александров обиженно шмыгнул носом. — Я бы всего этого вам, наверное, не сказал, если бы здесь не был замешан Василий Воробьев. Во всяком случае, если будет отвечать Бруснев, то — за дело, если я… тo — за глупость (но что теперь поделаешь?!). Если же будет привлечен к ответственности Воробьев, то это уже будет прямо по моей вине. Мне было чересчур тяжело выводить на чистую воду Бруснева, но в тысячу раз будет тяжелее, если совсем не виновный ни в чем мой товарищ подвергнется хотя бы самому кратковременному аресту. Повторяю еще раз: Воробьев ни в чем не виноват. Теперь совесть моя чиста, и я отдаю себя на суд. Больше сказать мне нечего. Еще раз прошу о моем товарище, а о себе я не забочусь. У меня только мать и одни брат, а у него четыре брата и сестра и все — мал мала меньше.
— Ну зачем же так мрачно?! Думаю, что все исправимо и для вас, и для вашего друга. Вина ваша — косвенная и неосмысленная. Вы оказались жертвами злонамеренных людей. Не более того! Впредь вам наука! — подполковник крепко пристукнул копчиками пальцев по столу и при этом так посмотрел на юношу, что тот прочел во взгляде его голубых, навыкат, глаз целое невысказанное наставление.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Показания Александрова действительно помогли подполковнику Иванову нажать на Сивохина, и тот, поупорствовав еще какое-то время, сдался, рассказал все, что знал о петербургской рабочей организации. Знал же он нe слишком много. Подполковник Иванов преувеличил его роль, как преемника Бруснева. Уезжая из Петербурга, Михаил ввел Сивохина в качестве пропагандиста в Гаванский кружок. Собственно, об этом кружке Сивохин только и знал.
Дать откровенные показания Сивохина склонял при свиданиях и отец, коллежский советник, живущий в Москве, в собственном доме. Он хлопотал о том, чтоб сын был отдан ему на поруки, под денежный залог. Бердяев лично встретился с ним и посоветовал ему «повлиять на заблудшего сына», обещая удовлетворить его просьбу (разумеется, в том случае, ежели сын примет совет отца — не упорствовать попусту, а чистосердечно во всем признаться)…
Перед рождеством Александров был отпущен на свободу и возвратился в Петербург, к матери. Еще раньше освободили и его товарища Василия Воробьева. Сивохина отдали отцу на поруки в начале февраля.
11 февраля Бердяев вновь вызвал к себе Иванова.
— Можем друг друга поздравить, Александр Ильич, с повышением! Имею абсолютно точные сведения: приказ об этом уже подписан, так что можете считать, что полковничьи погоны у вас на плечах! — Бердяев крепко тряхнул руку Иванова.
— Благодарю за приятную новость, — Иванов неопределенно улыбнулся.
— Новость была бы еще приятней, если бы нам на сегодняшний день больше удалось… Упрекнуть нас не в чем. Но вот если сказать положа руку на сердце, то удовлетворения полного мы испытывать не можем. Результаты пока что ниже наших чаяний.
— Согласен с вами, Николай Сергеевич! — Иванов потупился.
— Вот еще — новость… — Бердяев протянул ему лист. — Только другого плана… Кашинского, видимо, придется оставить в покое. Его брат, поручик 129-го пехотного Бессарабского полка, ходатайствует о нем: просит отдать его на поруки под заклад в пятьсот рублей. Сегодня я получил заключение старшего врача тюремных больниц… Ознакомьтесь…
Иванов взял «заключение», быстро прочел его: «…Кашинский страдает острой формой туберкулеза (галопирующая чахотка), высокая лихорадка по вечерам, до 40 є С, проливные пота по утрам, силы в значительном упадке… В силу изложенного положения больного нужно признать безнадежным».
— Ну что ж, Николай Сергеевич, думаю, можно удовлетворить ходатайство братца…
— Я того же мнения, — кивнул Бердяев. — К тому же интереса особого Кашинский для нас не представляет. В его деятельности и знакомствах для нас почти всо ясно. Он и без суда получил по заслугам! Мать Вановского, кстати, тоже ходатайствует об освобождении сына под заклад… Как с этим подследственным?
— Упрям по-прежнему, скрытен… Полагаю, для пущего вразумления ему полезно посидеть еще… Но не ради показаний. Он — фигура третьестепенная…
— Как Бруснев, Егупов, Райчин?..
— Продолжают упорствовать. Первый вообще отвечать отказывается. Егупов по-прежнему лжет, изворачивается. Но налицо все признаки нервного расстройства. Похоже, надломился-таки. Да и не удивительно: столько времени держаться на беспардонном вранье, когда против него столько улик и фактов!.. Райчин прибегает к одной и той же хитрости: симулирует всевозможные заболевания, норовит отлеживаться в тюремной больнице… Можно сказать, что следствие в настоящее время почти не подвигается вперед… Ощущаю, что нужен какой-то толчок… Надо, чтоб кто-то из этой троицы начал давать показания… Думаю сделать ставку все-таки на Егупова…
— Да надо что-то предпринимать. Следствие слишком затягивается… Наши расчеты на Александрова и Сивохина не вполне оправдали себя. Несколько арестов в Петербурге. И — все. Теперь там занимаются обнаруженной организацией, но в руках тамошних наших коллег оказались фигуры не ахти… Пешки. Отнюдь не ферзи! По показаниям многих получается, что ферзь находится у нас: Бруснев…
— Но вместо того, чтоб раскрыться, особенно после показаний Александрова и Сивохина, давших нам новые улики против него, он стал каким-то вовсе неприступным, — Иванов состроил кислую мину.
— И все-таки не отступайтесь! Давите, давите на него! — жестко сказал Бердяев.
На очередной допрос Егупова Иванов явился ужо в полковничьем звании. Случись это несколько раньше, Егупов не преминул бы «поздравить» своего следователя, обязательно сказал бы что-нибудь, но тут промолчал. В последнее время он действительно начал сдавать.
— Ну-с, Егупов, подведем некоторые итоги, — полковник Иванов хитро прищурился. — Дела на сегодняшний день таковы: в тюрьме под следствием из трех с лишком десятков человек, привлекавшихся по одному с вами делу, осталось всего четверо: вы, Бруснев, Вановский и Райчин. Как видите, даже один из верховодов вашей преступной компании — Петр Кашинский ныне находится на свободе. На днях он отбыл в Ялту, к брату. Стало быть, теперь греется на южном солнышке, слушает плеск морских воли… Вы же — увы: вы — здесь!.. В тюрьме! В тюрьме, Егупов! В ней, матушке, застряли только самые упрямые. А что проку в этом вашем упрямстве?! Вы имели возможность убедиться: следствие так или иначе, а превращало все тайное в явное!.. Мне просто жаль вас: на такие изощрения шли, такое плели, накручивали!.. А толку?! Никакого! Но… бог милостив! Еще раз повторяю: откровенные показания все еще не поздно дать… Еще можно все изменить! Кстати, вы рядом с такими, например, как Бруснев и Райчин, представляетесь мне фигурой случайной, нелогичной что ли… Кто такой Райчин? Смутьян, специально засланный в Россию компанией Плеханова — Аксельрода. С ним дело ясное. Кто такой Бруснев? Фанатик, помешанный на марксовых идейках. Для такого идейки эти выше любой человеческой личности. Такой через вас пройдет и только штиблеты о вас же вытрет. А вы?! Вы просто были увлечены игрой. Вам хотелось какой-то опасной деятельности, подвигов, борьбы ради все той же игры. Для вас всякие там революционные идейки — только условие игры. Не так ли?.. Даже то, как вы врали на допросах, даже это говорит отом, что натура вы именно артистическая!
— Я говорил правду, — Егупов вскинул голову и посмотрел в сторону зарешеченного окна.
— Ложью, ложью было все, что вы говорили. Не надо, Егупов! Не надо! — продолжал полковник. — Главным-то мотивом всегда для вас были вы сами. Увы. Вам хотелось верховодить, играть значительную роль. Честолюбец, честолюбец руководил душой вашей! Пагубное, пагубное руководство… Игра увлекала, заманивала. Натура, натура сказывалась! Вот вы и втянулись в эту скверную игру, вас и понесло «по воле волн»! Не так ли, не так ли?! Делали вы это — ради славы! Отнюдь не о народном благе пеклись!..
Егупов лишь нервно передернул плечами и уже не поднял головы.
«Aга! Действует!..» — усмехнулся про себя полковники продолжал:
— Да-с, мы заранее могли составить о каждом из вас соответствующее мнение. Я не преувеличиваю, нет. — Голос полковника вдруг обмяк, в нем зазвучали чуть ли не отеческие нотки: — Не упорствуйте! Помогите прежде всего самому себе! Вы запутались, вы просто запутались, дав себя увлечь…
— Я подумаю… — чуть слышно сказал Егупов.
— Ну что ж… Подумайте… — кивнул полковник. — Только чего же думать-то?! Чем скорее вы облегчите свою душу, тем будет лучше! Впрочем, как угодно. Можете подумать. Перенесем наш разговор на следующую встречу…
На «следующей встрече» Егупов сказался больным, и полковнику Иванову вновь пришлось перенести «облегчение души» своего подследственного. Затем Егупов угодил в больницу и застрял там надолго. У него тоже начались нервные припадки, такие же, что и у Кашинского.
Между тем Бердяев поторапливал Иванова, поскольку его тоже поторапливали…
Все попытки Иванова добиться хоть каких-то показаний от Бруснева так и не дали никаких результатов.
В конце концов Бердяевым и Ивановым было решено свернуть следствие. Иванов уже и соответствующее заключение составил:
«…Я, отдельного Корпуса Жандармов полковник Иванов, рассмотрев настоящее дознание, нашел, что все обстоятельства дела выяснены с достаточной полнотою и никаких предметов, подлежащих обследованию, в виду не имеется, а потому по соглашению с Товарищем Прокурора Московского Окружного Суда А. М. Стремоуховым, постановил: дознание производством закончить и, согласно 1035" ст. Устава Уголовного Судопроизводства, препроводить таковое к Прокурору Московской Судебной Палаты».
«Препроводить» пока не пришлось. Полковнику доложили, что подследственный Егупов, только что выписанный из тюремной больницы, желает видеть его.
— Так что вы хотели мне сообщить? — Иванов смотрел на Егупова с усмешкой милостивого победителя. Он мог бы и не задавать своего вопроса. И без того было видно, что перед ним далеко не прежний Егупов… Нервные, беспокойно шарящие по столу руки, мертвенно-бледное лицо, лоб в крупной испарине… В таком состоянии не борются, в таком состоянии сдаются…
Все последние месяцы Егупов провел в изнурительной борьбе с самим собой. Мысли его метались, ища выхода из заколдованного круга, в котором он оказался. Неужели то, что так неотвратимо приблизилось к нему, называется предательством?! Разве это так? Ведь он держался, сколько мог! Ведь все почти уже на воле. Даже Кашинский! Не просто же так они отпущены. Выпутались как-то, какой-то ценой… Цена же тут могла быть одна — откровенные показания. Стало быть, если и он, уже после многих, даст их, они уже в известной степени будут постфактум, а стало быть, он в основном лишь повторится. Тем более что жандармам, как он понял, многое было известно заранее. Да, он проявит досадную слабость, которая тем более досадна, что так много отдано было сил на сопротивление. Но если продолжать держаться, то сколько еще все это может протянуться?.. И что дальше? Тюрьма. Ссылка. Лучшие годы, вычеркнутые из жизни… И все это — ради чего? Ради неких идей, в плену у которых он оказался, ради какой-то б о р ь б ы, в которую он включился (если не обманывать самого себя) по азарту молодости, в юношеском угаре. Ведь что затащило его в эту самую борьбу? Какая такая необходимость? Знал ли он хотя бы сам народ, от имени которого действовал? Нет. Не знал. Не имел такой возможности. Просто претила однообразная, бессобытийная жизнь, просто хотелось каких-то щекочущих нервы ощущений, необыкновенной деятельности… И вот ради всего этого он должен пожертвовать собой?!
— Я хотел бы дать показания, — не сразу ответил Егупов на вопрос полковника.
Тот усмехнулся:
— Это уже кое-что. Я знал, что вы согласитесь!
— Только… я… хотел бы дать непротокольные показания. Мне надо все описать… Объяснить… — Егупов просительно посмотрел на полковника. Тот кивнул:
— Понимаю вас! Но очень-то не растекайтесь…
Курносое лицо полковника с пышными усами и николаевскими баками излучало сияние: все-таки сломался этот изолгавшийся «конспиратор»!
— Я сейчас распоряжусь насчет бумаги. — Полковник поднялся и, кивнув Стремоухову: мол, надо выйти, направился к дверям. Стремоухов, собрав разложенные бумаги, тоже вышел.
Вскоре полковник вернулся один, положил перед оцепенело сидевшим Егуповым стопу листов:
— Прошу вас… Трудно будет приступить! Я это понимаю. Но — помните: чистосердечное раскаянье искупает все! Понимаете? Все! Приступайте! Воnа fide! Bona fide![9] Я оставляю вас наедине с вашей совестью!
Он еще раз тронул Егупова за плечо и посмотрел yа него, как на какого-нибудь юнца, «извлеченного из мрака заблуждения», Затем вышел.
«Оставленный наедине со своей совестью», Егупов еще с минуту посидел оцепенело, глядя на стопу листов. Трудно, ох как трудно было браться за перо!..
«Пусть, пусть будет, как будет, только хватит с меня всего этого!..» — Егупов вздрогнул: ему показалось, что эти слова он сказал вслух. Затравленно глянув на дверь, за которой было тихо, но за которой наверняка находился чутко прислушивающийся страж, он придвинул к себе листы белой, в голубенькую линейку, бумаги, обмакнул перо, помедлил…
«Итак, я оставляю вас наедине с вашей совестью!..»
Перед ним возникло усмехающееся лицо полковника, говорившего о его совести, а разумевшего его слабость, его окончательную сломленность…
«Трудно будет приступить! Я это понимаю. Но — вомните: чистосердечное раскаянье искупает все! Понимаете? Все!..»
«12 июля 1893 г.
В Московское Губернское Жандармское Управление, — решительно начал Егупов и опять замешкался, разбежавшаяся было рука опять стала непослушной, словно бы чужой. Не вдруг он справился с охватившей его слабостью. Перо побежало дальше:
«Просидев в одиночном заключении с лишком год и обдумав те обстоятельства, которые привели меня к такому грустному положению, в котором нахожусь ныне, и решил откровенно объяснить все то, что мне известно пo делу, по которому я арестован.
Так как я решился раскаяться, то поэтому я начну с того момента, как я втянулся в это дело…»
Рука опять остановилась. Он перечитал написанное. Покривился: жалкие, жалкие слова… На память пришли ходячие слова Бюффона: «Le style — e'est l'homme».[10] Покивал, не щадя себя: «Жалкий слог жалкого человека…» Посомневался: «И зачем я буду забираться в такие дебри? Моя юношеская игра в «политику»… Вряд ли полковника интересуют такие «глубины»… Решился: «Но надо же объяснить все! Вычертить весь путь моей заблудшей души, со всеми его «кривыми» и «ломаными»! Уж исповедь так исповедь!..»
ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ
Непротокольные показания Егупов писал несколько дней. Начав с подробнейшего описания своих юношеских увлечений революционными идеями, он описал затем всю деятельность организации, в которую входил в Москве, описал свои поездки в Ригу, Люблин, Варшаву, Тулу… Многое тут было полковнику Иванову, прочитывавшему эти показания по частям, известно по докладным запискам филеров, по сообщениям Михаила Петрова, по показаниям других подследственных, но многое было и по-настоящему ново и ценно. Всплыли ранее неизвестные адреса, имена, факты, многое по-новому освещалось. Например, Красин, отделавшийся за неимением серьезных улик лишь тем, что всего несколько месяцев просидел под следствием, по показаниям Егупова оказался весьма любопытной фигурой. Показания о нем и Брусневе полковник подчеркивал карандашом, как особо ценное. Егупов писал:
«Припоминая теперь некоторые мои разговоры с Брусневым и Кашинским, я вспомнил о том, что они мне рассказывали о кончившем технологе Красине, который, по их словам, теперь отбывал воинскую повинность в Нижнем Новгороде. Кашинский мне говорил, что через этого Красина, с которым он познакомился в Петербурге, он познакомился с Брусневым, после чего у них, т. е. между Кашинским и его знакомым Брусневым, завязались отношения, так что Бруснев, по окончании курса в Технологическом институте, нарочно приехал в Москву, чтобы и здесь устроить организацию рабочих с помощью петербургского «Рабочего союза», по петербургскому образцу, но, по знакомстве с нами, планы Бруснева несколько изменились, что можно вывести из выше мною изложенного о нашей деятельности в Москве. О самом Красине Кашинский отзывался так: Красин — опытный кружковой деятель и по направлению марксист, что он ведет борьбу в спорах с народовольцами, хотя в то же время говорит, что кто желает заниматься террором, тот пусть им занимается, но для организации, к которой он принадлежит, он террористическую деятельность совершенно отрицает. На основании этого Кашинский заключал о нем, что он эгоист, а это Кашинскому не правилось. Бруснев, выслушивая эту характеристику, молчал. Что же касается до образования «Рабочего союза» в Петербурге, то я от Кашинского, Бруснева и рабочего Мефодиева слышал следующее: эта организация ведет свое начало с 1887 года, когда стало преобладать среди интеллигенции направление эмигранта Плеханова, что она с этого времени начала расти, причем эта организация постоянно чувствовала недостаток в интеллигентских силах, между тем, как среди рабочих в Петербурге находила обильную работу; что за последние годы рабочие настолько приобрели развитие и опытность, что начинают самостоятельно вести пропаганду и организацию, и что, несмотря на правительственные разгромы, производившиеся в этой организации, она теперь настолько окрепла, что даже в случае, если вся интеллигенция будет арестована, она все-таки будет расти не только в Петербурге, по и в его окрестностях и других городах, где действуют разъезжающие и высылаемые рабочие. А когда они составят кружок среди рабочих, то свяжут его с петербургским союзом…»
Да, это были действительно откровенные показания, те самые, которых так не хватало следствию. Егупов вытаскивал на свет такое, что никогда не было бы обнаружено. К особому удовольствию полковника, тот припомнил весьма любопытный случай, в минуту откровенного разговора поведанный ему Брусневым. Случай этот позволял причислить Бруснева, пускай всего лишь как косвенного участника, к той группе террористов, которая в марте 87-го года попыталась совершить покушение на самого государя! У Бруснева хранилась целая химическая лаборатория террористов, в которой они и вырабатывали взрывчатую смесь для своих бомб!
Прочитав эти пространные показания вслед за полковником Ивановым, товарищ прокурора Стремоухов обратился к нему с язвительной усмешечкой:
— Ну вот!.. А вы говорили: мол, другой народ пошел! Вон какие откровения закатывают! Да-а!.. А каким гордецом он глядел на первых допросах!..
— Просто у этих, нынешних, благородства нет прежнего, а вместо него — одно плебейское упрямство!.. — угрюмо откликнулся на это замечание полковник.
— Не совсем согласен с вами, Александр Ильич. Я со стороны имел возможность понаблюдать за всеми этимй людьми и скажу так: есть просто Егуповы и есть Брусневы. Так было всегда!..
Полковник не нашел, что ответить, и лишь пожал плечами.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Михаил недоумевал: еще в конце июня полковник Иванов сказал ему, что следствие почти завершилось, но потянулось время, а завершением и не пахло. Допросы, допросы, допросы… Он уже давно потерял им счет.
Своей тактики Михаил не сменил. Либо отпирался, либо просто отказывался отвечать. Последние допросы заставили его насторожиться: среди примелькавшихся вопросов следователя появились неожиданно новые… Причем уже сами эти вопросы говорили об особой осведомленности полковника Иванова. На недавнем допросе тот вдруг заговорил о химической лаборатории народовольце и, которую Михаил когда-то хранил у себя. Михаил о том давнем эпизоде из своей студенческой жизни вроде бы никому не рассказывал. Почти никому. Лишь однажды в разговоре с Егуповым в ответ на его откровенность рассказал… Рассказал о земляке своем Пахоме Андреюшкине, о своих переживаниях в связи с казнью группы террористов, в которую тот входил. Не просто откровенностью заплатил за откровенность, была и цель: на конкретном примере хотел показать Егупову, склонному к терроризму, как почти впустую губятся, расточаются на этом узком пути силы революции…
То, что следователю стало известно, о той химической лаборатории, для Михаила явилось такой неожиданностью, что он в первую минуту не сумел справиться с растерянностью. И почувствовавший, увидевший это полковник Иванов сразу же насел на него: мол, вот, кроме всею прочего, какие улики имеются у него; мол, один только факт хранения такой лаборатории уже вполне достаточен для того, чтоб говорить о составе преступления, причем преступления весьма серьезного; мол, его, Бруснева, теперь вполне можно отнести к той преступной группе, измышлявшей покушение на государя…
Справившись с собой, Михаил ответил, что никогда никаких химических лабораторий у себя не хранил, и если следствие располагает какими-то фактами на этот счет, то с ними он должен быть ознакомлен. Полковник пообещал представить и факты, и хотя затем к разговopy об этом он не возвращался, Михаил при новых допросах постоянно ожидал этого возврата…
Полковник Иванов просматривал список литературы, прочитанной подследственным Брусневым. Давно собирался полюбопытствовать. Все как-то не получалось. В последнее время много работы было в связи с показаниями Егупова.
Список оказался довольно любопытным: «История нидерландской революции» Мотлея, «Герои, культ героев и героическое в истории» Карлейля, «Потерянный рай» Джона Мильтона, «Мир, как воля и представление» Шопенгауэра, «Американская республика» Брайса… И в пределах возможного этот Бруснев проявлял заметное тяготение к литературе определенного рода… Только одно это говорило о том, что тот отнюдь не сломлен. Любопытным был и другой факт — обилие литературы на иностранных языках. Чего тут только не было! Сочинения Софокла и Гете — на немецком, сочинения Руссо, Флобера, Золя — на французском. Особенно солидным был список литературы на английском языке: сочинения Диккенса, Брайса, Брета Гарта…
Удивительной, непонятной для полковника была эта всеохватность, эта широта. Как будто его подследственный готовил себя к какой-то всесветной деятельности, а не к отбыванию наказания, то бишь все к тому же одиночному заключению, к многолетней ссылке…
Перед тем полковник просмотрел список прочтенного Вановским. Совсем, совсем другая литература: легкое развлекательное чтиво (впрочем, для подследственного, пожалуй, не развлекательное, а отвлекательное!).
Полковник не раз уже ловил себя на том, что невольно сравнивает Бруснева с другими подследственными. И при допросах выходило так, что кого бы он ни допрашивал, цель имел одну — изобличение этого твердокаменного Бруснева… Всего дважды имел полковник удовольствие наблюдать смятенность Бруснева. В первый раз, когда тому была предъявлена фотокарточка Райчина. Разумеется, знакомство с ним Бруснев отрицал. Но сама психическая реакция на показанную фотокарточку была каковой?! В протоколе того допроса осталось примечание:
«Обвиняемый Бруснев при предъявлении ему Райчина потерял обычное свое спокойное состояние, при допросах им выказанное: он сначала сильно покраснел и затем побледнел».
Во второй раз самообладание изменило Брусневу, когда он при допросе услышал о химической лаборатории…
Торжествовать и радоваться по поводу двух столь мизерных «побед» над упрямым подследственным полковник Иванов и не думал, но в памяти их, однако, держал как своего рода вехи…
Бруснев. Бруснев.
Бруснев не давал ему покоя…
Просмотрев список прочитанных Брусневым книг, полковник пришел к мысли о том, что необходимо запретить тому пользование какой бы то ни было литературой. «Чтение, — решил он, — особенно вот такое и столь обильное, позволяет ему отвлекаться, сосредоточиваться на другом. Пусть-ка посидит без книг! Авось это подействует на него отрезвляюще!.. А то не тюрьма для него, а публичная библиотека!..»
Был у полковника Иванова еще один план, как повлиять на этого упрямца Бруснева. При последнем разговоре Бердяев попросил у него совета: стоит или не стоит разрешать свидание Бруснева с родными, от которых поступило уже несколько прошений на имя московского обер-полицмейстера. Полковник ответил, что свидание было бы желательно, если бы при этом свидании родные попробовали убедить Бруснева дать откровенные показания. Решили свидание разрешить, предварительно поговорив с отцом и матерью Бруснева. Разговор этот полковник Иванов взялся вести сам.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Выведенный в тюремную комнату для свиданий, Михаил растерялся, увидев отца с матерью и брата Якова с сестрой Анной. Ему было сказано, что идет он на свидание с родственниками, но он никак не ожидал, что их приехало сразу четверо.
Отец первым подошел к нему. Михаила поразила перемена в его лице. Почти ровно два года прошло с того дня, когда они расстались в Баталпашинске, куда отец отвез его после побывки, не такой уж и великий срок, но отца теперь трудно было узнать. Лицо изрезали глубокие морщины, глаза запали, смотрели тускло и отчужденно. На свидание отец явился с двумя медалями на груди, с Георгиевским крестом и с крестом «За службу из Кавказе». После объятья он отвернулся и каким-то почужевшим, хриплым голосом, с трудом выговаривая слова, спросил:
— Как же это ты, сын?.. — и вдруг посмотрел Михаилу прямо в глаза, прожигающе посмотрел. — Ты ведь, выучиться хотел, стать человеком… А кем стал? Арестантом!.. Не думал, не гадал я, что мой сын окажется преступником… По родной стапице вон хожу — глаз не поднять!.. Не подумал ты ни об отце, ни о матери, ни о сестрах, ни о братьях, ни о зятьях!.. На всех наплевал!.. Я верой и правдой служил столько лет государю и отечеству, получил дворянство, офицерский чин, награды, почет!.. А ты?! Да как же это ты?. Арестант…
Михаил смотрел в пол, покусывая губы. Подмывало сказать: «И я хочу служить отечеству! Только другая у меня, отец, вера и правда!..» Сдержался. Ничего не сказал. Старый матерый казак, боевой служака, повидавший на своем веку всякого лиха, сотни раз глядевший в глаза смерти, отец не принял бы никаких возражений, никаких оправданий… К тому же тюремный чин находился рядом.
— Ах дурак я, дурак!.. — с тяжелым вздохом снова заговорил отец. — Надо же было послушаться бабьего ума! Ведь это она тебе потакала: «Пусть Миша едет учиться! Все — она!.. — Он ткнул пальцем в сторону матери. — Одно у нее было на языке: «Военное дело опасно! Я с тобой намучилась за твою службу!..» Вот и казнись теперь!.. Вот оно как учиться-то «не опасно»! А было бы по-моему, окончил бы вон, как твои братья, юнкерское училище, тоже стал бы офицером! Целы и живы они оба! А тебя теперь зашлют куда Макар телят не гонял! Вот и пойдет вся твоя наука прахом!.. Ах как я не хотел, чтоб ты ехал в этот Петербург!.. — Он сокрушенно покачал головой. Его низкий, «нутряной» голос, никем не перебиваемый, еще несколько минут звучал под серым потолком тюремной комнаты свиданий. Неожиданно отец умолк. Покашляв, заговорил о другом:
— Ну вот что, Михаило… Мы тут поговорили меж собой и с начальством здешним… Надо тебе проситься на поруки. Деньжат наскребем. Братья, зятья помогут. Внесем за тебя залог. Дело за тобой… Ты уж давай не упорствуй… Повинись во всем… Расскажи все без утайки. Умел заварить такую кашу, умей и расхлебывать!
— Нет, нет!.. Не надо и говорить об этом! Я тебя прошу, отец!.. — Михаил упрямо потупился.
— Михаил о! Не упорствуй! — попытался прикрикнуть отец, но Михаил так посмотрел на него, что он только рукой махнул и отошел в сторону. И тут заторопилась, дочистила мать:
— Сынок! Пожалей нас, стариков! Согласись! Не убудет тебя! Не губи свою жизнь!
— Мама, не надо говорить об этом! Зачем мы тратим на это время? Давайте говорить о вашей жизни…
— Да на уме-то, сынок, разве теперь это?! Одним твоим несчастьем живем другой уж год!.. Какая уж теперь ваша жизнь? Не жизнь, а… — мать, не договорив, ткнулась в его грудь, затряслась в плаче.
Михаил, растерянно озираясь, стал гладить ее по спине.
Яков и Aннa стояли рядом, как окаменелые: ни слова от них, лишь смотрят на него во все глаза.
— Аня! Яша! Да что же вы-то молчите?! Говорите же! У нас всего полчаса! — почти прокричал он им, и они, словно только и ждали этого, заговорили наперебой.
Яков сообщил, что со службой распростился и перебрался на жительство в родную станицу, поселился в родительском доме, чтоб старикам не было так одиноко. Анна, торопясь, рассказала о своем вдовьем житье. Сам Михаил не успевал отвечать на их расспросы, в нервной напряженности ощущал, как тает, тает время, отведенное им всем на короткую встречу…
Тюремный чин скрипнул сапогами, откашлявшись, объявил:
— Господа! Пожалуйте на выход! Время свидания истекло!
И, помешкав, приказал:
— Конвой, подследственного — в камеру!
Последние, прощальные объятья. Мать и сестра с плачем припали к Михаилу, и он едва сдержался, чтоб но разрыдаться тоже.
— Ну, будет, будет вам!.. — вовсе осевшим голосом сказал отец, понуро стоявший рядом с Яковом, и они, трое, разомкнулись, и мать попятилась, будто падая навзничь, обессиленно уронив руки, и на ее обескровленном, мертвенно-бледном лице была такая растерянность: как же это — ее родной сын был уже как будто не ее сыном, они уже не принадлежали друг другу, казенная воля распоряжалась всем, казенная воля была сильней и выше их кровного родства?!
Михаил все оглядывался, уводимый от них. Взгляд его метался от лица к лицу.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Хотя Егупов и дал откровенные показания, распоряжение Департамента полиции о его освобождении последовало лишь 16 октября: потребовалось время на дополнительное расследование по этим показаниям.
В ночь с 15 на 16 сентября в Варшаве были арестованы упомянутые Егуповым в показаниях Сергей Иваницкий, Александр Архангельский и Федор Свидерский.
Произведены были аресты и в Люблине, и в Риге.
В конце октября Егупов выехал из Москвы в Тифлис, где жили его младшие сестры с теткой-опекуншей;
Под следствием по делу о московской революционной организации в Таганской тюрьме осталось всего трое — Бруснев, Райчин и Вановский.
Полковник Иванов в раздражении читал очередное письмо Бруснева на родину. Последние его письма интересовали полковника особенно. Полковник питал надежду обнаружить в них мотивы, связанные с посещением Бруснева родными, мотивы, в которых почувствовалось бы раскаянье, в которых проявилось бы смятение, чувство вины… Он просто жаждал обнаружить эти мотивы.
Бруснев писал:
«Дорогие родители и дорогой Яша!
Не знаю, получили ли вы мое прошлое письмо? По хотя с тех пор, как я писал его, прошло уже порядочно времени, для меня оно пролетело незаметно, так как оно ничем не разнообразилось: та же самая комната, те же самые лица, те же самые занятия: даже письма я принужден писать одинаковые, так как извне для них материала я уже полтора года не получаю. Правда, я и без внешнего материала мог бы написать о многом кое о чем, но я лучше воздержусь от этого. Впрочем, вас, вероятно, интересуют из моих писем больше всего сообщения о моем здоровье и ходе дела. Здоровье, как и прежде, сносное, насколько это возможно в моем положении; дело же, по-видимому, потеряло всякую способность к движению. Хорошо, что оно ведется секретно, не то оно, наверное, попало бы в карикатуру…
Прервав чтение, полковник хмыкнул: «Ну и ну! Еще и издевается!..»
Дочитав, он вложил письмо в конверт. Серднто написал на уголке конверта: «Письмо признано мною не подлежащим отправлению по назначению». Расписался, будто с кем-то соревнуясь в скорописи.
Через несколько дней полковник узнал неожиданную. новость: Бруснев— в больнице. Общая слабость, расстройство желудка… «Ну вот, как будто и этот начинает сдавать…» — удовлетворенно, с явным облегчением подумал он. Однако вскоре понял, что рано порадовался. Первое же письмо, написанное Брусневым в больничной камере брату Якову, оказалось таким, что по нему никак нельзя было бы сказать, что оно написано человеком, «начинающим сдавать». Бодрый тон. Шуточки…
В начале декабря Бруснев был возвращен из больничной каморы в тюремную. По этому поводу им вновь было написано письмо брату Якову:
«Я тебе писал из больницы, дорогой Яша, что я скоро выздоровею. И вот теперь я снова здоров и на старом месте. Уже дня три как я не принимаю никаких капель — ни от малокровия, ни от расстройства желудка. Из этого ты можешь заключить, что я снова пополнел и приобрел правильное пищеварение. В больнице я пролежал почти месяц. Это меня несколько развлекло. Возвращаясь из больницы, я совершил путешествие через всю Москву. Я ехал на извозчике. Ехать нужно было шагом, так как меня сопровождал пеший почетный конвой. Это путешествие продолжалось около двух часов и доставило мне большое удовольствие. Я видел городскую суету, проходящих и проезжающих, меня тоже все видели, каждый старался оглянуться, чтобы посмотреть мне в лицо. Теперь я снова шагаю взад и вперед в своей прежней комнате. В больнице мне, собственно говоря, было недурно. У меня был там очень хороший аппетит, и на вопрос доктора об этом предмете только скромность не позволяла мне ему сказать, что аппетит у меня — волчий. Точнее говоря, мне там всегда удивительно хотелось есть, и, что тебе покажется странным, даже после обеда… Это меня особенно огорчало вначале, так как у меня не было своих денег, они оставались в тюрьме, их не догадались со мной отправить. Нужно было несколько раз писать заявление, чтобы мне их выслали. Это делалось по телефону (как тут не быть прогрессистом!), но ведь по телефону нельзя же посылать деньги, да еще арестанту. Прошло две недели в ожидании, я не пил по утрам чаю (вечером давали казенный) и поедал картофельный суп и кашицу гречневую до последней капли. Но так как мне хотелось и после этого есть, то я принужден был прибегнуть к самому консервативному средству, т. е. подать прокурору жалобу; тогда мне прислали денег. Я зажил на славу. Я стал пить чай с сахаром, молоко, есть булки и проч., и так как я, в довершение всего, принимал в день по две капли жизненного эликсира, то я скоро пополнел и окончательно выздоровел. В больнице я не испытывал по ночам того томительного одиночества и скуки, какие испытываю здесь. Там меня посещало такое количество насекомые всевозможных видов и возрастов, что они, несомненно, выпивали крови больше, чем мог бы создать целый ковш жизненного эликсира… Я мог при свете лампочки наблюдать несколько поколений насекомых, начиная с эмбрионной стадии развития до величины «матерого» клопа. Энтомологические занятия развлекали меня в бессонные ночи. Это хорошо, так как книг у меня не было, а из библиотеки мне не давали. Будь здоров! Целую тебя, папашу и мамашу!»
Сам шутливый тон таких писем для полковника Иванова был чуть ли не издевательским…
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
21 марта полковник Иванов срочно был вызван к Бердяеву. Он догадывался о причине этой срочности. Утром ему доложили о происшествии, случившемся накануне в тюремной больнице. Доставленный туда на излечение Виктор Вановский в присутствии надзирателя Голатипина выбил кулаками в своей камере из зимней рамы три стекла и осколками начал наносить себе раны по горлу и набирать мелкие осколки стекла в рот… Его удалось обезоружить, но и после этого он не утихомирился, оказывая сопротивление дежурному врачу, делавшему перевязку, так, что дошло до горячечной рубашки…
«Еще один, стало быть, сломался из этой компании…» — подумал полковник, не испытав ни малейшего удовлетворения: не тот, совсем не тот упрямец сломался… Если бы такую новость он услышал о Брусневе!.. Но с Брусневым такого не случится. Одно и то же впечатление оставлял в нем этот подследственный после каждого допроса — впечатление нравственного здоровья.
Бердяев встретил своего помощника хмуро.
— Слышали новость? — спросил он.
— Как же! Доложили…
— Неприятнейшая история… Я полагаю, Александр Ильич, пора завершать это расследование. Основные улики нами добыты, состав преступления каждого подследственного определен, раскрыто несколько революционных группировок… В общем, мы со своей задачей справились. Давайте готовьте дела для отправки прокурору. Два года ушло на это расследование. Никто нас не упрекнет, что мы плохо поработали. Завершать тоже все следует вовремя и с умом! А то еще дождемся, что и остальные двое, этот Бруснев и… (как его, все забываю…) этот Райчин тоже выкипут что-нибудь подобное…
— Согласен с вами, — полковник Иванов кивнул. — Продолжать расследование действительно уже не имеет смысла. Райчин не вылезает из тюремной больницы, ну а Бруснев… Тут случай какой-то особенный… В общем, бесполезно возиться с ним…
— Стало быть, так и порешим: дознание прекратить?..
— Стало быть, так, Николай Сергеевич…
С полудня по всей Москве перекликались тягучие заунывные звоны. Михаил, забравшись на табурет, смотрел в зарешеченное оконце. Вдали, над кремлевскими башнями и храмами, над Иваном Великим сполошно клубились в сером октябрьском воздухе вороньи и голубиные стаи.
«Что там стряслось-то? — думал Михаил. — Не иначе как сам царь скончался… По кому другому так не звонили бы…» В сумерках мелко зазвякали ключи в коридоре. Надзирателям подошло время разносить керосиновые лампы по камерам.
Шаги у самой двери. Знакомое сопение у смотрового глазка. Заскрежетало в замочной скважине, пискнули петли. Круг света пал на каменный пол. В нем затопталась сапоги. Качнулась лампа, забранная в мелкую металлическую сетку.
Глянул выше: освещенные снизу косматые брови, резкие скулы, морщинистая провислая кожа под подбородком… «Странно одинаковы лица у этих надзирателей, — подумалось Михаилу, — одинаковы именно вот этим своим каменновековым выражением…»
Надзиратель, поставив лампу на столик, направился было к двери. Михаил торопливо спросил:
— Не скажете, что это за похоронный звон сегодня все слышался?
— Государь скончался, царствие ему небесное! — надзиратель широко перекрестился.
— Вот как… — тихо сказал Михаил, подумав: «Стало быть, моя догадка была верной…»
Когда надзиратель запер дверь, он в волнении поднялся, заходил по камере. Кончина царя могла иметь последствия для него, вот уже несколько месяцев ожидающего решения своей участи… Когда сей мир покидает один царь, его место занимает другой, а это бывает чревато и такими «монаршими милостями», как амнистия… Слабая надежда, но все-таки — надежда…
Истекли последние дни октября, миновал и ноябрь. Гласного суда, к которому Михаил готовил себя, все не было…
Прокурору Московской судебной палаты понадобилось несколько месяцев, чтоб на основе собранного следствием огромного материала составить заключение по делу. Заключение наконец было направлено министру юстиции Муравьеву, который решил обойтись без лишнего шума, рассудив, что судебный процесс над политическими был бы совершенно некстати: молодой царь еще и не коронован, царствование его только-только начинается, а тут — такой процесс…
Среди серого декабрьского дня Бруснева и Райчина ввели в приемную начальника тюрьмы, где тюремный чин казенной скороговоркой зачитал им приговор:
— «…Государь император в 7 день декабря 1894 года высочайше повелеть соизволил разрешить настоящее дело административным порядком, с тем чтобы подвергнуть тюремному заключению Михаила Бруснева и Симху Райчина, первого на четыре года, считая срок сего заключения со времени взятия Бруснева по настоящему делу под стражу, и Райчина на два года, а затем выслать поименованных обвиняемых в местности Восточной Сибири под надзор полиции на десять лет каждого…»
13 января 1895 года, как раз в день рождения Михаила, его и Райчина отправили в арестантском вагоне в Петербург, где им предстояло отбыть сроки одиночного заключения в знаменитых на всю Россию «Крестах»…
ЭПИЛОГ
Отсидев после затянувшегося следствия еще полтора года в «Крестах», Бруснев попадает в Верхоянск, не зря прозванный политссыльными Окаянском.
Несколько лет жизни в условиях самых суровых, диких, и вдруг Бруснева, как имеющего инженерное образование, приглашают участвовать в Русской полярной экспедиции, организованной известным исследователем Арктики Эдуардом Васильевичем Толлем. Основной ее целью было найти, открыть Землю Саннкова, которую сам Толль видел в своих предыдущих экспедициях с северной оконечности острова Котельный, входящего в Новосибирские острова. Ранее являлась эта загадочная земля и другим людям, однако побывать на ней не довелось никому. Ее открытие стало заветной мечтой Толля.
В навигацию 1901 года из-за сложной ледовой обстановки ему не удалось достичь на экспедиционном судне «Заря» арктических широт, на которых по его предположениям могла находиться Земля Санникова. Тогда он решилзазимовать на острове Котельном, а при наступлении полярного лета отправиться на ее поиски во главе небольшого санного отряда.
Прежде чем совершить свое рискованное путешествие, которое закончится трагически, Толль уезжает на материк, на побережье Ледовитого океана, в местечко Аджергайдах. Здесь он в последний раз встретился с Брусневым, покинувшим острова тремя месяцами раньше.
Судьба словно бы нарочно вновь свела этих людей после их расставания в бухте Нерпалах. Встретились в последний раз два человека, в сущности глубоко родственных, при всей непохожести их характеров, натур: оба были готовы пожертвовать всем ради своей идеи, своей мечты…
Перенесемся, Читатель, в далекую весну 1902 года, на северо-восточное побережье Ледовитого океана…
Перед самым закатом, накануне своего возвращения на острова, Толль пригласил Бруснева пройтись по тундре: надо было договориться о дальнейшем еще раз, напоследок. В перенаселенной тесной поварне было слишком шумно для такого разговора.
Вечер выдался спокойный и не слишком морозный. Огромное оранжевое солнце, зависшее над всхолмленным горизонтом, разогнало по тундре длинные ярко-синие тени. Пестро от них было среди всторошенных льдов залива. В лучах умиротворенно отходящего на покой светила Толль и Бруснев, неторопливо шагавшие вдоль берега, молчали. Толль лишь покашливал иногда: в последние дни кашель измучил его, не помогала и трубка.
— Ну как, Михаил Иванович, наверное, поустали порядком? — первым заговорил он. — Вы на сегодняшний день, безусловно, самый деятельный человек во всей нашей экспедиции, все время — в пути, в работе…
— Ничего, — Бруснев махнул рукой, — в моем положении это все-таки лучший вариант существования… Я даже благодарен судьбе, что все так устроилось…
Толль покивал: мол, понимаю, понимаю, и они какое-то время опять шли молча.
— Я прежде не заговаривал с вами об этом, — снова первым нарушил молчание Толль. — Знаю, тут для вас глубоко личные мотивы… Вы уж простите, что хочу коснуться их…
Бруснев вопрошающе посмотрел на Толля, хотя сразу же понял, о чем тот заговорил.
— Для меня, Михаил Ивапович, такие, как вы, — загадка… Вот мы идем рядом, а я чувствую, простите, что рядом со мной идет человек, несущий в себе какой-то иной, не вполне понятный мне, мир… — продолжал Толль. — Я наблюдал и вас, и двух ваших товарищей, тоже недавних политссыльных. Опять же, простите мне это нелепое словцо—«наблюдал»… Все трое — честные, прекрасные люди, перед каждым из вас может открыться по-настоящему интересный путь, поскольку у вас для этого есть все: способности, знания, характер, воля… И такое поле деятельности представляет собой наша страна! Вы-то, Михаил Иванович, имели возможность почувствовать — какая это громада! И сколько этой огромной стране надо по-настоящему деятельных людей! Знающих людей! Вы же вот, являясь именно таковыми, вынуждены здесь, в этих пустынных местах, чуть ли не убивать свои лучшие годы… Ваши знания, ваша энергия, ваши способности, в которых так нуждается Россия, остаются под спудом… Тяжело на душе от такого противоречия… Может быть, я чего-то тут недопонимаю, чего-то не вижу… — Толль искоса посмотрел на Бруснева, шагавшего рядом. Тот едва заметно покивал, покусывая губы, напряженно глянул в глаза Толлю, заговорил не сразу:
— Вы, Эдуард Васильевич, — ученый, исследователь… Наука, работа исследователя — это, насколько я понимаю, постоянная борьба с косностью устоявшихся представлений, которые всегда, почти всегда, не желают уступать своего места новому знанию, новым представлениям, более совершенным, передовым… Не так ли?..
— Положим, что так… — сказал Толль.
— Ну а в самой жизни, которая тоже не хочет стоять на месте, цепенеть, замирать, разве в ней все не так же?! — Бруснев снова посмотрел на шагавшего рядом Толля, как бы сомневаясь: надо ли продолжать, надо ли идти дальше в этом внезапно возникшем разговоре.
— Говорите, говорите! — Толль быстро закивал. — Я с интересом слушаю вас. И, пожалуйста, не сковывайтесь. Вы, должно быть, имели возможность убедиться, что я — не враг вам… — он улыбнулся и коснулся кончиком рукавицы кухлянки Бруснева.
— Хорошо, — Бруснев улыбнулся ответно. — Вот вы заговорили о том, что такие, как я, убивают свои лучшио годы и силы в ссылках… А почему?.. Почему они вынуждены находиться в таком нелепом положении?.. Может быть, по недомыслию молодости?! Делали бы добросовестно свои общественно полезные дела, не лезли бы на рожон, и было бы все в порядке… Но можно ли спокойно жить и спокойно делать эти самые общественно полезные дела в стране, остро нуждающейся в кардинальнейших, коренных переменах?! Не просто в деловом рвении немногочисленной просвещенной части нашего народа все дело, а именно в самых широких и решительных переменах. Уродлива вся жизнь нашего государства с его нелепой политической организацией, сковывающей энергию и творческие возможности великого парода! Вы вот сказали, Эдуард Васильевич, о том, какая громада наши страна… А посмотрите, как всюду на ее пространствах царит разнузданная, чисто азиатская, стихия бесправия, и здесь вот, в Якутсках, Верхоянсках, она особенно остро ощутима. Всюду — почти поголовное раболепие перед ничтожными людишками, наделенными почти неограниченной властью. Разве можно, я говорю, спокойно делать, какое-то отдельное дело, не помня об этом?! Разве можно посвятить себя целиком какому-то роду деятельности и считать, что этого вполне достаточно, тогда как все в окружающей тебя жизни наполнено самыми вопиющими противоречиями?!.
Толль закашлялся и потому заговорил не сразу: — Тут вы, дорогой Михаил Иванович, косвенно упрекаете и меня… Вот ведь я-то занимаюсь наукой, весь отдан именно ей… И считаю, что служу не какому-нибудь узкому делу, а именно служу своему народу, его настоящему и будущему. Совесть моя чиста…
— Но она не может быть спокойной! — горячо воскликнул Бруспев. — Вы — гуманный передовой человек. Но свою гуманность вы можете проявить лишь в кругу людей, с которыми связаны непосредственно: у себя на «Заре», вот здесь… А в это время страдают миллионы людей, ваших соотечественников, творятся беззакония, вся жизвь идет не так, как надо бы ей идти…
— Но наука, как мне кажется, не то, чтобы не должна, а просто нe может, не в состоянии слить себя с революцией, с политикой. Науке надобно служить всецело! Только такое служение даст настоящий результат! Перед человеком науки не может быть двух целей!..
— Не в смысле агитации, Эдуард Васильевич, — Бруснев едва заметно усмехнулся, — скажу: по-моему, путь из науки в революцию естествен, даже закономерен. Ведь если вспомнить, сколько прекрасных людей пришло в революцию именно из науки! Взять хотя бы Кибальчича; человек был явно гениальным…
— Да, но все эти люди, насколько мне известно, уйдя в революцию, так или иначе изменили науке, а это доказывает, что сочетание науки и революции…
— Это доказывает, Эдуард Васильевич, все то же: путь из науки в революцию — закономерен! Еще раз хочется подчеркнуть! — не сдержавшись, перебил Бруснев. — Наука дает понимание законов развития вообще и общественного развития — уж само собой! Развитие же общественное, как и развитие в самом широком смысле, состоит из смены одних, изживших себя, форм другими, более совершенными. Разве не следует из этого, что люди науки, знающие эти законы, а стало быть, и осознающие необходимость перемен, осознающие более, чем другие, должны позаботиться об ускорении этих перемен?..
— Вот как вы меня окрутили! — Толль рассмеялся. — Мне теперь, для того чтобы стать последовательным и принципиальным ученым, ничего другого не остается, как побыстрее уйти с головой в революционную деятельность!..
— Вы сами подтолкнули меня к этому разговору! — Бруснев тоже рассмеялся.
— Н-да… И вот уже приходится обороняться… — Толль покачал головой. — Не политик я, Михаил Иванович. Трудно мне вести такие разговоры… Ну а вы… Вы всерьез верите в возможность этих самых быстрых, кардинальных и коренных перемен?..
— Тут, Эдуард Васильевич, не просто о чьей-то личной вере речь… Я уже сказал: есть законы развития! И есть уже учение, весьма убедительно доказывающее неизбежность довольно скорых перемен…
— Маркса имеете в виду?..
— Маркса. Да.
— Не могу судить об этом. Не читал. Лишь слышать доводилось… Но ученье, законы — одно, а как в смысле практическом?.. Вы вот, очевидно, попытались и… оказались вот где… А жизнь как текла себе, так и течет…
— Да, как будто так… Но… Я был участником и свидетелем весьма знаменательных событий. Я знаю, что все уже началось, что началась такая основательная подготовка, которая обязательно приведет к переменам, обязательно! Верую в это, не смотря ни на что! Верую в это, простите, ничуть не слабее, чем вы — в существование земли, которую хотите найти!.. — тут Бруснев осекся: пожалуй, некстати коснулся он теперь заветного для Толля…
— Но свою-то землю я видел своими глазами, ее видели и другие! — с внезапной твердостью в голосе заметил Толль.
— Так и я свою видел своими глазами!..
— Как это?!.
— Боюсь, Эдуард Васильевич, вы не поймете меня…
— А вы не бойтесь!..
— Я видел людей, простых людей, обыкновенных питерских рабочих, я слышал, как они говорят о будущем, знаю, что они думают о настоящем… Одного этого достаточно! Одного этого достаточно для крепкой веры! И них — та самая сила, которая способна совершить самые великие перемены!..
— Не знаю, не знаю… Может быть… Не буду возражать вам, — в раздумчивости сказал Толль. — Одно для меня ясно: есть в человеке истинное, страстное стремление к чему-то большому, высокому, пусть и недостижимому даже, так, стало быть, есть и сам человек, как личность, как деятель… И в вас, и во мне это стремление живет, горит. В каждом — свое. И — довольно об этом!..
Оба замолчали. Было лишь сльшшо, как похрустывает наст под ногами. Солнце между тем уже село, и сразу стало заметно холоднее. За увлекшим их разговором они не заметили, как далеко ушли от поварни.
Бруснев, возбужденный разговором, шел, покусывая губы, будто с усилием сдерживая себя, чтоб не заговорить снова, о том же. Да, свою вожделенную землю он тоже видел своими глазами! Видел!.. О многом он мог бы теперь рассказать Толлю…
Как ему запомнился, например, день в июне 1896 года, день, в начале которого его везли в тюремной карете на вокзал, и по всему Петербургу ревели надрывно неурочные фабричные гудки. И пока в одиночке досиживал последние дни, все слышал их. Доподлинно знать, что происходит, не мог, однако догадывался: что-то чрезвычайное, значительное! Потом уже, в Верхоянске, когда вслед за ним туда начали прибывать новые ссыльные, от них узнал: тогда весь текстильный Петербург забастовал…
От них же узнал и о том, что из интеллигентского центра, после арестов 92-го года, уцелели немногие, а связи с рабочими кружками оборвались почти полностью. Однако социал-демократическое движение в Петербурге имело уже глубокие корни. Среди оставшихся на свободе было несколько членов интеллигентского центра из студентов-технологов. Они и явились продолжателями всего дела.
Осенью следующего года с ними установил связь Владимир Ульянов, приехавший в Петербург в конце августа из Самары. А вскоре была создана новая организация социал-демократического направления — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Новая организация от пропаганды марксизма среди передовых рабочих, в пропагандистских кружках, перешла к политической агитации среди широких масс рабочих.
После ареста Владимира Ульянова и многих других руководителей «Союза борьбы» деятельность организаций не прекратилась.
Толль остановился первым, оглянулся назад:
— Ого! Как мы увлеклись! Пора и возвращаться…
Его рука снова коснулась Бруснева, задержалась на плече. Покашливая, он заговорил опять:
— Мне бы вот о чем хотелось вам сказать… Я отношусь к вам с искренней симпатией, вижу в вас человека твердого, крепкого, на которого во всем можно положиться, знаю, что со спокойной душой могу доверить вам любое дело, и оно будет исполнено самым наилучшим образом… С последней почтой я отправил в Петербург письмо, в котором даю вам самую хвалебную аттестацию. Может быть, это поможет вам… Дай бог! Нельзя такому человеку, как вы, оставаться в столь нелепом положении еще на годы! Нельзя!..
— Спасибо, — еле слышно сказал Бруснев.
— Не надо благодарить!
— Да я уж и за то должен сказать вам спасибо, что благодаря вашей экспедиции вырвался из своего Окаянска! Ведь здесь я чувствую себя, несмотря ни на что, почти свободным человеком! А это — так много! Если бы вы знали, как это для меня много! Ведь нет ничего тягостнее, чем осознавать постоянно, что жизнь идет почти впустую, что все замерло, остановилось на годы, и ничего не изменить, не переиначить… Это так опустошает, так обессиливает порой!.. Простите, что заговорил об этом!.. Наверное, подумали: я его называю твердым, а он…
— Нет, нет! Я все понимаю…
В обратной дороге было решено, что Бруснев отправится пока в село Казачье, в устье Яны, где дождется теплой поры, затем, до вскрытия рек, переберется в бухту Тикси, где проведет все лето, до возвращения «Зари». За время своей летовки он обследует побережье и по возможности определит фарватер бухты, расставит на берегу знаки, а кроме того, займется ботаническими, зоологическими и другими сборами.
Утром следующего дня все было готово к отъезду Толля и Бруснева. Позавтракав вместе со всеми временными обитателями поварни, они вышли к поджидавшим их собачьим упряжкам.
— Так, стало быть, мы обо всем договорились, Михаил Иванович? — спросил Толль.
— Договорились! Не беспокойтесь: все сделаю, что от меня зависит. Лишь бы у вас там все удалось… — Бруснев кивнул в сторону севера.
— Да, лишь бы удалось!.. — Толль покивал в задумчивости. — Как я уже говорил вам, в первых числах июня отправлюсь на остров Беннета, откуда попробую добраться до своей цели… А в конце августа — начале сентября ждите, стало быть, «Зарю» в Тикси. Она придет туда в любом случае — со мной или без меня…
— Буду ждать. Буду надеяться, что вернется она с вами и с добрыми вестями!..
— Теперь, что бы там ни было впереди, отступать нельзя, — тихо сказал Толль и добавил: — Остается повторить некогда сказанное Юлием Цезарем: «Alea jacta est!»[11] Как только у нас все будет готово к отправлению, с радостью помчусь навстречу неизвестности! Только бы нам достичь цели! Только бы нам ее достичь!..
Толль на прощанье крепко пожал руку Бруснева, обошел с рукопожатием остальных, затем, оглядываясь и кивая, сел в нарты. Каюр прикрикнул на собак, те взлаяли, подхватили, нарты покатили прочь, в сторону залива…
День выдался на редкость ясным. И удаляющийся от поварни Толль вдруг подумал о том, что при таком чистом, прозрачном воздухе с северной оконечности K°тельного, может быть, видна его далекая загадочная земля…
Остановимся здесь, Читатель. Мы увидели Михаила Ивановича Бруснева в новых условиях, в новых обстоятельствах. Мы увидели: ни тюрьма, ни ссылка, ни суровые условия Арктики, еще вовсе неосвоенной в ту пору, не сломили его духа и воли, не погасили его мечты и веры.
Остановимся, Читатель, почти там, где завершилась первая половина его жизненного пути, его жизненного срока, где едва началась вторая…
Впереди суждено ему будет пережить немало новых испытаний. Бесследно исчезнет Эдуард Васильевич Толль, отправившийся с тремя спутниками на остров Беннета, и первым именно Михаил Иванович Бруснев снарядит поисковую партию и во главе ее отправится на поиски пропавших людей, проявив при этом большое мужество и смелость. Большое мужество и смелость проявит он не раз и после окончания своей арктической одиссеи, вернувшись по истечении срока ссылки в Петербург — к революционной работе…
Несколько лет тому назад мне довелось побывать на небольшом гранитном острове в бухте Тикси. Остров Бруснева — так называется он с осени 1902 года, с тех самых пор, когда в этой бухте Бруснев встретил избитую льдами яхту «Заря», приплывшую туда на вечную стоянку.
Зябко подрагивали, пошатывались желтые полярные маки. Особенно много их было возле серебристого обелиска, установленного на южной оконечности острова комсомольцами города-порта Тикси в память об этом замечательном человеке. Бухту забило тяжело шевелящимися льдами. Наверное, немало таких дней запомнилось Брусневу, ожидавшему там возвращения «Зари»… Только не было тогда ни города, ни порта, не было огромных океанских кораблей у причалов и на рейде… Была единственная неказистая поварня, срубленная им самим из бескорого плавника, и ныне в изобилии валяющегося по всему океанскому побережью… Под порывами налетного северного ветра в воображении моем возник вдруг облик мужественного, сурового человека…
Пожалуй, не таким запомнили его близко знакомые с ним люди. Пожалуй, не таким…
«Впечатление он на меня произвел весьма сильное как своею начитанностью, так и своим тем гуманным обращением, которого мне ранее не приходилось встречать… Его ровные и гуманные отношения ко всем без исключения, его ласковые и добрые слова ко всему бедному люду и труженикам должны были, вероятно, отразиться на мне…» (это — из показаний, данных во время следствия Николаем Сивохиным). «Бруснев был чрезвычайно умным и каким-то необыкновенно простым человеком, целиком ушедшим в рабочее движение» (это — из воспоминаний Н. К. Крупской). Можно припомнить слова других людей, тоже близко знавших его. Не о героизме, не о смелости, не о мужестве они — о большой человечности, о предельной преданности однажды избранному нелегкому пути. И тем не менее неполноты, недоговоренности в них нет. Ведь истинный героизм, истинные смелость и мужество в основе своей всегда несут подлинное человеколюбие и великую способность к самопожертвованию. Верно и наоборот. Тут — вечное единство: одно без другого не живет! Вечным единством этим были так ярко отмечены жизнь и судьба Михаила Ивановича Бруснева.
Примечания
1
Так по-местному произносится фамилия Брeсневых.
(обратно)2
Сорочинское (сарацинское) пшено — рис.
(обратно)3
«Итак, будем веселиться, пока мы молоды!» (лат.). Старинная студенческая песня.
(обратно)4
Петровцы — студенты Петровской земледельческой академии (ныне Тимирязевская академия).
(обратно)5
Речь идет о социал-демократической организации — партии «Второй Пролетариат».
(обратно)6
Форма для пасхального сыра, «пасхи».
(обратно)7
Агнец божий (лат.).
(обратно)8
До рождества Христова (лат.).
(обратно)9
Честно, чистосердечно (лат.).
(обратно)10
«Стиль — это человек» (фр.).
(обратно)11
Жребий брошен! (лат.).
(обратно)
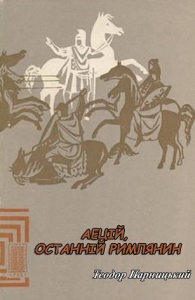




Комментарии к книге «К земле неведомой: Повесть о Михаиле Брусневе», Вячеслав Иванович Шапошников
Всего 0 комментариев