Владимир Личутин Раскол, книга I Венчание на царство
Светлой памяти Юрия Ивановича Селиверстова посвящается
Автор выражает сердечную благодарность Морозу Роману Маръяновичу за издание романа «Раскол»
Юрий Архипов Толкование истории – изъяснение души
«Раскол» – это не просто книга. Не просто очередной исторический роман-хронограф, к коему мы за два века привыкли: лубочно изукрашенные или блестким бисером исшитые «словеса царей и дней», разбавленные «сыромятным каляканьем» (Сенковский).
«Раскол» – это наша, русских, оглядка на тысячелетний путь, пройденный с Православием. На весь путь целиком и сразу. Этот исторический роман повествует не столько о событиях, хотя они и изложены в точном согласии с преданием, сколько о судьбах. О судьбах страны и народа – прошедших, настоящих, будущих. Вы погружаетесь в бунташный и бурный семнадцатый век, а перед глазами у вас то и дело пробегают иных времен тени – то азартные прапорщики на декабрьской площади у сената, то отчаянные бомбисты, обложившие государя, аки зайца, то «совиные крыла» обер-прокурора синода, то талмудом траченные комиссары (пыль им на шлемы), то кривые лукавые рожицы «младореформаторов» (Чикаго им в бок). И все это – без всяких прямых, немудрящих аллюзий. Просто все тысячелетие предстает как один миг, как в один миг спрессованный знак бытия. Словно бы остановленное время, превращенное в плотное от предметов пространство. Фокус, на который способно только подлинное искусство.
Было бы несправедливо и жаль, если бы у русской литературы – с ее-то разбегом – не нашлось теперь такой книги и ей было бы нечем отметить «миллениум» , то бишь тысячелетний рубеж.
«Раскол», таким образом, – это юбилейный подарок всем нам, немотствующим в своей тоске и мольбе о России, – подарок от писателя, справляющего и собственный юбилей. Недаром древние говорили, что 60 лет – это пора акме, высшей зрелости, к которой идут трудом и годами.
Владимир Личутин, и правда, давно и мощно работает в русском слове. И давно снискал себе славу тайновидца русской души. Его пронзительные, как древнерусские плачи, очерки о России, постепенно, ветка к ветке, вырастающие в книгу-древо под общим названием «Душа неизъяснимая», несомненно, останутся среди немногих перлов русской художественной публицистики нашего времени.
А еще были – «повести о любви», как они в одном из изданий были названы на обложке, – «Иона и Александра», «Вдова Нюра», «Крылатая Серафима», «Домашний философ», «Фармазон».
Были два великолепно выношенных, продуманных и прописанных романа – об извечной русской душевной маяте, о мельтешне темных бесов в сонме светлеющих лиц. Хотя для одного из этих романов – «Скитальцы» – автор черпал материал в старине, а в другом – «Любостай» – острыми штрихами живописал современность. Все эти, столь разные по материалу работы отмечены особой, неподражаемой «русскостью» взгляда и тона, скреплены единством стиля.
Стиль Личутина легко узнаваем. Ведь писательский словарь ныне заметно скудеет, обезличивается, усредняется, скатываясь к наивно форсистому журнализму или мнимо правдивому «каляканью», приперченному матерщинкой. Одинокий призыв Солженицына спасти былую полноту и красоту русского языка повис, кажется, в воздухе, как и многие другие его призывы. А Личутину, будто любимцу и баловню муз, и дела нет до этих забот. Ведь он-то богач по праву наследования. Давно известно, что сокровища русского слова хранит наш, недоступный разорам нашествий Север. Недаром именно туда мостили словесные гати из своего Замоскворечья и Подмосковья такие кудесники изысканной русской речи, как Леонов и Пришвин, – чтобы выбиться на столбовую, «осудареву» дорогу русской прозы. А Личутин, теперешний хранитель тех древних сокровищ, получил ключи от них из рук в руки от своих земляков и предшественников, дивных сказителей Севера – Бориса Шергина и Степана Писахова.
Его, Личутина, проза и прежде поражала глаз причудливым богатством убора. А ныне, в «Расколе», у писателя точно и впрямь раззудилось плечо и он в каком-то неистовом кураже настежь распахнул свои заветные короба, туеса, сундуки. Чего тут только нет! И ситец, и парча, как у бывалого коробейника. Яхонты, жемчуга, изумруды, смарагды, сапфиры... и еще много такого, чему мы, по бедности своей, и названья-то позабыли. Так ведь на то и существуют Даль, Срезневский, Ожегов и другие-многие словари. Они же пылятся на полке почти в любой русской семье. Для чего мы их покупали? Может, раскроем наконец, покопаемся в поисках ключей к тем ларцам, что нам с такой щедростью дарит писатель?
Проза Личутина музыкальна – сразу узнаваемым русским ладом, живой интонацией, мелодичностью подслушанных у народа, с сердцем сказанных выражений («Выражается сильно русский народ», – изумлялся Гоголь). Простонародный язык, прежде всего, поэтичен: меткие словечки-клейма, ядреные пословицы и прибаутки, поразительные до смелости стяжения метафоры – все это так и слетает у простого люда с губ и льется легко, весело, словно песня. В этом отношении век выбран писателем благодатный – ведь до раскола, по сути дела, все были простолюдины, даже бояре с дьяками, даже и царь с патриархом, а уж про стрельцов и калик перехожих и говорить нечего.
Историки, знатоки мелоса, утверждают, что какой-нибудь обычный рынок в какой-нибудь новгородско-вологодско-архангельской земле в старину звучал как опера – люди не говорили, а пели. Рудименты этого сохранились по сию пору. Стоит только побывать в гостях у писателя, послушать его разговоры с братом, женой, тещей, детьми, чтобы сразу окунуться в эту – певучую – волну. Так же певуча и проза Личутина.
Но она не менее того живописна. Глаз писателя по-охотничьему зорок. Описания северной природы или родной матушки-Москвы в «Расколе» такой переливчатой гаммы и пластической силы, что просятся в хрестоматию. Ими, как правило, начинаются главы – в силу традиции и канона. «Давно ли, кажется, повыгарывала Москва, еще не изветрился дух головней...». Или: «Сначала под сугробами заточились ручьи, хлопотливо завозились, как цыплаки под наседкою». Природа и история у Личутина – одно нерасторжимое целое, спаянное единой космической силой – духом, «гением» единого пространства и времени: «Русь легла, раскорячась, на две стороны света, и в брюшине у нее запоходили дурные ветры». О чем это – об истории или географии? Обо всем сразу. О Руси.
Чувство природы, отлитое в небывалые и в то же время единственные слова, достигает местами такой колдовской прелести (не то что доправославной, но даже доязыческой), что просто не верится, что это все написал человек, а не сама природа явила вдруг свой словесный портрет. Думается, это и есть один из признаков подлинного искусства – когда нам кажется, что написанного просто не могло не быть, что оно было всегда, таилось в глубинах природы или духа (что, конечно же, едино), а писатель лишь удачливый, счастливый искатель.
Саврасов и Куинджи приходят на ум, Серов и Рылов. А всех прежде, может быть, Суриков, крупнейший среди наших живописцев историк и «филозоф». Признаюсь, «Боярыня Морозова» Сурикова постоянно довлела, представлялась моим внутренним очесам, пока глаза мои скользили по строкам «Раскола» – ей, неистовой Прокопиевне посвященным. И дело тут не только в совпадении персонажа. Совпал эффект воздействия двух столь разнородных произведений искусства. И – словно вольтова дуга соединила годы. Чтобы пояснить: когда я девятилетним мальчиком впервые попал в Третьяковку, то во всем ее роскошном, ошеломительном изобилии (к знакомству с которым послевоенных мальчиков готовили пузатые тома синей Советской энциклопедии) меня больше всего поразило именно это полотно Сурикова. Помню, я долго стоял перед ним, ошалев от небывалого чуда: вроде все только нарисовано, но я явственно слышу скрип полозьев по снегу, растревоженный гомон озябших ворон, людские крики; явственно вижу, как сани, разрезая толпу, едут. Позже, начиная со студенческих лет, я не раз бывал в галерее, но чудо, увы, не повторилось ни разу.
И вот теперь, в «Расколе» – сани вновь поехали! Стереоскопический эффект подобных мест в прозе Личутина таков, что им мог бы позавидовать и сам чемпион всевозможных эффектов словесной изобразительности, двойной тезка Личутина Владимир Владимирович Набоков.
Вообще-то, если судить по одежке, по словесной фактуре, в русской прозе последних двух веков (то есть поры ее несомненного лидерства в мировой литературе) явственно прослеживаются две основные линии, восходящие к отцам-прародителям – Пушкину и Гоголю. Первая, пушкинская, с виду неброская, скромная, благородно сдержанная, незаметная настолько, что тут как бы и не одежда даже, а словно стекло, приставленное к предмету, – а уж насколько чистое, это зависит от дарования. По крайней мере, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, приставляя это стекло к разным предметам, ничем его не замутнили. На сегодня эту цепочку замыкает, скорее всего, Валентин Распутин.
Гоголевская традиция явно иная – нарядная, в буйном ярении красок, броских, как платки малявинских баб, сияющая всеми цветами радуги, играющая диковинными словами-самоцветами. Тут в затылок Гоголю тоже выстроилась очередь, и немалая: Лесков, Мельников, Шмелев, Ремизов, Андрей Белый «со питомцы» – орнаменталистами 20-х годов. Неподалеку, хоть и наособицу, притулился великий Платонов. А последним пока стоит Владимир Личутин.
* * *
Да ведь по одежке в России только встречают, а провожают, как всем ведомо, – по уму.
В чем же та главная мысль «Раскола», что делает роман столь незаурядным явлением нашей отнюдь не бедной талантами словесности?
А в том, как представляется, что Владимир Личутин первым – во всяком случае в художественной литературе – во всем объеме постиг размах русской беды – той неизбывной, неизжитой, поныне свербящей боли, что скрывается за этим острым, но давно обкатанным словом «раскол».
Тайновидец души и огранщик слова заглянул в бездну истории и ахнул – прежде всего оттого, что обнаружил ее не только в прошлом, но и в нашей с вами живой современности, которая вместе с прошлым и будущим и составляет словно бы застывшее русское время.
Увы, такое понимание значения раскола вовсе не стало фактом общественного сознания. Многие из наших мудрецов (говорю без иронии), осмыслявших путь России, раскола попросту не заметили. Ну, хотя бы Л. Тихомиров или М.Меньшиков, а последний красноречивый пример – Д.Галковский. Его «Бесконечный тупик» – бесспорно, «сумма сумм» отечественной историософии, но раскол там даже не упомянут. Нашлось немало и таких, кто не узрел в расколе ничего, кроме русской дури, хотя куда как неглупые были люди – Владимир Соловьев или Розанов. Соловьев полагал, что у человека просвещенного по отношению к расколу «возможна только улыбка». И Розанов, вечный его оппонент, на сей раз с ним соглашался, находя, что «судьбоносные» споры XVII века на самом деле были пустые , ибо вели их «допетровский боярин и его мужик, оба равно безграмотные, равно милые, но равно не видевшие голландских верфей.» Бедная, темная Русь!
Одно утешение: все это мнения людей, хоть и многомудрых, но не вполне православных. Один, Соловьев, все мечтал соединить Православие с католицизмом; другой, Розанов – и вовсе с неоязычеством.
Люди ума не меньшего, но глубоко церковные, всем сердцем чувствовавшие нерасторжимость России и Православия, судили все же иначе.
«Отделение старообрядцев от Греко-Российско-Православной Церкви было бедствием; самое упорство и ожесточенность борьбы со старообрядчеством свидетельствуют о сознании той боли, какую церковное тело ощущало от этой операции», – писал отец Павел Флоренский.
«Раскол родился и вернуть его в небытие, остановить ни у кого не нашлось силы и искусства. А какое зло было порождено им!» – вторит ему авторитетнейший церковный историк А.В.Карташев.
«В старообрядчестве с его скорбной историей, полной религиозного вдохновения, но порой и истерики, мучительного ощущения „тайны беззакония“ (Антихриста) – во всем этом роковом и трагическом распылении церковных сил русское церковное сознание дорого платило за свою мечту, за утопическое понимание теократической идеи христианства», – резюмировал отец Василий Зеньковский.
Важно только понять, что раскол вовсе не был делом только «ведомственным», внутрицерковным – и не мог пребывать в узости в такой идеократической стране, как Россия («У нас не правят, а водительствуют – те, у кого находится сплачивающая всех идея», – замечает современный мыслитель Ф.Гиренок). Раскол расколол не церковь, а всю страну. Расколол не как колун, а как молния – то есть стал ветвиться, дробя и последующие поколения, так что к концу XIX-го века у нас уже были многие десятки сект с оттенками разных «толков». Без раскола, надо полагать, не было бы и последующего ожесточения в сословном размежевании, острой борьбы одной части «мира»с другой (интеллигенция с царем – против народа при Петре, царь с народом – против интеллигенции при Николае I, интеллигенция с народом – против царя при Николае II; все более отчуждавшаяся от народа и отсортировывшая интеллигенцию власть в XX веке с ее «аппаратом», неудержимо разбухающим на народной кровушке и время от времени отравляющимся «гнилой интеллигенцией»).
Разумеется, и прежняя, до раскола, русская жизнь не была идиллией – как не бывает идиллией никакая жизнь на земле. И русские князья и даже монаси ярились друг на друга, гнобили и подличали греховных страстей ради. Но все это были противоречия и борения внутри единой системы ценностей, перед лицом единого нравственного идеала и если уж не самим преступником, то в глубинах совести народной эти вывихи всегда верно оценивались как грех. После раскола единая система оценок стала рассыпаться, уступая место пресловутому плюрализму, когда одно и то же деяние – хоть бы и покушение на жизнь государя – стало одним являться как святотатство, а другим как духовный подвиг.
Да что государь, даже военные успехи собственного отечества иным «индивидуумам» встают поперек горла – и они не стесняются трезвонить об этом на весь честной мир.
Конечно, ни одно явление в истории не возникает внезапно и беспричинно; даже для такой внешней беды, как ордынское нашествие нужна была своя внутренняя причина – нараставшая разрозненность беспечных и самовитых русских князей. Так и здесь раскол готовился еще в смуту, за полвека до него, и даже раньше – в ораторско-писательских битвах «нестяжателей» с иосифлянами. Нельзя забыть и о том, какой чумой прошлась по Руси «ересь жидовствующих», едва не сглотнувшая своим смрадным зевом и самих правителей ея. (Ждать бацилле пришлось еще шесть веков.)
Но самый болезненный разрыв единой – мистически единой – плоти русской жизни осуществился именно тогда, в роковой исполинской сшибке Никона и Аввакума с одной стороны, Никона и «Тишайшего» царя Алексея Михайловича с другой, Алексея Михайловича и Аввакума с третьей.
Автор «Раскола», складывается впечатление, соболезнует всем троим – потому что соболезнует России. Иногда почти физически ощущаешь его печалование и боль за Россию, но и, не менее того, его гордость и любование. Вряд ли найдется лучший художественный путеводитель по эпохе, столь же бережный и обстоятельный. У Владимира Личутина на редкость теплое перо – при всей его виртуозной изощренности. Тут все дышит любовью – к своему, родному, свычаям и обычаям русского быта. Порывам и срывам русской души.
Казалось бы, чему же тут удивляться? А удивляться почти приходится, ибо у нас едва ли не в моду вошло проклинать несчастную русскую жизнь да жестоковыйную русскую историю. Одни де бессмысленные страдания и реки бессмысленно пролитой крови. Забывают близорукие о том, что эти реки полились лишь в XX веке – когда в русской истории перестали определяюще действовать одни русские силы, когда Россия очутилась в плену чужебесия. А прежние-то века? Ведь даже опричнина Грозного бледнеет перед инквизицией, как и петровские казни – перед якобинской резней. Не говоря уже о том, что скучный шкурный интерес редко пробивался в России, в отличие от Европы, в двигатели событий, зато какое кипение идейных страстей! (Что и представляется рыцарям кошелька «русской дурью»). Какие трогательные Жития князей – Владимира Святого и Ярослава, Андрея Боголюбского и Александра Невского. Какие необъятные, весь горизонт застилающие фигуры царей – Иоанна Грозного или Петра. А Александр I, победитель гордеца Наполеона, смиренно растворившийся в народной молве под видом Федора Кузьмича? А Александр III, один могучей дланью своей удерживавший распад целого мира, как – вот сцена-символ – обрушившийся однажды на его плечи железнодорожный вагон...
То-то был заворожен нашей историей умница Пушкин. Как, впрочем, и наиболее чуткие духовно интеллектуалы на том же Западе. «Россия – единственная страна, которая соседствует с самим Богом», – писал крупнейший европейский поэт XX века Райнер Мария Рильке.
И он, безусловно, прав: богоискательство и есть скрытая пружина нашей истории. В неуемных поисках Бога (чего-то иного, чем проза текущей жизни, лучшего, совершенного, прекрасного, нездешнего) и распласталась Россия по обе стороны света. И созидали ее в первую голову те, кого томила духовная жажда.
Поэтому Никон и Аввакум значат в нашей истории не меньше, чем Иван Грозный и Петр, Ленин и Сталин. Митрополит Антоний (Храповицкий) полагал даже, что Никон выше всех стоит в списке деятелей, определивших ход русской истории.
Эта мысль прочитавшим «Раскол» станет более внятной. Никон словно выступает из тени (даже из скрещенья теней: тень, которую отбрасывает впереди себя Грозный, и тень, стелющаяся за Петром).
В споре Аввакума с Никоном Личутин-мыслитель скорее на стороне Аввакума. Но в самом-то романе, в его живой плоти все выглядит сложнее, «диалогичнее». «Полифоничность» в той или иной степени – общее свойство реализма. Разве что в лубочно-сатирических жанрах наивного классицизма возможна черно-белая «монологичность». В полнокровном реализме никакой персонаж не станет убедительным, если не понять и его логику-правду, то есть, если его хотя бы частично не оправдать.
А Никон в романе во всех его взлетах и падениях куда как полнокровен. И нагляден так, что можно залюбоваться. И трагичен, конечно, – в контрастах дара и блажи, благодати и упрямства, рачения и «возгоржения». Великую душу подстерегают великие же опасности, и автор, не спеша и не комкая повествование, умеет нам их показать.
Внешняя карьера Никона удивительна: вот уж поистине – из грязи да в князи. Но он и в своем вселенском замахе не метеор, а скорее могучий дуб, выросший на хорошо подготовленной почве. Притязания Никона (сесть и поперед самого батьки-царя) вроде бы естественно вырастали из самого хода истории. Ведь после падения Византийской империи в XV-м веке единственной надежной опорой Православия, хранительницей истинной веры в Христа сделалась Русь. «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать» – эта чеканная формула псковского игумена Филофея впечаталась в сознание как священный догмат. Ведь Православие – не какое-нибудь худосочное сектантское измышление, а Истина, торжество коей не возможно без Царствия. Стало быть судьбы мира отныне будут решаться в Москве. И ответственен за них, по мысли Никона, наместник Христа на земле – патриарх. А земной царь должен быть чем-то вроде его инструмента. Такая вот симфония веры и власти.
И как вроде бы все удачно сошлось – для осуществления этого вселенского призвания России. Могучего ума и темперамента патриарх, – и юный «тишайший» царь с благородной и богорадной душой, который не просто годится ему в сыновья, но и ведет себя, если не по-сыновьему, то по-братски: прилюдно ласкает, называя «собинным другом», просит наставлений и почтительно им внимает, оставляет даже за себя «на хозяйстве», то бишь на царстве, когда уходит в военный поход. Как было Никону упустить такой, как ему казалось, счастливо выпавший исторический миг и не попытаться излить на мир всю скрытую мощь Православной Церкви. Сделать ее поистине Вселенской – не в мечтах, не на словах, а реально. Превратить русскую идеократию во вселенскую теократию (так вот и прокрадывался в душу святейшего самый что ни на есть западный цезаропапизм). А препятствия? Вроде бы пустяковые: все жесты да буковки, в коих русские обособились, вроде как отложились от первородной церкви, на что то и дело указуют заезжие греки (их же, ободранных, что ни день пригнетает в Белокаменную за щедрой русской подачкой). Устранить, стало быть, кое-какие разночтения в книгах, да перейти на троеперстие. Сами-то греки давно уж на него перешли, а с ними и весь прочий православный мир, кроме Руси: и болгары, и сербы, и украинцы. Вот-вот, украинцы, что особенно важно. Ведь только что – двух лет не прошло – воссоединилися, наконец, с Украиной, прародиной нашей, какое ликование! («Да ведь не все ликовали-то: вот пригласил Никон на радостях малороссов-монахов на поселение в свой Иверский монастырь, а обитавшие там великороссы, подозревая собратьев в „латинской порче“ от ляхов, покинули монастырь все до единого). А на Украине – троеперстие, не допускать же розни, как не порадеть младшим (или старшим?) братьям от всего широкого сердца. Вот, кстати, одна из непостижимых тайн нашей истории: возвращаясь к потомкам своим, праматерь-Киевская Русь учинила, получается, среди них раскол, – чтобы через триста тридцать семь лет (цифра то какая – 337), отвалив с довеском в виде Крыма, развалить и империю...
Размечтавшемуся Никону взяться бы за дело не торопясь и с оглядкой, да вести его плавно, без окриков, зуботычин, обид. Но куда там! Русский человек и без того горяч и размашист, а уж Никон, вознесенный «собинным другом» и сам вознесясь, и вовсе счел, что море ему по колено, что не Бог весть какой для него труд ломать через колено пасомых им и таких податливых с виду людишек.
«Тень Грозного его усыновила» – поистине! Неприютная самодержцев тень. Как Иван Грозный картинно отпихивал власть, удалившись в Александровскую слободу, а потом, покуражась, давал себя уговорить вернуться на царство; как вслед за ним ломался для приличия Борис Годунов, запершись в Новодевичьем монастыре, так и Никон, войдя в царственную роль, попробовал отложить в сторону патриарший посох, ожидая в душе все тех же, входящих вроде бы в ритуал, уговоров.
Да вышла осечка. Забыл грешный святитель евангельское: «Богу – Богово, а кесарю – кесарево». На многое может пойти власть, но только не на отрицание самой себя.
История получилась с виду странная, но по сути логичная. Непомерная гордыня всегда наказуется. Побочное дело Никона (корректировка книг и обряда) восторжествовало, но сам он пострадал. Еще больше пострадала его великая идея, его мечта о вселенском могуществе Православной русской Церкви. Всегда ревнивая власть наскок Никона запомнила, и уже сын Тишайшего яростный Петр урезал Церковь на столько, насколько хотел вознести ее Никон, который напугал Петра, видимо, так, что тот вовсе отменил сан патриарха, низведя Церковь до положения одного из департаментов государства.
Пострадал Никон, но вместе с ним пострадали и противники нововведений, миллионы тех, кого он отпихнул – в раскол.
Отчего же они так противились «пустяковым», если издалека смотреть, нововведениям, что даже шли из-за них на костер? Чтобы это понять – чтобы понять устройство русской души, – и нужно прочесть «Раскол». Положить бы его на стол каждому нашему горе-реформатору, привыкшему «издалека смотреть» на страну, кою взялся, вооружась абстрактными аналогиями, перекореживать. Ведь который век спотыкаемся об одни и те же грабли.
Россия, какой она встает со страниц романа Личутина, – страна особая. Хотя бы в силу особого, небывало протяженного пространства своего. Которого так много , что в нем много умещается и времени – и прошедшего, и настоящего, и будущего. Не как в тесной Европе, где настоящее, опираясь на накопления прошедшего, силится протиснуться в обнадеживающее новыми приобретениями будущее. В России прошедшее не проходит совсем, но остается жить тут же в ее бесконечных пространствах. Именно жить, а не пугать или дразнить своей тенью. Двуглавый российский орел раскинул свои крылья не только между Востоком и Западом, между созерцательностью и деятельностью, но и между прошлым и будущим, между воспоминанием и мечтой. Поэтому Россия первой устремляется в космос и в то же время живет как будто с постоянной оглядкой назад – иной и нередкий раз даже в таких же избушках, как и тысячу лет назад. В чем-то обгоняя, прямо по Гоголю, всех, она, похоже, скачет, подобно раку, спиной вперед, с постоянной оглядкой на предков. Опыт предков не просто помогает освоить холодные немеряные пространства, но делает их теплее, живее. Что-то природное, органическое – с чем так ладно срослось христианство с его соборностью как доминантой православного чувства. И по сей день в наших церквах записок о поминовении подается куда больше, чем записок о здравии. Здравие, что ж, вещь телесная. Куда важнее – спасение души. А в деле спасения души нашим предкам обойтись без нас так же трудно, как нам без них. Соборность.
И посейчас миллионы русских живут этим чувством, а тогда, триста лет назад, им жили практически все. Ведь золотой век русской святости был еще так близок и внятен. И этот золотой век – не выдумка. Тому, кто тужится припечатать его «стебным» словечком «миф», нужно просто показать «Троицу» Андрея Рублева и икону Владимирской Божией Матери. Покров на Нерли и Спас на Нередице, Георгиевские соборы в Юрьеве Польском и Старой Ладоге. И пусть из всех богатств мира пересмешник назовет хоть что-нибудь сопоставимое.
По поводу «национальных образов мира» за рубежом в ходу шутка: «Немцы маршируют, англичане осваивают моря, итальянцы едят макароны, а русские целуют землю».
Не укрылась, стало быть, от чужеземцев наша особенность, выросшая из наших безмерных пространств. Ведь пройти русскую землю из конца в конец – что переплыть все океаны вместе взятые. Дух земли, стихия земли, мать-сыра земля... Потому и приняла Русь в свое лоно с такой радостью Православие, что родное воссоединилось с родным – мать-сыра земля облеклась в покров Богоматери. И Христос стал исхаживать русскую землю – благословляя («Всю тебя , земля родная...» – по Тютчеву). И земля окропилась, освятилась – им. Он будто сошел с неба в земную, земляную крестьянскую русскую жизнь – со всем Своим сонмом. Святой Егорий стал помогать коней пасти, святой Никола – рыбу ловить, Илья Пророк – урожай убирать. Сам же Христос стал всякому душевному делу потатчик. И Русь стала святой – не потому, что люди стали как ангелы, а потому, что удостоились, хоть и грешные, жить на освященной земле. В Новом Иерусалиме. Как же не целовать такую землю, ведь это все одно, что целовать икону. Так все в конкретном крестьянском мышлении срослось – Русь и Рай. Современную тоску по этому исконному цельному мироощущению с гениальной убедительной простотой выдохнул Сергей Есенин:
Господи, я верую, Но возьми в свой рай Мой пронзенный стрелами Дождевыми край.Раньше-то не сомневались, что возьмет, – уже взял. А свидетели и поручители этой сросшести Руси и Рая – целая рать великих русских святых, богорадных русских икон и церквей. То есть, русская старина.
И вот является некто и заявляет, что вся эта старина пребывала в слепом заблуждении, жила «ветром головы своея», предавалась «сонным мечтаниям». И молилась не так, и книги читала не те, и персты слагала не по канону. И пробирается этот некто на патриарший престол и требует круто все поменять – во угождение умникам чужебесия. Ну, как было не заподозрить в этом некоего антихриста? Это что же, Феодосии Печерский и Сергий Радонежский, Нил Сорский и Стефан Пермский, Андрей Рублев и Дионисий были неправы, а полутатарин Минька, пришлец, их правее? Антихрист и есть. Тем более, что и ввели-то новые правила не когда-нибудь, а в 1666 году. Смекайте сами. Тысяча – число сатаны, 666 – апокалиптическое число Зверя. Пришли, пришли последние времена. Господь ожидает от верных Ему жертвы – во искупление безобразий, во спасение души. Уж лучше сжечь себя, чем оскверниться. Лучше сейчас спалить дух родной земли огненным духом, чем потом – вечно гореть.
Такова была логика русской трагедии, расколовшей и русскую историю, и русскую душу.
Россия, к счастью, неистребима. На боль насилия она ответила новым напряжением духовных сил. «На вызов Петра Россия ответила Пушкиным». Великой русской литературой. И не только ею, но и Серафимом Саровским, Тихоном Задонским, Феофаном Затворником, Амвросием Оптинским, Иоанном Кронштадтским – новым подъемом святости. Но тоска по золотому веку русской цельности и «всеединства» осталась. Откуда же иначе вся эта бесконечная галерея «лишних», полых людей, заполонивших русскую литературу от Пушкина до Чехова, откуда духовные корни героев Достоевского, Толстого, Горького, Платонова?
Да поможет нам «Раскол» Владимира Личутина не утратить живую связь с русским Преданием. Не утратить себя.
Зачин
Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое.
Господи, как бессилен ум мой; темною слепою водою залиты глаза мои; и душа без дорожного посоха, без ключки подпиральной робеет и трех верст отшагнуть от порога суетных наших лет; и нет одесную близ меня пастыря надежного и несуесловного, а ошуюю неотступно пасут сомнения; нашептано в ночах – выше воли может стать лишь вера, она укрепит рамена, но где напитаться ею, ибо крошечный огарок сердечного родства едва теплит средь покинутых весей России. Так, может, от отчаянья и только из отчаянья выткется та сила, что удивительно укрепит мои персты, наполнит жилы, и токи те понудят скорбеющую душу исторгнуть слово, к коему давно готовилось сердце. Может, из отчаянья прорастет слово, а из слова проклюнется смысл, как душа из омертвелой плоти, и осенит, и обнадежит меня в затейном труде. Куда и с чьим напутствием пустился я во все тяжкие в не лучшие для России дни, полные смуты; кто, позабытый и не обласканный мною, настряпал подорожных хлебов, чтобы я вовсе не потерялся в одиноком пути? Один я, как перст: но коли взмолиться истово, то вдруг истечет утешный глас?
Два крыла моих, как утиные перепонки, будто решето, насквозь протыканы гвоздьем долгих сомнений; два неподъемных крыла, лишь груз суставов и хрящей; отлетели невидимые ангелы, и все чаще седой ворон сторожит и сурово «крыкает» на засохшей ветле, и что-то вещее чудится мне в его сатанинском, надменно скошенном на меня глазе... Где вы, обавники и кудесники, прорицатели и ведуны, волхвы и бывалые люди, чернокнижники и цыгане, коновалы и колдуны, травницы и ведьмы с Лысой горы, толкователи снов и прорицатели, неистовой стаей окружившие православный крест, и не в силах отпасть от него; цветник, возросший на Черной книге, осыпанный шипами и перхотью неизжитой мести; где вы, читальщики и исповедатели Рафли и Шестокрыла, Воронограя и Остромита, Зодия и Альманаха, Звездочетьи и Аристотелевых Врат, говорят, вы провидите время, как небесные своды и толщи вод...
Но смутой и холодом лукавого обавного ума пронизывает меня, как сквозняком, и я пугаюсь и вас, торопливо пряча уже протянутую к Черной книге влажную руку. Из заповеданных рассказов бывалых людей известно, что Черная книга хранилась на дне морском под горячим камнем Алатырем. Какой-то чернокнижник получил завет от старой ведьмы отыскать Черную книгу. Что он и сделал. С тех пор гуляет она по белому свету: было время, когда Черную книгу заклали в стены Сухаревой башни. Но вот и башня та осыпалась, а книга та заповеданная, связанная страшным проклятием на десять тысяч лет, стала как бысть невидима. В ком Бог, в том и сила: но что за искус поманывает, что за наваждение в том обавном, неискреннем, что хоронят в себе всякие чары: знать, не меньшая власть и в наваждении. Есть лазурное небо, но живет и Потьма, не избежать нам Золотого кольца.
Есть поверие, что умершие чернокнижники в белых саванах своих навещают родные дома и шарят по избам, ища свою заветную книгу, стучат в окна и двери, сводят домашний скот и с родичами творят проказы. Когда терпению приходит конец, чернокнижника выкапывают, кладут во гробе ничком, подрезывают пятки и снова засыпают землею. Дока, местный кудесник, шепчет заговоры, а домашние покойника вбивают осиновый кол между плечами.
Всякий темный дух как бы пригвожден к земле, нет ему полета; мать – сыра земля дает слову густого замеса и лишает крылатости; речи, опершиеся на Черную книгу, лежат на страницах, как исторгнутые из пашни каменья. Значит, и на обавников нет мне надеи? Но случается, что камни летят с небес, сверкающие, как смарагды, от них сыплется голубая алмазная пыль. Они спешат к земле, откинув пылающий хвост, и сулят людям несчастья.
Все суета сует, все однажды источится в лед и пламень: слово, прорастающее из земли, и слово, летящее с небес. Так к чему мои страды? что тщусь я прочитать в потемках иссякших лет? какие поучения и уроки, какие заповеди и заветы? Может, давно уже заплесневели они, обветшали и в их скорлупе давно нет сердца, как протрухла болонь у изжитого палого дерева.
Но для чего пели молодицы на игрищах (нынешние прабабки мои): «Коза, коза бя, где ты была? Коней стерегла. И где кони? Они в лес ушли. И где тот лес? Черви выточили. И где черви? Они в гору ушли. И где гора? Быки выкопали. И где быки? В воду ушли. И где вода? Гуси выпили. И где гуси? В тростник ушли. И где тростник? Девки выломали. И где девки? Замуж вышли. И где мужья? Они померли. И где гроба? Они погнили».
И не хороводная вроде бы песня-то, но пели на игрищах. Это песня бессмертия.
Не дивны ли дела Провидения, и по какому невидимому списку исполняются они?! Где отгадка тому, что судьба России зачастую зависела от затейного норова пашенного смерда, или от попишки с затерянного погоста, иль монастырского служки, от юродивого иль скитского затворника с вещим, проницательным взором?..
Иван Сусанин спас Михаила Федоровича, будущего царя. Светятся имена Сергия Радонежского, Осляби и Пересвета, Ильи Муромца и Даниила Заточника, келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицына и Козьмы Минина – нижегородского гражданина. Иван Грозный был вымолен у Господа Пафнутием Боровским. Вот и у Михаила Федоровича родятся лишь дочери, а наследника Бог не дает. Царь христолюбив и благочестив; молятся о ниспослании чада у Троицы Сергиевой, молятся у Саввы Звенигородского, молятся в Чудове и Боровске, молятся в далеком Соловецком монастыре и в домашней Крестовой палате в Верху, но все нет желанного исполнения. Но где-то же на Руси должен обитать тот великий подвижник, тот всесильный молитвенник, тот проницательный и вещий взором, благочестивый и неистовый в поклонах, воздержный постник, чьи смиренные тайные зовы дойдут до Сладчайшего и будут услышаны. Однажды в глубокой печали беседовал о сыновстве великий государь с царским кумом троицким келарем Александром Булатниковым. И тот назвал имя прозорливца Елеазара Анзерского, что в миру был родом из Козельска, купеческий сын Севрюков. Отличался он по Беломорскому Северу необыкновенной святостью и кротостью, заложив на пустынном острову особножитскую обитель для схимонашествующей братии. И в Москву «с отока морского» был доставлен смиренный инок. Скитник Анзерский предрек царю, де, «силен бо есть Бог дати вам плод по мере вашей». Год молился Елеазар в Чудовом монастыре, и появился у царя Михаила сын Алексей, позднее прозванный Тишайшим, и от коего с такою болью и так внезапно преломилась русская жизнь. Чадо молитв анзерского пустынника – таковым почитал себя Алексей Михайлович до гроба.
И не странно ли, что в дни молений Елеазара о чуде чадородия проживал в столице поп Никита Минич со своей несчастной женою: троих деток дал им Бог, но те не зажились и в раннем возрасте сошли в землю. Нося в себе неясную, неизбывную вину за незамолимый грех, решили супруги разойтись и постричься. Никита, много наслышавший о чудотворце, отправился из Москвы на скалистый Анзер, «в оток морской», где Елеазар и постриг его под именем Никона. Надо было случиться тому в 1635 году. Но вот из Москвы известили, что бывшая жена его, «эта немощнейшая чадь в доме», угодила в сети лукавого, от монашества – наотрез, захотелось ей в новое супружество. Вот уж воистину: «Мудрость женская, аки оплот неокопан – до одного ветру стоит. Ветер повеет, и оплот порушится». А куда Никону-иеромонаху деваться? Ему и служб не служить, и налой заказан, ибо по древнему соборному правилу: «Аще поп пострижется, а жена уйдет замуж, тогда несть поп». И стал Никон домогаться письмами до московских сродственников, чтобы наставили лукавую грешницу уму, и до того часу не успокоился, пока не постригли бабу.
По древнему скитскому уставу, коего держался строго Елеазар, всякий инок обители обязался жить с открытою, исповедальною душою, как с распахнутой книгою, что читал неустанно медоточивый Учитель. Страсть монаху – первейшая пагуба, страстью улавливает лукавый инока в свои тенета и мучает его, и прогибает долу, и лишает ума; а страсть отягчает сердце Никона. Это чуял анзерский чудотворец, сам досадовал, лишенный покоя, скорбел и плакал по Никоне, как о больном чаде, домогаясь его откровений. И долгими постами вроде бы изнурен иеромонах, и боголюбив, но слишком гордо посажена голова, и нет-нет да застит бешениною глубокие глаза, и уросливо вскинутся плечи от кроткого наставления чудотворца. И однажды привиделось Елеазару во время службы, будто змея черная и зело великая оплела выю Никона, испуская пастию дым и огонь. И поведал Елеазар ученикам своим: «О, какове смутителя и мятежника Россия в себе питает! Сей убо смутит тоя пределы и многих трясении и бед наполнит».
Не аскеза мучила Никона, но послушание и страсть. Через три года, когда Елеазар сидел в Соловецкой темнице, иеромонах Никон, двенадцатый его ученик, тайно бежал с Анзеров на карбасе мезенского кречатьего помытчика Созонтки Ванюкова. Неведомо для себя, поддавшись страсти водительства, Никон поменял путь святости на дорогу святительства...
Росстань
— Сынок, слышь-ка... Нето опять заблажил? Сплюнь отраву-то, слышь, сыне? – донеслось с угора. – Кабыть захмелел с ладанного духа, с братней отравы. Не в панафидный приказ метишь?
Отрок не отозвался; он зачарованно смотрел на восток, откуда всплывал золотой слиток; вокруг него неясно маревило, там вставали сполохи; словно бы ярило окружали неясные тени крылатых гонцов. Парнишонко стоял о край приглубистой песчаной релки, едва забредши бахильцами, холщовая рубашонка просторно обвисла на острых плечах: струистый волос, на затылке выгоревший добела, сбегал по тонкой, почти девичьей шее, огибая глубокую ложбинку. Морская вода парила, отдавая последнее тепло. С вечера грозило грозою, как бывает в рябиновые ночи начала августа, всю ночь вспыхивали с полуденной стороны сполохи, беззвучно вспарывали небо, разваливали аспидную темь Божественным мечом. Страшно было выглядывать из-под буйна, раскинутого по карбасу, будто демоны осаждали, шли ратью на малых тварей земных, покинутых творцом у каменного острова... И вот золотой слиток вспухает, и вокруг него роятся ангелы, и темь позорно отступила, прощально затаившись за бортовинами карбаса. По нашивам легко накатывало прибрежною волной, и на ее покатостях вольно вспухали зубатки, не страшась людей. Ярило выпросталось из пелен, косые пряди тумана робко отступили прочь, сгустились в полуночной стороне, а по глади залива заструилась легкая стружка. Будто кто неведомый властною рукою сгорстал на праздничном застолье браную скатерть, сморщил ее и повлек натягивать на анзерские сизые лбы, будто ножом-клепиком принялись состругивать с распяленной звериной шкуры слоистое тюленье сало, и сейчас оно легкою пеной оседало на песчаной длинной косе. Отрок зябко перебрал лопатками и, загребая бахильцами это утреннее морское сало, выбрел на берег. Взгляд отрока был мрелый, почти неживой. Также отупело парнишка покрылся сермягою, перепоясался вязаным кушаком, но гордовато поправил на низко спущенной опояске нож, заправленный в берестяные ножны.
Созонтко Ванюков, по прозвищу Медвежья Смерть, виновато глянул на сына и отвел в сторону белесоватые глаза; заторопясь, он снял с мытаря кашный котел, пристукнул в середку поддона, вынесенного из карбаса, и, досадуя, поплевал на обожженные пальцы. Ночь прошла – и слава Богу, опять же возблагодарим Господа, что живы и готовы с открытым сердцем встретить благословенный день, а брюхо, что котел, оно пустоты не любит.
...Пока же рассаживаются поклонники, пока заправляются вытью, готовясь в путь недолгий, но рисковый, мы на каждого взглянем исподтишка, навечно запоминая: ибо всякий человек, пускай и случайно родившись, уже достоин приметливого взгляда.
...Созонтко прижал к груди ковригу и, отчаянно сопя, отвалил три однорушных ломтя. «Пожалуйста, с нами хлеба-соли есть», – пригласил он добродушного случайного спопутчика: тот в это время усердно копался в дорожной укладке. «Незваный гость хуже татарина. Вам, поди, не одне сутки дорогу ломать», – заотказывался тот, не подымая от поклажи глаз. «Дак и не обеднеем. Свое едим, свое потчуем». – «Уж и не знаю, право. Братия монастырская удоволила, не даст пропасть с голоду». – «Экий ты ломоватый. На ломоватых черти воду возят».
Попутчик лишь для прилику поотказывался и, перекрестившись, с охотою подсел к братской трапезе, вытянув ноги в сафьянных красных сапогах. «Знать, не простой человек. Коли есть гроши, то и мужик хороший», – насмешливо решил хозяин трапезы. «За молитв святых отец наших...» – Созонтко скоро отчитал молитву, обратившись к солнцу, сын же его встал на колена, низко склонив голову, и пшеничные волосы его осыпались на камешник. Потом всяк занял приличествующее место; Созонтко первым запустил ложку в кулеш, потянул мяса; ел он трудно, долго перетирая волоти худыми зубами, отворотясь от трапезы, вроде бы стыдясь народу. У Созонтки лицо было притягательное своею страшностью: левая щека словно бы выедена до самой кости; туго натянутая, с былыми язвами, кожа казалась прозрачно-глянцевой, просвечивала насквозь; левый же глаз, вывернутый изнанкою, окаймлен кроваво-красной бахромою, правый белесый глаз насмешлив постоянно; левое ухо порвано, без мочки, и даже длинный, подбитый сединою волос не скрывал корноухости. Созонтко среди двинских помытчиков славился за известного поединщика, девять раз брал медведя из берлоги на рогатину из одной лишь удали и бахвальства, трижды назывался в царские медвежьи бои с вилами. Один раз был пожалован государем Михаилом Федоровичем кафтанцем, другой раз двумя портищами сукна-настрофиля, третий же раз сыграла судьба с Созонткой злую шутку. Подвело ратовище, хрупнуло под «мамкиными» лапами, и угодил Созонтко зверю на именины, в недобрые объятья. Сломал он медведице шею, чем немало потешил царя, но и мужика убил зверь чуть не до смерти. За удальство свое был жалован двинский помытчик пищалью польского дела с замком колесным, резным, серебро с чернью, а станок яблоневый, на нем сечены травы. Вот она, винтованная пищаль польского дела (всем на зависть), лежит подле ноги, а в торбочке из нерпичьей кожи, расшитой женской рукою и притороченной к поясу, – весь огневой заряд, да подле в чехольце из рыбьего зуба трутонаша, кремень и кресало, с другого боку кинжал двуострый с наборным череном. Самосшитые бахилы, пропитанные ворванью, ступнею в медвежью лапу, раскатаны до рассох и перехвачены под коленами тканой цветной тесьмою. Сермяга из домашнего грубого сукна на груди широко разверста, там видна холщовая крашеная рубаха с косым воротом и набором мелких костяных пуговиц-леденцов; шея у Созонтки вырастает из ворота, как бурый березовый окомелок, исчеркана ранними морщинами. И ладонь, кою подставляет Созонтко под ложку с кулешом, вся в белесых шрамах и отметинах от охотничьих забот.
Созонтко родом из Мезени, оттуда отец с маткой и все колена Ванюковых, кречатьих помытчиков. Хоромина его на угоре, на задах съезжей избы, окнами на реку. У Созонтки жена Улита и три сына. Старший – Афонасий сызмалу, в чернецах же Феоктист, ныне в Соловецкой обители будильщиком. Как отметил отец, Феоктист – слух и око настоятеля, он все знает, все ведает, всем повелевает, для рядовой ратии гроза, посмей-ка ослушаться. Увы и ах! С утра будильщик на ногах, с колокольчиком обходит монастырь, призывает к молитве, братии дает труды посильные для послушания, иных по церковному чину спосылает волею настоятеля служить иль всенощное бдение, иль литургию, молебны, панафиды. Феоктист – недремное око старцев, он круглые сутки на ногах и службою своей горд.
Младший сын – Любим, еще в берестяной зыбке на очепе колыбается, чукает мамкину титьку: последнее дитя, Любимко, отрада семьи, вылитый тятя. Будет кому передать ловчее знание.
Средний – Минейко, вот он, подле, едва волочит ложку, словно отраву в рот берет. Взгляд небесной сини со страдальческой поволокою. Кто-то недобрый из Мезени положил на мальца худой глаз, сглазил, оприкосил, и вот завладела Минькою стень, изнурительная сухотка. Он было выгорел весь изнутри, насквозь светился (вот тебе и стень), его уж и не почитали за жильца, не надеялись отвадить; по совету знахаря носили в лес и там, растелешенного, клали в развилок ели на трое ден. И вот не помер, не застыл, не заколел, и Созонтко носил свое чадо, прижавши к груди и плачучи, не тая слез, трижды девять раз вкруг дерева, как повелел знахарь: после дома купали в воде, собранной из девяти родников-студенцов, обсыпали золою, вынутой из семи печей, да томили на горячей лежанке. Минька еще сутки вопил лихоматом, уж на другое утро уснул, замаянный, как умер. Призвали попа, да и соборовали. А он вот и ожил вдруг, ныне вытянулся ивовой хворостиной, но лицом, как ярый воск, ни мазка на щеках алой краски.
У Минейки есть свое налучие из тонко выделанной кожи морского зайца: из саадака выглядывает рог детского лука и дюжина березовых стрел с кречатьим пером. Отец с мальства приучал сына к ловчей затее, но что толку, посудите сами? Лишь Созонтко оставил отрока без пригляду, тот ложку прочь, сместился на камень-голыш о край воды и принялся резать крестик из можжевела.
– Слышь, Минька, зря ты порты носишь, – поддразнил Созонтко сына, чтобы отвлечь того от внутренней скорби. Ведь вот и соловецкие старцы-читальники не помогли, но внесли в его грудь какой-то иной дух, может, ту самую маету, от которой ушел в монастырь старший сын. В мать пошли дети, в Улиту, задумчивостью своею. – Тебя бы в сарафан-костыч обрядить, вот и бабка Кычка столетня.
Сын обернулся, кротко сказал, не заметивши отцовской ехидны:
– Тять, я было нынче во сне-то помер. Меня во домике несут, а Феоктистушко, братец, впереди с Псалтырью. Ты, тятя, с маменькой Улитой позади причитываете. Я помер будто, а все слышу. Заулком-то несете, белугой воете. И так жалко вас стало, я и заплакал. Тут на улку выходить, а заворы худо раздернули, поленились. Ящичек-то и кувырк. Меня в грязи и выкупали. Кой-как грязь отряхнули, да и опять во гроб. А я все слышу, не диво ли? Вот, думаю, сейчас в ямку положат, земелькой присыплют мои глазыньки, в горлышко песочек набьется, и я дышать не замогу...
– Какое дыханье с землей-то, не лягушка, бат. Какой только страх не наснится. Ты, сынок, на левом боку заспал, вот и наснилось, – пробовал отвлечь Созонт.
– В горло земелька набьется, – повторил сын, напирая на последние слова, знать, явственно видел, как насыпается в него струйкою песок, забивает всякую пору. – Я так забоялся, так забоялся и задумал кричать. Тятя, я-де живой, слышь-ка? А тут гроб вдруг в реке оказался, плыву я. И села на край домика моего большая белая птица и склюнула со лба моего венчик. Вот, думаю, не примет меня Господь, нехристя. – Тут Миня споткнулся и замолчал, смахнул из глаз невидимую соринку.
– А что дальше-то? – подал голос попутчик.
– Тут я и проснулся. Вижу, большая белая птица прочь от меня. Навроде лебедя.
– Баклан, поди...
– Может, и баклан, – согласился сын, поднялся с камня и сгорбленно зашаркал бахильцами по заплескам прочь, спинывая в воду почерневшие змеистые плети водорослей.
– К погоде наснилось, – уверенно пояснил Созонт, но отчего же с такою жалобной надеждою взглянул на сидельца? – Как тебя, сынок, величают?
– По житью, дак Александр Голубовский, а по родителям... – Он замялся. – В подьячих я у вологодского святителя Варлаама.
– Вижу, что не холопьего вида, – сгруба подольстил Созонт, но тут же вернулся в свои заботы. – Вот кабы мне сыскать того лешака, я б в него осиновый кол забил, ей-ей. За что он на меня-то напустился? Господи всесилый, где анделы твои, куда милостивая рать подевалась? Убылой, поди, кто напроказил. Ищи ныне. Иль залетный ненавистник мой. Был онамедни дохтур воеводы Сокровнина. Навестил, а я после полы мыть повелел. Да худо, знать, помыли. Что нехристь с парнишонкой содеял. Места себе не найдет. Вроде телом справился, так опять лихо душу есть...
– Глядел я на него. Прощайся, батя, с сыном...
– Окстись, охальник. Да я за него, знаешь ли ты? – Созонт потянул пищаль, но спутник не смутился и не устрашился.
– Ты яр, мужик, а сын вял. – Нижняя губа брезгливо опала. – Но его очами сам Господь зрит. Иль не чуешь, Медвежья Смерть? Я ныне в Москву подаюсь в Новую Четь к дьяку Ивану Патрикееву, он большой мой друг. Хошь сына спасти, поручи мне. – Голубовский потуже запахнул кафтан из темно-синего киндяка на русачьем меху, оправил кривую саблю турского дела, из дорожного кошеля добыл костяной гребень. – Вот ты на меня рычишь, холоп, но сам архиепископ называл меня княжеским рождением и царевой палатою. – Голубовский прибирал темно-русые волосы, волною сбегающие на плечи, и Созонт уже по-иному глядел на спутника. Глаза у подьячего навыкате, смородиновой спелости, хребтина носа тонкая, с белесым шрамом на горбинке, усы вислые, с темной рыжеватиной, и редкая шерсть на скульях и подбородке. – Так что молчишь? Иль языка лишился?
– Бранчливый ты больно, – миролюбиво отозвался Созонт. – Ты вот меня страшишь, а меня сам отец-государь привечал. Вот еще поглядим, какого полета ты птица, – ворчал охотник, снашивая в карбас подорожную кладь. – Эй, сынок, отчаливать пора, – закричал на гору. – Я ведь как рыкну, так лес на колени падет. А ты предо мною, как голубь под соколом, – бормотал охотник больше себе в утешение, ясно не понимая, отчего вспылил вдруг. Но показалось вдруг, что тот обавник, положивший сглаз на Миньку, вдруг явился из просторов и возжелал вовсе отнять сына. Откуль, однако, он и прозвище вдруг прознал... «Медвежья Смерть»: так мне написано на роду. А ты вот решись, дак кишка тонка». Но Голубовский навряд ли что и слышал, он примащивал на голову с некой значительностью колпак с бархатным верхом и с тульей из беличьей хребтины. Он и Созонта, наверное, позабыл сейчас, занятый своей наружностью. Но кто бы подсмотрел сейчас в его глаза, то испугался бы черной блистающей их глубины и отвращенья ко всему. Воистину люди собою становятся лишь наедине, когда никто не подглядывает.
И Созонт, занятый отправкою, скоро успокоился, хотя и томила обида за сына на неведомого отравителя. Он вынес на берег к рыбацкому становью трехпудовый бочонок масла (гостинец анзерским монахам), ладом проглядел походный снаряд, сколь надежно увязан тот, убедился верности уключин, гребей и мачты. С помощью сына столкнул карбас с отмели, на загорбке, будто пушинку, перенес подьячего в посудину, помолился ясному солнцу: «Боже, милостив буди мне грешному», встал на колени, поцеловал мать – сыру землю, пряно пахнущую гниющей травою.
Сын уже стоял с лекальным шестом у кормы, когда из-за рыбацкого становья вдруг выскочил монах, за спиною у него был берестяный пестерь, сапоги висели на плече. «Слава Тебе, Боже наш, – воскликнул чернец и, высоко задравши рясу, смело побрел в море. – Дай Бог здоровья и доброго пути, миряне. Не примете ли в попутчики?» – «Отчего не принять, ежели смиренный. Вода несет». Созонт не спросил, откуда чернец и куда путь правит, не в его натуре лезть к чужому человеку за спросом.
Монах перекинул ногу через борт, и карбас накренился, едва не зачерпнув рассолу. «Экий же ты, брат, мощной, – ухмыльнулся Созонт Ванюков. – Как только земля носит. Иль монастырские каравашки нажористы?» – «Я хлебца-то выклюю со щепотку, а мне все в добро. Я птичка Божья, на мне крыла невидимы бысть», – рассмеялся монах дружественно и прозорливо оглядел сидельцев. Подьячий подвинулся, уступая места, и чернец, успокоенный, умостился подле, обулся в натоптанные сапожишки и затих, нахохлившись, с какой-то неубывающей радостью вглядываясь в утекающий берег. Парус захлопал, наполнился тягой, и поморец ловко направил посудину в голомень. Задул ровный полуночник, море завилось стружкою, побежала по волне мыльная пена. С севера встала, уплотнилась сизая стена, там скопился морок: худая примета мореходу. Но Созонт ничем не выказал дурного знака.
Созонт, как кочет на нашесте, горбился на корме за правилом, уверенно держа черемховую рукоять и скаля в улыбке съеденные цингою зубы: расхристанная, голая грудь подставлена вольному ветру. «Экий ты, мужчина, окомелок», – с доброй завистью подумал монах, меж тем часто оглядываясь на отрока, сидящего в носу. Тот рукодельничал, резал из можжевела нательный крестик: такое памятное и вечное занятье для всякого чернеца, коротающего в келье свободный час. Отрок нет-нет да и глазел на свежего человека, украдчиво и стесненно прятал лицо. А и было чем увлечься. Монах был корпусный, мосластый, но обличьем странно смахивал на подьячего: те же темно-русые волосы густою волною до плеч, черные навыкате глаза в глубоких обочьях, хрящеватый тонкий нос с широко взрезанными ноздрями, выказывающими натуру необычную; лишь щеки выпиты долгим постом да борода толстая, витая, по самую грудь.
А Созонт чаще заоглядывался, выудил с груди ладонку с травою нечуй-ветер, защитою мореходца, поцеловал ее. Волна запоходила, экий взводень, заповскидывала карбас; и посудина, до той поры обжитая, такая домашняя, надежный плавучий ковчег для поморца, вдруг превратилась в скорлупку сибирского ореха-гнидки, беззащитную и жалкую. Почернела по-над головами небесная хлябь, поволоклась следом за мачтою, готовая разродиться, и как-то сразу выказала себя под днищем бездонная прорва.
«Молитеся, братцы. Да пусть поможет нам Животворящий и Пречестный крест Господень». Не выпуская из руки правила, Созонт ловко распотрошил дорожную кису, достал себе и сыну чистое исподнее; отрок безропотно подчинился, прополз по карбасу, мимоходом неловко обнявши монаха, тот благословил его и поцеловал в мраморный лоб. Отрок споро переоделся, перехватил у отца руль. Подьячий, стоя на коленях, не замечал, как вода уже подтапливает его кафтанец с заячьим подбоем, молился перед медным складеньком. Монаси же, не выказывая робости, плицею вычерпывал прибылую воду; при этом он торжествующе, уросливо вскидывал в небо голову, будто грозил кому.
«Шел бы ты, монаси, к нам в артель. Нам такие атаманы нужны», – закричал Созонт. Монах, не расслышавши слов, однако приветно белозубо оскалился, не переставая черпать плицею.
«Татушка, ты прости, коли в чем нагрешил я. Коли неслушен был, супротивен, егозлив. Коли в чем проказил и не знал уряда. Ежели в чем прогневил матушку и братцев моих. Сыми с меня, батюшка, грехи до скончания века, да и попрощаемся с тобою. Жалость одна, что с маменькой родимой не простился». Миня обнял отца, прижавшись к мокрому его зипуну, чуя такое родное тепло; мальчик не сдержался и заплакал было, всхлипнул, но тут же проглотил слезу, не выдал минутной слабости.
«И ты меня, сынок, прости, отпусти все грехи, – ответно попросил Созонт, блюдя стародавний обычай. – Бог не выдаст – свинья не съест. Крепко я на Господа полагаюсь. Не из эдаких передряг на карачках выползали. На то мы и поморы, чтобы огузье мокро... но коли суждено разминуться нынче, то и на том свете не держи зла на меня. Хоть и строжил тебя частенько, суровил для науки, редко баловал, но откроюсь как на духу, любил я тебя, болезного страдальца, и жалко мне без призору оставлять на сем свете. А на Божьем-то суде, сынок, как призовут святые угодники, то заступись за меня, чтобы не разлучали надолго. А сейчас не страшись ничего, смотри в оба за поклажею, проверь, ладом ли прихвачена бечевками. Да помни, сынок: я Медвежья Смерть, так меня обозвали люди, а ты – мой сын».
Созонт поцеловал Миню в лоб и легонько отпихнул от себя. Он спустил парус, крикнул всем садиться за греби; но огрузнувший от воды карбас худо слушался весел. «Тата, прощай!» – вдруг завопил Миня. Зловеще, молча на них надвигалась свинцовая живая гора, экая варака, по отрогам которой ослепительно белые гребни сплелись в венчальную корону. Созонт напружился, как на бою с медведем, чувствуя, как рвутся закаменевшие от натуги жилы; он всею грудью навалился на правило, пытаясь вывести карбас на долгий, змеисто шипящий водяной склон. Но девятка накрыла посудинку, как ветхую гнилую щепину, и кинула в преисподнюю.
«Сынка-то не потерять бы. Не ко времени разминулись», – неотступно думал Созонт, продираясь сквозь толщу вод на последнем издыхании. Бахилы тянули, перевязанные под коленами, да зипунишко отяжелел, как вериги, оковал тело. Вынырнул он по зверовой сноровке рядом с бортом, сын уже змейкой всползал по днищу, цепляясь за нашвы, за смоляной вар. Подьячий Голубовский, отплевываясь от рассолу, впился в корму, в рулевую скобу; он едва раздвинул туго стянутые посиневшие губы, выказывая кормщику свое отвращение. «Дак и то, надо себя винить, кого боле, ежли руки пришиты плохо, – сокрушался Созонт. – Вот и чернец Богу душу отдал. С меня же и спросится».
Эй, Созонтко, Ванюков, царский кречатий помытчик; тебе ли кручиниться да вины считать средь моря студеного; что же ты душу-то травишь, неустрашимый человек, изъеденный язвами от долгих артельных походов. Оплошка ли тому виною, иль чужой обавный зрак, иль судьбы осекшаяся нить под ножницами злыдни Невеи. Тут тебе не кабак, и ты не государев целовальник, чтобы чужим чаркам счет весть; но самое время выказать натуру, завязать ее в узел, чтобы не растеклась безвольная плоть от морского тоскливого рассола. Жив? дышишь? Значит, ангелы не покинули, не списали под черту, зрит за тобою Всемилостивый, суд ведет и грехи личит, как ты себя поведешь во спасение чужих душ. Что же ты разжидился, как дижинь на мучной шаньге, артельная голова?
«Господи! – вдруг вскричал Минейко, впившись взглядом в бессонно дозорящую небесную высь. – Господи Спасе! Коли спасуся, юродивым стану!»
И сразу море окротело, вздох прошел по нему от края и до края. Лучше бы не слышать Созонту обетных сыновьих слов: будто двуострым мечом рассекли сердце. Второй сын завещан Богу. Но, может, милость это и за нее не пристало скорбеть?
Тут на пологом склоне последней умирающей волны показалась белая скрюченная рука и пропала. Черные волосья, словно водорослей пук, растеклись по масляно-черной воде, обреченно погружаясь на дно. Голубовский вдруг погибельно откинулся от спасительной кормы и на третьем гребке поймал ускользающую монашью гриву, отчаянно поволок к карбасу. У монаха было зеленое мрелое лицо. Миня ящеркой скользнул по днищу, цепляясь босыми ступнями: он уже успел распрощаться с бахильцами. Воззвавши к Спасителю, он как бы получил укрепы и подмоги и сейчас спешил разделить благословенный дар во услужение. Плача неведомо отчего, уже не боясь погибели, отрок потянул страдальца за волосье, за ворот монашьей однорядки, выволакивая его, как уловистый бредень; Голубовский подсаживал снизу, выбиваясь из сил. Монах скоро расчухался, отрыгнул воду, замлело и тупо приложился щекою к набою: сейчас никакая сила не смогла бы отодрать его скрюченных дланей от последнего прислона. Да и то сказать: не чудно ли это спасение? Ведь уже обреченно распрощался с жизнию, затих, отдавшись воле Божьей и слыша ликовствующий праздничный псалом; и тут вдруг вытянули из небытия, как полудохлого леща из мотни. Господи, прости и помилуй, ты не оставил великого грешника. Веком не плавал, сызмальства стерегся воды и нынче должен бы, как шкворень железный, пойти ко дну; но ведь что-то держало его грузные кости, волокло по бархатистому, упругому боку волны, похожей на китовый живот.
Созонт, погружаясь в студеный рассол, стянул с ног бахилы, по-лешачьи рыкая, выпихался на киль, не прощаясь с обувкою, пособил выбраться беднягам. Наступала скорая темь, и зверовщик понимал, что ночи всем не осилить.
«Ну, братцы, чего молвить. Оплошал я, мне и справу рядить. Коли карбаса не опружим, к утру загнемся, в мать ее кочерыжку. Давайте-ка мне опояски, слушайтесь меня да держите пуще».
Созонт Ванюков связал кушаки, один конец ужища петлею накинул на кисть левой руки, перекрестился и нырнул под карбас. Воистину жить захочешь, и в игольное ушко пролезешь. Лишь на третий раз он распластал ножом лихтачьи ремни и выдернул мачту из гнезда. Долго ли, коротко ли, но карбас сообща удалось повернуть на место, отчерпали сапогами воду, пожиток кой-какой, надежно завьюченный хозяйской рукою, слава Богу, сохранился, но скарбишко подьячего пропал. Голубовский не особо и кручинился иль виду не выказал, да и не время горевать об утрате. Пожевали ржаного каравашки из горсти, обильно приправленного морским рассолом, помолились о спасении, возблагодарили Исуса да с тем, томясь от немочи и холода, сгрудились в одно место, прижались иззябшими телами и намаянно уснули. Лишь Созонтко Ванюков не сомкнул глаз, сидючи на правиле, а из ума все не шел сыновий вопль ко Господу о милости.
Все так же тянул легкий полуночник, спутный ветер; вот и луна всплыла из-за моря, багрово-ярый зрак ее раскатал по Гандвику шевелящийся половик и сотворил путь невидимый видимым. По этому путику, указанному самим провидением, ковчежец и достиг Кий-острова, мест, знакомых помытчику по кречатьим промыслам. Выползли страдальцы на каменистый островок на негнущихся остамелых ногах, пали ничком, радостно целуя нищую северную землю, и истово воспели псалом благодарения Спасу и мати Его Богородице, и Николе Поморскому, и соловецким чудотворцам Зосиме и Савватию, и всем небесным архистратигам. В рыбацком становье решились коротать до утра; обсушились над каменицей, наварили ухи из сушья – вековечных поморских припасов для страждущих путников, натолкли туда сухарей да этим хлебовом и напитались. Монах топоришком свалил на мысу креневую сосну, растесал ее на плахи, связал саженный крест и на древесном теле ножом выбрал памятку: «Никон иеромонах анзерский поставил сей крест Христов во чудесное спасение августа месяца 13 дни в лето 7147».
Александр Голубовский зазирал издали, вроде бы не решался приблизиться, но тут подошел, вызвался помочь. Сообща воздвигли крест, обложили валунами, долго стояли молча, каждый думал о своем. Монах то и дело наклонялся, поправлял гурий, добавлял для укрепы каменьев. Неужель Никон провидец и ведал, что судьба обетному кресту долго стоять на юру безнадзорну; но минет двадцать лет, и волею опального святителя будет заложен на Кий-острове Крестовый монастырь. Да нет же, разве сыщется на миру человек, что способен прочитать на невидимой небесной книге свое будущее? Вот они мерзнут под сиверком на берегу Гандвика, как два брата единоутробные, лишь один посуше, подбористей телом и редкоус.
«Я до скончания живота моего не позабуду твоей услуги. И, коли сыщется возможность, отплачу по высокой плате жертвенность твою, – с ласкающей добротою молвил чернец, но темные глаза не зажглись любовию, не выдали мгновенной слабости, глядели строго и внимательно. Высокий белый лоб, крутые надбровья, крупная сановная голова, приоткинутая назад тяжелой копной давно не стриженных волос. Господи, да что в этом монахе от смиренного мордовского попишки? Подьячий исподлобья, несколько теряясь, мимолетно взглядывал на спутника и дивовался: не чудо ли? как бы самого себя вижу в веницейском зеркальце чистой воды. Голубовский подивился подобного сходства и устрашился. Воистину пречудны дела Твои, Господи... И вместе с тем мужицкие корявые руки с обкусанными слоистыми ногтями, сбитые опорки, шитые в анзерской келье самолично из нерпичьей кожи, обтерханная по полу ряска, явно тесноватая в груди и покатых плечах. – Я уж и не чаял бела света видеть, – с простотою доверялся Никон. – И намерился помереть. Так сладко стало, как во сне. Стою у врат, архангеловы трубы трубят, зовут, значит. Так что есть смерть и есть ли она?» Близкая слеза пресекла талый голос чернеца. Голубовский участливо кивал, но что-то потаенное пригнетало его, не давало покоя. Торопливо он отказался от благодаренья.
«И никаких услуг не надо мне. Нет-нет. За доброе дело не ждут ответной дачи. Это отрок отвадил смерть от нас. Это его слабый голос услышал Господь и восхитил. Я сразу приметил на нем сокровенную печать. И на тебе печать. Я не знаю, чей ты сын, да и закоим знать? – Голубовский заторопился. – Но я откроюсь тебе, ибо время поджимает. Настает последнее время, и гонцы ждут ответа. Ты дай мне крестное целованье, слышь, монах? Чтоб я утвердился». – «За благой поступок не ждут милостей, а ты с меня клятву требуешь, – напомнил монах. – Твое сугубое дело, и тут твоя воля». – «Ну ладно, ладно, экий же ты, право. Однако себе на уме... Я не запираюсь, что был в подьячих у Ивана Патрикеева: на ком худоба не живет. Вон, в московское разоренье, все князья разбрелись, что овцы, и попробуй собрать. Только называют меня подьячим, а я вовсе и не подьячий, а истинный князь Иван Васильевич Шуйский». – «Окстись, холоп, чего такое молвишь?» – «Вот те крест. – Голубовский осенил себя знамением. – Я-то бы и не ведал про то, но в девятнадцать лет я был посажен в пищики на Вологде в съезжей избе и тут нашел о родителях моих государеву грамоту, кто были мои родители. Я не самого царя Василия сын, а дочери его сын. Дочь его в разоренье взяли казаки, а после казаков за отцом моим была». – «Все это неправда. У царя Василия детей не было. Ты эти напрасные речи оставь, поезжай-ка лучше к великому государю и вины свои принеси, а царь вину твою велит отдать», – пробовал усовестить Никон. «Нет-нет, я уже решился, за тем и в Соловки на богомолье ходил. Я собираюсь нынче же переметнуться за рубеж, в польские иль свейские земли. За тем и ищу себе верного сотоварища». – «Грех на воровское дело идти, и в этом предприятии я тебе не сподручник. Со мною, брат, тебе сошло, а другой, кому откроешься случаем, разом поволокет тебя в Разбойный приказ иль шкуру сымет, не спросясь государя, и мешок тот набьет коровьим назьмом». – «И это твое последнее слово?» – грубо оборвал подьячий, ухватился за крыж сабли, с протягом, лениво вызволяя ее из ножен. – Вот, гляди, коли выдашь меня с умыслом иль по глупости. Этой турской сабелькой разложу тебя по мясным костям. Стосковалась моя сабелька по крови. Запомни меня, монах». – «Э-э... зря грозишь. Не родился пока человек на свете, от коего бы я затрусил. Я, Никон, Божьей милостью иеромонах! Ты почуял меня! – Грозный высверк лишь метнулся в набухших кровью глазах, но тут же и потух. – Ты исповедался мне, спутний друг и спаситель. Так как же я могу нарушить тайну исповеди? Какой грех приму на душу? Я пробовал ублажить тебя, припадал к твоей совести, видит Бог. Но она молчит. Так помни, мы все у подножья Сион-горы и обособицу тщимся вверх, к престолу Спасителя, что ждет нас. И как бы не сорваться в Потьму к сарданапалам и сатанаиловой свите. Вот уж тамотки припекут за хвост».
И они молчаливо разошлись по миру, каждый своей тропою...
Созонт Ванюков перевез новых знакомцев в Устьонежскую слободку. Оттуда Никон по Онеге поднялся за сто верст в глухой Кожеозерский монастырь. Он отдал вкладом в обитель последнее, что имел из житья, самое дорогое, две заветных книги, что сохранил за пазухой в подшитом кармане: Полуустав и Каноник. Незадолго до прихода Никона преставился пустынник Никодим, почитавшийся святым в Заонежье; в его уединенной келье в Заозерье и поселился новый старец, истомляя плоть свою и страсти веригами, постом и одиночеством. Подьячий Голубовский с попутьем на купеческом насаде уплыл в Москву, а весною 1640 года тайно переметнулся к свейским немцам.
Созонт Ванюков с сыном благополучно достигли Окладниковой слободки. Той же осенью Минейко подался в Антониево-Сийский монастырь, где через лето и принял монашеский постриг под именем Феодора.
Глава первая
Еще в отрочестве, воспитываясь в Желтоводском монастыре, Никита Минич задался странною мыслью: если Бог воплотился в человеке однажды, то он может воплотиться и вновь? И что, если этим божественным сосудом окажусь я?
Никон старался страданиями повторить Христа, но в нем было слишком много плоти, чтобы самому пригнести ее токи, и с молодости не нашлось более сильного волею человека, способного утишить сердечные бури. Помните, Никон сказал: «Я птичка Божия, на мне крыла невидимы бысть». Так птичкою этой, пуховинкой тополиной, был Елеазар Анзерский, большеголовый, с сильно сдавленными висками, отчего прозрачные уши казались морскими розовыми раковинами. Этими раковинами и впитывал Елеазар дух небесный, он жил под архангеловы трубы, смиренно дожидаясь их зова на Судный день.
Еще в детстве, когда в Смуту отступали от поляков, Елеазар упал под тележное колесо, с того сильно припадал на левую ногу и рано застыдился своей «увековеченности». На послушание же он попал в Нилову пустынь к старцу сурового житья. В поучение анзерским инокам Елеазар не раз вспоминал со слезою крутое то житье: «До смерти мне надобно помнить, какова милость Божия надо мною, грешным, была в пустыне и что мы кушали вместо хлеба сие брашно траву папорт и кислицу, ужевник и дягиль, дубовые желуди и с древес сосновых кору отыскали и сушили и, с рыбою смешав, вместе толкли, то нам брашно было, а гладом не уморил нас Бог. И како терпел от начальника с первых дней моих, два года по дважды на всякий день был бит в два времени. Но и в Светлое Воскресенье Христово дважды был бит. И того сочтено у меня в два года по два времени на всякий день боев тысяча четыреста и тридесять. Сколько ран и ударов на всякий день было от рук его честных, тех не щитано.
Бог весть – и не помню: от ран великих едва дыхание во мне бысть. Пастырь мой плоть мою сокрушал, а душу мою спасал. Что ему в руках прилучилось, тем и жаловал меня, свою сиротку и малого птенца. Учил клюкою и осном прободал, и поленом, коим в жернове мелют муку, и пестом, что в ступе толкут, и кочергою, что в печи уголье гребут, и поварнями, что ествы варят, и рогатками, что раствор на хлебы и просфоры и на пироги в сосудах бьют, чтобы хлебы или просфоры и пироги стали белы, – чтоб душа моя темная светла была, а не темна; и ноги моея икра была выбита коромыслом, чтобы ноги мои на послушание Христа ради готовы были. И не токмо древом всяким, но и железом, и камением, и за власы дранием, и кирпичом, и что прилучилося в руках его, чем раны дать, и что тогда глаза его узрят, тем душу мою спасал, а тело мое смирял. И в то время персты мои из суставов выбиты и ребра мои и кости переломаны».
Никон постригся будучи в зрелых летах, по земле тяжело ходил, и тело его было словно бы сбито кузнечными молотами: не птенцу Елеазару смирять великана осном, клюкою иль поленом, а такой нужен был звериной силы человек, как Созонт Ванюков, что матерущему медведю шею сломал. И приходилось самому с собой Никону люто бороться, на самого себя ходить с рогатиною и пищалью, морить и смирять.
У Елеазара уши были, что морские солнечные раковины, а глазки, близко посаженные, как шильцы, буровили насквозь.
Никон возмечтал пасти стадо, Елеазар спасал лишь себя, он жил грядущим Судным днем, к нему приуготовлял себя, и всякий добрый поступок мысленно складывался на чашу спасения. Он и Анзерскую пустынную церковь, свой прижизненный подвиг, посвятил Христу, всякую копейку, что добывал в поте лица своего иль кою жертвовали в обитель, он вмещал в строение. И когда Никон принялся давать старцу советы, как распорядиться деньгами, то Елеазар усмотрел в этом вмешательстве покусительство на его личное богостроительное дело, на венец всей жизни. Елеазар строил Христов дом, чтобы войти в него по смерти и ввести за собою всех смиренных иноков. Смирение возвышает инока, строит из него вместилище духа, а смирение зреет лишь в тишине. Елеазар был человеком тишины, ибо все прозрения встают из безмолвия, как невиданные рыбы со дна моря. У Никона же даже молчание было шумным. Вот он постился сорок дней, особенным, дивным образом изнуряя себя, и этим он также вырастал над братией, заявляя о себе, поражал ее тихое бытование.
А Елеазар просто жил: он пришел на пустынный островок, срубил себе келейку из сосновых деревьев, из конопли связал сетчонки и поймал рыбы; у нерпы, выброшенной штормом, он снял шкуру и сшил себе сапожишки. Рыбаки-миряне оставляли ему милостыню, и он с молитвою благодарною уносил к себе. И узнавши о пустынническом житье Елеазара, стал притекать к нему столь же богомольный кроткий народ, готовый к послушанию. Так Елеазар сам собою стал Учителем; слабые духом порою покидали старца, уходили в Россию и там несли славу об анзерском иноке. Елеазару надо было настолько мало, как мало надо чистому духу, чтобы пребывать во здоровье. Вот умер человек, и из его души, унесенной ангелами в райские обители, вызревает, как из яйца, новый образ. Елеазар еще на земле был таким «образом». Он выплакал государю Михаилу «дитя вымоленное», и слезы его целый год текли из источника радости. Никон же омылся в этом источнике и с пригоршнею Елеазаровых слез постучался к вымоленному дитяти Алексею и окропил его благодарную душу.
Глава вторая
ИЗ ХРОНИК. «... Вор Алексашка Голубовский подал визирю грамоту, в грамоте написано, будто он сын царя Василья, и когда отца его в Литву отдали, он остался полугоду, и отец приказал его беречь тем людям, которые ему впрямь служили, и они его вскормили, и когда сделался царем Михаил Федорович, то велел ему видеть свои царские очи и дал ему удел Пермь Великую с пригородами. Там ему в Перми жить соскучилось, он приехал в Москву, и государь велел посадить его за пристава; но те люди, которых царь Василий жаловал, освободили его и выпроводили из Москвы. Воевода молдавский его ограбил, снял с него отцовский крест многоценный с яхонтами и изумрудами и много другого добра и хотел его убить, как убил прежде брата его большего, и, убив, голову и кожу отослал в Москву, а Московский государь велел эту кожу накласть золотыми и дорогими камнями и отослать к молдавскому воеводе в благодарность.
Алексашке Голубовскому велели жить позади визирева двора, а есть присылать от визиря. Ему соскучилось в Константинополе, и он побежал в Молдавию, но в дороге его схватили, вернули в Константинополь и хотели учинить жестокое наказание; он, вор, обещал обасурманиться, обрезание же упросил отложить. Его освободили и чалму надели, но Голубовский, нарядясь в греческое платье, побежал в другой раз с русским пленником на Афон. Из Турции через Венецию он пробрался в Малороссию и был принят там гетманом Хмельницким. Он объявился наместником Пермским и грамоту показывал гетману; он говорил потом, что в Перми его взяли на бою в плен татары, что многие государи звали его к себе, но он не хочет отстать от православной веры и хочет служить царю Алексею Михайловичу...»
«... О том же Алексашка писал из Чигирина и к Путивльскому воеводе, боярину князю Семену Васильевичу Прозоровскому: «Князь Семен Васильевич государь! Не тайно тебе о разореньи московском, о побоищах междоусобных, о искорененьи царей и царского их рода и о всякой злобе лет прошлых, в которых воистину плач Иеремии в Иерусалиме исполнился над царством Московским, и великородные тогда княжата скитались по разным городам, как заблудшие козлята, между которыми и родители мои незнатны и незнаемы в разоренье московское, от страха недругов своих, невольниками были и со мною невинно страдали и терпели, а сущим своим прозвищем, Шуйскими, не везде называться смели. Об этом житье-бытье нашем многословить не могу, только несчастью своему и бедам настоящее время послухом ставлю, которое время привело меня к тому, что я теперь в чужой земле в незнаемое окован сиротством и без желез чуть дышу и жалостную плачевную грамотку к тебе, государю своему, пишу: прими милосердно и знай про меня, что я, обходивши неволею и окруживши турские, римские, италианские, германские, немецкие и иные многие царства, наконец, и Польское королевство, не желал никому на свете поклониться и покоряюсь только ясносияющему царю Алексею Михайловичу, государю вашему и моему, и к которому я хочу идти с правдою и верою без боязни, потому что праведные царские свидетельства и грамоты, что при себе ношу, а природа моя княжеская неволею и нищетою везде светится, чести и имени гласовитого моего рода не умаляет, но и в далеких землях звенит и как вода размножается.
Все это делается на счастье и прибыль отечеству моему и народу христоименитому, на убытки и бесчестье государевым недругам, на славу великую великого государя, которого есть за мною великое царственнейшее слово и дело и тайна; для этого я в Чигирине никому не сказываюся, кто я, во всем от чужих людей сердечную клеть свою замыкаю, я ключ в руки тебе отдаю. Пожалуй, не погордись, пришли ко мне скрытного верного человека, кто бы умел со мною говорить и то царственное слово и дело тайно тебе сказать подлинно, чтобы ты сам меня познал.
Какой я человек, добр или зол; а покушавши мои овощи и познавши царственное великое тайное слово, будешь писать к государю в Москву, если захочешь, а ключи сердца моего к себе в руки возьмешь, с чем я тебе, приятелю своему, добровольно отдаюсь. Знаю я московский обычай, станешь писать в Москву об указе теперь прежде дела, и пойдет на протяжку в долгий ящик; я ждать не буду, потому что делаю это ни для богатства, ни для убожества, но пока плачевного живота станет, орел летать не перестанет, все над гнездом будет убиваться».
...По этому письму князь Прозоровский прислал с подьячим Мосолитиновым грамоту Голубовскому: «Тебе бы ехать ко мне в Путивль тотчас безо всякого спасенья: а великий государь тебя пожаловал, велел принять и в Москву отпустить».
Голубовский, прочтя письмо, сказал: «Рад я к великому государю в Москву ехать» и велел подьячему побыть у себя три дня. Тридцать первого августа он исповедовался и приобщился и, призвавши к себе гонца, стал говорить ему. «Приехал ты по государеву указу? Не с замыслом ли каким? Нет ли у тебя подводных людей, не будет ли мне от тебя какого убийства?» Подьячий клялся, что дурна ему не учинится. «В прошлых годах, – продолжал Голубовский, – посылали мы в Волошскую землю в монастырь построения царя Ивана Васильевича для своего дела человека, но когда он велел ему назваться царем Димитрием, короновал его и послал к турскому султану в Царь-город. Был в это время в Волошской земле государев посол Богдан Дубровский, доведался он про этого самозванца и написал государю в Москву. Государь прислал указ принять его честно; и тот наш человек, обрадовавшись, что его называют честным человеком, поехал с Дубровским в Москву. Но Дубровский, въехавши в степь, велел его зарезать, ободрал с него кожу, отсек голову и привез в Москву: и ты не с тем ли ко мне приехал?»
В тот же день Голубовский позвал подьячего с провожатым к себе обедать; за обедом за государское здоровье чашу пил и говорил такое слово: «С мудрыми я мудрый, с князьями – я князь, с простыми – простой, а с изменниками государевыми и моими недругами рассудит меня сабля... Я готов ехать к государю в Москву, хотя и на вольную страсть, ничего не опасаясь по правде моей и невинности, готов показать ясно, что хотя и в подьячих был, однако благородия княжат Шуйских не лишен».
Наутро же Голубовский ехать отказался, ссылаясь на обиду: «Присылают ко мне, будто к простому человеку; добро бы прислали ко мне московского человека, да с Вологды пять человек, да из Перми пять же; те меня знают, кто я и каков. Если государь меня пожаловал, то прислал бы ко мне свою государеву грамоту имянно, а то меня обманывают. Не считайте меня за подьячего: я истинный князь Иван Шуйский».
Заручившись подорожным листом гетмана Хмельницкого, самозванец ушел в Московское государство.
В это время в Новом-городе вспыхнул мятеж. Посадский человек Костка Иванов со товарищи вытолкал взашей воеводу Хилкова из съезжей избы, грозясь убить того до смерти, и напуганный бедный князь едва уцелел в подклети за амбарным замком. Гилевщики и к Никону подступались, ухватили владыку со всяким бесчинием, ослопом в грудь зашибли и дубьем да каменьем ребра пересчитали и уже намерились волокчи митрополита в земскую избу, чтобы там поставить перед разбойной ватагою к ответу.
Но Никон натуры не терял, головы не гнул, всячески увещевал мятежников по-худому и по-хорошему, сулил им Божьей кары, и костил-то их татями и ворами, позабывшими Христа, и к совести взывал, и молил вины свои принесть царю-батюшке, и свет-государь вины их отпустит.
На полдороге накидавши тумаков, гилевщики владыку бросили и рассыпались по городу, грозясь стоять насмерть за царя и за веру и тем разжигая себя; де, государь-милостивец не кинет в беде, не отдаст на прожор сутягам и мздоимцам, продавшим Русь святую за медную деньгу. Так захотелось вдруг мужикам воли, прежних новгородских потерянных свобод, гулебщины, такой задор вдруг охватил посадских, что, забывшись и возмечтав о прежних временах, полезли они на соборную колокольню и воззвали в большой колокол во все концы ко всякой живой душе. И тут городские ворота закрыли и воротника поставили, а к пушкам затинщиков, а к амбарам с огневым зельем выборного старосту, десятских и сотских отправили с наказом по избам, чтоб непременно зазывать народишко на вече. А народишко тот за малым числом уже искипел душою и одумался втайне и помышлял, как бы голов не лишиться за свару.
...С нужою и обидою едва добрался Никон до архиерейского дома, в келье своей пал на лавицу на рогозную постелю; всякий уд стонал и призывал пособить.
– Ах, господине, господине, в хорошей бане раскатали они тебя да всякий мосолик пересчитали, – причитал служка Шушера, меж тем ловко растелешив владыку; тот лежал на рогоже, распластанный, как морской зверь; кой-где в подреберьи сочилась жидь и сукровица: то ли от вериг, то ли от нечаянного ослопа. Кожаные оплечья осклизли, почернели от пота, чепи же на груди спутались черной кудрявой шерстью и как бы вросли в кожу, и лишь крест десятифунтовый слегка сполз от вздошного места. Шушера смазал опрелости и битые места льняным маслом, накинул на владыку свежую рубаху, гребнем разобрал темные волосы и собольи густые брови, что в старости отрастут, как у вепря, и поседеют, нависнув над глазами. «Ах, бачка, бачка, какая неволя звала вас? Заединщиков и заплутаев разве смиришь чем? Они на то и поставлены, чтобы плутать и грешить, а мы – плакать о заблудших. Хороший березовый веник сыскался для господина. Ну, да и то: без язв шкуры не износишь, а, бачка? Бог-то терпел...»
– Хватит шарпаться. Ноешь и ноешь. – Никон недовольно вспыхнул. – Придут! Паки и паки! Скажут: прости, владыка!
– Но отверста дверь для покаяния...
– Нет покаяния для тех, которые торгуют покаянием. – Никон приподнялся на локте, взгляд его был суров. – Сарданапалы, они горше саранчи. Они, как клещи подкожные, вгрызаются и точат, точат немилосердно... Ты, чернец, не румянами ли обзавелся иль тайком говядой брюхо растишь? Ты посмотри-ка на себя. Как баба, чисто баба. Дьявол, сатана, тьфу на тебя. – Никон со странной улыбкою подозвал к себе Шушеру. Тот наклонился, и митрополит шепнул: – На совращение подослан? А я не боюся...
– Ой, бачка, бачка! Я-то вас люблю, как апостолы Сладчайшего. А если рожа у меня мерзейшая, так меня в кузне в огне ковали и пламя из меня нейдет. Вот порой бы и сам, схватя, да и разодрал бы предательское свое обличье. Как харю ношу, личину какую, верите-нет! – Шушера внезапно всхлипнул, тугие, брусничной спелости щеки налились красниною еще пуще, побагровели.
– Ну, ступай, ступай, – Никон протянул руку, и Шушера благодарно припал к перстам. – Видом ты раздевулье, а душою ангел. Зачтется тебе.
Дверь за служкою плотно закрылась, и Никон с облегчением раскинулся на лавке, скинув на пол сголовьице, набитое туго овечьей шерстью.
Он скосил глаза и увидел внимательный лик Христа: Спас был хмур и тревожен. «Господи, – устыдился Никон, – мне ли плакаться. Что значат мои страдания? Вот коли придется сойти в матицу огня да пройти сквозь трубы тартар... Прости, коли можешь. Соблазн окружает нас. Я не держу сердца на них; раздвинь мои ребра, и Ты увидишь любовь. Они придут, забойцы и душегубцы, и я дам им надежды. И Ты, Боже милостивый, не покидай меня. Я скверный, да-да-да. Я вместилище греха! Черви свили во мне гнездовье, скорпион поселился в моем сердце. Помоги, дай известь гадов и исцелиться... Помнишь, Милостивый, как мачеха гноила меня, морила голодом и холодом, и я, решившись, пробовал залезть воровски в погреб, и мачеха столкнула меня в яму, и едва тамо не лишился духа жизни. А помнишь, Исусе, как, спасаясь от холода, я залез в русскую печь и уснул там. А мачеха напихала дров и запалила. Хорошо, бабушка родненькая, моя надея, услыхала мои крики и спасла. Но я не держу на мачеху зла. А помнишь, как она чуть не отравила меня, и только чудо спасло мою ничтожную жизнь И я давно простил заблудшую женщину и за это. Я помню, все помню. И это грех мой. Но я излечуся. Ты суров со мной, Сладчайший, огнь Твоего сердца прожигает меня, и я сгораю в этом чистилище Я скверный, я нечистый, я полон соблазнов, бесы томят меня, бесы».
Причудилось ли архиерею, поблазнило иль тонкий сон от пережитого навестил Никона, но вот необъяснимая сила обвернула его на лавке, и вдруг перед очию встал Спасов образ ногами в пол, а главою выше столетней березы, и над челом Его вспыхнул золотой венец и мало-помалу, сначала зависнув в воздухе, стал приближаться к Никону, и волосы митрополита зашуршали, вспыхнули от жара. Тут воздух зазвенел от множества невидимых ангельских крыл, потолок над келейкой воспарил, и в занебесье протянулся дрожащий рудо-желтый столб света. Лети, приказал Спас, и на спине Никона, где затвердели язвы от кожаного затыльника вериг, что-то засвербело, и вдруг отросли перьевые папарты, крыла журавлиного окраса, и владыка решился взмахнуть ими, опереться на воздуха.
Но тут в келью вкрадчиво заскреблись, и Никон очнулся, с трудом расставаясь с видением. Ровно горела свеча в стоянце, к слюдяному оконцу, шурша, припадала под ветром черемуховая ветвь. Обрезать бы надо, подумал в который раз Никон, только свет застит, будто прошак тянет руку Христа ради. Соборный колокол замолк, и шум с посада уже не доносился в архиерейский дом.
– К вам царев вестник, – доложил Шушера в притвор двери, сверкнув зеленым кротким глазом. – Принесть ли платно?
Никон замахал рукою, еще худо понимая себя Служка скоро обернулся, принес кафтан из кизылбашского атласа; по зеленой земле вытканы цветные гвоздики и гиацинты. Никон скоро оделся, сунул ноги в простые ступни из лосиной кожи и перешел в кресло, подарок государя, больше смахивающего на трон: боковины орехового дерева искусно резаны травою с птицами, сиденье и поручни обтянуты золотым бархатом. Никон погрузился в кресло, перебирая четки и призакрыв глаза. Сон не шел из памяти и сулил перемены. Над высокою спинкой виднелась лишь скуфейка митрополита из черного байбарека.
«Всполошились в Москве и несут мне укоризны, что недоглядел. Мне пасти души, а вам телесное, – указал Никон невидимому и слегка возгордился собою. – Велико царствие, ан нет... священство выше».
Тут что-то встревожило его, предчувствие смуты указало на дверь. Он взял у ободверины дорожный посох с осном и, придержав дыхание, присдвинул миткалевую опону над дверью, в отдушину. Никон увидел гостя в походном кафтане, путвицы из дутого серебра, сукно – кармазин, английское, тонкое, на голове шапка с опушкой из соболя, сапоги юфтевые, вышиты золотыми травами. Гость стоял полуотвернувшись, занятый собою, опустело уставясь в угол, вислый ус нервно вздрагивал, и что-то заносчивое, презрительное было в костлявом, усталом лице, свалявшиеся в колтун волосы неряшливо спадали на серый от пыли воротник. Видно было, что странник сломал большую дорогу и сейчас как бы забылся, потерялся от усталости «Брыластый гордоус, спаситель мой, лютер и гиль, откуда он здесь? – невольно всполошился Никон, тихо сошел с рундука. – Самозванец и вор, как насмелился только. В колодки, в чепи, в ухорон, да с грамоткой к государю». Никон встряхнул колоколец и, торопливо перебирая лествицу, устало попросил Шушеру: «Сыне достойный, скажись на мою хворь, отведи в гостевую избу да приставь трех стрельцов архиерейских, чтобы гостю нашему было не тревожно. Дай брашна всякого с моего стола да сыты медовой и глаз не спускай. Да так отведи, чтобы любопытная челядь не наследила».
Иоанн Шушера потупился и тенью исчез за низкой дверью. Вот он, согбенный, жидкие волосы в косичку, мелькнул за слюдяным оконцем, за ним, осторожно осматриваясь, ухватившись за крыж неразлучной турской сабельки, проследовал Голубовский, едва поспевая за келейником.
В конце второй седмицы гиль, затеянная по оплошке посадскими, так же внезапно потухла, свейского немца с государевыми деньгами на выкуп полоняников отпустили прочь, и мятежники, позабыв о пьянящей воле, чередою потянулись к Никону, понесли свои вины: и кто горячих лещей натолкал митрополиту, и кто обносил поносным словом, и кто батогом просчитал ребра владыке, – все шли, потупивши очи и лия слезы. Владыка прощал всех, зла не таил, анафемою не грозил, в колодки варнаков не ковал, в губную избу на встряхивание не спроваживал. Да и новый воевода князь Хованский, сменивший Хилкова, горячки не порол, архиерея во всем слушался и почитал. Но пришлец Голубовский так и жил в потае, в схороне, то ли затворник, иль пленник, иль неледбый гость, а Никон все еще не положил окончательной мысли, как урядить случай.
...Воистину: отверста дверь для покаяния, и к Богу ближе всего отпетый и проклятый человек, ибо он, позабывший о Христе, больше всего и нуждается в нем. Но тут, вор и ярыжка, этот разбойник и бродяга, покусился на цареву честь, решившись примерить скипетр. Спровадить бы его в пытошную: там ему самая честь, да жупелом залить афедрон... Но как с памятью-то быть, куда подевать ее? Кто на добро содеянное учинит злобою, тому вековечно на огненной скамье корчиться. Он же меня из моря-окияна выдернул, от смерти спас. Он как бы святые письмена небесные прочитал и меня подтолкнул. Это как бы покрестовались мы, пуще родных стали. Господи, Господи, блядословлю я недостойно, и за то отметится мне и на том, и на сем свете... А может, и нет в гордоусе непрощаемой вины? Начитался зодейщиков да альманашников, набродился по басурманским и лютерским землям, вот и возомнил, гордей. Но вот сказывал клирик, де, при нем и грамотка проезжая от гетмана. Чем-то обавил, окрутил Хмельницкого? Не словом же чернокнижным отуманил христовенького, небось и памятки выказал? Ты-то, Никон, коли вправду слуга государев, так объяви «слово и дело», пока не снесли царю извет, да и вези под вахтою варнака в Разбойный приказ. Самое ему там место, в пытошной-то. Чего медлишь? Иль мнишь, что он воистину Шуйского Василия внук? Уж больно дебел и раж, и уряд боярский...
Никон послал клирика Шушеру за самозванцем, а сам вновь сел за письмо к государю, кое во всю смуту не мог закончить. Поверх подрясника набросил на плечи мантию черного сукна с источниками, креслице подвинул поближе к зарешеченному оконцу, притулившись ко краю резного стола: «... Однажды смотрел я в келье на Спасов образ со слезами и неизъяснимой любовию. И вот внезапно я увидел венец царский золотой на воздухе над Спасовой главою; и мало-помалу венец этот стал приближаться ко мне. Я от великого страха точно обеспамятовал, глазами на венец смотрю и свечу перед Спасовым образом, как горит, вижу, а венец пришел и стал на моей голове грешной. Я обеими руками его на своей голове осязал, и вдруг венец стал невидим...»
В пепелесых разводах слюды увидел двоих. Никон встал и помолился. В дверь постучали коротко, требовательно. Спас Грозное Око надзирал из угла: в глазах Сладчайшего стояла укоризна. Никон помолился, медля, взял в руку оси, пристукнул по лещадному полу, выбивая из камня искру. В прихожей просились к Никону, но в голосе гостя не было кротости: «Молитвами святых, отец наш, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Владыка ответил: «Аминь» и отрезал все пути к бегству. Когда-то он вызвался платить долги, и вот время негаданно пришло. Никон почувствовал злость к пришельцу, хотящему въяви примерить царский золотой венец. Вот явился ниоткуда, из самих сатанаиловых пещер, и допирает, приступает приступом с непонятными умыслами.
Голубовский выглядел отдохнувшим, омолодился, больная чернота сошла со щек, брыластое лицо казалось надменным от чудно, по-иноземному бритой бороды. Гость смахнул с плеч епанчу на лавку, вроде бы покорно склонил голову, но вернее всего – набычился. «Благослови, владыко», – буркнул, уставившись на пол. Никон увидел в льющихся волосах обильную седину. Он невольно обернулся, глянул в шлифованное зеркало ганзейской работы и увидал в келье двойника своего. Он втайне подивился необычайной схожести и затосковал. Никон поцеловал Голубовского в темя, в седой клок, как отец целует, прощаючи, блудного сына, и, сердитуя, хотел спросить: «Чего кичишься, злодей? Пади в ноги, да и повинись!» Но вдруг признался в тайном, что тлело в дальних мыслях:
– Спаси тя, Боже, сироту, наскитался? Что храм создать, что сироту воспитать, одинаково спасение души от Бога получишь.
Голубовский удивленно воззрился на Никона и усмехнулся. Никон смешался лишь на мгновение, побагровел, нагнулся, шаря что-то под лавкою.
– Я не сирота, владыко, я...
Отчего споткнулся Голубовский, а язык его освинцовел. Как неводное глиняное грузило, провалился язык его в гортань. Никон напряженно смотрел на гостя искоса, странно изогнувшись, машинально наискивал что-то рукою, потом, громоздкий, выпятив гузно, обтянутое шелковым подрясником, опустился на колени, заглянул в глубину рундука, забывши о пришельце.
– Ну-ну? – поощрил насмешливо, выкатил на середину кельи оловянный таз. Подымаясь с колен, вытер скуфейкой байбарековой лицо: у владыки были такие же темно-каштановые, непролазной тесноты волосы, запорошенные первым снегом. Никон налил в мису воды, попросил гостя скинуть обутку.
– Не сирота я, – упрямо повторил Голубовский, и брови его гневно сомкнулись. – Меня Бог пасет неустанно. Он и Родитель мой. Прими сие в дар, владыка, не погордись. Спаси меня, и многие источники благодати прольются на тебя. – Он просунул руку за пазуху, где была тайная зепь, и из сумы, пришитой исподу кафтана, добыл священную книгу в ладонь величиною, поднес архиерею. Сам же опустился на лавку, стягивая юфтевые наморщенные сапожонки. – Сквозь все земли пронес, а веры не сронил. Прими, не поопасаясь.
Евангелие было московской печати с серебряно-вызолоченными досками, с изображениями святых евангелистов из чеканного серебра с драгоценными камнями. Никон подивился тяжести книги и снова невольно смутился, не зная, как повести себя с пришлецом. Тайный вызов шел от Голубовского, и Никон едва смирял себя. Митрополит опустился на колени и вехтем омыл гостю ноги. Стопы его были узкие, почти женские, с тонкими прозрачными ногтями; нет, снова решил Никон, это не плесны смерда, растоптанные и ороговевшие от ходьбы за сохою. На левой ноге обнаружилось шесть пальцев.
Глядя на темя архиерея, Голубовский поддразнил:
– Мы с тобою два оба, как пальцы эти, срослися. Ты вот ноги омыл нищеброду, а с умыслом. Падаешь, чтоб взняться, а, Никон? Смирением лечишься, а язвы-то бередят. – Гость рассмеялся, расстегнул путвицы на кафтане: исподняя рубаха была из агарянского шелку, с кружевным воротом. – Вервь непроторжена меж нами. Я, как бежать из Москвы к басурманам, бабу свою до смерти убил. Так ты меня тепере прости. Ты тепере за меня вечно молися, как бы за самого себя... Ой, Никон, батько! – по-голубиному простонал Голубовский, откинулся к стене, лупастые глаза его загорелись вызовом. Он словно бы забылся, что вернулся на Русь, и не турский визирь напротив, а новугородский митрополит. – Не захотел поделить со мною царствие, так забери все! Лишь не сгуби меня. Себя во мне не позабудь. Как на яблоне два яблока, так мы с тобою уродились. Ты свеча яра, но я – воск. Ты из меня слеплен, ты истечешь в меня...
– Может, и два пальца, но только я пятый, а ты шостый. Ты урод. Шестому пальцу с пятым не братися. – Никон овладел собою и с прищуром оглядел гостя. – А ведь воистину мы с тобой, как сметана с одной кринки. – Он поправил байбарековую скуфейку, в тонком черном шелке отразилось мерцание лампад; сквозь пальцы пропустил тяжелые волосы, спроваживая их ладонью до самых плеч. Он как бы красовался собою и уже вполне отдалился от пришлеца.
Митрополит звонком позвал Шушеру и велел принесть брашны. Келейник подал в глубоком блюде тюрю и в отдельной тарели вареных овощей.
– Прими здоровой пищи, сын мой, и отвлечись от прелестей мирских. Бродя туда-сюда по басурманам, поди, совсем расстроил чрево свое чужою едою, а? – Никон сановно опустился в креслице, возложил руки на бархатные подлокотники, любуясь лалом на перстне. В призрачной глубине камня мерцала чужая жизнь, и Никон всмотрелся в нее, как сквозь родник-студенец. – Ты таибник, убийца, так что ж. Ты ж и мой брат, спаситель неизбывный. Вот примемся мы вкушать тюрю. Выть небогатая: хлеба накрошить в глубокое блюдо, порезать луку, посыпать солью, покропить постным маслицем, долить освященной воды. Вот ты заморских яств напитался, усладил утробу, а приполз-то к тюре, как пес смердящий. – Никон забылся и неожиданно возвысил голос: – Приполз! К ногам пал, спаси-де. Родная тюря, выходит, слаще агарянских каплунов? – Вспылив, Никон тут же утишился, запустил серебряную с чернью ложку в хлебово, с осторожностью пропустил сквозь седеющую кущу бороды.
У него были неистраченные сочные губы и белая зернь зубов. – Я как учу-то: вы, священники, рассмотряйте детей своих духовных и, аще кто беззаконник, и непокорлив, и нечестив, и грешник, неправеден и скверен, хульник, отца и матери досадитель, мужеубийца, блудник, мужеложник, клятвопреступник, – с таковыми грешниками не поведено ни пити, ни ясти. А я вот с тобой богомерзкое дело творю и сам на себя епитимью суровую наложу, чтобы неповадно было впредь. – Никон отвлекся, позабыв о выти; взор его остекленел, застыл на слюдяном оконце, считывая в зыбком аере благие истины.
Он выпил из достакана воды сыченой и глубоко, с неведомой тоскою вздохнул, перекрестился, возвратившись душою в келью. – Ну, бродня, доложись, куда ты сошел и далеко ли бегал, чтобы знать мне, какой грех я приму за тебя, супостата. Голубовский вдруг сомлел, потускнел, что-то дерзкое сломалось в нем, и прежде хищно навостренные усы обмякли по-татарски вдоль рта, толстая нижняя губа отвисла. Лишь сейчас открылось ему, что хождения его, слава Богу, прикончились и навсегда пристал он к прибегищу, откуда один лишь шаг до палаческой колоды. Поманило его любостайство, кинуло, как щуку, в ез, погнало за славою; а все оказалось прах, тлен, зыбь и сон. Был прежде аманат у визиря, заложник, пленник, сладко ел-пил, а ныне затворник в Новугороде у края жизни и хлебная тюря ему в радость. Скрипуче отозвался Голубовский, исподлобья взглядывая на владыку, готовый целовать ему руку и плакать. Спас сторожил за гостем, и в правом глазу все так же мерцала багровая искра, похожая на кровавую слезу.
– Много бегал, владыка. Трои сапожишки истоптал, поди, ноги насквозь износил. Забегал я и в Польшу, в Риме был, в Австрии, из Молдавии едва голову унес, в Цареграде обрезать басурмане восхотели, так я в Грецию подался, а оттуда к свейским немцам, после ушел в Венецию и, не остановясь, убрел в Чигирин до гетмана, и вот с прохожим листом к тебе, государь. Давно бы с повинной прибег, да боюся казни. Вот царевича-то Димитрия как... Ножиками. – Вдруг снова бесовское, с вызовом в голосе; но тут же Голубовский устыдился, сдернул с груди подоткнутый по иноземному обычаю убрус.
– Дак то царевича... А тебя четвертуют, – жестко утвердил Никон, и суровая поперечная морщина разрезала высокий блестящий лоб, словно бы намасленный, с крутыми надбровными шишками.
– А может, простится, владыко? – жалобно попросил Голубовский, серея лицом, и уже смертным пепелом осыпало в глубоких обочьях.
– Грех твой несносим. Настрадаешься – очистишься...
– Подьячий я, стрельца Ивашки сын, – с тоскою ответил Голубовский, взглядывая через плечо митрополита в зарешеченное оконце. Ах, кабы стать вольной птицей-кречетом, так грудью бы пробил слюдяной лист и... в занебесье. Там-то ищите, помытчики, небесную птаху; не видать вам царевой милости. – Стрелецкий я выродок, да Васильев внук.
Никон последние слова оставил без вниманья.
– Бегал ты много, несчастный. С чужих вер пенку снимал, к нехристям прислонялся, с нечестивыми агарянами пил-ел и хвалился Русь под них приклонить. Ты Русь норовил продать, а нынче смерти боишься. Да ты возопи: Боже, Боже милостивый, есть ли на миру такая казнь, что очистит грехи мои. Возопи, ну!
– Возоплю, владыко! Ради веры православной и решился лишь... Где ни сладко, ни опойно, а все будто отрава, – повинно признался гость, поднялся от стола и земно поклонился владыке. Он намерился было и на колени пасть, но Никон остановил, не принял метанья.
– Пред свет-государем падешь. Что для слабого туга, невсильное горе, то для сильного духом – в радость. Пусть измозгнут тебя вовсе, но не внити тебе в рай небесный, пока тлю нечестия и греха не отряхнешь со всякого уда. Неуж неведомо было, что латины да лютеры уклонили цареградского патриарха в унию и, скупив греческие книги, сожгли их, и досель печатают жидове в Венеции всякое непотребство, и много в тех книгах еретической отравы. Ты вот начитался звездочетьи и остроломеи и нынь из всякой щели из тебя течет чужебесная жидь и возгри. Тихим обычаем живи остатнее время, пока не призвал Господь, и моли вседневно прощения.
– Изверг я, изверг, – упавшим голосом простонал Голубовский. – Паче всех человек окаянен есмь, но покаяния нет во мне. Даждь ми, Господи, слезы, да плачуся о делах твоих горько. Сидит во мне суторщина, ест поедом, а сладить не могу...
– Вот-вот. Только бы ухапить да сожрать. На что решился, окаянный! Неуж неведомо тебе твое бесстудие и ушеса завешены покровцами? Ты ж Москву возмечтал предати, царственный град наш. Гречане уж когда потеряли веру, крепости и добрых нравов нет у них, ибо покой и честь их прельстили. Помни, холоп, и вздохом предсмертным воспой алилуйю: Москва – третий Рим, а четвертому не бывать. Пусть изженут тебя ангелы в тартары, но и там не дай женитвы с дьяволом. Понял? На Страшном суде зачтется твоя мука... А теперь прощай.
Никон встал, пристукнул посохом по лещадному полу, высекая искру, поворотился к образам и пропел: «Достойно есть». Голубовский опустился ничком, распростерся, раскинув крестом руки, прижался щекою к серому ноздреватому камню, пахнущему тленом; слабой волной прошла по телу жалость по себе, легкая слеза скатилась со щеки и заблестела на полу живым речным жемчугом.
– Кто ты? – грозно вопросил Никон, оборотясь.
– Тварь заблудшая и горький сирота, от коего отвернулась родина и Бог.
– Ступай же и в эту седмицу не принимай брашна. Я же, грешник, по тебе плакать буду.
У самых дверей настиг Голубовского зов Никона:
– Так пошто ты, бродня и еретник, вернулся? Кто зазвал тебя на мучения?
– Открылось мне, что хотят латинники и агаряне нас погубити и будут стремиться к тому до скончания века. Ежели они поедают солнце каждый день, упрятывают его в подвалы, то что им стоит пожрать Русь? Уж коли довелось помереть, так хоть в своей земле...
...Вечером Никон, обкусавши тростку из гусиного пера, докончил листы: «Милостивый государь Алексей Михайлович! Уподобись милостивому и человеколюбивому Богу! Как будет тебе о своих винах бить челом рабишко твой Алексашка Голубовский, прости его Бога ради; а я уговорил его принести вины и в милости твоей ручался. А если бы не так уговаривал, то он бы и вовсе отчаялся за свое плутовство и на большое бы худо вдался...»
«И какова чину ни буди, князь или боярин, или простой человек изыман будет на разбое, или в татьбе, или в злом деле, в смертном убийстве и в иных воровских статьях, и приведут его на Москве в Разбойный или в Земский приказ и таких злочинцев в праздники и в иные дни пытают и мучат без милосердия, для того что вор и сам, не избирая дней, воровства свои и убийства делает».
Са стрелецкою вахтой Голубовского доставили в Москву в Разбойный приказ. В дороге он выбросился с телеги, пытаясь под колесами закончить жизнь свою, но тщетно. После трех встрясок на дыбе и пятнадцати ударов кнутовьем самозванец заговорил: де, вину свою государю приношу, ибо и сам к нему стремился для вразумленья, лютеры и алгимеи замутили мою слабую голову. Человек я убогий, а отец мой и мать какие люди, того не упомню, потому что остался мал. Когда я с молодости жил у архиепископа вологодского Варлаама, то архиерей, видя мой ум, называл меня княжеским рождением и царевой палатой, и от того прозвания в глупую мысль мою вложилось, будто я и впрямь честного человека сын.
На вопрос: кто его научил называться Шуйским князем, Голубовский отвечал: «Отец мой Демка». Тут привели мать самозванца монахиню Степаниду. Взглянув на Алексашку, она сказала: «Это мой сын!» Голубовский долго молчал. Потом спросил монахиню: «Как тебя зовут?» «В миру, – сказала она, – звали меня Соломонидкою, а теперь в монахинях Стефанида». Голубовский сказал: «Эта старица мне не мати, а матери моей сестра и была до меня добрая, вместо матери». У монахини спросили, кто был ее муж. Она отвечала: «Муж мой был Демидка, его, Алексашкин, отец, торговал сперва холстами, а после жил у архиепископа Варлаама. Алексашка родился у меня на Вологде, и ему теперь тридцать шесть лет».
Голубовского приговорили к четвертованию. Уже с Болота, где поставили самозванца пред казнью на всеобщее посмотрение, памятуя о просьбе Никона, государь вернул злодея в Чудов монастырь; здесь и постригли его в монашество.
Так Никон вернул долг.
ИЗ ХРОНИК. В 1649 году по царскому указу тайно был послан из Москвы в Сийский монастырь старец Александр Голубовский. Путь из Москвы в Холмогорский уезд не близкий, и только через месяц, 21 сентября, опальный старец со своим провожатым прибыли в монастырь. В государевой грамоте на имя игумена кратко было указано: «Послан для того, что ума исступился и говорит нелепые слова». Голубовскому приказано было отвести особую келью и держать его под крепким началом, чтобы он не скрылся из монастыря. Для исправления исступленного старца игумену предписывалось выбрать из числа братии старца добра и духовна, который был бы воздержателен и учителей и во иночестве стар, чтобы он просвещал и наставлял узника, а вместе с тем и наблюдал за его жизнью. Остальным же монахам строго было запрещено входить в какие ни то отношения с Голубовским, слушать его враки и нелепые слова. У Голубовского было с собою имущества: несколько евангелий с драгоценными камнями, свыше десяти икон – все серебряно-вызолоченные, с камнями, одна резанная на раковине, серебряное кадило, поручи с серебряными кольцами, большие келейные часы с медными гирями, каменный сосуд с Синайской горы, оловянные блюда и тарелки, меховые полости... – все эти вещи не могли быть достоянием простого монаха. Старец был лицо образованное, любившее посвящать время умственным занятиям и делиться мыслями с другими людьми и писать письма. В грамоте было оговорено: «... чернил и бумаги ему не давать».
В пределах монастыря Голубовский пользовался почти полной свободой, к работе его не привлекали, кормили, как и остальную братию. Годы до побега прошли мирно – казалось, старец примирился со своей участью, привык к новому положению и спокойно переносил свое заточение. И вдруг в нем что-то прорвалось. Старец сделался буен, непокорен. Нынче, де, жалуется братия, тот старец Александр быть под началом не хочет, а хочет жить во всем по своей воле. Голубовский начал вмешиваться во внутренний распорядок монастырской жизни, приходил на работы, заводил ссоры с монахами. Когда его пытались останавливать, он внезапно раздражался, впадал в исступление, гонялся с топором за трудниками. Однажды даже поднял руку на своего духовного отца иеромонаха Михаила, старца Евфимия, который был приставлен к нему для наблюдения, схватил за горло и едва не задушил, а иеродиакона Феодосия спихнул с келейного крыльца. «И иных многих старцев и служек побивает», – добавляли в своей жалобе монахи. Старцы были страшно напуганы: не имея от государя никаких указаний, они не решались самовольно применить строгие меры к Голубовскому и оказались бессильны перед буйным старцем. Беспокойство их возросло, когда под келейным амбаром у Голубовского была найдена лодка, пропавшая недели за две перед тем. Монахи писали государю: «Ограды около монастыря нету, кельи задними дверьми и сенными стоят на озеро, а около озера лес, и беречь нам Голубовского невозможно». Указ от 31 декабря 1652 года резко изменил положение старца Александра. «Будет он так плутать, – гласила царская грамота, – вы бы его смирили гораздо и тем людям, ково он бил, оборон дали – поучили ево метлами и чепью, чтобы ему впредь так плутать было неповадно». Велено было лишить Голубовского прибавки и кормить пищей рядовою, возложить на него тяжелые черные работы и заковать в цепи, сделав нарочно широкие железа и кайдалы. А будет и железа его не уймут, царь повелел строптивого старца посадить на цепь, чтобы его утрудить и от дурна отвести и привести бы в чувство и в послушание.
ИЗ ХРОНИК. «В 1651 году инок Феодор на допросе объявил. Отправлен он в Чудов монастырь под начало черному попу Илье, да с ним же сидел под началом иноземец Краковский, и он испил у того иноземца квасу – и у него в брюхе начало шуметь, и чает, что в те поры он испорчен. И когда учал он говорить Псалтырь, и в те поры перед ним зашумело: как бы пролетел ангел или бес, и ангел велел ему Богородицын образ со стены снять, для того что непригоже образам кланяться, и он, сняв со стены образ да крест, положил на землю, и крест начал вспрядывать, и он на образ и крест вступал ногами, а то дело Божие учинил он по ангелову веленью, а не просто так. А начал он помышлять недель с десять тому, что иконам кланяться не подобает, потому что Бог на небеси, а то образ Божий. Когда ему сказали, что Бог невидим, то он отвечал: „Всякому человеку можно Бога умными очами видеть“. Тому недели три или четыре говорил ему казенного приказа дьяк Захар Онуфриев: „Худо у нас то учинено: где торгуют хлебами и калачами, тут торгуют и образами“, и ему, Феодору, с тех пор вместилось в мысль о иконах, что не подобает им поклоняться. Достойно ли им поклоняться, потому что иконы пишут мужики простые и пьяные небреженьем и продают в торгу. И вот пало в мысль, что надобно государю объявить, что Бог на небеси, а иконам достойно ли поклоняться? И чтоб государь велел свидетельство писать те иконы всем иконописцам справчиво и приставил бы к иконному делу честных людей. И как он был в Чудове монастыре под началом и приведен был в келью, и тут стоял образ Спасов Нерукотворенный; и он, Федька, начал на тот образ смотреть, и тот образ начал претворяться разными виды...
Еще на допросе чернец Феодор показал, что ни писем, ни поручений Голубовский ему не давал, подарил только образ Живоначальной Троицы, резанный на раковине в серебряно-вызолоченном окладе. Этим образом Голубовский благословил Феодора и просил поминать его в молитвах. Феодор не расставался с образом, носил его всегда при себе, объясняя тем, что старец Александр сказал ему, будто от того образа явление было.
Инока Феодора Мезенца вернули в Сийский монастырь на строгую епитимью, в тяжелые черные работы. Но не прошло и года, как осенью пятьдесят третьего «забежали безвестно куда старцы Александр и Феодор». Не удержали Голубовского и огибные железа, что кинжами были закованы на ногах. За утеклецами послали в догон. Монастырское начальство ведало, как пекутся в Москве о судьбе Голубовского, и своим нерадением боялось навлечь царский гнев. Но и долгими розысками, в которых учинились монастырю протори великие, убеглых не нашли...»
Глава третья
Дух незримый витает над бренной землею, и нет для него препонов. Спящий человек что мертвый, уже сошедший на судилище, над ним вьются сатанинские стаи с одной надеждой заполучить грешную душу его, и при виде кружащей безжалостной нежити, этих распахнутых черных крыл и жадно разверстой багровой гортани не раз вскрикнет в ночи беспомощная человечья душа, не в силах оградить себя крестом. И тут Дух вселенский встает в ногах, ограждая бессилого, распнутого православного бронею веры.
Чу!.. Вроде бы всхлопала ночная дверь на постельном крыльце, не колыхнувшись в петлях, и апрельским сыроватым воздухом протянуло по длинным переходам теремов, чуланов, сеней и жилых палат мимо стрельцов, опершися на бердыши, сомкнувших лишь на вздох налитые свинцом глаза, жильцов на лавках сеней и стряпчих, мимо окольничих и спальников, мимо ключника и постельничего. Скорее, скорее; ох, как тяжко вашему государю! И вот колыхнулись кисейные запоны с золотными травами, и облегченно вздохнул молодой царь, и усталый пот высыпал, оросил пространный белый лоб, едва взморщенный в переносье, и воскрылья тонкого носа, омочил темно-русые волосы, небрежно рассыпавшиеся на пуховом сголовье. И сквозь темные ночные обочья в едва открывшиеся миндалины бессмысленных глаз, и широко взрезанные ноздри, и припухлые от сна губы, обросшие собольей податливой бородою, скользнула и улеглась спасенная и успокоенная его душа, привычно обустраиваясь в обжитом тереме. Очнулся государь, и брусничным морсом вроде бы омыло крутые щеки его. Красив царь особенной русской добротою, что не изгладилась и в забытьи, когда все затаенное проступает наружу, и слава Богу, что заступился за него незримый Дух, отогнав прочь неистовую стаю. Царь беспамятно вскинул над головою руку, сбивая на сторону жаркое лебяжье одеяло, и ночная шелковая котыга, распластанная по вороту, почти скатилась с плеч, выказывая молодеческую шею и кипарисовый крест на золотой кованой цепи. Тут в потешном дворце вскричал петух, вторя ему, отсчитал колокол час боевой, и царь Алексей Михайлович очнулся как бы из смерти.
Правая ладонь болела; царь взглянул на нее и в свете многих лампад увидел, что от стиснутых, остамевших пальцев отпечатался на коже кровяно набухший след ногтей. «Господи, помилуй мя!» – мысленно воззвал царь, еще ловя памятью быстро тускнеющий, истекающий неведомый глас, только что помогший в поединке. Стараясь поймать Божью волю, царь скорее сомкнул очи, и сон редкостно повторился. Вот Алексей Михайлович бежит по солнечному лугу от настигающей беды, ему страшно оглянуться, но царь незнаемо кем уведомлен, что настал конец света, и он, государь московский, остался один на миру, и надобно ему спастись, и в том грядущем его бытовании весь смысл земного устроения. Но с каждым шагом позади как бы обламывался в бездну, искрашивался цветущий луг, укорачивался, исходил в пепел и сернистый пар, и царь чуял, как поджаривает пятки судным огнем, а подошвы сапожонок, подбитые мелким серебряным гвоздьем, истлевают на плеснах. И страшно было оглянуться, чтоб встретить глазами последний час мира, ибо кто оглянулся, тут же и испарились. Внезапно перед государем выросла каменная стена, уходящая в пустынное занебесье, по ней вилась тонкою паутиной черная шаткая лестница.
И только царь вознамерился ступить на перекладину, как вдруг оттолкнул его неведомо откуль взявшийся раб, иль смерд, иль холоп, иль чужеземец в долгом кафтане, с развевающимися по ветру засаленными волосами; наморщенный войлочный колпак едва прикрывал темя. Беглец мельком оглянулся, и презрение выказалось в черных влажных глазах. И тут же, не мешкая, человек полез лестницею вверх; перед глазами царя замелькали стоптанные, с истертыми гвоздями подошвы. Каменная пыль сыпалась в лицо государю, и он тщетно уворачивался, прятал глаза, чтобы не ослепнуть. Торопясь оба, они понимали, что там, со взглавия стены, откроется им иной, новый мир, где и наступит спасение. Неведомый челядник первым достиг верха, одною ногою ступил на площадку, а другою встал на плечо царя и, воздев руки в кроваво-мглистое небо, вскричал победно: «О, Ие-го-ва!..» И тут царь понял, что настал его последний час; едва цепляясь за поручни, он обреченно воспринял, как непослушно слабеют пальцы, наливается тяжестью тело, уже готовое к смерти. И взмолилась страждущая его душа: «Господи, спаси и помилуй!» И неведомо откуда донесся совет, слышимый лишь государю:
«Отклони плечо, государь, отклони. Вражина и сверзнется». Царь удернул плечо, и торжествующий враг сорвался в пылающую бездну, и развевающийся кафтан над пламенным прораном показался царю черным опадающим крылом. Где-то внизу сатанаил, однако, схватился за лестницу и вновь упрямо полез вверх, а государь лежал на стене и, не испытывая победного чувства, с каким-то ободрением ожидал настигающего неистового человека. Он даже различил усмешку на змеино растекшихся губах, и жадно вздрагивающие ноздри с истекающей ко рту сукровицей, и взблески огня в напряженных, бесстрашных глазах. Царь хотел было подняться на ноги иль взглянуть по другую сторону стены в иной, неведомый, радостный мир всеместного блага, куда так стремился, но, лишенный сил, распластанный на камне, не мог он ни покинуть врага, ни усладить прощального взгляда обетованного землею. И тут супротивная рука настигла и ухватилась за рукав царской шелковой ферязи, рука худая, жилистая, с крупными катышами козанков, обметанных рыжеватой шерстью, с россыпью ржавых веснушек.
«Ах, царь, русский государь, ну воспротивься же ты алгимею, – вдруг кто-то невидимый снова насоветовал жалостно. – Хочешь боротися, так смотри врагу прямо в очии. Бесстудный ворог боится упорного взгляда».
Послушался молодой царь и с упорством взглянул в злые встречные глаза, и скрюченные пальцы недруга сразу потеряли всякую силу, и рука, больше смахивающая на растопыренную лапу ворона, отступила. В глазах неведомого алгимея увидел государь растерянность и страх И жалостно вздохнул государь и тут проснулся.
Италиянские напольные часы показывали четыре пополуночи. Откинув кисейный запон, царь прошлепал к окну. Влажная от пота ночная сорочка прилипла к лопаткам. Царь тоскливо вздохнул, отбрасывая наваждение, и словно бы невидимые токи пронизали дворцовые службы. Чуть свет встает государь, и вместе с ним подымается ежедень вся православная земля. Захлопали во дворце двери, всяк побежал по своей нужде, кто в заход, а кто в службы, заблистали от фонарей и свеч, от топящихся печей стекла и белужьи паюсы, слюдяные оконницы и бычьи пузыри, запахло первым дымом, стряпнёю, далеко пока до благотворного солнца, где-то в Япанском море залежалось оно в своих постелях, не спеша радовать приветного, ждущего русского сердца. Засуетилась по двору скорая на ногу челядь, не дожидаясь окрика дворецкого, заспанная, вовсе отупелая от раннего часа, пока-то апрельский сквозняк пробьется сквозь котыги и исподнее к замрелому телу, в самые шулнятки и пробудит их для жизни. Вздрогнет тут русский человек, переберет плечами, растерянно поведет очами окрест, торопливо перекрестится и проснется. А на главу Ивана Великого уже пал желтый просверк близкой зари; монашествующая братия отошла в церкви, к соборному петью, продевая ноги в кожаную шлею, пристраивались звонари, дожидаясь сигнального колокольца. И к Годуновскому колоколу-батюшке, всеобщему будильщику и раноставу, сошлись все трапезники, числом тридцать, окружили Филаретову башню двумя дружинами, разобрали постромки по обе стороны очепного колокола на Соборной и Ивановской площадях, а иные поднялись на ярус да оттянули великаний голосовой язык. Вот-вот разобьют темь, погонят прочь дьяволовы орды, всю сатанинскую нечисть благовестники, завторят им колокола красные, заподыгрывают малые зазвонные. Запоет Кремль пробуждение во все голоса и, прослушав их зазывистую силу и уряд, испивши такового хмельного напитка и распрямивши стан свой, на весь Белый город, да что там, на всю престольную, считай что на безбрежную Россию уронит бас свой Годуновский колокол. Вот тогда-то, почитай, и восстанет из ночи, как из смерти, вся Божья земля.
Эй-эй, кто там замешкал? Елико до чьей-то немотствующей души не добудится, не дозовется трубный глас «Реута», тому и не едать райского винограда. Скоро-скоро подзадорит вас медное петье, подобьет пятки, да так, что и в пляс пустишься: «Жи-вей жи-ви, жи-вей живи». – «Жи-ву, жи-ву, гля-жу, гля-жу». – «Го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли, го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли». – «Голи-ком прит-кнем».
И вот кремлевские воротники у башен, поднявши решетки, распечатали улицы, в соседней с опочивальней комнате взбодрилась сторожа – шестеро преданных спальников, насуровились на спальном крыльце оружные истопники, приглядывая в оба глаза за шустрым народишком, как бы не проскользнул меж челяди смутьян, ярыжка, гилевщик иль надоедный проситель, и каждодневную справу погрузил на плечи весь дворцовый служивый люд из приказов казенного и сытенного, кормового и хлебенного, житного и конюшенного – вся эта челядь, близкая и дальняя, стремянные конюхи и сокольники, певчие дьяки и священницы, сытники и винокуры, пивовары и бочкари, пекари и дроворубы, мовницы и прислужницы.
А пока тихо в Кремле, кишение огней безмолвно и призрачно. Царь молиться пошел.
«Не так ли и при конце света? Тьма провальная, а на дне ее жупел, смрад, тля и черти смолу кипящую мешают, – печально подумал государь, вглядываясь через веницейское цветное стеколко в оживший двор. Он вдруг почувствовал себя старым, отяжелевшим, усталым, большое его тело налилось свинцом. – Дал Бог свидеться с антихристом, а я дурак! Экий же дурак, право дело. Бог меня на поединок содвинул, а я обличье у вражины забыл».
Алексей Михайлович встряхнулся, опомнился: стоял он у окна в одной ночной срачице до пят. Верх думает: де, государь в Крестовой палате поклоны бьет, а он ныне душою упал. Оглянулся царь, насуровился, содвинул широкие шелковистые брови, но из-под приспущенных век сочится грусть. Готовно, дожидаясь повеления, вскочил с лавки гордоватый боярин Зюзин, ухвативши серебряный крыж сабли; земно поклонился государю всегда учтивый и богомольный постельничий Ртищев, смолоду шадроватый, с каким-то бабьим рыхловатым добрым лицом; но всех опередил ключник Богдан Хитров. Часто заглядывая царю в глаза, облачил его в шелковую расшитую сорочку с жемчугами по вороту да однорядку темного английского сукна, натянул на ступни бархатные червчатые башмаки, унизанные дорогими аксамитами. Был Богдан с бритой бородою, усы тонко выстрижены над губою, на шее под ферязью, скрученный в жгут платок из турской фаты. Когда убирал Богдашка государя, не остерегся, дохнул опрометчиво табачиной. Еще смутный от сна, разгневался государь, белое лицо пошло пятнами.
– Ты что, сродит, Бога не боишься? Табаку за губу кладешь или в ноздри пьешь? – спросил вкрадчиво, боясь промахнуться, но досада на постельничего уже помутила разум.
– Прости, державный свет. – Пал на колени Хитров, поцеловал государя в бархатный башмак. Царь, не сдержавшись, пнул спальника, угодил тому в лоб. Хитров завалился на спину, осоловело взмаргивая, а в лице ни тени страха, а в простодушных голубых глазах дрожит далекий смех.
– Ну годи, холоп. Я тебя нынче же прошу калеными щипцами, видит Господь мое терпение. Вот напущу на вас указу: кто табаку пьет за губу, тому губу долой, а коли нюхает, нос резать. Иди да скажи первому боярину, что я тебя в тюрьму на казнь сослал. Поймешь, каково без носу-то жить. Ужель не ведаешь, выродок, что табак – чертов ладан? При чертове ладане Бога-то разве вспомянешь? Смердящая воня за версту, а он после Евангелие целовать, отступник. От твоей вони мне нынче и наснилось, заплутай и вор! – Государь кричал, с каждым словом вбивая кулак в кожаный подлокотник кресла. Хитров оставался на коленях, покорно склонивши голову, на темени меж рыжеватых кудрей уже пробивалась лысинка с голубиное яйцо. Царь, остывая, и в эту плешинку щелканул наотмашь. Боярин Иван Зюзин злорадно прыснул, особенно презирая выскочку. Царь метнул на спальника досадливый взгляд, и боярин поперхнулся.
– Прочь с глаз, шелудивый пес. Тебя бы не руганью, дубиной потчевать. Даже волос бежит прочь с твоей глупой башки. Вот велю нос резать да пушу в народ для острастки.
– Прости, милостивец, прости, царь-свет, прости, батюшка, дурака. – Богдан Хитров с каждым словом земно кланялся, с розмыслом отступая: опрометью вон из спальни постельничий не спешил, он вроде бы дожидался прощения, отходчивой минуты, чтоб запросить и получить милости. Втайне-то Хитров боялся государева гнева, остерегался попасть под горячую руку, оттого и нехотя, но пятился к двери, однако не позабывая метнуть исподлобья наивный обиженный взгляд. Ртищев со страхом подглядывал за ослушником, и ему казалось, что спальник играет с огнем.
По взмаху руки Ртищев отомкнул спальную палату, и Хитров выкатился прочь, вроде бы позабыв плотно притворить дверь.
– Ну и заплутай, ой, заплутай, – огорченно развел руками государь, как бы извиняясь за сердечную слабость: он чуял, как жалость уже прокралась в сердце, и Алексей Михайлович готов был простить неслуха. – В юзы его? Дак вконец порченый. Отцу возвернуть с виною, дак и сам тот байник, пустослов.
Зюзин кашлянул, готовый поддакнуть, но Ртищев осек боярина взглядом. Царь еще помедлил, погрузившись в себя, сказал раздумчиво: «А ведь, робятки, антихрист нас ловит. Видит то Господь и поопасает нас. А мы неслухи, право слово».
Царь прошел в соседнюю прихожую, где ночевала на-пересменку верная стража из окольничих и стольников. Царь шел мягко, неслышно, заметно косолапя. Он рано раздобрел, раздался в плечах. Спальники при виде государя вскочили, отбили поклон: на лавках лежали винтованные карабины и пистоли в ольстрах, кожаных чехлах, изукрашенных золотыми травами. Богдан Хитров был тут, так никуда и не делся из Верха, знать, не спешил, негодяй, с винами.
– Поди к матушке-государыне, холоп, да справься о здоровье, – повелел Алексей Михайлович, давая понять, что пока простил окольничего, любимца боярина Морозова. – А сосательную трубку вместе с табакою кинь в заход. Иначе не будет тебе моей милости.
...А отправился государь тайными дворцовыми переходами за ответом к духовнику своему Стефану Вонифатьеву, известному ученостью своею даже в Царьграде...
Хранил царя, следуя неотступною тенью, оружный молчаливый жилец. Царь замкнулся в себе, и посторонние сейчас мешали ему. Пора бы по времени в Крестовой быть да грехи замаливать, но сон ровно бы мешал жить. В каменных глубоких полицах и над каждой дверью на божницах стояли образа, горели под ними лампадки. Царь всякий раз перед иконою молился, подправлял фитиль, снимал нагар иль заживлял умерший огонек вновь. Дверь духовника была полуоткрыта, оттуда пробивался в сумерки коридора свет, в келейке о чем-то взволнованно спорили. Государь кашлянул виновато, уже досадуя, что у Стефана гости.
Аки пустынник жил Учитель, такое свидетельство оставят по нем его ученики. «При царском духовнике вся быша тихо и немятежно ради его слез и рыдания, и негордого учения». Богатою книжною жатвою безбедно и радостно жил Стефан Вонифатьевич, он не таил собранное в схоронах про запас, но обильно растрачивал, засеивал во всякое отзывчивое сердце, медоточивы были уста его, и увещевательные, велегласные, обмытые скорыми слезами словеса духовника падали в душу государя, как добрые всходчивые семена на утешенную пашню.
Иконы и книги – все богатство Учителя. Спал же он на сундуке, подстеливши рогожку, под голову сунув березовое поленце, обтянутое холщовой ширинкой. Да и что за сон у Стефана Вонифатьевича? Прикорнет на правом боку, как луговая сторожкая птица, скрутившись в узелок, в два часа пополуночи надо бы и на другой иссохший бок обернуться, чтобы докоротать до утра, и вроде бы повернется, ударяясь о кованые железные полосы безмясыми мосоликами, а уж и не замгнуть после, не забыться, раскроет духовные поучения Ефрема Сирина или сладчайшие проповеди Иоанна Златоуста да с тем умилительным чтением и незаметно дождется утра.
Иссохлый весь, даже при лампадах, в сутемках светящийся, с пенным ворохом волос и с льняною сквозною бороденкой, ручейком стекающей на пояс подрясника, он, как дозорный стерх на гнезде, брачный белый аист, пряменько сидел на сундуке, ровно поставивши на пол ноги, обутые в валеные калишки. Водянистые, жидкой голубизны глаза духовника обметаны красниною от частых слез – той благодати, что ниспосылается Господом как редкий возвышенный подарок особо любимым детям.
Видно, он только что плакал, ибо, когда государь подошел под благословение, слезы еще не просохли на тонкой, как пергамент, коже, скопились в синих обочьях. Стефан Вонифатьевич дунул в лицо государю, отгоняя нечистую силу. От Учителя даже пахло святостью, как пахнет свежее луговое сено. Он был вроде бы бесплотен, и все телесное давно отпало от духовника. «Что же ты горюешь, Стефан Вонифатьевич?» – участливо вопросил царь, целуя морщинистую птичью лапку духовника, пахнущую елеем. «Да как не печалиться, святая душа, коли нынче опять горе, – неопределенно развел руками духовник. – Вот бежал сынок мой, протопоп Аввакум из Юрьева, бежал, как борзой кобель. Церковь соборную спокинул во вдовстве, и вот я плачуся. Какое житье, милосердный государь, коли христолюбивое воинство наше смазывает пятки при виде ворога? Ну ты погляди, православный царь, достоин ли он нашей любви?» Стефан Вонифатьевич показал в дальний угол кельи, занавешенный жидкой темью, куда худо проникал свет стоянца там, за стопами древних рукописных хартий, стоял на коленях поп, повинно склонивши голову к каменному плитчатому полу.
«На что ты город-то спокинул, Аввакумище? Отдал на растерзание язычнику поганому, да и нас в печаль вверг», – Алексей Михайлович положил мягкую ладонь на плечо протопопу. Аввакум сжался поначалу, ровно бы ожидая удара, весь в черном платье, как ворон, он даже в келейке Стефана не снял старенькой скуфьи, связанной из домашнего овечьего прядена. Широкие костлявые плечи, бурая от вешнего солнца шея, туго скрученная косичка темно-русых волос, вызывающе бугристые лопатки; нет, даже на коленях был Аввакум не согбенным, а каким-то вызывающе непокорливым и несговорчивым.
«Ну встань, встань, много был наслышан о тебе от Вонифатьича», – велел царь. «Я было обозвал его, де, ты онагр. Так он пообиделся Говорит: на коленях помру, ежели не простишь, – мягко проговорил духовник, обращаясь к царю. – А ведь то и есть, что дикий осел. Не думайте, что поклончивый, а сам что точильный камень. Коснешься, искры летят», – Стефан Вонифатьевич жиденько засмеялся, и смех этот был неожиданен в келеице святого. Аввакум уросливо вскинул голову, взгляд его открылся теплый, почти мокрый от близкой слезы. Протопоп неожиданно цепко перехватил со своего плеча государеву длань и поцеловал ее, оцарапав жесткими усами.
«Светик мой богоданный, миленький царь – велегласно и вместе с тем требовательно воскликнул протопоп. – Скажи, голову на плаху – и сей миг складу, как репку! Так я люблю тебя, мой державный свет!»
Государь лишь на миг потерялся, ему вдруг помыслилось, что человек подобной наружности являлся ныне ему во сне. Нет-нет, только не это: то значит, что в келью к духовнику, в самое государево сердце уже прокрался Антихрист? Государь торопливо взял со стола свешник, поднес и близко посветил на Аввакума, по-прежнему стоящего на коленях. Он увидел какое-то резкое, смуглое, острое лицо с узко поставленными живыми глазами и сдавленным в висках лбом: обрезаться можно о скулы и лоб, и вислый покляповатый нос, и по виду лишь, если присмотреться придирчиво, можно сразу угадать душу священницы, чаящую страстей, несговорчивую и вызывающе неприступную.
...Гляди пуще, гляди, великий государь. Сбежались на росстани российской ваши путики по неисповедимой воле Господней, и уж до скончания века не разминуться им, скрепленным вервью непроторженной: глубоко отпечатается Аввакумов дерзкий взгляд, попритушенный слезою, в твоей богорадной душе, и до последнего часа не погрязнет он под пеплом так скоро отгоревших жизненных лет и переменчивых нескончаемых дел. Что же это за любовь такая, которую тебе постоянно предъявляют с требованием, как божественный дар?
«Светик мой, миленький царь...»
– Вставай и скажись, на что ты город кинул, Аввакумище? – повторил государь.
– Кобь кругом, колдовство и ересь, государь-царь! Костельники и латины, папежники и лутеры давно озобали нашу веру, как опреснок. – Вскочил на ноги и зашумел Аввакум. Он сразу занял собою всю келью, оттеснил Алексея Михайловича; государь поискал глазами и опустился в свое любимое креслице в красном углу под образами. Аввакум поперхнулся, приглушил крик, ибо гнев его как-то невольно обратился на иконы. – Попустили, царь, попустили, боимся ханжами показаться. В логофетство ударились. Вот и духовник ваш кичится ученостью! А я не боюся в ханжах ходить, я Бога нашего люблю. Сатана, вражина, в каждую щелку: пред ним дверь на запор, так он в окно. Он через игольное ушко, да! Пропала вера православная, государь, келейное правило забыли, молитву променяли на кабацкую песню да на игрища. Шпыни объюхатились табаки и с этим чертовым ладаном в святую мати церковь. Слыхать, и у вас в Тереме пьют баловни табаку? Ну как, государь, тут жить? И не молви поперек безумцам. Долго, де, поешь единогласно. Нам бы, де, покороче, инде дома, вишь, недосуг. А Бог им уже и не дело, во как! Я им говорю: пришел ты в церковь молиться, гони от себя всякую печаль житейскую, ищи небесных! Невозможно оком единым глядеть на землю, а другим на небо, такоже сластям и страстям работати. Так меня за те словеса в церкви бьют да за власы волочат, а ныне и в ризах не щадят. И осном, и ослопом, и дубьем, и чем ни попадя по спине. Чуть до смерти не убили. Так едва ноги унес. У воеводы в кладовке отлежался и к вам.
– Чем я-то тебе помогу? Пушки с войском наслать? На встряску волочить? На дыбу? Сами хороши, потатчики. Вином, слыхал, упиваетесь, Бога не чтите. Трудитесь Богу невсклонно, и Бог заметит. Тебе, Аввакумище, черт поблазнил, а ты и побежал, струсил. – Государь закрыл глаза, огруз в креслице, позабыл протопопа. Духовник подманил Аввакума к себе, шепнул: де, не перечь, царь того не любит.
– Шумишь больно. Христов воин, – упрекнул Стефан Вонифатьевич и, не вставая с сундука, протянул руку для благословения. Аввакум принагнулся, скоро затихая, и они сердечно обнялись. Духовник достал из стопы книгу поучений св. Ефрема Сирина в подарок, велел неустанно честь; от царя же в подмогу передал двадцать ефимков любских, велел отправляться в Юрьевец. Аввакум молча поклонился государю и, не смея тревожить его покой, вышел из кельи.
ИЗ ХРОНИК. В первый день Пасхи греческие купцы, проживавшие в Москве, вместе с вельможами явились к царю с поздравлениями. Государь оделил греков по два яйца и, подозвав их к себе поближе, говорил им. «Хотите ли и желаете ли, чтобы я освободил вас и избавил от неволи?» Они поклонились и сказали: «Как бы нам не хотелось этого?» – «Когда вернетесь в свою страну, просите своих архиереев, священников и монахов молиться за меня и просить Бога, ибо по их молитвам мой меч сможет рассечь всех моих врагов».
Потом, проливая обильные слезы, он сказал боярам:
«Мое сердце сокрушается о порабощении врагов веры. Бог – да будет прославлено имя Его! – взыщет с меня за них в день суда, ибо, имея возможность освободить их, я пренебрегаю этим. – И прибавил: – Не знаю, как долго будет продолжаться это дурное стояние дела, но со времени моих дедов и отцов к нам не перестают приходить патриархи, архиереи, монахи и бедняки, стеная от обид, злобы и притеснений своих поработителей, и все они являются к нам не иначе, как гонимые великой нуждой и жестокими утеснениями. Посему я боюсь, что Всевышний взыскует с меня за них, и я принял на себя обязательство, что если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их избавления».
Бояре отвечали ему: «Да даст тебе Господь по желанию сердца твоего».
...И царь Алексей поведал духовнику ночное видение, заметно с каждым излитым словом освобождаясь от тоски и наполняясь жизнью. Стефан Вонифатьевич понятливо кивал головою и ронял искренние слезы, жалея сына своего духовного. И долго так раздумчиво молчали они, пока в слюдяное решетчатое оконце не забрезжил утренний свинцовый свет. Огни лампад поблекли, но жарче загорелся золотом иконостас.
«Ты помнишь ли, батюшка Стефаний, как отец-то мой, государь Михаил Федорович, помер от кручины, – сказал царь, нарушая тишину. – От меланхолии, сиречь от кручины, даже кровь стала жидкая, так нашли иноземники лекаря. Велел призвать меня, чуя смерть, руку мою, значит, взял, благословляет на царство, а дядьке Борису Морозову приказывает меня стеречь и пекчись. И слышу я, как уходит он навсегда, страшно стало: ведь один остаюся на всем белом свете и держава на мне. Вот отец скроется за дверью – и все? И неужели там одиночество, а, Стефаний? И вот стою я на крестце, у кровати, а как на распутьи, один, как перст. Отец-то все понимает, меня взбодрить норовит, силится что-то сказать, а мочи и нет... Где прежняя сила, куда утекла? Невсклонно трудишься, нужу претерпеваешь, и неуж все тля? Нынче такой одинокий я был во сне, как у одра отца».
«Пошто один? Отец-государь, а лествица? Это Богородица явила себя, и то знак добрый. Ты препоясал чресла мечом самодержца, но пущею оградою тебе крест православный. – Стефан Вонифатьевич толковал вдохновенно. – Ты укрепился на стене веры, и тот иудей, уже торжествуя победу, вдруг устрашился силы, что пролилась из души твоей. Пресвятая Троица благословляет державное твое царствие, она на весь мир покажет тебя победителем и одолетелем врага видимого и невидимого. Кто знает, когда наступит Судный час, и надо быть наготове. Пресвятая Троица вещает тебе: крепче держи крест веры, чтоб не шатнулся. В туге, в несчастиях плачутся наши братья православные на Востоке, агаряне и папежники через своих ловыг и заплутаев вовсе наступили пятою на Царьград. Вот тебе и стена, на кою надобно подняться и отрясти со ступней своих тлю. Престол великого царя Константина ждет тебя... Да будешь, свет-государь, как новый Моисей, что освободил сынов израилевых от фараонских рук жезлом-знамением честного животворящего креста. Вон и Паисий Иерусалимский о том же хлопочет. Ты чуешь, царь, откуда пришел на Русь и донынь сияет свет истинной веры?»
«Чую, Стефаний, – эхом откликнулся Алексей Михайлович. – Свет нашей веры с Цареграда. За греков я готов отдать не только Русь, но и собственную жизнь».
«Мы закоснели в своей гордыне и немеем от жажды, когда вся Европа упивается из ручья старинных знаний. Красота премудрости истекает из Святой Софии, а мы в ней заколотили окна. Оле!.. Наши рабичищи позабыли крест истинный и канон, а крин веры – этот благоухающий, вечно зеленый цветок, требует глубины познаний. Что коротати, государь, к чему понапрасну сетовати? Брат наш меньший томится под Махмутом, и искренние священницы Востока с укором глядят на нас и плачутся, когда же наш патриарх будет служить в Святой Софии. Это та стена, которой нельзя отдати. И перестань печалиться, ибо уныние худший враг. Вот мой тебе сказ. Вон и гетман Хмельницкий с Днепра просится под крыло, пустить бы нать. А там и Великий Киев, матерь наша, встанет опорою. Невостегновенно, государь, святое слово. За него и помолимся пойдем».
...Полно, полно, свет-государь, опомнись, охолонись! Даже жизнью своею ты не волен распорядиться, ибо все в руце Божией: лишь по наущению бесовскому, милосердный, ты вдруг впал в гордыню, возомнил о себе, подобно ястребу-крагую, вьющемуся под облаками, и возжелал пожертвовать живот свой во спасение несчастному греку, впавшему в туту. Миленькой православный царь, миленькой царь! Вспомни-ка ты бабочку-крапивницу, что на прозрачных слюдяных, шелковистых, обманчиво-узорчатых папартах своих, что тоньше паутины, рвется, ошалелая, ввысь, под сожигающие солнечные лучи, но, увы, не взняться твари ничтожной выше едины, несмотря на всю красоту, ибо бездушно у ней в груди, да и пустынно там в небе, не на что опереться и некуда высеять жадное потомство. И удел ее вернуться в луга и, цепляясь жадно за травы, опыляя лепый цветущий крин, давать червя, чтобы он загрызал все, к чему коснулось крыло матери. Не так ли и сатана: он постоянно рвется выспрь, чтобы сразиться с Господом, и всякий раз падает, обавник, назад в тартары, и оттуда вновь пятится на свет небесный, как каркин, щелкая клешнями и волоча в горбе своем всю злость вселенскую.
Сатана притягивает к себе, чтобы после еще пуще возненавидеть его. Сатана – это тот хворост, от которого возгорается любовь к Христу...
Миленькой православный царь! Да коли наслал Господь Махмута окаянного на Цареград, на престол осиянной веры, так, знать, Он особенно возлюбил оплот православия, чтобы за долгую досаду, слезы и горести после возблагодарить?
А ты возжелал, миленькой, отдать Русь великую за греков? По чьему измышлению, наущению исторглось из груди твоей самодовольное чувство, иссушающее благодать? И неуж кроткий Стефаний, этот источник слез, помазавши малаксою твой лоб, сам обавно, не мешкая, уместился в сердце твоем, чтобы исподволь, тайком развращать его ко грядущей пагубе. Миленькой царь, ты хочешь управляти всеми православными народцами, отдавши на погубление свой? Ты вспомни нынешний сон, государь: ты спешил к неведомой стене, а позади тебя с грохотом обваливалась родимая цветущая земля, испаряясь в горящей сере, даже не долетев до дна провалища. Так разве впереди тебя вновь прорастала из ничего хоть одна хлебородящая кулижка? Говорят, хорошего ломтя откусишь, так после целый день жуешь. Но коли обманчивого яда выпьешь, то уснешь вовеки.
Миленькой государь! Мягкого человека вроде бы сожмешь в горсти, а он неслышно заполнит тебя всего. Когда поцелуешь благословляющую десницу духовника, вглядись попридирчивее, но без злобы и усталости, в его лицо, и ты увидишь на нем пыль чужой, неведомой земли и, поразившись непонятности, нездешности обличья, предложи Стефанию уйти в свою келью.
...Алексей Михайлович поцеловал тщедушную ручку духовника и, не глядя тому в глаза, сказал глухо: «Отче святый, оставь ныне меня одного». Он закрыл дверь Крестовой палаты, оставив духовника на пороге, и запер ее на крюк, чего с ним не бывало. Государь осмотрел Крестовую, как последний оплот, и пожалел о внезапно вырвавшихся в келье словах: он вдруг почувствовал себя брошенным, сколотышем, не родным среди святых образов, но байстрюком, оглашенным, коий стремится, жаждает вступить в лоно церкви, но и пугается ее тайн. Сергий Радонежский смотрел на него с укоризною, лампада под образом святого едва теплилась, походила на муравьиный глаз; Александр Невский, опершись на обоюдоострый меч и взведши очи горе, плакал. Царь видел, как покатилась алая, с жемчужным блеском слеза и, упавши в кольца кольчуги, просочилась в сердце князя.
«Это я хочу отдать Русь? Но без Руси какой же я государь на престоле Константина? Но откуда, вроде бы не из моего горла, вырвалось полоумное признание. Но отчего тогда жжет гортань и вроде бы огнь опаляющий подымается из самого чрева и точит язык? Что за напрасный зарок я дал? Царица Небесная, Дева Пречистая, подскажи рабичишке твоему, изнемогающему в гресех, не отлучай...»
«Нет Руси без Господа, и нет Господа без Руси!» – вырвалось внезапное, и свечи ярого воска под неведомым горестным вздохом умерли разом. Лишь Спас Грозное Око ровно глядел над теплящейся лампадой. Алексей Михайлович оглянулся, не ведая, кто сказал: но дверь-то Крестовой палаты на крюке... Устрашился царь предзнаменованию, поспешил к окну: уже рассвело на воле, меся жидкий апрельский снег, степенно, подобрав полы шуб и зипунов, пробирался народ в Успенский собор на заутреню, и всякий норовил поворотиться лицом на царский Терем и земно поклониться. Ударил, колыбая воздух и самую почву, царь-колокол на Филаретовой башне, народился первый час нового дня.
Алексей Михайлович запалил свечи, подлил масла в лампады, успокаиваясь, возжег фитили: он любил эту кроткую работу, это неслышное, какое-то ласковое заделье, когда душа, вседневно страдающая, находит покой и наполняется боголюбовным теплом, от коего надежно обогревается весь предстоящий день. Иконостас вспыхнул золотом, свет потоком пролился в палату, и лики все слились в единый образ Господа.
«... Богоневестная, – взмолился царь. – Ты скинула мне лествицу во спасение. А ворог тот, что спихивал меня в преисподнюю, – мои неизлечимые грехи. Я взобрался на стену веры, как кокош, курица-наседка, а встати не могу. Слаб я, оглагольник, и немощен, и по сю пору слышу, как дрожат мои колени. Владычица, молю Тя ум мой о благодати. Врача рождшая, уврачуй души моей многолетные страсти. Избави мя огня вечнующаго, и червия же злаго, и тартара. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба твоего. Струю давай мне слезам, души моей скверну очищающи.
Царица Небесная, донеси мой глас немощный, возрыдания мои и вопли до друга собинного, владыки Никона; пусть посреди дороги трудныя вольется в ушеса его мой скорбящий безутешный плач, а слезы мои искренние растопят снега и умостят блаты. Друг мой искренний, избранный и крепкостоятельный пастырь, и наставник душ и телес наших, милостивый, кроткий, благосердый, беззлобивый, любовник и наперсник Христовый! О, крепкий воин и страдалец Царя Небесного, и возлюбленный мой любимец и содружсбник, святой владыка! Моли за меня, грешного, да не покроет меня глубина грехов моих. По милости Божией и по вашему святительскому благословению как есть истинный царь нарицаюсь, а по своим злым, мерзким делам недостоин и во псы, не только в цари... Молись за меня, друг сердешный. Бог тебе в помочь, а я за тебя здесь молиться буду неустанно. Да пусть хранит тебя в пути Богородительница, да беззаветный заступник наш Николай Угодник...»
ДВОРЦОВЫЙ ПОРЯДОК. «... Стол накрывал дворецкий с ключником; они настилали скатерть и ставили судки, т. е. солоницу, перечницу, уксусницу, горчичник, хреноватик. В ближайшей комнате пред столового накрывался также стол для дворецкого, собственно буфет или кормовой поставец, на который кушанье ставилось прежде, нежели подавалось к столу государю. Обыкновенно каждое блюдо, как только оно выпускалось с поварни, всегда отведывал повар в присутствии дворецкого или стряпчего. Потом блюда принимали ключники и несли во дворец в предшествии стряпчего, который охранял кушанье. Ключники, подавая ествы на кормовой поставец дворецкому, также сначала отведывали со своего блюда. Затем кушанье отведывал дворецкий и сдавал стольникам нести пред государя. Стольники держали блюда на руках, ожидая, когда потребуют. От них кушанье принимал уже крайчий, точно так же отведывая с каждого блюда, и потом ставил на стол.
То же и с винами... (все это из страха порчи)».
Государь с государыней обедали нынче вдвоем: никого не звали. Они увиделись лишь на обедне в Верховной церкви Всех Скорбящих и оттуда сошли в Столовую палату. Государя позывало выйти на Красное крыльцо, глотнуть сырого апрельского воздуха, но он пересилил себя. Он как бы затворился на день, избегая служивого народу и государевых дел.
...Слава Богу, одни. Столько и времени прилучилось. От молитвы до ествы недолгий путь без догляда. Царева жизнь – вся на виду. Даже постеля окружена дозором.
Ой, Марьюшка, наливное яблочко. Даже сейчас, при свечах, вся в бурмитских жемчугах и золоте, как драгоценная картинка. Не удержался, приотогнул кисейную фату с алого бархатного сборника, нагнулся, поцеловал жену в висок, в светлое колечко волос, непокорно выбившихся из-под бабьего повойника. На сносях баба, любимая девочка, вот-вот родить должна. Двух девок уже приволокла, не тянула, ныне наследника ждем. Вот и медлит въезжать во Дворец, знать, погодья ждет. Он там привередничает, а мати – тоска, она в маете погибает. Она блажит, вовсе разблажилась. Через бояронь Верховых принесли весть: де, царица блажит, никого не чует, бранит да плачет.
Замедлил на крестце под иконою Николы Можайского. За углом ключники ждут, чтоб дверь распахнуть.
«Ты почто разблажилась, Марьюшка? – спросил ласково, едва касаясь губами ее губ, сладких, припухших слегка, пахнущих вишеньем. – Ой, люба ты мне, – шепнул. – Пуще жизни тебя люблю».
Вот говорят, де, случая нет. Господь пасет нас, лишь не пропусти минуты. Не зевай. Был три года тому в Успенском соборе и вдруг узрел немосковского дворянина Ильи Милославского дочь на молитве, и как поразило будто в самое сердце. Велел Богдану Хитрову отвесть девицу к себе в хоромы. Едва конца обедни дождался, пришел в Терем, ту девицу смотрел, сразу возлюбил и при всех ближних боярах нарек царицей. А до того сколько смотрин было, со всех московских земель свозили девок на выданье на царев погляд. Правда, была одна, из-под Рязани, да в сухотку нелепицами загнали, а после и в гроб. Вот вам и случай.
...Пальцем обвел наливную упругую щеку; сквозь бархатистую кожу пробивается неостывающий румянец. С упованием посмотрел в лицо. Заметил синие круги под очами, красный налет в глазах, обычно изумрудных, кротких. Понял: недавно ревела, в розовом слезнике не просохла влага.
Марьюшка вскидывала взгляд, норовила в чем-то признаться, но страшилась или стереглась ввергать государя в новую печаль: к чему Алешеньке новые заботы, коли и свои ежедень неотступно допекают. На царице сарафан бархатный, как колокол, едва проглядывают снизу подола алые черевички, низанные жемчугами. На плечах епанча с собольего опушкою, сквозь кисейные рукава проглядывает белая кожа, волнующая государя.
«Он-то, наш славненький, то сладкого хочет, то сразу горького. Такой сутырный».
Они верно знали, что будет сын. И верно, что родится царевич Димитрий и скоро заревется до смерти.
«А мы на него найдем справу. Мы его в ученье к Никону отдадим. Живо кислу шерсть выбьет. Верно, Марья Ильинишна?»
«Верно, как не верно, да одно худо, что Никон из него монаха сделает. Он, владыка, нас любит и сына нашего полюбит. Твоя сестреница за него кажинный день молит».
Государь с государыней вдруг спохватились, что оба думают о новгородском митрополите. Небось в тяжком пути ему нынче не раз икнулось.
«Ты себя храни, Алешенька, – жалобно, жалеючи, сказала царица, проведя ладонью по груди мужа, словно бы нынче же, не медля, провожала хозяина на брань. У бабы бабье не вытравить, на каком бы Верху она ни числилась. – Время темное, на миру сколько сарданапалов расплодилось. Не из зависти пусть, так из потехи незнамо какую кобь замыслят. Подумать страшно, нито».
«Ну полно, полно. Нас, поди, у стола заждались. Кушанья-то простыгли».
«Ой, Алексеюшко, я тебя нынче во снях видела, – вдруг призналась государыня, и сердце царя вздрогнуло. – Вот будто вылез из кустов придорожных тать, не наш обличьем. Нерусь, одним словом. И тебя рогатиною прободил. Я и спохватиться не успела, как приключилось. Ну... Хочу, значит, стражу кликнуть да тебя оградить. И никого вскричать не могу, голос пропал. Земля вкруг вся очервленилась, а на тебе ни кровинки. Пробудилась в худых душах полтретья, ни свет ни заря. Давай поклоны метать, о тебе Бога молить. Ой, Алешенька, поопасись...»
Вот как бы сон прочитала.
«Ну полно, полно... Кровь-то не на мне», – хотел утешить царь супружницу, но не успел. Из-за угла полыхнуло светом, раздались возбужденные голоса. Их искали. А государю так хотелось открыться госпоже в своих расстроенных чувствах. И вот не успел.
...Не ествян государь, не нажорист, а если и пухнет преизлиху, так не от сладострастия, не от преданности животу своему и не от дворцовой обильной кухни, но лишь по природе, склонной к тучности.
Царь строго постится восемь месяцев в году; лишь скитники, монастырские схимонахи готовы к таким борениям с плотью, к таким изнурениям страдающего тела своего. В Великий пост государь обедает лишь три раза в неделю: в четверток, субботу и воскресенье. Где те роскошества стола, европейские зажарные каплуны, копченные на вертелах золотистые барашки, от коих сок и жир текут по локти; где та ласкающая горячность взора, что вспыхивает от обильной ествы? Увы! Здесь холодная, заснеженная Московия, господа. И попавший к государю на прием в постный день пусть удовольствуется с внутренней тоскою тем, что принимает великий царь. А для Дворца готовятся ествы: капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, ягодные ествы без масла и квас. Та самая лешачья еда, что в изобилии произрастает на просторах Руси, про кою говорят в простонародье: «Гриб да огурец – в брюхе не жилец». Та самая ества, от которой смиренно клонится плоть и воспаряет дух. В остальные дни государь Алексей Михайлович кушает лишь кусок хлеба ржаного с солью, соленый же огурец или гриб и стакан пива легкого, с коричным маслом. Рыбу государь ест лишь дважды за Великий пост. Кроме постов, он не ест мясного по понедельникам, средам и пятницам, как монах и пуще того. В обычные же постные дни (понедельник, среду и пятницу) готовят ествы рыбные и пирожные с маслом деревянным, ореховым, льняным, конопляным.
Нынче, на двенадцатое апреля 1652 года, царица Мария Ильинишна сама смотрела порядок ествы. Первая статья: щука паровая живая, лещ паровой живой, стерлядь паровая живая, спина белой рыбины; вторая статья: оладья тельная живой рыбы, уха щучья живой рыбы, пироги с телом живой рыбы, каравай просыпной с телом живой рыбы; третья статья: щука голова живая, полголовы осетрей свежей, тешка белужья. Питья три кубка с отливом, ренское, да романея, да бастр. В золотом ковше подносить красный мед, а в серебряном – белый мед. Не для государя такой стол, но для царицы: она в интересном положении, на сносях дохаживает, ей нужна ества для укрепы, чтобы телом не спасть да новой жизни не потравить.
На царицын Верх для ближних бояронь, для дочерей, для нянек и мамок и для веселья вечернего велено подать: орехи простые, каленые, сибирские, грецкие, волошеские; жамки-груздики, кругляки угольнички, сердечки, горошки, прянички вяземские, белевские, тульские, папушники; яблоки моченые, сушеные, украинские, паренные с кваском; изюм крупный и мелкий, винные ягоды, чернослив заморский, груши моченые, сухие, дули калужские бергамоты, сушеные вишни владимирские, сливы моченые, костеника, моченная кисточками, брусника моченая, калина с медом упаренная, пастилы коломенские клюквенные...
Она даже ела молитвенно, сосредоточенно, погрузившись в трапезу, и всякое брашно воистину благоговейно вкушала.
Ласковость не то чтобы вспыхивала однажды по настроению иль по натуге изображалась на челе, чтобы не прогневить супруга, но она постоянно жила на лице. Ни разу государь не видел, чтобы хмурая тень залегала под ресницами Марьюшки; утром лишь размыкала изумрудные свои очи, а из них проливается кроткая радость. С этим чувством она и за молитвою стояла по пять часов сряду, не выказывая усталости. Боже, как он любил свою Марьюшку.
С серебряного блюда она приняла звено стерляди паровой живой, мимолетно и благосклонно улыбнулась крайчему; на миг как бы прикрывшись от чужого догляда жемчужным нарукавником (сама низала, еще будучи в невестах), поправила выбившуюся будто бы прядку волос под малиновый бархатный сборник, качнулся потревоженный золотой колт в крохотном, внезапно зарозовевшем ушке, и в какой-то миг из-под руки послала государю ласкающий тайный взгляд, чтобы не приметил стольник, стоящий невдали с огромным блюдом стерляди на вытянутых руках.
Алексей Михайлович отпил из кубка овсяной браги, ломоть ржаного монастырского хлеба, присланного чудовским архимандритом, густо присыпал из солонки.
«Отошли стерлядь эту на дом в подачу боярину нашему Богдану Матвеевичу Хитрову», – вдруг приказал стольнику. «Балуешь ты Богдана, балуешь, – с улыбкой укорила Марьюшка. – А он неслух и прокуда». «Он хоть и неслух, да предан, – отозвался царь. – Женила бы ты его, что ли? Он вот и табаку приучился пить, шалопай. Пришлось нынче изрядно поколотить своею рукою». Государь рассеянным взглядом окинул пустынную Столовую палату с длинными столами под браными скатертями и долгими скамьями, покрытыми камчатными налавошниками. На стенах, на божницах стояли образа, горели лампады. Не шелохнувшись, по всей трапезной застыли стольники и ключники, ждущие гласа дворецкого, и как-то странно, сиротливо, что ли, одиноко выглядели государь с государыней в этой зале с глубокими оконцами, откуда струил узорный апрельский свет, обещающий благодать. На воле было солнце. Скоро обещалась охота, царский выезд в дворцовые подмосковные села; распута, рыхлый водяной снег, первые проплешины на буграх, струистое марево над замглившимся приречным тальником. Боже, как хорошо-то!..
«Ты слышь, – встрепенулся царь, – что мне князь Хованский пишет, – будто он вовсе пропал с Никоном. Де, никогда такого бесчестья не было, чтобы государь отдал князя во власть митрополита, а тот заставляет ежедень у правила быть. Да и то верно, учить премудра, премудрее будет, а безумному – мозолие есть. Дак и то народом не зря обозван, что тараруй. Тараруй и есть». Государыня на эти слова укоризненно качнула головою, и царь спохватился, что, быть может, сказал лишнего. А что лишнего-то? Стольникам ли не знать, как государь не раз выговаривал князю Хованскому за спесь его: «Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Кажется, придирчив был царь и жаловал людей даровитых, высоко смотрящих, но Хованского, который и природою-то не мог похвастаться, ни умом, ни стараниями, ни особенными способностями похвалиться, неизвестно за что выделил и приблизил в спальники, ближние бояре.
Вот сейчас с Никоном за мощами святого митрополита Филиппа Колычева послан на Соловки, великая честь дураку указана, а он вот ломается, с пути всякие укоризны шлет. «Прости, Господи, за неявные, заглазные словеса мои. – Алексей Михайлович перекрестился. – А он, поди, Никон-то наш, люто прижимает синклит мой, подвигает к Богу. Ин забыли, как подобает лба перекрестить. Вот и Василий Отяев жалится друзьям своим: де, лучше бы нам на Новой Земле за Сибирью с княжем Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели с новгородским митрополитом в посылке быть, силою заставляет говеть».
«Они жалобятся, а того не поймут, что он святой, наш владыко Никон, – сказала царица, с грустью глядя на пустующий серебряный судок супруга, – опять, вот, не ест, сердито поствует, осеннего гриба соленого с маслом конопляным пожевал, и вроде сыт; дак что гриб этот, какой с него толк, зиму цельную в кадке, моченый, вылежал, нынче, что тряпка, ни пару в нем, ни жару – веком не жевал бы. Разве с такой ествы побежишь? Ой, государь мой, опять с соленого квасу надуришься, и будет утробушка непонятно с чего мерзнуть. Сказать бы, но остережись: не каждое лыко в строку – может и губу надуть, не поглядя, что холопы кругом на прислугах, осыплет бранью. Нет-нет, лишнее заганула: царь не то бранчливого слова, но даже сурового взгляда ни разу не сронил в ее сторону. Но крутоват, горяч порою, будто что вспыхнет внутри порохом, взор побелеет. Вон князю Хованскому какую малаксу только что на лоб припечатал, тараруем обозвал. Сейчас пойдет по Москве, не стереть печатки. Стольник Зюзин в крайчих, он молитвен, но с Хованским на ножах. Вот и взгляд спрятал. – Святой за святым отправился, вон в какой не ближний свет поднялся».
Умильно сказала царица, облила государя зеленым светом, неожиданно как бы подольстилась. Знала особую нежность царя к митрополиту.
Алексей Михайлович согласился: «Цареградский патриарх Неофит писал днями. Великий посланник Христов Никон явился на Русь на подвиг!»
Государь замолчал резко, потускнел. Заметила Марьюшка, как прорезалась поперек лба первая ранняя морщина. Замглилось лицо, туман пал на глубокие глаза государя. Невольно загляделась Марьюшка на мужа: приглядист, глаз не отвесть. Плотные русые волосы по плечи, с трудом костяной гребень продерется, борода кудрявая, крупными завитками, тень от ресниц на полщеки, в спокойные очи глядеться можно, как в зеркала, только нынче, вот, на самом дне чуть-чуть рябит, мельтешит тревога, досада ли иль беспричинная тоска... Может, блазнится государыне, казит? У самой-то какое нездоровье. Хоть бы скорее ослобониться да государя сынком обрадовать. Дай Бог, дай Бог. Эк ему там не лежится. Прислушалась невольно, как в животе пыщит, моркотно так встрепенулось, но поприжала алые губы снежной белизны зубами. Мелкие зубки, прихватистые, хоть орехи ими грызи. Бросила быстрый взгляд на государя, не заметил ли ее беспокойства.
«Али гнетет тебя што, государь? Не пристала ли на душу гнетея?» – жалостно спросила Мария Ильинишна и, оглянувшись, велела тут же крайнему с кубком романеи пойти прочь, не торчать за плечом, давая понять, что царю не до питья. Государь строго постится, а ее с рыбьей ествы и без вина тошнит: будущий наследник царицыны черева точит. Значит, и всему Терему нынче сидеть на крутом посту и сыто не кушивать.
«Да так, пустое. Не бери в ум, царица», – пожал плечами Алексей Михайлович. Но забота жены ласково легла на сердце.
«Не болит ли што, Алексеюшко? Вот больно сердит ты на поству. Иль дурное што наснилось?» – домогалась Марьюшка и вновь, другорядь за день, невольно дозналась о причине царской грусти. Верили во Дворце снам, чаяли в них истину и по ним тоже строили грядущую жизнь.
«Знаешь, какая беда. Конец света во сне привиделся. Из ума нейдет, – признался царь, и сразу полегчало на сердце. – Закрою глаза, и все воочию. Стоит и огнем пышется. Все как в Священном Писании. И земля огнем взялась, и пылающие птицы полетели, и град камением, и жупел кругом. И глас Божий. И антихрист было взошел на престол – и пал».
Пришлось сон поведать в тонкостях. Марьюшка, не встревая, слово за словом вытянула цареву печаль и докуку. «Это ли не гнетея? Такая забодает без рогов», – думала тайно царица, участливо, с любовию глядя царю в глаза. Ой, Марьюшка, святая душа, насквозь зрит... «Никона бы сюда. Он бы твое смотрение как в зеркальце прочитал. Святой сон, как бы послание от Господа нашего, – виновато улыбаясь, словно бы прося прощения, ответила царица. И пока говорила, более не подымала глаз. – Моего-то бабьего разумения стоит ли слушать?.. Коли ристать, бежат, пышкая во снях, значит, прочь стремиться от горя. Богородица тебе руку протянула, это ли не счастие? Лествицу скинула, помогла забратися на стену веры. А встати на ноги, вишь ли, ты не смог. Опоры нету. Больна твоя опора, не оперетися. Скоро помрет кир Иосиф, наш патриарх, и от сиротства возопит Русь. Готовься, Алексей. К тому и сон тебе, чтоб ты приуготовлялся. Вот и радуются нехристи, яко скимены, львы варварийские, готовы ухватить тебя за подолы и похитить в гнездилища змеиные, пока в скорби ты... Вот оно: крови нету, а горя не избыть. И мне тоже наснилося. И забойщик тут как тут с невидимым копием, прободил сквозь сердце: знал, басурманин, куда метить. Очервленилась земля, а на тебе руды ни с ягодку. Ой, не ко времени, на всеобщую кручину покидает нас патриарх... Послушайся, Алексей, меня: позови-ка в рассуждение печали своей нищего из потешных хором Венедихтушку Тимофеева. Он тебе рассудит лучше меня, видит Бог».
И снова подивился государь прозорливости жены и сразу уверовал в ее слова, не колебаясь. С этими чувствами он и спать повалился с обеда.
Под гусли Венедихтушки, под песни калик перехожих вроде бы и народился вымоленный Елеазарием Анзерским будущий государь; под песню о бедном Лазаре и вырос царевич. Венедикт всегда был древним, всегда слепым, так казалось Алексею Михайловичу: а нынче домрачей и вовсе закоренел и стареть перестал. Как говаривал Венедихтушко, он ослеп «от напряга» на бою в ополчении Минина, числил себя в родне с Иваном Сусаниным, спасшим боярина Михаила, будущего зачинателя новой царской семьи. Родичи Венедихта, все гнездо его пропало под ляхом, и бобыль, покинув сиротское житье свое, пристал к ватаге слепцов и отправился на Русь.
Однажды Тимофеев притащился с дружиною калик перехожих к царскому Терему, здесь был выслушан, обласкан и оприючен до смертного одра.
Первый царь любил потехи: на площади за соборами прямь перед Верхом устраивались качели на Пасху и ледяные покатушки на масленой; здесь на Троицу девки московские водили хороводы в столбовом наряде, о Петров день скакали на досках, на Иванов – плели венки и с визгом спешили на Москву-реку, чтобы угадать судьбу свою, тут водили потешного бахвала медведя и устраивали звериные бои; ватагою о Рождество навещали ряженые с харями, веселя государя и государыню самыми скромными выходками, тут колядовали со Звездою, ходили с мешками, прося царской милости. Вечерами на Верху постоянно играли в шахматы, шашки, тавлеи, саки, бирки, в карты. В потешных хоромах жили дураки и дурки в платьях, скроенных из цветных лоскутов и покромок; карлы и карлицы, калмычонки, арапы, домрачеи, бахари, гусельники, песельники, дудошники...
Но что приключилося с молодым царем Алексеем? Он напрочь на двадцать лет позабыл потешный свой Дворец и из всех потех оставил для услады охоты псовые и соколиные, медвежьи бои и волчьи осоки, походы на лосей и лесного и полевого зверя. Даже свадьбу свою с Марьюшкой играл по-новому: не плясали тут, не дудели, не играли варганы и цимбалы, не исхитрялись для пущей радости скоморохи и гусельники, домрачеи, скрыпотчики. А велел государь на свадьбе своей вместо труб и органов петь дьякам, переменяясь, строчные и деемственные большие стихи из праздников и из триодей со всем благочинием.
И был немедля разослан по Руси государев жесткий наказ: чтобы мирским людям жить по старческому началу, в домах и полях песен не петь, по вечерам на позорища не сходиться, не плясать, руками не плескать, в ладони не бить, хороводы не играть и игр не слушать; на свадьбах песен не петь и не играть глумотворцам, органникам, смехотворцам, гусельникам и песельникам; загадок не загадывать, сказки не сказывать, личины и платья скоморошья на себя не накладывать, олова и воску не лить; в карты и шахматы не играть, на досках не скакать, на качелях не качаться, с бубнами, сурнами, домрами, волынками, гудками не ходить, медведей не водить, с собаками не плясать, кулачных боев не делать, в лодыги не играть, не ворожить и не гадать. Ослушников на первый раз велено бить батогами, а после ссылать в украйные городы, а гусли, домры, сурны, гудки и все гудебные бесовские сосуды отбирать, ломать и жечь без остатка. Скоморохов же на первый раз бить батогами, а в другой раз – кнутом...
Государь Михаил Федорович, так любивший все русское, помирая, благословил сына на царство и сказал дядьке его Борису Ивановичу Морозову: «Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с веселием и радостию, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его как зеницу ока, – так и теперь служи».
И Борис Иванович Морозов, любивший свея и немца, ездивший в карете с зеркальными окнами, привил государю Алексею то особенное благочестие по Стоглаву и Домострою, которое напрочь отстранило душу царя от русских обычаев, казавшихся ему отныне лишь бесовским наущением, косным, грубым и мерзким позорищем, отвращающим народ от Господа... И на двадцать лет позабыл царский Верх потешную игру, песельников, гудошников, гусляров и скоморохов. И прежние бахари и домрачеи, сказыватели старинных русских подвигов, былинщики и старинщики уступили наследственное место «нищим», убогим, юродивым и блаженным, горбатым и расслабленным, что из потешного дворца вместе с карликами и дураками переселились в Терем.
...Убирался прежде за Венедихтом, как и за другими нищими, потешный сторож, а нынче государь приставил за слепцом арапку Савелия для уходу и перевел домрачея в сам Верх, в подклет. Выдали калике новый кожаный тюфак, набитый оленьей шерстью, подушку, крытую кумачом, одеяло бумажное стеганое, и весь тот уряд житейский, без чего трудно человеку, пока он бродит по земле: белье постельное да исподнее, овчинный кошуль, кушак дорогильный цветной, бараньи сапоги и шапку суконную с собольим околом. Обиходили нищего, чтоб не тужил, не плакался на забытость свою, да в общем-то и грех было жаловаться Венедихту Тимофееву. Во Дворце его любили доброй памятью, как старца увечного и благочестивого, стоявшего еще у зыбки государя. Вот и жалованья получил слепец от Алексея Михайловича на год десять рублей с полтиною, это при полной-то дворцовой естве.
...Алексей Михайлович, хорошо отдохнувши, намерение свое, однако, не позабыл, но он не стал дожидаться домрачея в своей опочивальне, а сам спустился к нему в келейку, постучался в дверку и вопросил, как в монастыре, по уставу: «Молитвами святых отец наших...» – «Аминь», – донеслось старчески, дребезжаще.
Арапка Савелий, неожиданно увидев государя, вылупил от счастия блестящие карие глазенки и сразу пал на колени: царь погладил его по лоснящейся кудреватой голове, в который раз дивясь мелкой, жесткой, почти звериной шерсти, излучавшей голубые искры. Арапка поймал государеву руку, счастливо поцеловал и белозубо оскалился, запрокинувши черную рожицу.
В келеице было жарко натоплено: арапка постарался. Старик сидел позабыто, ссутулившись, потупив взор полу и склавши коченеющие руки на острые колени. Так позабыто сидят лишь старики, словно бы виноватые, что еще живут на белом свете и заедают чужой век.
Слепец поднял отсутствующий, в то же время и напряженный, ожидающий взор, перебрал ногами, обутыми в валяные калишки. Что-то зоркое, осмысленное на миг мелькнуло в блеклых глазах нищего. Несмотря на жару, он был в стеганой рясе на овчине, из-под скуфейки спадали белые пенные волосы.
– Дедушка, как здравствуешь? – протянул государь с порога.
– Да слава Господу. Твоими милостями, государь. Вот гликося, всю сознательную жизнь отходил в маменькиных сапогах, то бишь босиком, а нынче-то благодать: башмаки сафьянные да бараньи сапоги. Вот помню, дружиной-то ходили: идешь, пыль загребаешь, босу ногу наколешь, да и заплачешь. Эхма, всплакнешь, матерь-то вспомянешь: зачем родненька на свет спородила. Ты садись, садись, миленькой свет-царь, с край меня-то садись. Сказывай, зачем пришел. Издаля слышу, идешь, значит. Ну, думаю, дожил, дедко: сам царь жалует. За-жил-ся я-я, батюш-ко, ми-лости-вец мой. – Венедихт скоро сплакнул; влага прозрачная и, наверное, бессолая уже, скопилась в коричневых впадинах и тут же, незаметно куда, источилась. Лицо у него было смуглое, прожаренное какое-то, и тонкая кожа туго натянута на скулах и иссечена мелко и слоисто, как трескается старая доска. Царь, словно силясь что понять, вглядывался в это знакомое с детства, но почти чужое в старости лицо; он туго соображал, зачем вот тут он, в келейке, возле душно пахнущего древнего нищего, будто бы знающего вещий смысл земного быванья. И неуж такие изжитые люди что-то хранят в себе? И невольно царь тайно взмолился и вдруг дал обет так долго не жить. Он испугался старости, безвольности и ненужности.
– Ну-ко, дайкосе ручку поцелую, Богов защитничек. – Старик поискал ладонью возле себя, нашарил пальцы государя и, наклонившись, поцеловал.
– Ествою-то не обходят? – спросил царь.
– Не, милушко. Это Христа нашего морили ироды, водички и той пожалели.
Домрачей неожиданно прокашлялся и запел Сон Богородицы:
Пречистая Дева Мария, Да где ты ночесь ночевала? Да где ночесь опочивала ? — На славном-то древе над Иорданом Ночесь мне-ка мало спалось, Много во снях виделось...— Да как не видеть, – сам себя перебил слепец. – Иной раз ночесь то узришь, что и веком не надумать. Как вот дверку откроют и тебя, значит, в другую жизнь кто вдруг введет. Ты небось снам-то веришь? Верь, батюшка родимый, верь, кормилец. Это с небес нам печати явные, чтоб не оступиться по дурости нашей. Эхма...
И он снова тоненько, скрипуче, жалостливо завыл, и слов-то из беззубого рта, наглухо уконопаченного седой бородою, трудно было понять: а царю и разбирать не надо, с младых лет знакомы те духовные стихи. Старик пел, а государь, шевеля губами, повторял:
И вижу: я чадо спородила, На Иордани реки омывала, Во пелены пеленала, Во пелены берчатые. Во поясы поясала, Во поясы шелковые. Иуды Христа продавали Да за три златницы отдавали, Жиды Христа распинали, На крест Христа разновали, Руки-ноги гвоздьем околотили, Буйную главу проломали, Горячую кровь проливали На бело лицо нахаркали...Государь дослушал духовный стих и попросил кротко, как велело сердце: «Дедушка Венедихт, рассуди. Вот нынче видел в полтретья ночи конец света. И ужаснулся. Такое наснилось. И с той поры прийти в себя не могу».
И Алексей Михайлович в третий раз на сегодня поведал сон.
– Ой, царь-государь, на дурную голову ты попал, – заотказывался поначалу слепец, но само собою вдруг приосанился, набрался характеру (ну как же, сам государь просит), медный складенек вытянул из-за рубахи и поцеловал: и, пока говорил с царем, не выпускал образ Богородицы из мелко трясущихся желтых пальцев с дряблой отставшею кожей. – Что может знать бобыль окромя живота своего? Что может поведать слепец, как только пожалиться на немочь свою? Как внити в душу чужую, сердешный, коли свету белого не вижу сколькой год. Аки конь стреноженный вокруг ларя своего крутюся, и что арапчонок спроворит, тем и живу. С чужих рук, государь, кормлюся. А ты совета просишь. Иль невмочь гнетет кручина?
– Гнетет, дедушко, – покорно согласился царь.
– Ишь ты, молодой молодец, а уже кручина. Вот и татушка твой, великий государь, благодетель мой и кормилец, от кручины помер. Боговы вы. Богом спасенные, мужиками вымолены, ах ты, прости дурака... Мужиками вымолены да спасены. Я-то уж стар, у меня кожа да кости отстала, во мне и гнить-то нечему, – вдруг мелко засмеялся старец и зачастил, воркуя, но меж тем взгляда блеклого не сводя с красного угла, с полицы, где тускло проступали образа да едва желтела лампадка-пиликалка. – Мне вот вас, молодяжку, жалко очень. Скоро грядет конец света, уже роженья березовые да кнутовья готовят для правежа. А вы еще и не пожили. Хочешь ли слушать меня, государь?
– Говори, Венедихт. Я твоего разумного хлеба сети хочу...
– Не осуди, как сон твой распечатаю не по сердцу... Прежде, милостивец, придет на нас антихрист и воссядет на стуле царском, государей попирая ногою. И станет судить не по добрым делам, а по козням, кто какое кому зло учинил, досадил чем, надсмеялся, кощуны какие устроил, дорогу перебег, злословил и срамотил: вот какие заслуги возьмет дьявол в расчет. И тогда многие, похваляясь, себя откроют, кто успел уже зело развратиться, стыд порастерял, и мрак свой, доселе скрытный, наруже выкажут, ожидая милостей антихристовых. И тогда всяк станет явен, как на солнушке, и невмочно будет таиться, и нельзя единому разделиться надвое. И тут-то внезапно нагрянет Сладчайший, Христосик наш, и примется судить по добрым деяниям. Ну-ка, скажет, разоболокайтесь нутром, притворщики и лицедеи! Небо и земля сотрясется, и падет с трона антихрист. Частые звезды на землю скотятся. Сойдет Михаил Архангел и затрубит в трубу живогласную: вставайте все, живые и мертвые, на суд к Богу! Бог сам зовет вас. По правой сторонушке идут души праведные, в лицах все светлеют, волосы яко ковыль-трава, ризы на них нетленные. Идут они на суд к Богу – радуются. Стречает их Владычица Мати Божия: «Подите мои христолюбивые избранные да покаянные, вот вам царство уготованное». Принимает их сам Господь Царь Небесный! По левой сторонушке идут души грешные, в лицах темные, одеяние страшное. Идут они на свою муку и слезно плачут. Господи, почто ты нас в царствие не впустишь? Мы все, де, люди христиане! И скажет им Христос: «Подите вы, грешные, проклятые, во три пропасти земные. Вы не мою веру веровали». Составит Господь все муки в одну муку, невзвидят грешные свету белого, не вслышат они гласу ангельского...
Царь-государь, да не устрашится того суда, есть еще времечко для тебя. Ты молод, ишо зелен: сладко разлижут, горькое расплюют. Дядьки своего Морозова поостерегися. Столкнет он тебя в ту пропасть. Уж больно народу нелюбый он да с фрыгой близко пасется, как с роднёю, и ближе. А немец до нас завистлив и досадлив. Вот и сон твой, как хошь понимай. Враки, так враки и есть. Что глупый старик набает тебе, кроме вранья, скажи на милость.
И понурился слепец, поняв, что молвил лишнего, со своим уставом, незваный, в чужой монастырь залез, снова сложил бессильные ладони на колена и весь погрузился во всегдашнюю одинокую темь. Он вроде бы и царя-то позабыл, так далеко отплывши. А государь, темнея ликом от последних намеков старца, так и не развеял кручины, недовольно покряхтел возле нищего и, не попрощавшись, покинул келью.
Глава четвертая
Богдан Матвеевич Хитров, разваляся в бархатном креслице, заучивал по Шестокрылу, изданному в Вильне в 1586 году, шабашную песню ведьм на Лысой горе, когда-то, говорят, подслушанную неведомым казаком. Книга была выменяна у немца-лекаря Давыда Берлова за полдюжины собольих хребтин в прошлом месяце и хранилась в страшной тайне. Залучив Черную книгу, Богдан Матвеевич смертно повязал себя с иноземным лекарем: за подобные забавы грозила царева опала и ссылка. Хитров не раз подступался к чародейскому письму, но с первой же страницы приходил в опаску: «Сия печаль премудрого царя Соломона притолковася от мудрого некоего ритора. Толк же ее сице расположился, яко зде ниже сего предложися. Зри опасно, увеждь известно».
Нынче же государь круто обидел Хитрова, толкнув ногою в лоб, и спальник отчего-то мстительно раскрыл Черную книгу. Лекарь Берлов был тут же в гостях, утешался чаркою романеи.
Читал обавную книгу карла Захарка; он притулился у ног хозяина на низенькой скамейке, покрытой тканым налавошником.
«... Вихара, ксара, гуятун, гуятун», – звонко печатал слова Захарка и вопрошающе подымал на царского спальника по-восточному печальные круглые глаза. Окольничий послушно повторял за карлой: «Вихара, ксара, гуятун, гуятун». И тут же бранился, де, сам черт ногу сломит в этой тарабарщине, оборачивался в красный угол и поспешно крестился на образа.
Лиффа, прадда, гуятун, гуятун, Наппалим, вашиба, бухтара. Мазитан, руахан, гуятун. Жунжан. Яндра, кулайнеми, яндра. Яндра.Лекарь Давыд Берлов встрепенулся, лицо его кисло скуксилось, будто съел жмень клюквы.
– О, майн Готт... Мой фатер и мой муттер не знали, что русиш такой пьянец и глупец. Они бы не пустил меня в Россию. Пропал бедный Давыдка, совсем пропал.
– Это не зазор, не-е, – оправдывался Хитров. – Наука из чужого ума. Ей в моей голове надо место сыскать.
– Хорошо, если найдется, – лекарь перестал ломать слова; он знал язык Московии, как свой, гамбургский. – Надо, чтоб отлетало от языка. Тогда дух будет от слова, испарение, туман. И польза... Гуту! Алегремос! Астарот! Бегемот! Аксафат, Сабабан! Тенемос! Гуту! Маяма, не, да, кагала! Сагана! – чеканул лекарь. – Вот как заучишь, Богдан Матвеевич, все ведьмы за тобою встанут и царь твой... – Лекарь Давыд Берлов засмеялся и пропустил пятую чарку романеи, с лихостью запьянцовского гуляки пристукнул серебряным донцем о стол. – Я тебе девку литовку подарю. Чародейка. Сквозь землю на сто сажен зрит, такая чертовка.
– А я чем отплачу?
– Дружбою... Докучать не буду, но и задремать не дам. – Берлов оправил кружевные манжеты на рукавах и выпрямился в кресле, будто проглотил мерный железный аршин. Был лекарь в пепелесом камзоле, в коротких штанах, перетянутых под коленями, в сиреневых чулках и башмаках рыжих с пряжками. Черный шелковый бант кустом расцвел на бритой кадыкастой шее, подпирая надменную квадратную голову. Густой волос подобран коротко, как кабанья щетина, и отливал сталью; глаза также сталистые, слегка навыкате, и жесткая щетка усов над тонкими язвительными губами, постоянно искривленными в ехидной усмешке. Статью своею, породой Давыд Берлов больше напоминал драгунского майора, чем лекаря. Богдан Матвеевич также разоделся за-ради гостя в красный камзол немецкого покроя, расшитый травами золотною ниткой, со стоячим узорным воротником, в шелковые белые чулки и башмаки из зеленого сафьяна, унизанные яхонтами. Этими дорогими каменьями и комнатными чувяками лишь и походил Хитров на русского боярина. Хитров нравился самому себе, часто поглядывая на высокое стоячее зеркало в черной резной раме, был сыт, слегка захмелен и потому миролюбив. Даже Шестокрыл на коленях карлы он принимал как за допущенную забаву и вольностью этой тоже гордился. Достакан, обвитый золотыми змеями с рубиновыми глазами (подарок Бориса Ивановича), был полон французского сладкого вина, и хозяин едва пригубил его. Хитрову льстило, что образованный лекарь из Немецкой слободы ищет с ним дружбы, и охотно принимал Берлова в своем не последнем на Москве дому. Хитров в левой руке, слегка жеманясь, держал фарфоровую ганзейскую трубочку с табаком и редко, но сладко потягивал ее, любуясь истекающим свивающимся в кольца дымом. Он скучающе обводил взглядом гостевую палату, обитую кизылбашскими дорогами, где по брусничной земле цветут золотные кусты. Эту восточную тафту Хитров сам подбирал для гостевой, чтобы особенно изысканно смотрелась мягкая и узорная, на птичьих лапах стоялая утварь, доставленная от дегов. По стенам висели четыре потешных немецких печатных листа из Библии Пискатора, купленные на Болоте в овощном ряду. Окна из веницейского стекла покрывали занавеси из астрадамской камки. Только образ Николы Можайского на полице да неугасимая лампада под ним подсказывали, что это хоромы православного человека...
– Мне Ордин-то, выскочка, каково... Ты, говорит, Бога не любишь. Это я не люблю? И Бога люблю, и все иные народы люблю, как завещал Господь наш, отвечаю. А он: что нам за дело до обычаев иноземных: их платье не по нас, а наше не по них. Это от зависти государю, чтоб сшибить меня...
– А что государь?
– Он ему отрезал: цени дерево не по цвету, но по кореню. Каково, а? Алексей Михайлович по мне без души, он меня всякому ханже не выдаст. – Богдан Матвеевич приосанился, взбил на лбу рыжий клок. – Я царю люб, он не даст мне измозгнуть понапрасну. Я заветное слово знаю. Верно, Захарка? – Хитров ловко поддел карлу со скамейки одной рукою и посадил к себе на колени, запустил пальцы в черный нарядный волос. Был карла в лазоревом немецком кафтане и зеленых сапогах.
– Батько добро помнит, – коротко сказал Захарка. Издали он вовсе походил на ребенка чистотою лица, какою-то прозрачной белизной кожи и брусничной яркостью губ, он был картинно, вызывающе красив, и лишь когда задумывался, погружаясь в себя, то в тускнеющих глазах сразу проступала тоска и возраст. Карла с хозяином были одного года.
– Тсс-с! – Хитров приложил палец к губам. – То страшная тайна.
– Я тайны твоей не решаюсь знать, – подольстился Берлов. – Ты человек верховный, не мне чета. Но знать бы хотелось.
Но Богдан Матвеевич оставил уловку без ответа: он рассеянно улыбался, покуривая трубку, и по-прежнему ворошил Захаркину голову. Да и то сказать: с тайною и сам человек иной, ему другая цена.
...А дело-то было из ряда вон. На медвежьей охоте в звенигородских лесах, когда царь брал зверя из берлоги на рогатину, подломилось вдруг ратовище, и Алексей Михайлович очутился под лесным хозяином. Подмял государя медведко и давай ворошить. И никого возле: ни ключников, ни стряпчих, ни окольничих, ни верных псарей, ни загонщиков, ни ближних бояр, ни думных дворян. Уже в памороке был государь, вовсе терял сознание, когда медведь, хрипя, вдруг отвалился на сторону. Это Богдан Матвеевич, бывший тогда в стольниках, оказался невдали, поспешил на помощь и кинжалом выпустил из медведя дух. Но странным было то, что царь на смертном поединке отчего-то остался один, без догляду и присмотру, словно бы вся челядь внезапно решилась проверить государеву судьбу. Происшествие затаили, грех свалили на случай, спасение на Господа и местночтимого святого Савву Сторожевского, но царь с тех пор баловал и тешил Хитрова, особенно приблизив к себе.
– Я тебе, Богдан Матвеевич, литовку дам во временницы. Она не только колдунья, но и целебница и утешница. Впрямь по-русски будет, ягодка красная. – Берлов поцеловал щепоть, но каменное выражение его лица не переменилось. – Аль струсишь, боярин?
– Никогда не трушивал и слово такое не ведомо, – веско упрекнул Хитров. – Трех агарян на пику брал и не пошатнулся. Ты, Берлов, дразнишься иль виды имеешь?
Давыд Берлов смутился, но тут же овладел собою.
– Ты, боярин, славный рыцарь. Этого не отнимешь. Хотя клянусь всеми чертями, что если бы десять татар поверстались в поле с тремя сотнями русских, то все ваши русские еле живы повалились бы на землю и дали бы развалить себя, как репу. – С этими словами Давыд Берлов приосанился и обвел гостиную палату таким победным взором, словно бы он-то и выиграл сражение. Вот вроде бы хозяев настрамотил, нагнал на честное русское имя напраслины, но ни капли сомнения иль смущения не мелькнуло в остром самоуверенном взгляде.
Но и хозяин-то каков, хозяин Хитров: он лишь крякнул, виноватясь за весь русский народ, и отвел глаза в глубокую оконницу, где виделся дальний краешек неприбранного апрельского подворья. И эта грустная картина неухоженности, какого-то всеобщего развала вроде бы лишь подчеркнула правдивость слов немца. Вон бредет едва челядинная баба, кажись, ключника Ерофея жена, с подоткнутым домотканым костычем, в опорках на босу ногу, и кому-то кричит озорное, и лыбится всем широким шадроватым лицом, морща нос утушкой, и показывает пальцами замысловатую фигуру, черт знает чему и рада только, дура набитая: солнцу ли хмельному, иль наводяневшему, едва живому снегу, иль близкой рыбной естве, – вчера привезли с Москвы-реки две дюжины двуаршинных щук, и вот нынче на всю дворню и челядь и самому Богдану Матвеевичу сварена ушица из живой рыбы.
У коровьего двора скотницы выкидывают навоз, готовя его под пахоту, и куры сбегаются к нему со всего двора, распугивая воробьев; желтеет гора свежих березовых поленьев; конюхи сметывают сено в лабаз, и тут же, широко расставив ноги, мощно прудит гнедая кобылица. Струя бьет со звоном в снег и прожигает его насквозь, до самой молодой травы, торопя ее наружу. И хотя из-за толстых каменных стен, из-за оконцев, больше похожих на башенные бойницы, ничего вроде бы и не слышно, но Богдан Матвеевич все дворовое, вседневное не только видит, но и слышит, и чует на запах, и даже кизылбашские мохнатые ковры, устилающие хоромы, ничуть не утешают. Все тот же надоевший вид, будто из поместья не выезжал, будто из деревни можайской да в иную, растекшуюся на семи холмах, как кисель, и никакой ложкой не собрать в кучу. Господи, скука-то!..
Так переживал Богдан Матвеевич московское окольничье сидение, хотя исполнилось ему намедни лишь двадцать восемь лет. Потому ничего и не возразил, но даже благосклонно кивнул, де, Русь не чета ни свеям, ни дегам, ни паршивым полячишкам, пожалуй, во всем мире не сыскать места похуже. Ни сварить толком, ни построить чего, ни ковра соткать, ни дорог стоящих, ни посуды, ни разговора. Зимой снег, весной грязь, летом пыль. Куда уж там равняться с немцем? лишь смиренно склони очи долу; вот и весь сказ.
Но заступился вдруг карла Захарка. Эта расписная живая кукла, будто бы слепленная из тончайшего фарфора, досель смиренно торчавшая на коленях у хозяина, встрепенулась и оборвала кощуны Давыда Берлова:
– Ты скажи еще, Давыдка, что мы скотьи дети, что у нас один глаз и тот на брюхе, а уши на заднице растут, что мы заместо курей яйца выпариваем, что мы грибы и ничтожный помет, что мы не мужики и не бабы, а дохлые собаки. Ах ты фрыга, прискочил за русским куском и лаешь... Как же это случилось, что русские по милости Божией взяли три татарских царства, разбили в пух и прах хана Мамая и твоего хваленого шведа немало гоняли, пока не запросил милостей. Вы, фрыги, от скупости даже кошачий помет жрете... Кукуй, покажи свой... – вдруг выпалил Захарка обидную для всякого немца дразнилку, подслушанную на московских улицах.
Богдан Матвеевич поначалу замешался, но не стерпел и неудержимо рассмеялся, сунул фарфоровую трубочку карле в рот; тот с отвращением сплюнул, вытер губы и закинул табачную соску в дальний угол к опечку. Хитров в назидание без сердца щелканул карлу в затылок.
– Ну, брат Захарка, ой уморил! Значит, кошачий помет едят? И неуж верно?.. А ты свой-то стручок нам выкажи! – задорил он дворового шута, так радый забаве.
– Покажу, так немчин от зависти помрет. Веком таких не видывал. У меня с загогулиной да золотой с серебром.
– Ой-ой... Золотой с серебром, – повторял Хитров, закатываясь в смехе, и все его голубоглазое, ребячье, в крупных веснушках лицо полнилось неподдельным удовольствием: он, хитрец придворный, лишь сейчас забылся и на миг стал самим собою, разгуляй-хватом, каким родила его мати. И стало понятно, отчего любит великий самодержец Богдана Матвеевича.
Но Берлов сидел туча тучей, тихо наливался грозою – а гнев Берлова на Москве знаком. Давно ли за поперечные слова купчине Марселиусу он горло перерезал, едва отвадились с тем. Поймав белесый от бешенства взгляд лекаря, Хитров успокоился, зарокотал, проглатывая остатки смеха:
– Ну что ты, будет тебе, Берлов. На Захарку, что ли, пообиделся? Так плюнь.
– Я вот ему сейчас дам чистительного, чтобы весь на лайно изошел. – Берлов расстегнул камзол, наверное, взаправду полез в зепь за порошком, а после, затаив что-то в пригоршне, потянулся к карле. – Вот сейчас тебе и будет струк...
Лекарь хотел поймать карлу за нос и промахнулся: тот ловко отпрянул, состроил испуганную гримасу, обнял хозяина за шею:
– Ой, что-то боюся я его, Богдан Матвеевич. Лутер поганый, алгимей, затянет он нас дуриком в ловушку.
– Поди на конюшни и скажи Федотке, чтоб тебе язычок притупили. – Хитров согнал карлу с колен. – Больно ты востер и неуважлив.
– Неуважлив, да верен, – откликнулся Захарка от двери.
Берлов, провожая карлу нехорошим, запоминающим взглядом, неулыбчиво посоветовал:
– Приказал бы ты его палками почесать... О, майн Готт, руссиш швайн... недопесок.
Хитров улыбнулся, подмигнул отчего-то заговорщицки лекарю и с ласковой миною сказал:
– Я и тебя прикажу постегать, что блюстися не хочешь. Будешь коли рычать, кончишь дни свои в Тоболеске. – Хитров налил немчине из братины и, столкнувшись своим достаканом с его чарою, доверительно продолжил, понизив голос: – Ты, немчин, хочешь меня ухапить, догадываюсь я, а из моей усадьбы становище сделать для своих бессудий. Да записать меня в свои лазутчики и прелагатаи. Не так ли?
– Оле! – вскинул руки Давыд Берлов. – Я к вам нижайше и изысканно... Почтению моему к вам нет предела, Богдан Матвеевич. Я шута поддразнил лишь, а вам причудилось. Вам, русским, везде снятся да видятся лазутчики и шпионы, словно бы у немецкого предпринимателя нет никаких иных видов. Мы устрояем жизнь, мы устроители, мы с рождения и до смерти строим свое благополучие. Я бы на вас положил обиду, но я вас искренне уважаю. Вы рыцарь! Оле! Вы большой человек! Какие претензии, Богдан Матвеевич...
– Значит, поблазнило мне...
– Вот-вот...
– Ну и слава Богу. Я немчин-то люблю. Хоть и заносчивы не в меру и жадны до безрассудства, но зато жить умеют...
Хитров недоговорил: в это время вошел дворецкий и доложился, что явился стольник с подачею от государя. Хитров приказал отворять ворота: он и сам видом переменился, приосанился, вся порода вылезла наружу, и лекарь, до того на равных сидевший с окольничим за беседою, сразу помельчал, отстранился за ту незримую черту, где положено быть слугам.
Богдан Матвеевич из поставца выбрал новую фарфоровую трубочку с розовым мундштуком, набил ее любекским табаком, на голову надел шапку червчатого бархата с собольим околом, внимательно погляделся в зеркало и пошел из хором, поманив с собою лекаря. На крыльце усадьбы он остановился, оглядел дом: в слюдяных оконцах увидал охочие до зрелищ лица многочисленной дворни; потом посмотрел вниз, где у медной пушчонки, захваченной у свеев с боя, застыл привратник, и взмахнул рукою. Привратник поджег фитиль, пушчонка лайкнула, два дюжих челядинина развели дубовые створки ворот, в проеме высокого, заостренного палисада показались теремные служивые. Впереди шел бедный князь Иван Мещеринов, недавно просивший Хитрова устроить ему воеводство в кормление, следом ключник нес серебряное блюдо со стерлядью паровой живой с царского обеденного стола, а замыкали шествие два истопника.
Стольник Иван Мещеринов отбил трижды земной поклон, и Хитров также низко поклонился, держа трубочку на отлете, не спеша спустился с хоромной лестницы.
– Великий государь Алексей Михайлович тебя, Богдан Матвеевич Хитров, подачей жалует, стерлядью паровой живой. – Стольник снова низко поклонился, Хитров махнул рукою, и дворецкий поспешно подошел, принял подачу, – а лежала на серебряном блюде стерлядь фунтов на двадцать, не менее, свежего волжского улова.
Хитров, не глядя за спину, снова приказал рукою, и затинная пищалица лайкнула другорядь: пусть соседи знают и завистливо разнесут по Москве, что окольничий Богдан Матвеевич Хитров царской милостью нынче отмечен. Отходчив государь и незлопамятен: вишь вот, утром в зубы, а в первом часу пополудни паровой стерлядью как бы прощения просит за обиду... Хитров пригласил князя Мещеринова откушать рыбки, но царев посланник учтиво откланялся: не всякое званье ко времени. И верно угадал: вторично Хитров не настаивал...
Они вернулись в Гостевую палату докушивать. Хозяина томило, что разговор вроде бы оборвался не в мирных душах. Лекарь – человек нужный: хоть и лутер, и обавник, и с чернокнижниками, звездобайцами знается, но опять же не хлебогубец, не бездельник, при нужном ремесле, в Кукуе, Немецкой слободе, человек громкий и при вожжах. Не в хомуте, не в погонялках, не в догонялках, но при вожжах.
– Немчин я уважаю, – продолжил разговор Хитров, невольно как бы заискивая перед лекарем. – А гречан на дух не переношу. Ведь как ведется: русского цыган обманет, цыгана – жид, жида – грек, а грека – черт. Худо, что греки к нам повадились. Мало что попрошайничают, так и свою волю на нас норовят. Не про них ли та старая притча. Слушай-ка... Звал ячмень пшеничку: «Пойдем туда, где золото родится, мы там с тобою будем водиться». Пшеничка сказала: «У тебя, ячмень, длинен ус, да ум короток. Зачем нам с золотом водиться, оно к нам само привалится». Так вот греки, как тот ячмень, нас куда-то манят, а куда, в толк не возьму.
Лекарь молчал, мотая на ус, но тут не сдержался:
– Слышно, царь гречан жалует.
– Государь знает, кого любить, – снова вдруг загрубился Хитров. – Никто не смеет судить царские думы. И не тебе, лекарь, свой нос совать куда не след. Ешь давай, немчин, да пей, пока взашей не гонят, и кончай брусить.
– О, майн Готт. Над каждым моим словом твой топор, – искренне вскипел лекарь и тут же дал отступного. – Повинуюсь, повинуюсь, мой господин. Только и хотел сказать: у патриарха кровь водянеет. Смотрели его нынче. И селезенка лишена природной теплоты. Недолго уж протянет. Ждите перемен...
На прощанье подарил Хитров Давыду Берлову серебряную чарку, из которой потчевал лекаря. Чем весьма удоволил гостя и притушил сердечную горечь.
Глава пятая
Никакие обавники, чаровники и травознатцы, никакие звездобайцы, гадающие о судьбе по звездам, не помогут вам попасть ни в бояре, ни в окольничие, ни в думные дворяне, ежели вы смерд, рабичишко, посадский человек иль бобыль, бедный казак, бродящий по чужим подворьям в поисках хлебного куска, а тем более, ежели ты челядинин, подневольный, дворня, глядящая из чужого рта: тут и вовсе кабала вам и всей вашей родове на многие колена вглубь и вдаль. Воистину: на чужой каравой рот не разевай; не тобой положено, не тобой и взято; на все воля Господня; одному у лопаты хлебной, другому – у каравая, иному о лыко запинаться, другому холить плесны в алых бархатных башмаках, усаженных яхонтами.
Значит, то верховенство, тот устрой недостижимы для ничтожного человечишки? что это – тын необойденный? стены крепостные необоримые? надолбы и решетки запретные? пали неперелазные? Да, эти препоны и рогатки неодолимы. Но можно взлететь над ними выспрь, подняться выше любого господина на Руси. Это путь служения Господу, юдоль тернистая, где слезы – за благодать, страдание – за радость, смирение – за ликование, вековечное одиночество – розовый куст; вертоград, где можно душу спасти, – иноческий подвиг.
Как душа бренной плоти, так и монашествующий архиерей всякому боярину духовный отец и путеводитель, учитель и наставник, словесный пастырь и перст указующий – он и есть та небесная гроза, коей следует всякое время опасатися.
Ведь не сказка же: бежал с Анзерских скитов монах Никон в заплатанной рясе, подбитой оленьей шкурою, и самосшитых броднях из нерпичьей кожи, самолично скроенных на манер медвежьих лап; тайно скинулся с морского отока бывалый сын нижегородского смерда Никита Минич, едва не сгубленный мачехою в русской печи. И вот через четырнадцать лет он едет вобрат на Соловки, как посол, исполненный царского долга, новугородский митрополит, защитник всякого бедного и подневольного, гроза монастырской братии, скорый на расправу и неистовый ревнитель за истинное русское благочестие; попадает через тысячи поприщ поморскою землею в избушке, уставленной на сани-розвальни, покрытой изнутри кизылбашскими длинноворсными коврами, завернутый в медвежьи полости и в соболью шубу до пят, с архиерейской панагией на груди, подарком государя. Что и осталось с собою от прежнего чернеца, так это десятифунтовые вериги, навсегда опоясавшие грудь...
Далеко растянулся поезд царева посланника, владыки Помория. Глядит в слюдяное окошко Никон быстрыми, нетускнеющими глазами, и сон его не берет, и долгая дорога с увала на увал не томит. Монастырями развешен его путь, колоколами отпет и расхвален; и уж вроде бы тайбола заснеженная уже поглотит и сотников, и стрельцов, и бояр, и князей, и челядь многую, и подводы со скарбом и ествою, и сани со стрелецкою поклажею, и всякую огневую и ружейную справу; но в воздухе все еще висит малиновый гуд подголосков и рокот становых колоколов. Сла-ва Никону... Слава Ни-кону, сла-ва-а... Долга попажа на Холмогоры, а оттуда на Лопшеныу, а после морем. Спи, владыка, отдохни, святой отче: вот твой клирик Шушера прикорнул в ногах и давно уж, знать, досматривает десятый сон: скуфейка смялась к затылку, обнажив морщиноватый багровый лоб, и сквозь неплотно затворенные веки в узкие щели глаз за Никоном слепо и немо приглядывает что-то темное, но зрячее. Хоть и спит Шушера, притомился чернец, но и в ночи зрит неотступно за своим любимым господином. Овчинная полость сбилась с колен, и митрополит осторожно, стараясь не потревожить служку, поправил ее. Качаются боковые фонари, заливисто скрипят полозья, бубенцы напоминают: «Не спи, не спи», очнется и понугнет лошадей верховой возница; слышно, как, почуяв заминку, подскочит, матерясь, бессонный сотник: видно, задремал монастырский работник. Пока долго спит повсюдная Северная Русь, ибо на ее просторах зима во власти, и редкие короткие оттайки еще робко благовестят о приступающей весне. Завалы снега, неторный, бродный санный путь, нет-нет да и тревожно падает на крышу избушки кухта с близких елей; где-то с протягом подает тоскующий голос волк ли, собака ли. Господи, как все знакомо митрополиту, сам страннический, Христовый воздух Севера побуждает к подвигу; здесь и настоялось, окрепло иноческое чувство Никона. Тут кто-то засмеялся в боярском возке, и гневно перекосилось лицо митрополита. В чернь слюдяного оконца видит Никон чье-то матерое, породистое, окиданное гривою волос лицо в дорожной лисьей шапке с собольим околом, взглядывается в него и не спешит узнать себя.
Оле!.. Где ты, прежний чернец? какую такую странную игру затеял с тобою Господь, выдернув из крестьянского зипуна и сунув в руки ключку подпиральную... Вопию тебе, вопию, во умилении зову тебя, Исусе, сокровище нетленное; Исус, богатство неистощимое; Исусе, нищих одеяние; Исусе, вдов заступление; Исусе, сирых защитничек... Неустанно шепчет Никон, поглядывая за собою в черный прогал слюды; иногда на протяжном извиве пути вдруг как бы сквозь его лик проступает длинная вереница зыбких обозных огней... Опять из соседнего возка послышались смех, забористая ругань, помянули нехорошо женщину. Наивные, шепчет досадливо Никон. Они думают жить вечно, не ведая того, что нога их уже занесена над провалищем и, может, этой неправедной минутою они уже запечатали свою дорогу ко Христу. Ишь, государю жалуются, что допираю молитвами, службою допек, изнемогли лодари. Стыд потеряли; почитают поклон Господу за тяжкий труд. Все хотят емати, а когда отдавати? Егда суд приступит и ожжет главу? Идеже взять уговорное слово, коли Божье не почитают...
Давно ли я, самохвальный слепец-иосифлянин, возгоржался, де, Руськая земля благочестием всех одолела; а нынь вижу, как прав был иерусалимский патриарх Паисий, когда зазирал и строжил меня за церковные вины, когда открыл слепые очи мои на всеобщее наше неустроение. Чем гордились, чем? Москва – третий Рим и крепость Православия. Оле! Церковь – содом и вместилище греха: омраченный пианством, вскочит народишко безобразно в церковь и давай беса править. Волхвы и еретицы, богомерзкие бабы-кудесницы окружили Христов дом, волшебствуя, и народ с радостью пьет тот лживый напиток... Воистину греки наши благоверные и благочестивые родители, и надобно им поклонитися. Лишь из Цареграда свежим ветром продует нашу затхлость. Вот и назаретский Гавриил был на Москве, плакался о нас и скорбел, не веря ушам своим, как лаются безумны человеци, говорят скаредные и срамные речи, творят блуд, и прелюбодейство, и содомские грехи... И то: каков пастырь – таково и стадо. Что с господина шапку тянуть и стыдить его, коли у самого попа колпак давно в бесстыдстве сронен; оттого похвальное слово ныне у не боящихся Бога дворян и боярских людей: бей попа, что собаку, лишь бы жив был, да кинь пять рублей.
Государь, сосуд благовонный, сердце неостудное, инок Христов в царских багряницах; кто более его кручинится и плачется о нестроении церковном? Как прощались, скорбел: де, пастыри церкви только именем пастыри, а делом волцы, только наречением и образом учители, а произволением мучители, любят сребро и злато и украшение келейное, имеют влагалища исполнена лишних одежд...
А нынь новая кручина – патриарх помер. Настигла весть в Холмогорах: плачется государь, де, Бог наш изволил взять от здешнего лицемерного света отца нашего господина кир Иосифа, патриарха всея Руси; а мать наша соборная и апостольская церковь вдовствует, слезно сетует по женихе своем, а как в нее войти и посмотреть, и она, мать наша, как есть пустынная голубица пребывает, не имеющая подружил, так и она, не имея жениха своего, печалится... Возвращайся Господа ради поскорее к нам, обирать на патриаршество именем Феогноста, а без тебя отнюдь ни за что не примемся... Ты, владыко святый, помолись, чтобы Бог наш дал нам пастыря и отца.
...Государь ждет, велит поспешать: прилучится что да замешкаю коли, пообидеться может. Греют царевы листы сердце Никона: куда дороже они всяких лалов и смарагдов, от них щекотный огонь и глаза щемит близкой слезою. Собинный друг велит поторапливаться. Вроде бы обручены души, окольцованы, столь они томятся друг по друге. Не спи, Никон, бодрствуй: тебе выпала воля дозорить над Русью. От твоего костра разлетятся искры, и подымется пал, и горящие галки полетят над землею, и свара людская станет обыденкой.
Оглянись, Никон: не замешкал ли на отвилке, той ли дорогою наметил ход от росстани, есть еще время вспятить отай, и никто не похулит, есть места на Руси, где можно так затвориться вновь, как бы пропасть навовсе.
Никитка, помнишь ли, как, оставя отчий дом, тайком, не спросясь отцова благословения, ты бежал в Макарьев в Желтоводский монастырь, где и стал послушником и строгая жизнь в затворе не томила тебя. В летнее время ты взбирался спать на колокольню в те недолгие часы, что доставались отдыху, чтобы не опоздать к началу ранней утрени, и благовестный колокол подымал тебя на ноги грозным, но и милосердным зовом...
Никитка Минич, еще не позабыл ли ты, как невдали от того монастыря в селе Кириково жил учительный священник Анания, а ты любил вести с ним духовные беседы. И однажды, набравшись смелости, ты попросил в подарок рясу – так не терпелось тебе постричься. И старый благочестивый поп сказал тебе: «Юноша избранный, не прогневайся на меня: ты по благодати Духа Святого будешь носить рясы лучше этой, будешь ты в великом чине, патриархом».
...Греют душу царевы листы. Лежат они в дорожной укладке в замшевом мешке под боком митрополита: ничей глаз не должен коснуться их переписки; ежели и живет какая тайна на свете, так это государевы письма к собинному другу.
Торопись, Никон. Это, послушествуя твоей затее, собрал Алексей Михайлович такое торжественное посольство в Соловецкий монастырь по давно усопшую душу за прощением, по святые мощи митрополита Филиппа. Это ты сыскал в преданиях византийских, как император Феодосии посылал за мощами Иоанна Златоуста с собственной молитвенной грамотой к оскорбленному его матерью святому. И поверил тебе мягкий государь, де, пока не покается синклит перед мучеником Филиппом, умерщвленным опричником Малютой Скуратовым, до той поры не будет на Руси молитвенного смирения, быть на земле разброду и ереси и не знать более должного покоя в великом царствии. Грех за невинную кровь пал на Русь, и надобно ей очиститься покаянными слезами.
В замшевом мешке вместе с перепискою и митрополичьей печатью покоится царево послание в Господний вертоград, что написал Алексей Михайлович самолично, никому не препоручая, в слезах и молитвах, бесконечно веруя, что его искренний глас безусловно достигнет святой души невинноубиенного Филиппа Колычева и он простит царский дом: «Молю тебе и желаю пришествия твоего сюда, чтоб разрешить согрешение прадеда нашего царя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно завистию и несдержанием ярости. Хотя я и не повинен в досаждении твоем, однако гроб прадеда постоянно убеждает меня и в жалость приводит, ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей святительской паствы. Поэтому преклоняю сан свой царский за прадеда моего, против тебя согрешившего, да оставивши ему согрешение его своим к нам пришествием, да упраздняется поношение, которое лежит на нем за изгнание, пусть все уверятся, что ты помирился с ним; он раскается тогда в своем грехе, и за это покаяние и по нашему прошению приди к нам, святой владыка! Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал: „Всяко царствие раздельшееся на ся не станет“, и нет более теперь у нас прекословящего твоим глаголам...»
Глава шестая
«Ханжа, на себя одеяло тащит», – вслух сказал Хитров и от своих слов проснулся. Оказывается, и ночью не позабывал Ртищева, его постоянно смиренный, опущенный долу взгляд, коротко стриженные, как кабанья щетина, волосы. «Тьфу на него! – Окольничий протер глаза и окончательно проснулся. – Святее Господа Бога быть хощет, а сам все куры строит, выскочка. Я ужо тебе хвост-то прищемлю, как будешь пред государем-то ластиться. Змей... одно слово Змей Горыныч. – Хитров вздохнул, с неохотою слез с пуховика. – Вчера девка Марыська просилася в постелю, не пустил к себе: больно жадна до утех, а после храпит. Ну их, бесово племя, к дьяволу. Одна усталь – и все... Что там Давыдко, лекарь, намедни баял? Де, патриарх отходит, завдовеет наша матушка-церковь. Небось тоже куры струит, свои виды имеет, шиш заморский, вот и крутит возле». И тут перекинулся мыслью Хитров, сам себе указал: ну, Богдаша, не трусь, перемененья надо ждать. Зашевелятся ныне ханжи, пришло время постникам, эко сдружились, шепотники, житья от них не стало. Ртищев-то первейший средь них закоперщик. Надобно слово и дело крикнуть, под пытку подвесть, нет ли средь них умыслу. Украину, вишь, громко славят да гречан, – не перекинуться ли хотят, а батюшка-государь на то очи закрыл. Ханжа приглазно сала кус съест – не утрется, а скажет, не скуксясь, де, огурец соленой... Верное слово стариками молвлено: не дай, Господи, делать с барина холопа, с холопа дворянина, из попа палача, из богатыря воеводу. Словить бы мне Ртищева, да в Земской приказ ко мне на правеж. Лично бы доблюл, штоб пошибче да без изъяну – без сговору с палачом. А то ишь наловчились, поганцы, дощечки в сапожонки пихать, чтоб палкою не достало... В друзьяки метит к государю, да тех же беспородных в Терем тащит. Что Матвеев, что Нащокин – на грош сотня. Знать, пришло перемененье света: мужик кругом правит, и никто породы не блюдет. А я сыщу, однако, на них оракула-звездобайца: как клопов изведет...
Хитров позвал карлу, велел подавать выездное платье. С улицы открыли ставни, но свету с воли едва пролилось. Весна нынче припазднивалась: на Благовещенье снегу с крыш – не охапить, в затишках сугробы под самые застрехи. Вчерась была Марья – зажги снега, давно пора вешнице быть, а тут без шубы не ступи: ох-ох-ох, воистину новые времена и Господь отступился от нас. Хитров вздохнул, перекрестился: на Варваре зазвенели колокола, какой-то служка раньше Кремля встряхнулся с постелей. Хитров накинул на плечи стамедовый халат на бумажном подкладе, еще очумелый, тупой со сна беспомощно пробежался по опочивальне, сам себе чужой, бедный, позабытый. Потрогал по-стариковски печку, изразцы едва отозвались теплом: ах, лентяи, ах, выжиги, их не встряхни – и сами заколеют, и хозяина выморозят.
Во рту было противно, будто коты ночевали: вчера накурился, а нынче мука. Вот дьявольская забава – пожурил себя Хитров, невольно потянулся к тавлинке с табачком, подсыпал на ноготь щепотку, вдохнул, зверски чихнул, и вся усадьба ожила. Захлопали двери, забегали по двору огни, вся челядь, более ста душ, неохотно, с натугою принялась жить. Хитров кликнул меду; Захарка принес ендову, отлил в кубок. Окольничий выпил, зажмурился – и тоже ожил, почуял, что молод, удачлив, любим государем – и холост. Этот негодяй Давыдка обещал литовку: яра, говорит.
«Слышь, Захарка, ты литовок знавал? Яры, сказывали, как воск».
Бессонный дозорный карла поднял на хозяина круглые, мучительно грустные глаза, особенно яркие на бледном лице.
«Да что вы, Богдан Матвеевич. Меду в какую посуду ни лей, он слаще не будет. Пока пьешь – услада, после хмель, а в конце слезы. Подсунет тебе Давыдка ведьму, покрутишься на помеле».
«Ох, брат, пошто ты не женщина? Тебя бы я полюбил», – искренне воскликнул Хитров и подмигнул Захарке. Тот вспыхнул, в бесстрастном немом лице пробрызнуло жизнью.
«Будет вам, будет, – с тоскою отозвался Захарка. – Во мне и так всего много, не по моему сердцу. Будто сам себе скудельница. И спать боюся, снится одна срамота». И не спросясь благоволения, в хозяйский кубок отлил из серебряной ендовы, жадно выпил с таким чувством, будто и не жилец.
Хозяин поглядел в зеркало, но смолчал, наливши из стеклянной посуды родостаму, обильно смочил затылок розовой водой, отбивая запах табаку, придирчиво оценил обличье, сам себе показался тусклым, потертым. Усмехнулся, тут же возлюбя себя: не с лица воду пить, рыжий да рябой народ дорогой. Не суйся на свет, но и в тени не застаивайся. Впредь тебе, Богдан Матвеевич, наука: не тот вор, что ворует, но тот вор, что попадается.
«Вот поскули еще, поскули, – пригрозил Захарке. – Все мы холопи государевы. Мне бы твои заботы, злодей Живешь, рабичище, как кот на печи. Будешь ныть, сошлю с Афонькою в Петрищево да оженю на Матрешке еговой, старой деве, карл плодить. Во, кобыла неезжена! За ночь не объедешь! Тамотки запоешь лазаря да и затоскуешь о московском житье».
Хитров погрозил пальцем в зеркало, подсматривая любопытно за карлою. Захарка смиренно поклонился земно, держа в руке ермолку; ендова с медом стояла на полу и для карлы казалась крестильной чашей. В густой темно-коричневой заводи ее купалось отраженье трав и птиц, коими был расписан потолок опочивальни. Каштановые, с шелковым отблеском волосы скатились на лицо Захарки, и хозяину послышалось, что карла плачет.
«Ну поди, кобеляка. Утрися. Ты мне за сына. Узнай, съехал ли со двора Афонька, да проверь клади. С приказчиком вместях. Такой он замотай и опойца... И возницу поторопи со двора, пока дороги не пали».
Карла направился из спальни, но хозяин вновь задержал его, ныне беспокойный, суматошливый какой-то; вдруг велел прочитать вести из Петрищева. Захарка принес письмо, встал подле окна, утренний лунный свет вытончил и заголубил его и без того прозрачное фарфоровое лицо. «Государю Богдану Матвеевичу холоп ваш Гришка да староста Ивашко Захаров челом бьют, – читал Захарка монотонно, с каждым словом подымая на хозяина грустный взор. – Здесь, государь, в вотчине вашей, дал Бог, здорово. Да послали к вам, государь, десять баранов, да три кадки творога, да оброчных дворовых Оленкиных, Максюткиных да Матренкиных триста яиц, да с Оксиньею послано, что прошлого году пряла, ее оброку две новины. Да всякого хлеба выслано, овса 65 четвертей с осьминою, ячменя 100 четвертей, гороху три четверти, гречи четыре четверти, пшеницы с получетвериком три четверти, да семени конопляного две третницы, да льняного семени выслано осьмина плавуну да пол-осьмины ростуну. Да милости у тебя, государь, просим, прикажи, государь, пожаловать рубашонок, ободрался, наг. Да послано, государь, вешной рыбы пять пуд...»
«Вот и сверься по этой памятке, чтобы приказчик не замотал», – приказал Хитров, дослушав письмо, и отсутствующим взором проводил Захарку до двери. Окольничий уже был мысленно в государевом Тереме.
...Богдан Матвеевич Хитров вышел на высокое гостевое крыльцо, обернувшись, почтительно перекрестился образу Богородицы, висящему в печуре над резною дверью. Был окольничий в охабне из объяри с золотными пуговицами и бархатной шапочке с собольим околом. Ступал он мягко сафьянными короткими сапожками, подбитыми медными гвоздями. У края лестницы приостановился, осмотрел подворье, почтительно склоненную челядь. Конюх держал, уцепив за мундштуки, темно-красного жеребца. Хитров не видел сейчас всего имения, этих клетей и подклетьев, амбаров и скотиньих дворов, погребов и дворовых служб, но по разноголосице в весеннем воздухе, по тому живому гулу, что перекатывался по широкому двору, по репищам, куда свозили навоз, и по саду, спускающемуся к Москве-реке, он верно знал, что холопы и без догляду чуют руку своего государя и не отлынивают, полагаясь на сговорчивость его и ухватку.
Хитров глубоко принял вешнего опойного воздуха, как из доброго ковша, расправил молодецки плечи и сразу протрезвел. Это на государевом дворе втай прочим он шута строит, по взаимному уговору с царем принял на себя веселую игру. Но на своем дворе и в приказах, где начальствует, он господин, и всяк, кто по нужде неотложной столкнулся с Хитровым, тот долго помнит твердую руку окольничего и цепкий пригляд. Нет того на свете, чего бы убоялся царский постельничий: не раз и не два хаживал с вилами на медведя и на нож принимал. Иль кто не знает на Москве Богдана Матвеевича? Он и над Земским приказом голова, и всяк при несчастье своем идет под защиту его, чтоб имение отстоять, иль землицы выторговать под строение, иль слезно пожалиться на чинимые соседом скорби; но он же, Богдан Матвеевич, и в Новой четверти владыка, под его началом все кабаки Руси, шинки и кружечные дворы, всякое питье в доходы с него, откупщики, и целовальники, и кабацкие головы; здесь дознаются, кто тайно курит водку иль пьет и нюхает табак, тут же и расправу чинят лиходеям и вольникам, скрытным шинкарям, особым поклонникам хмельного. В этом приказе и бумагу Хитров выправит, чтобы домашнего пива на праздник наварить, отсюда с дознанием стрелецкий пристав идет по Москве, вынюхивая, не вычинивает ли кабацкий голова какой обиды и тесноты царевой казне... Что скрывать, великий на Руси человек Богдан Матвеевич, и ежели досталось ему намедни от Алексея Михайловича, так из любви лишь, чтобы глупой голове неповадно было вознестись в гордыне. Ибо многие ли на Руси удостоены великой чести быть пред царские очи каждоденно!
Легко сбежал с крыльца окольничий, деревянные ступени поскрипывали под ногою, огладил жеребца по круто выгнутой шее, с помощью дворового осторожно поднялся в высокое седло, стараясь не помять парадного охабня, наискал сапогами короткие высеребренные стремена; один кожаный тебенек, выпущенный поверх стременного ремня, загнулся неловко, и конюх, сразу заметив промашку, упреждая грозный окрик, торопливо подбежал и разогнал защитную справу под ногою хозяина. Обласкивая жеребца корявой ладонью, дворовый обошел его, проверил подпруги, расправил на спине алый бархатный покровец, разобрал на груди галдыри из медных блях, разложил на горбоносой чуткой голове нарядный «ухват» шелка с кистями и ворворками. Окольничий терпеливо дожидался, скосясь влево и встряхивая плеткой; жеребец переступал, горячась, и шпоры с бубенцами весело перекликались. Слуга в зипунишке и собачьем рыжем треухе с батогом в руке поспешил к воротам. Хитров ударил оголовком рукояти по медной литавре, висевшей у колена, и тронулся к воротам. Двое холопов сопровождали возле, почти притираясь боками к жеребцу; густые черные брови под папахами, высоко заломленные над яростно жгучими глазами, выдавали южную горячую кровь. Нет, эти не заблажат понапрасну, не раскричатся, но будут хранить окольничего, не скупясь на колотушки...
Стояли в природе радостные утренники, с ночи снег еще не отволг, не вымягчел, и наст стеклянно хрупал, ломался под жеребцом. Топились в хоромах и челядинных избах печи, дым низко слоился под сереньким, уже отмякающим небом вдоль узких улиц, свивался в сиреневые кольца, опадая за Москву-реку в Скородом, а там, в Земляном пригороде, сплетался с прочей избяной гарью и зависал над Москвою плотным сизым туманом. Лаяли собаки в округе, звонили колокола златоглавых церквей, ржали лошади, выведенные из стойл, у колымажного сарая чинился плотник, сряжая телеги, колымаги и кареты к весне, мазал дегтем ступицы, клепал ободья, розвальни закатывали к пристенкам, задирая в небо оглобли. У воды на ветошных буграх смолили челны, и костровые огни с хитровского подворья в этой легкой утренней сумеречности виделись пока тревожно-багровыми, напоминающими военный табор.
У ворот окольничий, по обыкновению, полуразвернул коня и московские сиреневые холмы с садами и дубравами, с жадным вороньем и чайками, пластающимися над водомоинами, золотые шеломы монастырей и посадские хоромы охватил каким-то последним, запоминающим взглядом, будто прощался с жизнию. И как по зову, вся челядь тоже обернулась, свежо разглядывая то, что доставалось поймать утреннему взгляду, не сходя с места, и нося в себе эту картину до ночи. Молод Хитров, тридцати не распечатал, но житейской основательности ему не занимать. И по служебникам дворовым скользнул взглядом, поймал сытые, без капли тоски рожи – и остался доволен. Нет, эти не переметнутся, не кинутся в гиль, не бросят господина своего обезглавленным в навозную яму, что сделали с окольничим Траханиотовым. Да им ли и грешить? ествой не обнесены, одежонкой не обижены, не наги-босы ходят, живут как сыр в масле; знай блюди свое вседневное дело, к чему господином приставлен, – вот и милость к тебе; это не в вотчинах под оком приказчика убиваться на земле, в поте лица добывая для хозяина оброк. И скажите на милость, кому охота на десятину, на барщину, на соленую жизнь? Вот и глядят рабичишки Хитрову в рот, упреждая всякую его затею...
Окольничий вывернулся из ворот и широкой плавной ступью направил коня середкой улицы мимо мытоимницы, где немчины хранят мягкий товар, и восточных крикливых лавок с кизылбашской затейливой всячиной, мимо усадеб Шереметева, князей Буйносовых, Сицких, Хворостининых. Деревянная мостовая в пазьях уже выпрела от снега, там настоялась прозрачная снежница поверх тонкого коварного льда; жеребец уросил, всхрапывал, косясь на темные дворы, но ступал вкрадчиво, спокойно. Так и должен носить конь окольничего, у которого жалованья две тысячи рублей годовых, не считая подарков. Чем ближе к Кремлю, тем плотнее обтекал Хитрова народ; окольничий бил рукоятью плети в литавру, но мало кто внимал этой просьбе. Попадали в приказы старые бояре в каптанах, окруженные многочисленной дворней, молодые стольники, все верхи; стекался к Пожару с Неглинной и из Замоскворечья всякий служивый московский люд, кому край как надо нынче быть иль у патриарха, иль попасть пред царские очи, дети боярские и жильцы, стольники и стряпчие, монахи и священство в черных скуфейках, подьячие и писаря, стрельцы в алых зипунах при бердышах и саблях и сторожевые вахты, драгуны и государевы истопники, посадские и черная сотня, богомольцы и нищие, сбитенщики и калашники, разносчики питья и еств, челядь и вольница, страждущие и жалобщики, тут же обозы с сеном и говядой, рыбой и скобяным товаром из дальних и ближних слобод, – все попадали к Кремлю, гонимые заботой и безделицей, разбрызгивая наводяневший снег, порою проваливаясь по колена в водомоины, когда теснила, жарко дыша, конская морда.
Уже развиднелось, утренняя хмарь осела в речные низины, солнце ударило по теремным оконницам, светло зажегши их, скользнуло по цветным крышам боярских дворов, окрасило берестяные верхи посадских подворий; голубень протекла с неба, растворилась в уличной наледице, и эта вешняя вода заискрилась, слепя глаза купающимся солнцем. Веселее, суматошливее заполыхали на березах грачи, и вся многодумная, многоорная московская толпа воспряла, оживилась, и без того червленая, алая, зеленая, она впитала в себя и небесные краски; пожалуй, нет ничего пестрее на свете московской толпы. Нашлись и забияки, зачинщики, нарочито пырскающие бараньими сапогами в бабьи подолы: они пыщились, строя всякие куры, чтобы вогнать молодайку в краску; очнулись зубоскалы, баюнки, они уже хватили медовухи у тайного корчемника и сейчас задирали иль несчастного церковного служку, пытаясь стащить с него скуфейку и стоптать под ноги, иль седатого боярина в горлатой собольей шапке, неприступно восседающего в своем коврами убранном возке, упирающего старческие ладони в ореховый дорожный посошок с золоченым яблоком в обвершии.
Да и стоило ли неразумно собачиться с горлопанами и шишами, коли на свежей памяти недавняя московская гиль, стоптанный под ноги, растерзанный боярин Плещеев, коего палач даже не успел довести до плахи, чтобы исполнить царев приговор; еще вживе московская досужая молвь, как неистово праздновали злодеи в доме боярина Морозова, грабя живот его, когда жемчуг мерили пригоршнями, продавая полную шапку за тридцать талеров, золотую парчу резали ножами, деля меж собою, срывали с икон драгоценные ризы, а после святые образа, позабыв Господа Бога, выбросили из окон на площадь. Улица была во власти зубастых, неунывающих горлодеров и горлохватов с первым рассветным часом, и ни пристав с дубовой палкою, ни бирюч с плеткой-треххвосткою, ни немецкий наемный рейтар в железной шапке, ни стрелец с топором, ни казак с пикою, ни драгун с пищалицей не могли совладать с толпою; а верной служебной голове, попадающей к государю, оставалось лишь отмалчиваться, намертво утратив слух, доверяясь плечистым рабичишам, их кованому кулаку и грозному, забористому слову.
...Нет-нет, я отступаюсь, беспомощно никнет, застревает, утыкивается в бумагу перо, разбрызгивая чернила, ибо не в моих слабых силах передать вид утренней московской улицы, с которой уже смыло сон, и похожа она в своем вольном брожении чувств на поднявшееся дрожжевое тесто, готовое пролиться через край квашни...
Напрасно, Богдан Матвеевич, ты охаживаешь рукоятью медную литавру, никто не услышит ее; не случайно один иноземец сказал, посетив сей град: де, снаружи Москва походит на Иерусалим, а внутри на Вифлеем. Лучше пристройся-ка, Хитров, вон за той пышной каретою, обитой снаружи золотою парчою с подкладкой из соболей: снежная кашица пырскает из-под серебряных колес. Это карета Бориса Ивановича Морозова, царского свояка, пожалуй, единственная в престольной: слуги в дорогих иноземных ливреях стоят на запятках, челядь в красных зипунах, с палками, числом не менее сорока, обсыпала карету вокруг, решительно всех расталкивая, но зато сам боярин часто выглядывает в растворенное оконце и улыбчиво кланяется люду, снявши шапку; у Морозова низко стриженная круглая, как шар, седая голова.
Учен Москвою господин, сердце его полно недавней памятью, как вот эта, бредущая к Посаду вольница гнала временщика, яко несчастного зайца, травила его по Китай-городу, пока-то не ушел он скрытным ходом под Тайницкою башней в царев Терем. А после государь со слезами на глазах вымолил у толпы простить своего дядьку.
Морозов неожиданно оглянулся, задержав пристальный взгляд на всаднике, подслеповато признавая его, и Хитров почтительно поклонился, привставши в стременах. И подумал вдруг: а не подарить ли царю вот такую карету? От подарка никто никогда не бегал: у него такое свойство постоянно и невольно напоминать о себе. Да-да, подарю карету с иноземными картинками, кою видел намедни у купца Кароля Молина.
«Осади, осади», – кричали слуги Хитрова, пуская в ход палки, но не с тем усердием, когда по горячке и оплошке можно досадить попавшему под тычок мужику, а тот завопит, разблажится, подымет ор. Нет, махали больше для острастки, для пущего вида: де, не зря хлеб едят, чтоб господин видел рвение и ценил. Но тут же молодцев отбривали площадно: «Чей такой шпынь?» – «Да поповой дочки совсельник, у ней с утра гузно утирает». – «Эй, Мамай на пристяжке, натянем те глаз на шило». – «Бочка на вилах, закрой хлебало, а не то пар спустим. Ишь размахался дубьем, мы те пакшити с кореньем выдерем». – «Чей такой немтыря косоглазый?» – «Да Хитрова слуга». – «Не того ли Хитрова, чья корова соплями объелась?..»
Ну и к каждому слову, вестимо, соленый приварок, от которого и дубленые уши увянут. Тут главное не смутиться, не ввязаться в прю, а не то заедят, как лесовой гнус. А так полаются незлобиво, да и отстанут.
Через Ильинку Хитров выехал на Пожар; по правую руку близ моста через Неглинку на крестце его Земский приказ, с двух сторон обнесенный бревенчатыми островерхими палями: там с раннего утра видно муравьиное кишение, в писцовых избушках подьячие выправляют бумаги, жалобы, челобитные, слезные прошения; посадские толпятся у высокого крытого крыльца, добиваясь милости у дьяка Грамотина, кто-то норовит и попасть пред очи начальнику Хитрову; но тот нынче минует приказы, доверяясь дьяку: на правеже у должников выбивают деньги, учат, чтобы зряшно не займовали, жили по средствам, блюдя заповедь: «Беден, но честен». Кто-то не выдержит боя, вдруг завопит слезно, прося пощады у пристава, и иная православная душа, бродящая возле с калашным лотком, или с медовой палагушкою, или с квасною бадейкою, невольно зажалеет несчастного и перекрестится, поминая Господа и прося лишь единого, чтобы не поменяться судьбою со страдальцем.
На площади досужий люд сам по себе потерялся под красной зубчатой стеною: кто скатился на Болото к Москве-реке на рыбный рынок, кто подался к съестным лавкам на Неглинный мост, иные толкутся на Пожаре, сторговывая холсты да кружева, картинки немецкие да книги с лотков на Фроловском переходе через ров; богомольник да праведник, презрев суету мирскую, спешил к Успенскому собору, чтобы поклониться государю, может, и припасть к его руке, коли повезет, когда царь-свет проследует к заутрени. Ну а служивые всякого чину, кому необходимость быть на государевом дворе, поторапливаются к означенному времени ко Дворцу.
Хитров спешился перед воротами на царев двор, слуга принял лошадь и оружье, дальше проезд заказан под страхом немилосердного наказания. На что уж Морозов свояк царю, но и тот, тяжело отпыхиваясь, с одутловатым от излишеств породистым лицом, поддерживаемый рабами, вылез из кареты, обитой дорогими соболями, и пеши направился к цареву постельному крыльцу. Хитров земно поклонился, и боярин ответил ему, протянул ласковую мягкую ладонь, а после они троекратно расцеловались, не рядясь чином. От Морозова пахнуло вином, табаком и родостамом. Хитров с тайной ухмылкою подумал: «Небось табачку за губу принимал, не бояся царева гнева?» «Дай Бог здоровья». – «Слава Господу... И тебе того». – «Говорят, не нынче, так завтра патриарх отойдет?» – многозначительно спросил Хитров вполголоса, оглянувшись, не подслушивает ли кто. «Все в руце Божьей, – вздохнул Морозов. – Плачуся, оставит сиротами. Как нам жить?» – «Ханжи-то забегали. Перемененья хотят. Свариться бы нам не нать», – намекнул Хитров, вызывая боярина на откровенность: хитрая лиса, словом себя не выдаст. «Бог даст. Бог даст», – с грустным вздохом ответил Морозов и отправился в Терем, на ходу распахивая тяжелую шубу; молодые чины, жильцы и дворяне городовые, стольники и дети боярские почтительно расступились, земно кланяясь богатейшему господину Руси. Хитров какое-то время смотрел вслед, стараясь прочитать мысли царского дядьки: объегорит, ой, объегорит, лиса. Хитров отвлекся от толпы, залившей дворцовую площадь, взглянул на солнечный царев Терем и неизвестно отчего рассмеялся: иль от досады какой, иль от вскипевшей в жилах крови, иль от злорадства. И тут тело напомнило не ко времени: весна, ярится все вокруг, всякая былинка к былинке норовит приклонить, а он – сухостойна на юру. Жениться бы горькошенько надо: для кого хлопочет, закоим затеивает завод во Дворце, коли один на свете, как мних. Была баба-то утешна, но бездетна, оттого и затворилась в монастырь, а сейчас и вовсе из памяти списана. Но отчего на ум припала? Патриарх нынче помирает, большие перемены грозят, Ртищев да Зюзин втихую подсиживают, поперед хотят выскочить, а он вот, Хитров, не ко времени о тухлом племени затосковал. Да и то, какая в жене корысть? Словно собачья костомаха: не угрызешь, но и выбросить жалко. Давыдка, фрыга, литовкой дразнился, надо поторопить.
...Тут в окне царицыной палаты мелькнуло молодое женское лицо спальной боярыни, или мамки, иль служки какой, а может, и самой государыни. На сносях и разрешиться не может, опять же Алексею Михайловичу тревоги и печальные хлопоты. Хитров затуманился, любопытно выслеживая молодицу, пробежался взглядом по Верху и вдруг удивился тому, как, оказывается, причудлив Терем. Богдан Матвеевич прежде не замечал его пестроты, за много веков Двор достраивался по характеру нового государя, и всякий царь, возлюбя прошлое, из всяких служб ничего не убирал, не норовил роскошью затмить затеи прежних великих князей, но и проявлял личную волю и вкус, пристраивая свои покои. Вот и прежний государь жил в деревянном Тереме, заботясь о худом здоровье, но сын Алексей поставил себе новый, каменный, с высокой крышею на немецкий вкус.
Каменные и деревянные хоромы, покои и службы сгрудились вроде бы в беспорядке, но во всем этом виделась спайка во времени, словно бы великие князья особенно пугались развратиться, утратить минувшее. Сама летопись Руси прочитывалась в этой загадочной, неприступной пестроте золоченых куполов теремных церквей, шатровых кровель, резных флюгеров и оконниц, запечатанных витыми решетками цветных ставенок, узорных башенок, крытых крылец, галдарей, переходов, сеней, всевозможных палат каменных и бревенчатых, клетей и подклетов, повалуш и светелок, челядинных келеек и потешных садиков на крышах, где средь домашнего винограду важно разгуливают павлины. И во всем этом царском подворье, в его замкнутой таинственности, полной человеческих чувств и страстей, ютилось целое население челяди, дворни, служек и мастеровых, тех, кто питал, одевал и давал жизнь Кремлю; да по каменным стенам крома, да у всяких проездных ворот, да по башням столько приглядывает вахт, сколько всякого оружного народу дозорит – пушкарей и затинщиков, воротников и солдат, истопников и ключников, стольников и стряпчих, что посменно днюют и ночуют обочь государева семейства.
Это и был Верх, куда стремился всякий русский, чтобы глянуть хоть одним глазком.
Хитров опустил заслезившийся от голубого сияния взгляд на площадь, увидел муравьиное кишение народу, хотящего попасть пред светлые очи государя – и загордился собою, что он здесь, на Верху, птица-павлин и отеребить его, лишить осанки может лишь первый после Бога Господин. Богдан Матвеевич миновал площадь, и всяк служивый, кому не дозволялось бывать на постельном крыльце, смиренно кланялся окольничему, стараясь запечатлеться в его памяти, а после и напомнить о себе. Меж собой вся эта мелкая служба, мечтающая о будущем почете, могла свариться, собачиться, а то и вызывать на бои, сводить мелкие счеты на кулаках, – но все это был тот дворцовый низ, та приказная поросль, то мелколесье, из которого редко кто мог вытянуться, хотя бы попасть по чину на просторное крыльцо, где, казалось бы, всем места хватит. Но видит око, да зуб неймет: взойти на крыльцо и встать на площадке перед сенями тоже нужна воля государя. Всяк имеет невидимые крыла, всяк тешит втайности охоту вызняться из толпы наособинку, но не всяк взлетит. Одна мучка, да разны ручки.
...Хитров взошел неторопливо на высокое крыльцо, где кучились стольники и стряпчие, да думные дворяне, дожидаясь по нужде царева приказа, тут тоже шла тихая вековечная борьба за место, отсюда до смерти хочется угодить в Переднюю, откуда до царя рукой подать. Ежели постельное крыльцо напоминало лествицу в горний Иерусалим, к Христову престолу, то крылечная площадка Дворца – это врата в рай, но коли заступишь в Переднюю – это врата рая за собою затворишь, и никто отсель тебя метлою уже не погонит прочь. Тяжко подняться по небесной лествице, по грехам своим пройти грозное архангелово Око, готовое скоро отдать тебя на поругание сатанаилу: наверное, столь же тяжек путь к почестям на земле, ибо так краток срок быванья на миру. Не успел проснуться, протереть очи, а уже навсегда засыпать. Может, оттого столько дерзости и вражды меж людьми, что всяк норовит успеть, и потому позабывает, что переступающий Христовы заповеди будет томиться в аду всевечно и один год ему покажется за двести тридцать лет. Эх, кабы помнили о Господеве, разве эдак бы жили на белом свете?
И всякий, кто нес на плечах золотные бархаты и аксамиты, подбитые по подолу соболями, кто бездумно пересчитывал ступени в Верх, он уже лишь этим испытывал сердечную усладу, ловя косые, изменчивые, льстивые и завистливые взгляды. Слаб человек, и стоит ли его винить в честолюбии? Лишь бы там, поднявшись, на главном почете, не ожесточился он, не закаменел душою, ибо из Терема, с этого вот постельного крыльца так же легко безвозвратно скатиться к самому подножию, откуда начинал восхождение. Вспомни-ка, Хитров, приятеля Головина: пожалованный из дворян в окольничие, он бил челом государю Алексею, что окольничих в его роду нет и отец его при царе Михаиле был в боярах. За это челобитье Головин послан в тюрьму и окольничество ему не оказано, сказано другое: «Тебе, страднику, ни в какой чести не бывать: бояре приговорили тебя бить кнутом и в Сибирь сослать, да государь на милость положил».
Так и ты, Хитров, перещелкивая по ступенькам точеными каблуками, подбитыми частым медным гвоздьем, постоянно помни о том, что, неровен час, споткнешься и все потуги даром пойдут.
...Вдруг, распихивая толпу на крылечной площадке, пробежали мимо двое в красно-вишневых стареньких охабнях; окольничий едва успел отшатнуться, столкнули бы вниз. Одного Хитров узнал, то был из площадной писцовой избушки подьячий, другой же обличье свое прикрыл воротом. Они скоро скользнули с лестницы и скрылись за Успенским собором. Следом из передних сеней, ратуя о помощи, выскочил князь Дмитрий Мещерский.
– Дмитрий Иванович, чего вопишь? – поймал его Хитров, приобнял за плечи, прижал щекою к серому болезненному лицу. – Миленькой князь, чего сотворилось, что кричишь в худых душах? Не помер ли кто?
– Это ты, Богдан Матвеевич? Погибли, совсем погибли. – Князь, подслеповато кося, все выслеживал кого-то на людной площади, да кого там выищешь, что иголку в стоге сена искать. Найди теперь ярыжку. Хитров же продолжал придерживать Мещерского, то ли из шутки, подсмеиваясь, то ли соболезнуя. Князь же охал и стенал, горюя о проторях. – Ты погляди, мил человек. Что со мною сотворили! – потрясал князь полами нового охабня, крытого парчою: худородный, он, наверное, последнее житьишко положил, чтобы построить гостевое платно на долгие годы. – Только в стени ступил, слышу, неладное. Хвать-похвать, трех пуговиц золотых с правой стороны нету. Отрезали, собаки, унесли. И к левой поле примерялись, дьяволы, едва удержал. Это что же, Богдан Матвеевич, деется! – не сдержавшись, снова возовопил Мещерский. – Ты на вышине числишься, рассуди. Уже и на царевом дворе честному человеку защиты нету.
– Тсс, – Хитров приложил палец к губам. Народ на крыльце вострил ухо: непременно найдется ябедник. – На кого грешишь?
– Так, кабыть признал одного. Шершавый такой. Но боюсь охулку положить.
– И я его приметил. Ртищева шишига, все тут трется, – вдруг солгал Хитров, словно бы кто извне нашептал на ухо, толкнул на грех. И сам себе пообещал окольничий, что того ярыжку из писцовой избушки опосля приструнит, сгонит стружку, а ныне повинную свешу поставит Господу.
– Не видел, не поклеплю. У Федора Михайловича народ честный, – вдруг строго отказался князь.
– Выходит, я лгу? – взвился Хитров.
– Про тебя дурного не слыхать. Ты человек гордый. Но Ртищев – человек Божий.
– Ханжа он и потатчик. Скоро с тебя и штаны сымут, косой дьявол. Вспомянешь мои слова.
– Ох-ох, поганы твои устне, – сокрушился Мещерский, не давая себе воли. И только намерился прочь пойти от Хитрова, как тут же случился Ртищев. Он подымался от патриаршьего двора с горестным видом, готовый зареветь. Он было собрался что-то объявить, но Хитров заорал с верхней ступени, зловеще накаля синий взгляд; сытое лицо его лучилось торжеством:
– Ты, Федор, злодеям своим потатчик!
– О чем молвишь, никак в толк не возьму. – Ртищев недоуменно пожал плечами.
– А то, что твой Гришка Подхалюга у князя Мещерского путвицы золотные ножом отсадил и с собою схитил... Так-нет, Димитрий Иванович? Ты приметил и даже мне сказывал, плачучись, да и я близь видел, как он, вор, прочь побежал. Распустил ты вольницу, скоро и до нас приступят, как до боярина Морозова, с ножиками. Тогда-то воспоем лазаря.
– Федор Михайлович, дай Бог вам здоровья, – поклонился Ртищеву князь Мещерский. – Не говаривал я того, видит Бог. Чего не ухватил, то и меж пальцей. Напраслину на тебя не взведу. Ничего худого за тобою не знаю. Повадились те черти с Неглинной мельницы доступом нас брати.
– Ну, спасибо, князь, не дал греха на душу взять. Сослепу промашку дал. Не глаза у меня, оловянницы. С пустого места чуть не наклепал. Прости, Федор. – Хитров обнял Ртищева, притиснул к груди, словно бы собрался оборота постельничего. – Ну, пень ты, братец, листвяжный оскеп. Тебя и не ворохнешь. – Окольничий обернулся, мельком взглянул на князя: взор его, затуманенный, белесый, не обещал Мещерскому ничего хорошего.
И тут вдруг трижды ударил большой Годуновский колокол, внизу на площади закричали: «Патриарх умер! Свет наш закатился!»
– Вот так-то, братцы... Осиротели мы, – горестно всхлипнул Ртищев, не стесняясь слез.
Глава седьмая
Привелось патриарху преставиться в Великий Четверг, пятнадцатого апреля. На носу Велик День, а всей Руси как бы грозою пригрозило: осталась церковь без пастуха, занедужила тоскою, и всякого смиренного человека одолели слезы и ужас: как дале-то жить, невольно воскликнул каждый, чем боронитися от врага рода человеческого, что неустанно караулит возле православной ограды, ждет слабины и изъяну в слабой душе. Последнее время хворал кир Иосиф, водянка томила и кончина его виделась возле: и всяк подле патриарха, зная его страдания, приуготовлен был умом встретить горестное известие. Смерть всех прибирает, никого не позабывает на земле: каждого когда-то отнесут на погост и закопают. Но всякий раз Это случается неожиданно, и никто во внезапно растворенные двери не успевает глянуть хоть одним оком, чтобы приметить и узнать Уход.
Вот он, сердешный, отмучился, лежит в ящике с кротким лицом: пепелесая борода выпростана на грудь и расчесана келейным служкою. Может, чью-то небесную подсказку подслушал и распрощался с землею; может, смуту почуяло его иноческое сердце и, пугаясь грядущего, что приступило к русскому порогу, разглядев скрытое обличье нового зла, отступилося продлевать быванье немощному телу. Что говорить: разброд затеивался в русских просторах: и латинянин, папежник, зарубежный лутер и смутьян с готовностью разжигал новую искру, что пока лишь шаяла, терпеливо и неустанно ища сухих древес по боярским хоромам и в подворьях гостиной сотни. Давно ли смута отполыхала, унеся с собою немилосердную дань, давно ли земля, погрязшая в гресех и изменах, взывала своего защитника и радетеля, и вот, еще не отдохнувшая, не исцеленная, уже готовилась к родинам новых страданий: что-то чужое, немилостивое засеялось и неустанно путало ее своим кореньем, но Русь, предчувствуя новое лихо, пока не могла обнаружить болезни, а потому и безъязыко тешила, вынашивала ее покорно в своем лоне.
Давно ли плакался Иосиф царю: де, духовник Стефан Вонифатьевич сеет в церкви смуту, зело оборзел и, неистовствуя, всякие дурные слова клеплет на него, не зазрясь страху Господнего, рычит, будто в Московском государстве нету церкви Божией, называет его, патриарха, волком, а не пастырем; и такожде обзывал многажды богомольцев твоих, весь освященный собор волками и губителями, и тем бесчестил; да еще жаловался патриарх: де, скинуть его хотят, низвести с патриаршества, но он, Иосиф, той минуты ждать не станет, когда его с бесчестием погонят прочь...
И вот он лежит, миленькой, в повапленном гробу, и царь из притвора церкви Ризположения смотрит в двери полунощные, удивляясь, что в храме пусто и нет сидельцев возле, ни игумнов, ни той постоянной верной службы, что вчера еще так раболепно толклась возле Иосифа, выпрашивая милостей. А нынче он одинок, и никто не рыдает, и лампады тлеют, как зимние небесные звезды; и лишь одинокий священник, отстранясь от гроба, кричит Псалтырь на всю церковь, и двери отворены на все стороны света. Да полноте, святитель ли покинул сей мир, оставя церковь в сиротстве, и вот нынче сам одинок, как келейный затворник далекой северной пустыньки.
«Да чего ты не по подобию говоришь? Вопишь как оглашенный. Иль запамятовал, по ком рыдать нам?» – строго спросил царь, приблизившись ко гробу и удивляясь припухлому, розовому лицу покойного.
«Прости, государь, – повинился священник Филофей. – Страх нашел великий. В утробе у святителя безмерно шумело, так меня и страх взял. Вдруг вознесло живот у него, государя, и лицо в ту же пору стало пухнуть. Я подумал, что ожил святитель, для того и двери отворил, хотел бежать». Тут в утробе мертвенького что-то запоуркивало, запохаживало, да столь шумно, что и царя вдруг страх охватил: понимал, что грыжа в животе переливается, ищет спокою, но одно дело в уме понятие держать, другое – душу умирить от беспокойства, коя чует во всякой странности умысел неверных. Вот и затеялось Алексею Михайловичу, что стоит лишь обробеть да побежать вон, вскочит покойник из гроба, настигнет и удавит. Едва остоялся молодой государь и устыдился страха: чего я боюся? Ведь давно не дитя, из ребячьего возраста выпал и знаю черед, означенный Господом. Лежит в колоде святитель-покойничек, бренный телом, из земли создан и в землю стечет. И я такожде когда ли в свой час сойду вниз. И подумал государь о себе, как о древнем. И, перекрестясь, взял молодой царь руку патриарха, уже ледяную, негнущуюся, и принялся целовать, прося прощения за испуг. Что-то вроде бы жило в лице патриарха, по нему скитались неясные тени, шли мучительные боренья, но он упорно не открывал глаз. И лишь государь выпустил руку, тут в устах покойника и треснуло: может, что силился сказать святитель иль душа наконец-то мучительно вышла вон. И заплакал Алексей Михайлович, не сводя взора с лица покойного, и подумал: вот взнялась душа праведная, витает надо мною, радуясь свободе, и скоро предстанет на суд архангельский у врат Господних, и не будет ей препон и ков, никто не осердится праведнику и не предъявит жесточи. А ведь и моя душа в свое время отправится к Богу, и какие муки ждут меня там, грешного и мерзкого, за злые дела? Прости, владыка, ежели перечил в чем, иль упадал в гордыню, иль обидел обычаем каким, иль ненароком; не держал я на тебя сердца, видит Бог, и ссадить не хотел с места, как клеветали тебе о том, да и помыслить о сем страшно, чтоб на такое дело без Собора идти.
Неслышно ступая, вошел в церковь окольничий Ртищев, пал перед гробом святителя на колени и зарыдал, причитывая в голос и казня себя за грехи.
В Субботу Великую погребли Иосифа, а сразу же за Светлым Воскресением, не мешкая, никому не доверяясь, царь поспешил в патриаршьи покои, чтоб самолично описать келейную казну. Да и то истинно сказать: стоило бы промедлить днем, живо бы ополовинили патриаршье имение, схитили, покрали, а после дознайся, что имелось во владычином житье, ибо редка была та статья, что записана, а больше копилось без учету; Иосиф каждую вещь в уме держал. А осталось в келейной казне денег одних тринадцать тысяч рублей с лишком, а сколько сосудов серебряных, блюд, сковородок, кубков, стоп и тарелей – бессчетно. Скупенек был покойный, за ним эта привычка водилась: прижимист был и прикапливал со всей огромной патриаршьей области в свою домовую казну. Да и верно: не для себя хранил, не себе потакал ради стяжателя Мамоны, но ради устроения церкви; всякий грош тешил Иосиф, со страданием выпускал из горсти, и в том, что келейная казна полнилась, находил странное утешение, будто тем самым особенно приближался к Господу за свое вседневное страдание. Святитель велик не тем, как беззастенчиво, радуясь щедрости своей, растрясает попусту деньгу, но как полнит патриаршьи сундуки. У скупа не у нета, есть что взять.
Плакали попы от Иосифа, лили слезы царю на своего господина, но государь в том деле патриарху не указ. Прежде попы ставились у местных архиереев, а Иосиф запретил, желая собрать патриаршье имение. Попам перехожих грамот давать не велел по городам, но лишь на Москве из Казенного приказа, хотя обогатить дьяка своего Ивана Кокошилова на подьячих. Перехожая из церкви в церкву обходилась иному беззаступному попу рублей в пятнадцать, кроме своего харчу: волочились бедные по престольной недель до тридцати. Иной несчастный священник насквозь проестся, да и уедет прочь ни с чем, а попадья с детишонками тем временем меж дворов скитаются Христа ради. Так и строилась патриаршья кладовая.
И о том припомнилось государю, когда он переписывал келейную казну в ларях и печурах, по сундукам и по лицам, дивясь той бережливости, с какою патриарх стерег имение. Всякая вещь иль в бумагу завернута в несколько слоев, иль киндяком окручена. Приказав патриаршьему служке никого не допускать до кельи и не тревожить, с особенным удовольствием принялся царь к досмотру казны, погружаясь в чужой мир и дивясь его прелести: всякая вещь, тарель, иль потир, иль церковный сосуд хранили в себе след художной руки и отпечаток таинственной, давно отплывшей за земные пределы души: прелесть всякой вещи ворожила в царевом сердце тихую радость и чистую зависть. Сколько раз Алексей Михайлович едва не покусился на иные сосуды – так хотелось обладать ими, но лишь милостию Божией воздержался от греха. Казалось бы, чего царю-то себя сторожить да честить, всякая тварь в государстве ему в поклоне и жизнью обязана; втрое и вчетверо мог бы государь цену дать, но остерег себя. И то, что руку не положил на чужое, не отторг для царева имения из келейной казны, и от людей не будет зазорно, и душу стыд не выест от напрасного завистливого греха, особенно грело государево сердце. Тяжело пересиливать искус, утихомиривать гордыню самодержцу, когда все на земле подпятно тебе; и если оборол мгновенную слабость, не поддался сластолюбию, то как бы брешь в ограде душевной вовремя уловил и залатал от невидимого луканьки.
Достал государь из ларя сосуд, запеленутый в синюю крашенину, и, приблизив его к свече, долго любовался кубком, где на стояне отлита из золота святомученица Екатерина. После старательно записал в столбец, находя живою каждую буквицу: «Жонка золочена литая, на голове венец, в левой руке книга, возле ее полколеса со спицами».
Глава восьмая
Из шести прошаков, приставших к Казанскому собору на постоянное кормление, пророчица Анисья слыла особенно крутой и нравной. По словам Аввакума, бесы ее грызут. Вопль нищенки: «В ад толпою... заждались вас тамотки... в ад всех» далеко слышался с паперти и побуждал богомольцев, перемогая испуг, толпиться возле старухи. Была она коренастой, с мужскими плечами, в дырявой ряднине, сквозь прорехи откровенно смотрело на мир ее нагое, остамевшее от стужи тело; старуха ширилась на еловом пеньке, как выскеть, загораживая собою дорогу в собор, и всякому прихожанину невольно приходилось протискиваться подле нищенки. Анисья норовила зло пригвоздить ключкою в ступню богомольца: ореховая палка с медным крестом в вершинке в основании кончалась стальною пикой, и этим осном пророчица с постоянством метила в ноги, отчего-то всегда промахиваясь. Протопоп Юрьевский Аввакум, помогавший в службе Иоанну Неронову, не раз пытался смирить нищенку, прилюдно волочил за седые космы по паперти, и старуха, брызжа слюною, кричала, не жалея луженой глотки: «Кобель, бесстыжий кобель, страмник. В аду-то ужо припекут, страмник».
...Обедня кончилась, и московский люд степенно повалил из храма, обертываясь к образу Богородицы, висящему в печурке над дверьми, молясь истово и земно кланяясь Госпоже. После, почитая за правило, всяк норовил подать пророчице деньгу или полушку, но Анисья брезговала милостынькой и, сквернословя, отталкивала руку. И всякая бабенка, конечно, полагала себя счастливою, если пророчица принимала Христа ради. Вот и сейчас, запрокинувши до предела лицо и щурясь обметанными лихорадкою глазами, она взывала яростно, ненавидя всех: «С вами не стакнувся на поддельных. Хотящий меня купити, растлен бысть на огненном ложе...»
Боярыню Федосью Прокопьевну Морозову плотно окружали хоромные девки, чтоб ненароком посадские жонки не навредили, не оприкосили госпожу: спела молодая жена и ждала чада. Одесную от боярыни шел старый кривой слуга с замшевым кошелем: Федосья запускала руку и подавала милостыню. Пророчице боярыня подала копейку серебром; нищенка повертела, попробовала на зуб, плюнула на царское титло и швырнула с паперти. Вроде бы людно было подле собора, но звон серебряной копейки услыхали все и, как по оклику, замерли, ожидая зрелища. Федосья вздрогнула, гневно вскинула голову, румянец схлынул с крутых скул.
«Чего уросишь, кобыла брюхатая? Нендравно-о, еюш-ки, охтемне – чушки. Всем златом-серебром не вымолишь у меня рая. Сблудила от змея змееныша».
Нищенка, наверное, сама своих слов напугалась, споткнулась и выжидающе вперилась взглядом в неживое Федосьино лицо.
«Ну ты, ну ты, нищебродка. Я тебе язык-то поурежу», – наскочил на прошачку кривой слуга, но Федосья отстранила его, склонилась над старухою, всматриваясь в синюшное от страданий лицо с паршою на водянистых губах.
«Ты за что меня так костишь, тетя Анисья?» – спросила боярыня нищенку полушепотом, так что и девки хоромные, поди, не разобрали. Вздрогнула и расплылась белесая муть в глазах прошачки, в их глубине заметалось что-то живое, покорное, ждущее прощения, и вдруг увидала Федосья, пусть и на мгновение, бабью тоску. И сразу замирилась молодка и суеверно перекрестилась. – Ты за что меня прикосишь, старая? Я ведь сына жду. Молись ежедень за меня Христосику. – Федосья, принагнувшись, помиловала нищенку по волосяному колтуну, жалостливо, уже чуя себя матерью, стянула на старухе полы зипуна, запахивая от вешнего ветра отвисшую нагую грудь. Анисья вяло отпехивала Федосьины руки. Боярыня, не брезгуя, поцеловала медный крест на посошке пророчицы, снова подала копейку. Старуха примерилась к серебру, выжидающе взглянув на боярыню, и положила копейку в рот.
«Чего зыришь глазами-то? – спросила она непокорно. – Из лайна злато, из злата лайно. Угадай! – Она сварливо пожевала синюшными губами; Федосья чего-то медлила, челядь ждала, окружив каптану; гнедые лошади, увешанные собольими хвостами, нетерпеливо звенели висячими серебряными поводьями. – Из серебра ешь, девка, а жадишься. Я б тебя на рог посадила, да Бог не велел. У скупых рога на лбу растут, у добрых – куст золотой». Анисья так приметливо взглянула на боярыню, что той невольно захотелось дотронуться до лица. Она давно невзлюбила эту старуху, но упорно бывала в Казанском: то ли выслушать проповедь Неронова, то ли отповедь Анисьи...
Взять бы и пойти... Вот и челядь заждалась, тоскует дворня: пора ествы, а еще до усадьбы не попали, и повара без хозяйки спали, поди, и господин все жданки съел; нынче, вот, по приказу государя, в Литву собрался. Ну что ж ты, хозяюшка, какого наказа ждешь, или милости, иль прощения? Под твоим началом Россия вся, всяк твой взгляд ловит, так что закодолило тебя, милая?
Вдруг вспыхнула боярыня, капризно скривила наспелый, готовый пробрызнуть кровью припухлый рот с каштановым приметным пухом над верхней губою; на круто вздернутом, с крупными ноздрями носу вдруг высеклась и пропала странная морщинка; лицо юной боярыни стало мужиковатым и злым. Хорошо Глебушка, Глеб Иванович не подсмотрел ее такою. Не владея собою, боярыня ненавистно заторопилась прочь, кляня себя за недавнюю слабость; ей хотелось прилюдно сплюнуть кисловатую медную горечь, скопившуюся во рту от того поцелуя. А нищенка, привстав с колоды, раскинула по-вороньи костлявые руки и загарчала вдогон боярыне на всю соборную площадь: «Вот ужо, погоди! И я была не оборка от лаптя! Со мною вровень встанешь на карачки, дак вспомянешь Аниську! Еще приползешь ко мне за милостыней!»
По приступку, обтянутому червчатым бархатом, Федосья гордо вошла в каптану, комнатные девки по-мужски уселись верхи на конь; челядь с палками наизготове окружила боярский поезд; Федосья задернула слюдяное оконце тафтяным запоном, прижалась к стене избушки, призакрыла глаза; дернулись с напрягом слегка пристывшие полозья, в чреве боярыни ворохнулось, позвало, истомою обволокло тело; слабея, Федосья вяло присдвинула запон, в щель украдкою отыскала взглядом соборную паперть; нищенка Анисья сидела на колоде неряшливо, как куль дерюжный, бесстыдно заголив ноги, и тупо зевала; вдруг посыпал ситничек из прозрачно-голубого небесного половодья, он пролился на Москву, как мелкий речной скатный жемчуг, и нищенка, наряженная в эти завески, на миг осветилась вся, стала прозрачною.
«Ой, дура я, дура... Чрез нее на мои вины Бог указует», – запоздало, с раскаянием подумала Федосья и смежила веки.
Грешно гневаться на унывного лазаря: ты его обогрей, с собой за стол усади да спать уложи, памятуя – богатым серебро дарует Бог нищих ради.
Всяк на Руси сызмала помнит, как Исусову молитву, что нищие – это краса церковная, Христовая братия; а тихомирная милостыня введет в Царство Небесное, в житье вековечное.
От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Много путей к богатству, но к нищете – один. Чужую нищету не поймешь, Пока сама тебя не запряжет. Блаженны нищие духом. Нищий силен смирением, богат нищетою. У нищего один заступник – Господь Бог. «... Спроговорит Христос да Царь Небесный: – Не плачьте-тко, нищая братия, Не рыдайте, убогая сирота; Оставлю вам гору да золотую, Оставлю вам реку да медовую, Оставлю вам сад с виноградом, Да будете вы сыты и пьяны, Да будете обуты и одеты, А от темной-то ночи и укрыты...»Ниже нищеты – смерть: нищий помирает на седмице не единожды и вновь воскресает, чтоб помянуть Христа.
Нищий богатым питается, а богатый молитвой нищего спасается.
Милостыня нищему – соломинка через ад. Так будьте же, люди добрые, милостивы к сироте. Не гневайтесь, не гнушайтесь нищего, ибо в его слезах алмазом блещет слезинка Христа...
Всякий неоприюченный прошак для русской деревни великий грех; ежели заведется такой из погорельцев, иль из военных калек, иль по здоровью убогонький, иль изжитый сирота-бобыль, иль вдовица в преклонных летах – они для деревенского мира, как Христовое дитя, не могущее себя обслужить и требующее присмотру. Но коли заведется в сельце забулдыга какой, огоряй, распьянцовская головушка, кабацкий ярыга, иль конченый вор, иль последний шалтай-болтай, у коего от лени руки отсохли, а мир на истину не сможет настроить, то бери ключку подорожную и шагай в бродяги. Если дорогою не перекинешься в шпыни, зеленые братья, то на твоем пути падется Москва, она и подберет. От многих денег в престольной всегда нищему кроха перепадет. Любит купчина милостыней дорогу в рай мостить.
Изрядно таких подорожников завелось после смуты, польское нашествие, самозванцы и долгое лихо согнали насельщика с пашни, ввели в прелести пьянства и разбоя, кому кабак стал домом родным; кормится такая забубённая головушка с татьбы, с кистеня да топора по угрюмым лесным тележницам, пока-то не захватит врасплох стрелецкая вахта; после распишут спину кнутовьем на козе, вырвут ноздри, окорнают руку, чтобы не тянулась за чужим; а там и старость не за горами, и некуда грешнику пришатиться, приклонить бедную побелевшую голову, и тогда один тебе путь – в прошаки, в богадельню, на паперть. Ежели был ты мужиком с ярой головою, да с норовом, да при каменном сердце, то при печальном конце ты иль в злодеях пропадешь, иль в омуту с водяным обручишься, иль в Разбойном приказе сгниешь – но не живать тебе в прошаках. Для милостынщика нужно особое нутро, склонное к плачу. Пускай и много на твоей совести чужой пролитой кровушки, но душа-то живет, поминая Господа, слезится и жалобится; вот и вставай на пространный путь Христа ради, одевай через плечо на веревочной лямке зобеньку для кусков, вспоминай полузабытые молитвенные стихи, настраивай на жалостливую струну издерганный, простуженный голосишко – и поди в народ. Народ не жалует, пугается отчаюг, кто оторви да брось, но всегда приветит Христовенького братца.
Каких только нищих не встретится в престольной. Есть богаделенные милостынщики: те ночлегом пригреты, своя крыша над головою в посадских подворьях, клетях и подклетях, в амбарах и избенках – и те пристанища во множестве рассеяны по улицам и переулкам в Кремле и Китае, Белом и Земляном городе, в слободах и монастырских вотчинах. По своему разряду идут нищие кладбищенские и дворцовые, дворовые и патриаршьи, соборные, монастырские, церковные, гулящие, леженки. Прижаливает сирот батюшка-государь Алексей Михайлович, порою до пятисот нищих садит за кормовой стол на своем дворе, и сама государыня не гнушается приветить и обласкать Христовеньких у себя в Верху, в царицыных покоях.
Да не оскудеет рука дающего. Не унывайте, что припоздали с милостынею, еще осталось времени спастись, сыщется и для вас на Москве жалконький человечек, вконец обделенный судьбою, по ком невольно восплачет ваша душа, еще не совсем запечатанная язвами жесточи. Чернецы и черницы, бабы и девки, мужи и жонки, пророки в рубищах, босые, а то и вовсе нагие, одержимые бесами и блаженные, святоши и окаянные, лишенные разума и прокураты – целые артели калик и лазарей ходят, ползают, лежат, гремят веригами, трясутся, скитаются по улицам.
Обжитое прошаками место – деревянный мост через Неглинку, что возле Воскресенских ворот. На этом мосту множество лавок и печур понаставлено, где торгуют всяким товаром; тут калики перехожие поют лазаря, сюда божедомы вывозят с убогих домов мертвые тела для сбора милостыни на погребение безымянных несчастных.
Общим желанным знакомцем был юродивый Кирюша, ласковый и кроткий, с прибранной седенькой бородою, на голове постоянный обруч, обтянутый черной тряпицей с нашитым на ней позументным крестиком; скитался он в белой льняной хламиде с красными намышниками, босой, средь зимы купался в портомойной продуби на Москве-реке. Всякий зажиточный горожанин полагал за счастие дать сиротине копейку-две. Дважды Кирюша предсказал пожары на Москве и как в зеркало подглядел. Рады были и лотошники, если Кирюша у них калачика возьмет, и тем хвалились друг по дружке, де, сам святой Кирюша калачика откушал и благословил на торговлю. На животе Кирюша постоянно носил холщовую сумку, оттуда иногда доставал Псалтырь, тем показывая любопытным, что он грамотен и начитан.
Был он из гулящих нищих, постоянного прислону не имел и хранил себя в чистоте, наверное, с помощью доброхоток – посадских жонок. Однажды Кирюша пропал с Неглинного моста, словно бы в пролуби портомойной потонул, а оказался на постоянном житье в подворье боярыни Морозовой, перейдя в разряд лежаков. Однажды он забрел на боярскую усадьбу, пред гостевым крыльцом встал на колени, стукнувшись лбом оземь. Федосья вышла из светлицы, и Кирюша спросил у юной боярыни, не поднимаясь с колен: «Баба, ты чистая или не чистая? Коль не чистая, то и не приступай ко мне, иначе обличена будешь». – «Чистая, аки отроковица!» – с тоскою ответила Федосья, спускаясь к прошаку. «Тогда я заполню тебя, меня к тебе Господь послал на твои слезные мольбы», – ответил Кирюша, кротко улыбаясь, и его переменчивые глаза с воспаленными веками загорелись, как две лампады. И он стал вдруг доставать из заветной сумочки тайные святые богатства, раскладывая их на дорожке, вымощенной расписной обожженной плиткой.
«Покажу я тебе поначалу воду – тьму египетскую, что напущена была на фараона, – показал он на кувшинчик. – Будешь прикладываться по ночам, и снимет с тебя иморок. А это – часть младенца, убитого Иродом. Он будет восприемником твоего ангела. Этот же камень нес с собою Моисей, когда переходил Чермное море. Будешь толочь и пить и разожжешь в себе естество. Это кость из того кита, в котором пребывал пророк Иона. Положи под подушку своему супругу, и он вспомнит себя позабытого. А это – копыто валаамской ослицы; прикажи прибить его над дверью своей спальни, и всякий раз, выходя, станешь кланяться ей и тем просить плода».
Челядь окружила боярыню, со страхом и трепетом слушала Кирюшу, внимая каждому его слову.
«Был мне знак свыше даден, и плесны мои, повинуясь знамению, повели тебя спасать. Я едва одолел непутнюю дорогу к тебе, – добавил Кирюша. Он с трудом, помогая себе ключкою, поднялся с колен, заголил худые бледные ноги с уродливыми желваками коленок. – Этих ног хватило лишь до твоего терема, матушка моя».
...Так блаженный Кирюша, по рождении нареченный Киприаном, стал леженкой при хоромах боярыни Морозовой.
Глава девятая
В канун Пасхи Федосью с нарочным вытребовали к царице. Была боярыня по мужу Глебу Ивановичу в свойках государыне Марьюшке и числилась в высокой чести. Долго сбивался гостевой поезд, обряжалась колымага впервые по нынешней весне, одевали аргамаков в дорогой убор. Ехать по Варварке минут десять, но дело не во времени, но в чине.
Пока хлопотала дворня, по обыкновению, навестила Федосья Кирюшу. Жил леженка в особой клети, подле сада, и, судя по тропе, убранной от снега до самой травяной ветоши, его навещали почасту. Это был крохотный бревенчатый лабаз, крытый берестою, с деревянной дымницей над крышей, большую половину житья занимала битая глиняная печь. В курной избенке и перемогался сирота, задыхаясь от дыма и за те муки благодаря Господа. С нынешней весны Кирюша перебрался под образа на лавку, на другой скамье стояла домовина, обтянутая черным крепом, на крыше гроба лежало медное распятие и день и ночь горела в стоянце свеща. Федосья по трем ступенькам спустилась вниз, у закрытой двери попросилась войти, смиренно ожидая отклика. Послышалось: «Аминь», и боярыня вошла в келейку, с постоянным вниманием оглядывая ее с порога. И в который раз она подивилась гробу, он был явно мал для нищего. Крохотное оконце, затянутое бычьим пузырем, вытаяло от сугроба наполовину. Сыро было в келейке, убого и тесно. Кирюша лежал на скамье, накрытый бараньей шубою, под головой сосновое полено. Отросшие до плеч волосы заплетены в жидкие косички, пробор на голове словно бы разрубал ее пополам и был безжизненно бел. Лицо истончилось до прозрачности, и сквозь кожу просвечивала кость: так показалось Федосье. Глаза же, густо опушенные ресницами, были лихорадочно возбуждены. Кирюша не удивился приходу гостьи, приветно протянул ладонь с длинными кривыми перстами. Федосья протиснулась меж лавок, неловко оперлась на гроб, едва не сронив свешу. Лишь на мгновенье на лице Кирюши вспыхнуло недовольство, но блаженный тут же скрестил руки на груди – Федосья подивилась, что в келье пахнет мятою: она принагнулась и поцеловала Кирюшу в высокий светящийся лоб.
«Довольно ли кормят?» – спросила боярыня, невольно примечая, что в жилье не пахнет ествою и ничто из утвари не напоминает на брашно и питие. Кирюша же оставил слова без ответа, неожиданно и властно провел ладонью по вспухшему животу Федосьи и довольно рассмеялся. «Спеет, – утвердился он, отвечая собственным мыслям. – Брюхо-то острое, горбиком. Парнишонко будет». Кирюша так предрек, будто утробу сквозь высмотрел. Федосья не успела и разгневаться. Вернее, осудила блаженного за откровенные слова, но тут же и простила его, боясь Кирюшиного сглазу за оговор. Но подумала вдруг, что прикосновение желтой постной ладони не показалось запретным и мерзким. Все готовилось в ней озлиться на блаженного, но кто-то невидимый дозорил и зажимал горло. Боже, подумала всполошенно, с каким-то любопытным пристрастием осматривая худое, влажное лицо блаженного, погруженное в себя: крупные птичьи веки накатились на глаза, но тонкие ресницы всполошенно мерцали. Чего молчишь-то, заговори! – мысленно попросила Федосья. Она вдруг уверилась, что вся жизнь предстоящая зависит от Кирюши. Вот он явился однажды, принес ей радость и в один час подымется с лавки и унесет с собою ее будущее.
Кирюша подслушал Федосьино молчание и сурово, без обычной ласки в голосе стал наставлять боярыню:
«Толчешь-нет камень-от Моисеев? Ему, сестричка, цены нету. Его от дегов через Амбрук да от польских жидов переслали мне с нарочным».
«У Сергия была с Глебом Ивановичем, просили чадо, в Чудове были, у Пафнутия были, у Вознесения были, у Богоявленья, – перечисляла Федосья, отчего-то противясь блаженному и не признавая его пророчеств. – Вот и авва Досифей молил нам сына».
«Пастыри церкви только именем пастыри, а делом волцы. Это я заполнил тебя, – снова довольно засмеялся Кирюша. – Вспомни, Создатель одним лишь словом напитал чрево Девы Марии, не распечатывая его. И она родила Христа. Фе-досья-я-а, ты же сама позвала меня, – умильно протянул Кирюша, приподымаясь на локте, глаза его загорелись желтым. – Я услышал и пришел, безногий, но пеши чрез всю престольную, чтобы напоить твою тоскующую пустынь. Всем златом мира не посеять в ней благоуханного крина. Но явился я и мыслию покрыл тебя, аки бык покрывает наспевшую телку... Чую, как ты противишься мне, юная грешница».
Кирюша досадливо вновь попытался достать боярыню рукою, ему нравилось задорить женщину. Но Федосья отпрянула, задела локтем домовину: медный стоянец, загремев, закатился под лавку, свечной огарыш загас, и келейка погрузилась во тьму. В проталинку окна едва сочило светом, и поначалу, пока глаза не привыкли к сутемкам, Кирюшин прислон показался захороненным в землю.
«Ты подлый рабичище! Несешь суторщину, какая на глупый ум взбредет, – осмелев в темноте, не чувствуя на себе постоянно сияющего взгляда лежунца, воскликнула Федосья. – Забудь, раб, свой мысленный блуд. Все твои погремушки и черепки я срыла в скотиний навоз. Не было ничего, не было, слышь меня! И не велю более, ничего не велю! Одного лишь Господа Бога приемлю. – Она перекрестилась невидимым образам. – Тебя, убогого, призрела лишь за-ради Христовых страданий. Ты понял меня, шептун?»
В ответ раздался мягкий смех.
«Блядка ты, юная блядка. Гобзование свое считаешь да под себя кладешь, а оно тьфу, тля, – жалостливо, кротко заговорил блаженный. – Чти Стоглав, Федосья. Иль запамятовала? Там сказано: многие волхви и еретницы, пророчицы и блаженные, богомерзкие бабы и кудесницы, и иная множайшая волшебствуют и ложная вещают, а народ им верит. Ты ве-ри-ишь мне, Федосья! А что Бог? Я тебе Бог. Господь словом распечатал Деву, а я тебя отворил чарами. Что твой Глебко Иванович со своими гобзами? Я Христос на земле, для всех вас предстатель. А твои попы меня шпыняют, они готовы меня в огонь посадити. От ножных цепей остыли мои кости, и я, нынь лежунец, питаюсь от твоих крох. За что казнишь, Федосья, родителя твоего нерожденного сына?»
«Не смей себя так называть. Один родитель, Глеб Иванович. И по то еще ругаю тебя, что Господево на себя переимываешь, самохвал. Кобью и чарами глупых жонок вводишь в прелести, называя себя святым. От века неслыханно, кто бы себя велел в лицо святым звать, разве Навходоносор вавилонский. Да и поделом досталось ему, безумному! Семь лет быком ходил по дубраве, траву щипал, плачучи. А то приступу не был: Бог есмь Азъ! Кто мне равен?»
«Я с тобою, Федосья, коториться не буду. Ступай себе, куда пошла. Тебя нынче Анисья, дурка, обидела. Сказала: де, змееныша в себе носишь. Ту грязь ты с себя скоблишь да на меня и валишь. А на душу святую грязь не льнет. Ступай гордыню тешить, сук рубить, сына не дождамшись... Да вели мне свету подать. – И вдруг сурово добавил, настигая Федосью у самой двери: – Как выйдешь, оботри ноги о ветошку. Забудь дорогу ко мне. А я вервь непроторжену обрываю меж нами...»
Федосья вздрогнула от последних слов, словно бы очнулась от содеянного, замешкалась, наискивая ногою ступеньку, и, решившись, резко отпахнула дверь. На воле было по-апрельски сине, солнечно, радостно. Под сердцем ворохнулся сын.
«Нищий сумасброд», – гордо подумала боярыня о Кирюше, степенно подымаясь по приступкам в колымагу.
Глава десятая
Бедная, она всю дорогу выплакала, и на густо набеленных щеках остались от румян и сурьмы цветные ручьи. У ворот царского двора Федосья долго не вылезала из колымаги, утишивая внезапные рыданья. Ей так нестерпимо зажалелось себя, такой немилою показалась судьба, что и помереть впору... Боже, как чадо-то ждала, вымолила долгими ночами брюхо себе у святого Сергия, и вдруг нерожденное дитя ее обозвал змеенышем... Шестьдесят человек дворни, окружившей колымагу, ждали, когда проплачется боярыня, не смели тревожить госпожу. Горяча Морозова, своенравна, может миловать, но может и в Зюзино в имение на землю сослать. Две комнатные девки хлопотали вокруг Федосьи, приводя в чувство, убирали ее лицо, густо набеливали и украшивали.
...Государыня уже ждала родницу, выглядела с нетерпением в окно, как та, переваливаясь утушкой, подымалась на царицыно крыльцо, поддерживаемая под локти дворнею. «Тяжела наша Федосья, радостью затяжелела», – подумала царица и тут сама почуяла переспевшую свою утробу, и наводяневшие от тягости ноги, и набухшую грудь, туго обжатую парчовым лифом. Хоть бы ладно опростаться, хоть бы все слава Богу, вот и государь-то наш миленькой весь извелся, не хватало ему с нами забот. Царица прислушалась к чреву: ндравное дитя затеялось, всю мамку истолкло да издергало: вишь ли, того не хочу да того не нать; так-то бесноватых, сказывают, икотики мучают...
Тут стольники-отроки отпахнули двери, вошла Морозова, опустила у высокого порога коробейку; земно поклонилась; две женщины сошлись, как тяжело груженные лодьи, и по-сестрински ласково обнялись, расцеловались, словно век не видались.
– Что ли, худо чего приключилося? На тебе лица нет, – с материнской тревогою спросила у гостьи Марья Ильинишна, пытливо отстранив лицо, а сама меж тем все еще касалась спелым животом Федосьиного тела: подвески на висках из гурмыжского розового земчюга качнулись, открывая крутые смуглые скулы: было что-то в царице от персидских кровей.
– Марья Ильинишна, государыня, лихие люди собрались мое дитя известь, – неожиданно для себя открыто поделилась своим горем Федосья: она собралась было вновь заплакать, но укрепилась, не уступила слезам.
Царица в Гостиной палате была не одна: с рукодельем сидели по лавкам, устланным кизылбашскими цветными кошмами, казначея, да крайчая, да постельница, были тут и мастерицы, что шьют золотом и серебром, и шелками с каменьем и жемчугом. И каждая навострила уши, вроде бы не показывая интереса к вести. Царица, не мешкая, повелела удалиться всем: добрая-то весть на раке едет, а дурная вороном черным летит.
– Ну будет убиваться. Эко сдурела, – одернула царица, дождавшись, когда убудут дворцовые чины. Расправив подол тяжелого пурпурного сарафана, со вздохом опустилась в креслице. Они были поровенки, дружились, но Марья Ильинишна вела себа за мать, любила наставлять Федосью и оберегать. – Я тоже, как старуха, расселась. Каждую косточку гнетет да пригнетает. Ну что стряслось-то, бедная моя, скажи толком? Помстилось, поди? Я впервой-то была на сносях, дак чего только в ум не войдет...
Федосья, не ответив, взяла от порога коробейку из луба, давний подарок отца Прокопия Соковнина: привез отроковице из Мезени, когда был в тамошних местах воеводою. Лубянка писана травами и зверями диковинными, а на крышке птица-сирин с женским лицом и с короною; ежели всмотреться, то найдешь много сходства с Федосьей: мягкий овал щек, припухлые губы, но тот же жестко напряженный взгляд карих с искрою неуступчивых глаз. Отец пошутил, когда дарил Лубянку: «Вот, доча, сия птица-сирин с твоего обличья писана, с моих слов да по моему указу». Шутейно молвил, да верно выглядел.
Федосья достала из Лубянки рукоделье – убрус с ликом Божьей Матери, замшевый кошуль, подарок самоядей, с поморским мелким жемчугом да клубок тонких золотых ниток, коробейку же отложила в ноги. Взгляд царицы пал на писаную священную птицу с девичьим лицом, и вдруг молвила Марья Ильинишна: – Гли-ко, Федосьюшка, не чудо ли? Лик-от ровно бы с меня писан. Воно и корона-то моя.
– Тятин подарок мне. Это я, я! – неуступчиво, забываясь, воскликнула Федосья, решительно смахнула убрус с колен на коробейку, закрыв священную птицу, и вдруг пролилась слезами, торопливо откинула на лицо завеску из окатного жемчуга.
Лишь на мгновение слегка примглилось лицо Марьи Ильинишны, но теплый взор не притух, остался дружелюбен, горели в глубине глаз изумруды.
– Ну, Федосья, ну, подружил! Всегда воск, всегда лисою обовьешься, а тут – злонравна...
– Лисою век не бывала, – обидчиво вскинулась боярыня. – Думаешь каково... Аниська у храма Казанского намедни кричала: де, я от Змея Горыныча змееныша в брюхе ношу. Каково слышать, а? – сквозь слезы выкрикивала Федосья, отчаянно вытирала ладонью глаза, размазывая по щекам белила. – Тебе ли, государыня, не знать, что Морозовы от веку заклянуты. Не было у них в роду детей, не было! Это я вымолила, с колен не вставала. Это я Морозовых обнадежила, забрюхатела. А мне говорят, я змееныша рощу.
– Мало ли кто набает... А ты, однако, дурку прости. Чрез нее Господь наш на тебя дозор кладет, де, каково блюдешь заповеди его. Тоже нашла на кого пыщиться. Забыла? За сиротою Бог с калигою. Убогий – человек Божий.
– Это не убогая, это злыдня, – возразила Федосья. – Это обавница. Много развелось клосных да юродов, шагу не ступи. Уже и Господа заместили собою. – Но отчего-то смолчала о Кирюше, хотя от его злопамятных слов непроходящая тоска на сердце словно бы от одной беды избавилась, а уже другая скрадывает. – Я знаю, от лутеров они, оттуда все прелести. Намедни читала «Куранты». У немцев целые грады бывают полны чаровников и чаровниц, и первые градские правители обретаются в том числу. В недавние годы все без мала лавочники града Хамбурга и с женами были ради волховства сожжены. Так пишут «Куранты»... Когда судии захотели, чтобы кат испытал муками трех чаровниц, то палач же и отсоветовал, говоря: де, вы того, господари, не искорените. Де, если бы был на площади великий пивоваренный чан, воды полн, а всякий чаровник и чаровница сего града Хамбурга только перст омочили, то до вечера не осталось бы воды в чану... Туго им досталось, обавникам, они к нам и переметнулись на Кукуй, а отсюда и православных портят, несут смуту.
– Ну полно, Федосьюшка, – царица мягко усмехнулась – Не нами заповедано, блаженные – уста Господа. Блаженными Христосик наши души метит и лечит. Вот как на суд-то попадешь горний, Господь наш все-е высмотрит. Ты, подружия, водись с има, ты не перечь...
– Не верю им, не верю: они Бога двоят, на себя его достоинства перенимают да тем и кичатся. – Федосья с разговорами забылась, да и в ее ли летах долго предаваться горю? – Они не только Бога сугубят, но и душу нашу тратят, в скверну попускают и блазнь. А коли в Боге усомнился, то вдолге ли все поперек раскроить? Мне тут один даве сказывал: я, говорит, Бог на земле, каково? – И опять Федосья не открыла Кирюшу. – Он вроде-ка и образам молится, а себя лишь видит. Убогонького приветь, кто с Христом в сердце: он бесприютен, и ты его оприють. Но тут, матушка моя, совсем другое: сердце наше пытаются собою заселить, Христа выместить. Были и прежде блаженные, взять того же Василия, что Ивану-царю грозился, так те судили нас, грешников, именем Господним крепили нас в страхе, но прежде всего себя судили до исступления. А нынешние все на нас попускаются!..
Тут государыня, не сдержавшись, прервала Федосью.
– А по мне, так я их боюся. – Она мягко, как бы винясь пред боярыней, улыбнулась, невольно прислушиваясь к внутренней жизни; в утробе ее дитя ширилось, просилось на волю, и царица пугалась всякой нервной лихорадки. Да и то сказать: не холопа в себе носила, но будущего государя. Если задумаешься невольно о чем скверном, тут же и на чаде отмстится. – Я тебя зазвала, Федосья, не ради логофетства, хоть и знаю, что ты вельми учена. Борис Иваныч не раз хвалился: де, побудешь с тобою, так и насладишься паче меда и сота словес твоих душеполезных... Я вытребовала тебя по делу. Будем милостыню завертывать.
Через отрока-стольника государыня призвала дурку Орьку. Та уже знала о деле и явилась без промедления, видно за дверью ждала вести. Притащила Орька кожаный мешок с деньгами, царевой печатью оклейменный, была тут же на шнуре дьяка царской казны роспись, сколько и каких денег накладено в мошне; а всего на раздачу была положена тыща рублей, что государь завтра, в Светлое Воскресение, и отдарит нищим Христа ради.
– Ну чего разблажились? – крикливо заворчала дурка, бухнулась на лавку. Это была краснощекая тугая девка с невинно-голубыми, блаженными глазками, льняные куцые бровки были едва заметны, и оттого глаза казались обнаженными, какими-то звероватыми На плечах ее, поверх сарафана из желтых гилянских дорог с бархательными вошвами, была накинута шубейка из покроми, обрезков сукна, с беличьим воротником, на шее кованое кружево, на голове колпак суконный зеленый с собольей опушкой – Сидят, расщеперились, как мокрые курицы. Господь разнес, так спейте, ягодки. На спелую малину сатана с ружьем.
– Ну не ворчи, не ворчи, раскудахталась, – с улыбкою одернула государыня дурку: она любила Орьку, как дорогого безобидного зверя, что скалит на хозяина зубы, но не прикусит. Орька могла бы и помалкивать; лишь задорного белозубого вида ее хватало, чтобы вызвать ответную улыбку. – Будешь ворчать, замуж выдам.
– Нету того воеводы, чтоб мою крепость одолеть.
– Вот поворчи еще, отдам за Богдана Хитрова карлу.
– Каков Богдашка, таков и карла. Его бы в зыбку запеленать заместо дите да на седмицу и позабыть, эково кавалера.
Федосья заугрюмела, отвернула голову. Дурку она терпеть не могла; по ее бы нраву, так Орьку полагалось хорошо высечь и отправить на пашню. Здоровая девка тешит из себя блажную, а государыня-царица поваживает ее. Слишком широкое сердце у матушки. Федосья с осуждением поглядела на Марью Ильинишну и вздохнула.
– Не вздыхай, сестрица, а то распояску уронишь до времени, да и рассыплешься. Как рассыплешься, да и раскатишься, – оскалилась Орька на боярыню.
Федосья натужно улыбнулась, погрозила пальцем, но вновь смолчала.
– Ну, хватит колоколить. Скоро на всенощную, а мы за дело не примались. Затеялись не ко времени. Федосьюшка, пред благим делом скажи слово...
Федосья задумчиво оглядела Терем, расписанный травами, на потолке летали ангелы, и Грозное Око взирало с написанного художною рукою занебесья. Грозное Око было карим, с напряженной пронизывающей зеницей, из нее исходила угроза. Походило Око на глаз Орьки. Отчего такая блажь вдруг посунулась в голову? Федосья перекрестилась, перевела взгляд на веницейское окно: в середнее стеколко виделся потешный садик. Отрешенно заговорила: «Церковников и нищих, и маломожных, и бедных, и скорбных, и странных пришлецов призывай в дом свой и по силе накорми, и напой, и согрей, и милостыню давай и в дому, и в торгу, и на пути: тою очищаются греха, те бо ходатаи к Богу о грехах наших. – Тут и государыня поддержала Федосью, и стали они честь из Домостроя по памяти. – Чадо! Люби монашеской чин, и странные пришлецы всегда в твоем дому бы питалися, и в монастыри с милостынею и кормлею приходи, и в темницах, и убогих, и больных посещай и милостыню по силе давай...» С этими словами Орька погрузила руку в мошну, достала серебряную копейку с вычеканенным царем на коне, образ тот поцеловала.
– Баженый ты мой, миленькой государь, красно солнышко... Бери-ка, Федосья Прокопьевна, корабельник золотой на милостыньку...
Пото она и дурка, чтобы все иначить, и эту игру надобно принимать с понятливым сердцем. Обозвала копейку червонцем – а ты и верь. У Орьки были горячие сухие пальцы, и когда Федосья принимала от нее копейку с титлою, то словно бы обожглась. Она невольно взглянула на дурку, и та подмигнула голубым нагим глазом. Федосья завернула копейку в толстую ворсистую бумагу, не надписав ничего: и по весу понятно, что запеленут не пятиалтынный, не гривна, и не ефимок, не талер, не десятирублевик угорский золотой, но что-то из мелочи: иль копейка, иль деньга, иль полушка, та самая чеканка, что худо держится в зепи, норовит выпасть в любую прорешку...
– Ты пошто, Орька, копейку корабельником назвала? – по чину заведенной игры спросила государыня.
– От копейки не помрешь и не встанешь, матушка. Копейка всему голова, без копейки и червонец как мужик безносый. Кругло, мало, да всякому мило...
Так часа два под Орькины пересмешки закручивали они милостыньки. Тут у государыни поясница заныла, да и пришла пора на пасхальную службу сбираться. Погнала царица дурку вместе с мошною прочь. Федосья задумчиво проводила дурку взглядом, и когда желтый сарафан из гилянских дорог пропал за дверью, призналась вдруг царице, словно бы кто за язык дернул:
– Мне Кирюша, лежунец, сказал... Живет у меня. У меня сын будет. Он блаженный, высмотрел. Про себя обзывается: я-де Христос. Я нынче, как к тебе отправиться, испроказила, искостила его, и вот душа мается. Так тоскнет Не к беде ли какой?
Царица каждое слово впитывала, но отчего же так строго, отчужденно взглядывала на боярыню, вроде бы внове узнавала. Не обиделась ли? иль ревностию обожжено сердце Федосьиной скрытностью? затупила лежунца, да и смолчала, от самой государыни утаила. И приказала ледяным тоном Марья Ильинишна:
– Доставь его ко мне во Дворец... Государь наследника хочет.
И вдруг щеки ее стали пунцовее червчатого бархатного сборника, венчающего чело.
Глава одиннадцатая
...Воском капнуло на руку, обожгло; Федосья не успела остеречься, как порывом ветра потушило свечу; боярыня очнулась: крестный ход поворачивал к западным вратам. Боярыня ненароком уронила свечной огарыш и испуганно спрятала руки под соболий охабень, сложила их на тугом животе. В ночь неожиданно подморозило, снег сварился катышами, неловко лез под башмаки. Святое настроение невольно пропадало, толклось в голове житейское, всякая шелуха.
Впереди шла царица в горностаевом зипуне, покрытом золотым аксамитом; ей было тяжело нести достойно свое переполненное чрево, и Марья Ильинишна слегка горбилась, неожиданно утратив былую стать. Пригнело Марьюшку – с каким-то тайным злорадством подумала Федосья и тут же устыдилась черных мыслей, будто их могла подслушать царица. Алексей Михайлович поддерживал государыню под локоть, в живом свете толстой, в руку, свечи, которую нес он, как полковой стяг; вспыхивали круглый черный спокойный глаз царя и вся в шатких бликах, свитая как бы из проволоки, курчавая борода. На головах царской семьи были собольи шапки с золотыми крестами в обвершии: кресты качались в лад смиренному шагу. Кто-то в крестном ходу неожиданно окатывался на ледяном крошеве и невольно охал. Били колокола, Москва гудела от края и до края, и если бы встать особь на шеломе Ивана Великого, то можно бы разом выглядеть всю таинственно правившую неведомо куда поход престольную, ее слитное дыхание и согласное пение о Христе, воскресшем ныне ради спасения их, недостойных, и принесшем на Русскую землю благодать. Именно эти редкие минуты ладили потускневшие покрова всеобщего лада, зашивали прорехи уныния и разброда, смыкали всех православных золотою цепью любви.
В чреве Федосьюшки толкнулось, и она с испугом подумала: хоть бы не разродиться. И вдруг пронзило боярыню: «Прости, Кирюша, прости». Она вспомнила блаженного как самого кровного человека и, устрашившись, скосила взгляд, всмотрелась в лицо мужа с заостренной бородою, морщиноватое и усталое в бледно-желтом свете; глаза остоялись глубоко, тоскливо в темных обочьях, как мута в болоте, и казались слепыми. Федосья пуще пригляделась, пересиливая страх, ей почудилось, что она видит изъеденный, траченный землею череп. Глеб Морозов уловил присмотр супруги, улыбнулся, протянул свою свечу. Федосья отказалась, показала взглядом на руки, сложенные под охабнем на животе. Морозов уловил тоску жены и с любовью прислонился к ней плечом.
Позади государя шла мамка с годовалою царевной Евдокией. Ближние стольники по два в ряд несли суконные полы, заслоняя девочку от прикосливых посторонних глаз. Девочка не спала, наверное, тревожно жалась к мамке, к ее горячей здоровой груди, от которой нынче ее отлучали, а Евдокия капризила, желала родного молока. Вот и сейчас царевна выпростала ручонку из тесных меховых окуток, залезла мамке под кафтан, требовательно сгорстала набрякшую грудь, из соска готовно пробрызнуло, омочило тело кормилицы терпким, горячим, и царевна торопливо потянула полную молока горстку в капризный рот, попутно проливая его в одеждах. Ничего не досталось царевне, и она, облизав ладошку, скривилась и от неожиданной обиды горько расплакалась. Христос, воскресши для всех, не напаивал младенца и не утешивал. «Мама, дай-дай», – повторяла Дуся, теребя кормилицу. Мамка сунула младенцу сладкую жамку, заткнула рот. Царица, услышав, что дитя замолчало, выпрямилась успокоенно, пересилив утробу, сверкнул в обвершии куколя золотой крест, как смиренное подобие главы Ивана Великого. Качались две дружины монахов под факелами, раскачивали Реут; царь-колокол вспарывал звездную темь, и пружинистый властный зов его, подхваченный тысячами звонов подданных, нескончаемо тек по Руси. Русь славила Христа, и сама, будто бы расчувствовав голодный плач царевны, просветленно заплакала, призывая Христа войти в их домы.
«Господи, сына хочу», – вдруг воскликнула государыня. Царь вздрогнул и споткнулся. Иль, может, показалось Федосье? Крестный ход постепенно сжимался, втягивался на паперть, а оттуда в сияющее золотом, жарко натопленное нутро Успенского собора; спелые вешние небесные звезды вплелись в голубые, храмовые, пестро рассыпанные по своду купола. Мир небесный согласно влился в мир земной и вновь ненадолго утишил его сердце.
Федосья проводила государыню в Терем. Похристосовались. От бессонной ночи у Марьи Ильинишны коричневые круги под глазами. Царица благословила пасхальным розовым яичком. И вдруг, зардевшись, приклонилась к боярыне, сунула в руку еще одно, голубое. Шепнула: «Это твоему Кирюше, – и добавила: – Юроду...
И вот на шести темно-красных аргамаках, впряженных гуськом, весело звенящих серебряными поводьями, украшенных павлиньими перьями и собольими хвостами, в окружении полусотни слуг вернулась Федосья Прокопьевна в свои палаты. В усадьбе народ кучился, поджидал молодую боярыню. Пахло печеным, жареным, сытным, мясной воздух блуждал меж челядинных изб. Печи уже вытопились, проветрились клети, браными скатертями покрыли столы; девки повиты лентами, бабы в новых сарафанах, мужики в кумачных рубашках, волосье ухожено лампадным маслом. Кто хвалился новыми чеботами, кто шерстяною опояской с медным набором, а кто и своей девичьей красою. После долгого поста народ приуготовлялся ублажить тоскующую от поста утробушку; девкам-хваленкам не терпелось заплести хоровод. В каждой челядинной избе растворены иконостасы, возжжены лампады, на столе ржаные ковриги, одна на другой, сверху соль в солонице, на лавке корзина с овсом, под столом натрушено сено. Вносят образа, домовый священник Никифор служит над дарами природы молебен. Затем причет берет нижний каравай, полкорзины овса, отсыпает половину соли, складывает в мешки, чтоб набранный хлеб после отвезти бедным взаймы, с условием отдачи; так и кормится попова семья печеным.
Морозов, прискакавший ранее из Дворца, уже приказал выкатить на двор бочку меду, дворецкий разливал слугам, не скупясь, по двойной чаре. Завидев супругу, Глеб Иванович молодецки сбежал с гостевого крыльца; из-под алой бархатной ферязи, унизанной золотыми путвицами и петлями, виделся полураспах шелковой голубой котыги. Они расцеловались, от мужа пахло долгим постом и причастием: от бессонной ночи кожа пожелтела, увяла, еще более ссохлась на скульях, как старый пергамент. Федосья подняла глаза, с жалостию и любовию оглядывая родное лицо мужа, невольно отметила кадыковатую шею, побитую морщинами, и первую седину на сросшихся широких бровях. И во взгляде супруга, каком-то линялом, тускло-сером, была печаль, изжитость, так что сердце Федосьи зашлось от предчувствия: «Господи, дай нам укрепы, разнеси нас ребеночком!» – мысленно воскликнула боярыня и потерлась щекою о бархат ферязи, слегка оцарапала щеку золотой путвицей.
Морозов сразу расцвел и стал красивым. Он обернулся к дворецкому и потребовал праздничные кубки. Дворецкий принес золотые стопы и наполнил стоялым красным медом. «Христос воскресе!» – зычно провозгласил Морозов, и боярский двор сотнями хмельных голосов отозвался возбужденно и радостно на всю Тверскую: «Воистину воскресе, батюшко родимый наш!» Федосья лишь пригубила меду, слизнула с края кубка взошедшую терпкую пену; питье хорошо обнесло грудь, растеплило, и вся земля сразу раздалась взгляду, похорошела, стала желто-голубой. Христос любовно озирал Русь, радуясь воскрешению. Но отчего же стоскнулось так, загорчело в горле и стало обсекать дыхание? Боярыня обвела недоуменным взглядом подворье, каменные резные палаты с горящими от солнца стеклами, золотой куполок домашней церкви, распряженных темно-красных лошадей, равнодушно жующих овес из колоды. Она так прощально приняла все в душу, будто собралась умирать.
Федосья позабыла о муже и с кубком в руке пошла к Кирюше в землянку. По ступенькам она спустилась в полумрак; дюжина свечей зыбко светила, волоча за собою тени; свечи стояли и на крышке домовины, как невидимый в ночи крестный ход крохотных скрытных богомольцев, мерцали в изголовье блаженного лежунца, высвечивая его счастливое лицо. Возле юрода сутулилась на коленях монашена и кормила с ложки Кирюшу. Монашена обернулась всполошенно, у нее было бледное шадроватое лицо. Она торопливо поднялась с колен, земно поклонилась хозяйке и отступила в дальний угол, к запечью, куда не достигал свет, но ее жгучий, чего-то требующий взгляд беспокоил боярыню и из сумерек.
«Божия и моя сестрица Мелания, – пропел Кирюша, наверное, забывши о недавней ссоре. – Вот, пришла навестить несчастного Христа!»
Федосья поставила кубок с медом на печном засторонке, наклонилась и поцеловала Кирюшу в блестящий лоб, прося прощения. Потом достала царицын подарок, затейливую писанку дворцовых иконников. Кирюша поцеловал пасхальный гостинец, обкатал в ладонях яйцо, согревая его и не сводя взора с низкого подопрелого потолка. Сказал серьезно: «Яйцо применно ко всей твари. Скорлупа – аки небо, плева – аки облацы, белок – аки вода, желток – аки земля, а сырость посреди яйца – аки в мире грех. Господь наш Исус Христос воскресе от мертвых, всю тварь обнови своею кровию, якож яйце украси; а сырость греховную из суши, якож яйце изгусти. – И добавил, построжев голосом, переведя блестящий взгляд на боярыню: – Вот и государыня зовет меня... Приидет времечко, и всяк православный заславит меня... Ну-ка, Федосьюшка, добудь-ка свое яичко, да и похристосоваемся, возлюбив, поцелуемся жопками, кто кого оборет».
«Будет тебе, братец, богохульничать», – осекла от печи монашена.
«Ну-ну, – подзадорил блаженный, – колонемся да и стакнемся. Не трусь, баба!»
Федосья, как во сне, достала из зепи свое пасхальное дареное, писанное травами яйцо, обжала нежной ладонью. Она вдруг невольно включилась в игру, подпала под волю Кирюши, чуя в себе смирение и восторг. Такое чувство навещало лишь в детстве. Боярыне хотелось заплакать.
«Прости меня, Кирюша», – снова жалобно попросила Федосья. Но лежунец вроде бы не расслышал боярыню, неволил ее:
«А ну, баба, колонемся да и стакнемся».
Он неожиданно колонул писанкой по Федосьиному яйцу. Липовое яйцо змеисто лопнуло, из разверстой древесной тверди вдруг брызнуло на блаженного сукровицей. Кирюша восторженно засмеялся, заплескал ладонями, порывисто дуя на них и причитая: «Разруби дерево, и там Бог! Душа вылупилась! Слава мне! Гли-ко, баба, живая душа вылупилась».
Тут Федосью кто-то приобнял сзади дерзко, сломал надвое, неслышно подкравшись, разъял и выпустил дух. Она неуклюже, цепляясь за печной приступок, повалилась на земляной пол, опрокинув кубок с медом на объярь дорогого платна. Боярыня завыла, потеряв от боли рассудок, и болезный, лихорадочно-истошный воп ее расслышала, наверное, вся Москва. Кирюша, приподнявшись на локте, жадно смотрел на сомлелое молодое тело и вдруг сронил голову на березовое сголовьице, тупо стукнувшись затылком. Он стиснул глаза и жарко запричитал: «Слава Те, Господи... Душа живая выпросталась. Дал Бог наследника. Пируйте, Морозовы, за-ради моей славы».
Черница Мелания опомнилась, прискочила к боярыне, норовя подсобить сердешной; тут вбежала челядь, отпихнула монашенку, огородила хозяйку суконными полами от сглаза.
И вот келью юродивого огласил крик младенца.
Живет поверие на Руси, что в Светлое Воскресение рождаются ангелы, а умершие отходят без суда прямо в рай.
Опустела келья. Поднялся лежунец с лавки, прощально оглядел свой прислон и покинул Морозовых. Чернице Меланье наказал: «Побудь здесь за меня. Сторожи тутока силу мою».
В тот день видели блаженного в кабаке у Воскресенского моста.
Глава двенадцатая
«... Голос Духа слышишь, а не знаешь, откуда приходит Он и куда уходит. Но и закоим знать, в каких таинственных обиталищах пристань его; лишь бы в тебе неустанно дозорил Он и стерег от греха душу». Государь растекся, растворился в низком креслице, смежив веки, и вроде бы ушел в чугунный сон; но всякая волоть, мясная жилка ныла и тосковала от пасхальной всенощной, молила покоя. Государь сложил ноги на изразцовые кирпичи низкой лежанки, растворяясь в обволакивающем тепле печи: Господи, как вольно без башмаков-то! И неуж целую вечность протомилось его грузное тело под могильным камнем царской усыпальницы? Ведь молод, а откуль столько тягости в нем, словно бы все семьдесят перемен, мясных и рыбных, весь дворцовый корм съедает ежедень, не вылезая из-за трапезы. И вдруг выжарилась плоть его, извялилась и стала легче пуховинки. Полететь бы, по-ле-теть! Это бессонная душа запела торжественно, разрастаясь и заполняя все тело. Значит, бывает день, когда душа пространна и куда обильнее плоти...
Слеза неслышно выкатилась на темное подглазье, отмеченное ранней морщинкой. Для Господа она была как драгоценный лал. Не закрылся, не запечатался источник слез...
Всего минут пять тому ввели в опочивальню под локти два ближних стольника и, торжественно чинясь, разоболокли государя, разложили по лавке праздничный наряд. И при утренних блекнущих свечах всякий драгой камень жил своей таинственной жизнью, завлекая чужой взор и никак не желая засыпать. В присутствии человека они всегда испускали завораживающее сияние.
Государь открыл глаза, с какой-то пристрастностью обозрел одежды, мысленно, с тоскою примеряясь к ним; показалось, вот-вот войдут в палату стольники и снова облекут в пятипудовое царское платно, и придется, на время позабывши душу и отдавшись самодержавному венцу, нести в люди и золотую порфиру, и становой кафтан, облитый золотом, рубинами и аксамитами, и алмазную корону, и бармы, и наперсный крест, и серебряный жезл, и ступистые башмаки, вынизанные жемчугом и яхонтами...
Господи, а куда тело пропало под золотой кованой бронею, куда смиренно подевалось оно, страдающее и обильно потеющее в златой неприступной башке? Только ноги чуются да обмирающее сердце. Вот он, наместник Божий на земле; нет никого в Поднебесной выше царя; зрите, верноподданные, батюшку своего, и падите ниц от затмевающего взор великолепия...
Но что будет, ой-ой, какой грех прилучится, коли спохватятся стольники по какой-то срочной нужде и отпустят, забывшись, государя, не поддержат под локти, покрытые багряницей. И неуж тогда падает русский царь посреди собора, как дорогая неприступная кукла, и будет валяться на спине недвижимо и покорно, вроде языческого болвана, некогда свергнутого наземь властною рукою великого крестителя...
С девяти вечера и до свету на ногах; хотел бы и присесть на царское место, но сам себя неволил и сторожил ревностию, упрекал с досадою и умыслом, де, будто бы дозорит сквозь узорные прорези, чтобы разность по земле сплетню о государевой немощи. Господи, взмолился однажды, отчего же золото бывает тяжельше осадной пищали?.. Такие одежды не всякий осилит; какого же наследника нужно иметь заместо себя, чтобы пришлись они впору.
И вдруг голос Твой поборол благовест всего Московского петья, как нож вострый пронзает коровье масло. Он возник до возглашения, до Светлого Воскресения Христа, лишь меня возвестивши о Твоем приходе. Он сронил меня на колени возле царской сени, завешенной персидскими коврами, а я счастливо заплакал, не стыдясь слез. И нынь во мне запечатлено твое напутствие, как скрижали на митрополичьей мантии: «Тебе тяжко, а мне тяжельче того попускать греси за-ради вашего опамятования, и видеть, как мои страдательные слезы никак не отзываются и не лечат вас; я вознес тебя над людьми, и потому печись о них с честию и суди, как призывает к тому совесть твоя. Бойся, чтоб не довелось сказать мне: „Я никогда не знал вас“.
«... Отчего ж он, дав весть, не показался мне? – с тревогою подумал государь. Усталость внезапно прошла. Алексей Михайлович почувствовал себя в своих летах. – Вроде как просверк солнечный был? Он подал голос и не показался...»
Алексей Михайлович побоялся растревожить эту мысль, постарался скорее забыть ее. До заутрени, по заведенному порядку, ожидался «тайный поход», чтоб навестить богадельни и тюремных сидельцев. Вчерась Марьюшка крутила милостыньки с Федосьюшкой, а нынь, вот, бояроня разродилась. Сказывали, что мальчонку принесла. Вот радости Морозовым; надо напомнить, чтоб меня с матушкой в восприемники ждали. Не сдвигаясь с креслица, поискал памятку на столе, писанную своей рукою, сразу не нашел. Вспыхнул, осердился неведомо на что. Хотел тут же крикнуть кого из спальников, отчитать за недогляд. На глаза палась самописная книга в четверть листа, закапанная воском и ушной ествою. Вчера принес эти листы стольник Ордин-Нащокин, напомнил прочесть. Объявил: де, под Москвою у Земляного города стрелецкая вахта взяла подозрительного шатуна. Оказался подсыльщик с зарубежья, пешком прошел всю Русь; сказывал: де, идет к русскому царю с наукою, собрался учить нас. Дознались: родом серб, верою латинянин, грамоте гораздо учен в Риме, папский клирик Юрка. Царь велел привесть его для расспросов и досужих бесед: он любил слушать повести странствий по чужим землям, да и Марьюшка была охоча до слухов в вечерний час. Но это намерение отстранили давно жданные праздники, и времени потехе не нашлось...
«... Голос Духа слышишь, а не знаешь, откуда приходит он и куда уходит...» Вишь ли, горазд и самонадеян, собрался учить нас, замысля на дурное. Много сыскивалось тех учителей, да не всякая наука в толк. От южных словен робенок прибрел, таясь, к северным барбарам, чтобы высмотреть Русь и после донесть еретикам. Поди, вновь зубы торчат, не замыслили ли что дурное? Ну-ко, ну-ко, чему ж ты собрался выучить нас, прелагатай?»
Государь открыл сочинение и прочитал первое, что палось на глаза, задавливая сердитость: «В Светлое Воскресение и лютому врагу кинь соломину через пропасть». «Никто да не берет на себя отгадывать или судить тайны царя. Царские думы, если не содержатся в тайне, не имеют никакой силы. Никто не должен творить себя ценсором царской думы. Никто под опасением преступления не может делать сходбищ и разбирать думы или обсуждать причины, руководящие царем, ибо над царем нет другого судьи, кроме Бога».
...Воистину логофет и филозоп этот бродяга. От обсуживания падают престолы и идет разброд; шатание же несет погибель и самой великой державе. Но где мера та? сладкое разлижут, горькое расплюют. Как бы отличиться от деда Ивана, не впасть в его неистовство, но и с Борисом Годуновым не сродниться. Христолюбив был царь и добродетелен, но, строя Дом, едва не сокрушил его. Каков изъян сыскал Господь в его честной затее? что за змий сокрушил, напустя лихолетья?
Царь-государь! нет тебе минуты покоя, и даже в благорастворенный день не уйти от дел. Для чего-то же совпало? чуждый, незнакомый человек повторил на бумаге тайное послание Святого Духа. Как глубоко, однако, и повсеместно проливается его воля, коли полоняет и еретика.
Алексей Михайлович вздрогнул от внезапного озноба. Последнюю седмицу ни крошки в рот, и теперь, вот, схватывала голодная лихорадка. Слаб, слаб человече, гнетет его утроба, как бы ни велика была душа И невольно помянул государь Никона, ныне торящего долгий путь; вот и огромен человек, но лощение ему за усладу. Это Господь рождает таких себе в дружину. Вспомнил государь Никона и как бы похристосовался с ним, обогрелся и повеселел. Он кликнул истопнику, что стоял при дверях, принесть кубок гретой романеи. Потом позвал Хитрова; переломив себя, упрекнул, что слишком долго держит душу на спальника. Окольничий за-ради Светлого Воскресения был в парчовой ферязи, шитой золотом, и парчовой же шапке с собольим околом. Царь придирчиво оглядел окольничего и тайно поймал себя на дружелюбии к Хитрову. Голубые, какие-то призывные глаза спальника были простодушно чисты. «Плут, ой, плу-ти-на», – мысленно воскликнул государь и насуровился. С этим сердитым видом подал пасхальное яйцо из блюда. Они похристосовались. Алексей Михайлович невольно принюхался: табачиной от Хитрова не тянуло. Царь погрозил пальцем и открыто улыбнулся:
– Я тебя, Богдан Матвеевич, терпеть не могу, а все милую.
Хитров поцеловал крашенку и с замглевшим от печали лицом земно поклонился государю, благодаря за благословение.
– Ты ответь мне: серба-бродягу куда затворили? – спросил царь.
– А кабыть в англикский двор. Я было его в пытошную, думаю, дай встряхну шиша. А Нащокин перехватил. – Хитров вопрошающе взглянул на государя. У того было желтоватое, притрушенное усталостью лицо, но взгляд доверчив и тих. Царь покоился в креслице, набранном из слоновой кости, и смотрел в никуда. Он хотел уединения, но дворцовый порядок требовал нарушить его. Язык сковало горькой накипью, и каждое слово приходилось выдавливать. Государь отхлебнул романеи и сразу замлел.
– Ты скажи... Вот обыскался. Памяти никакой. Самолично же писал...
– Так мне же и отдал, государь. Я все исполнил, как велено было, а мой подьячий Федор Казанец получил из Кормового дворца корм для арестантов и передал в поварню. Ествы давать лутчим по части жаркой, да им же всем по части вареной и по части бараньей, по части ветчины. А каша из круп грешневых, пироги с яйцами или с мясом, что пристойнее, да на человека купили по хлебу, да по калачу двуденежному. А питья: вина лутчим по три чарки, а остальным по две; меду лутчим по две кружки, а остальным по кружке. – Спальник доложился единым духом, не сводя с государя подобострастно-нагловатого взгляда.
– Не лишку будет? – и тут же перебил себя: – Да нет-нет... Господь на свет всех попускает. Христос нынче воскрес и для них. Пусть же прольется свет благодати на нечестивцев, шишей и бродяг и пробудит в них человеческое. И железо ржа ест, а тут, поди, живая душа-то, не каменная... Ну, одевай меня, Богдан Матвеевич, да с Богом. Время не терпит...
Поверх шелкового зипуна облачил Хитров государя в становой кафтан и суконную однорядку, на голову – шапку лисью: обычный царский сряд по мокрой и ненастной погоде. А нынче на дворе весна затеялась, но и зима не отступила. Печатая каповым посохом, скинувший с себя смуту и предутреннюю хмарь, молодой и улыбчивый, с влажным блеском распахнутых карих глаз, царь стремительно вышел на спальное крыльцо. И на короткое время застыл, избоченясь, изумленный радостной пестротой мира. Теремная площадь кипела праздничным людом; даже соборные купола и розвесь старинных берез были вынизаны зеваками. Грачи галдели, согнанные со своих гнездовий. Сразу же ударил большой Борисов колокол, возвещая столицу о «тайном царевом выходе», и вся Москва, что в ожидании государя скопилась на Теремной площади, как подкошенная, повалилась ниц, не разбирая сухого места. И единый вздох благоговения покатился от Красного крыльца вниз к Москве-реке и Неглинной, за Пожар и за Болото, по обе стороны Кремля, куда и выступил милосердный царь. И в темницах, кроме заклятых душегубцев, воспрянули все колодники, ожидая милости: нынче государь жалует не только деньгою и ествою, но и волею.
У крыльца государя поджидала вахта, человек пятьдесят стрельцов в алых кафтанах, с праздничными вызолоченными топорками, выданными из царской казны на сей день; был тут и голова московских стрельцов Артемон Матвеев. Своей воинской статью, какой-то природной бравостью, бархатно плоской черной шапочкой с тульею на темных кудрях, коротким походным кафтаном из рыжей кожи с серебряной перевязью через плечо – он выгодно отличался нездешностью вида и притягивал взгляд. Он издали почтительно приветствовал государя смиренным наклоном головы, но сам, однако, незваный не поспешил навстречу. Хитров выглядывал на этого выскочку из-за покатого плеча государя с пристальной ревностью, словно бы выпытывал уязвимое место. Царь вдруг оглянулся, перенял у дворецкого обливное тяжелое блюдо с крашенками и самолично передал Хитрову. Тот капризно вздернул головою, но тут же и унял себя. И разве дело? начальник Земского приказа тащится с чашею пасхальных яиц, как последний подносщик. Пусть в тюрьму, на чепь, на дыбу, куда угодно, пускай вотчины отымут в государеву казну – только бы не этот позор. Скоро пронесся в мыслях невидимый бунт и тут же потух, темно уязвив сердце окольничего. «Чего раззявился, б... сын!» – оттолкнул в сердцах замешкавшегося на крыльце служивого; тот едва отстоялся на ногах. Хитров мстительно, зорко оглядел худородного, запоминая его на всякий случай. Ишь, расщеперился гусь Вся земля идет через Земский приказ, и тебе, сукин сын, не миновать сего двора...
Царь допустил Артемона Матвеева к руке, и «тайный выход» тронулся. Государь со службою, обочь стрельцы с топорками, позади десять жильцов-подносщиков, кому судьба таскать до прошаков подачу, да стольник-принощик Василий Пушечников; замыкали выход возы с шубами, рубашками и портами, с калачами и яйцами, с перепечами и хлебом житним. Сам государь являлся в народ с поклоном и милостыней, предлагая люду тихомирность свою и благой, желанный Христу пример. И сейчас, какой бы нищий и убогонький, инвалид и калика перехожий иль просто бедный и несчастный погорелец ни случились на пути, ни один не останется без милостыни, каждому найдется чем разговеться, каждый Христовенький нынче с праздником. По такому случаю множество нищих стеклось в престольную, чтобы зреть царя и накормиться из его рук...
Около Фроловских ворот, как перейти ров с водою, у каменных застенков выход разделился. Артемона Матвеева царь отправил к Лобному месту, чем посластил душе Хитрова, Василия Пушечникова с подачею услал на Пожар, сам же отправился в Земский терем. За деревянным тыном нынче тихо, нет ни ругани, ни вою, никого палками не потчуют, не выправляют на правеже долги и повинности, одни сторожа с батожьем, слегка захмеленные, им государь выдал по полтине и допустил к руке. Сошли по лестнице под палату, в сырое подземелье. Гляди, царь, гляди в науку, не так ли в аду принимают грешника. Спеши делать добро, ибо кто разумеет вершить его и не сотворяет, тому великий грех.
В печурах горели сальницы, вонь от тюленьего жира слоилась под потолком, на стенах плясало зарево топящихся печей. Из одной каморы неожиданно появился истопник, вынес кадь с лайном и, увидев государя, испуганно застыл, растерялся, подскочил стрелец и ратовищем бердыша решительно отпихнул его за угол. Дверь осталась открытою: за спущенной решеткой в углу на клоке соломы сидел колодник, ровно протянув по земляному полу ноги в бараньих чунях, голые лодыжки обхватывали ошейники кандалов. Конец цепи был заклепан в стену. Колодник хлебал горстью из мисы какое-то варево, капустные листы налипли на пальцы и седую, давно не стриженную бороду. Он лишь на мгновение отвлекся от выти, встряхнулся всем телом, как замлевший от лежания лесной зверь, но не затем, чтобы умилиться явлением государя, но чтобы еще усерднее приняться за еству. Колодник не ждал милости и оттого жил спокойно, дожидаясь конца, он пропадал в застенке, вроде бы ненужный миру, но народ, вот, кормил душегубца, не давал помереть. Невидимая вервь непроторженная связывала его с волею, ныне славившей Христа. Значит, и душегубец важен люду, раз хранит его Господь? Душегубец нужен нам, чтобы стеречь наши души, решил государь, уставясь в полумрак.
Вдруг колодник вскинул голову: у него было голое, безносое, окорнанное лицо, глянцево белое, костяное, с водянистыми, уже мертвыми глазами. Такою смерть приходит в снах. Они встретились взглядом, государь и колодник, и царь вдруг забыл, почему он здесь. Наверху солнце ярилось, гудел пасхальный благовест, от печеного-вареного ломились столы, в белоснежных льняных сорочках, прожаренных последними морозами, хлопотали у печей бабы, а мужики в камчатных рубахах той порой обносили вкруг застолья по дружинному обычаю первую братину с заквашенным медом, здравствуя Спасителя. А тут, как огарыш свечной, терпеливо дожигалась эта жизнь, неведомо зачем затеянная.
«Что есть жизнь наша? Лишь пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий», – подумал государь, вглядываясь в полумрак, дурманящий нечистотами: от густого настоя вышибало наружу.
– Ивашко Светеныш, душегубец. Взят у царской казны в потайном ходе, – сказал окольничий и крикнул в камору звонко, упруго: – Эй, вор заплутаевич, прими вид, не вороти рожу! Государь пред тобою!
Колодник отвернулся и издал непотребный звук.
Душегубец ничего не просил, он изгонял. Царь огляделся, рассерженный и смущенный: не смеется ли кто, охальники? Все досель просили милости, а этот – смеялся над государем. Гляди, какой потешник, и смерти он не боится. Знать, свобода ему злее топора. Иль бахвалится плачучи?
– Спустите его на волю, – вдруг повелел государь и, отступя шаг, добавил: – Пусть ходит по миру и славит Христа и цареву милость.
– Не хочу!.. Не пойду! И силком не сна-си-ли-те! – донеслось в ответ. – Лучше разом убейте до смерти!
Когда осторожно подымались из застенка по осклизлым ступеням, Хитров посоветовал тихим голосом:
– Государь, возьми его на Болото катом, кишки на кулак мотать. Самый такой.
Государь отозвался сразу, будто они подумали об одном:
– За праздниками вели привесть его ко мне...
Подьячий Федор Казанец роздал с возов колодникам под палатою по чекменю, рубахе, портам и талеру любекскому. Шуба Ивашке Светенышу пришлась впору. Примеряя чекмень на замрелое от лиха тело свое, он и ведать не мог, как неожиданно переменится его жизнь.
Царь Алексей замедлился у застенков, подпершись на каповый посох. Угарные каморы и самый вид обреченных тюремных сидельцев утомили его.
«... Ты исполнил наказ Божий без той кротости, коя подобает царю, – упрекнул государь себя. – Ты слишком скоро подался прочь из узилища, проявив слабость. Подумают, что ты занедужил увиденным, испугался гноища и тли...»
Батюшка-государь, ну полно казниться. Христос воскресе и для них, и всякий вор нынче ублажится твоею подачею. Ведь ты, не погнушавшись и загодя улучив время, принес заблудшим пригоршню тепла и ествы, твой приход умягчил злодеев пуще елея. Поспеши, государь, тебя ждет заутреня и разговленье, твоя утробушка ссохлась, как заячиное горло. Не перечь душе, не изводи маетою. Ну вспыхни же царским ликом, чтоб всякий взгляд, брошенный на тебя истиха, обрел радость и глубину...
Снег под солнцем выжигался до мерклой плесени прямо на глазах. От высокого крыльца земской избы к деревянным палям огорожи разговористо сбегали ручьи, из-под ворот вырываясь на пологий склон Пожара. Двор натоптан, наброжен, последний снег прощально вымешан с грязью, как скотиний выгон. Стрелецкая команда, алея кафтанами, дожидалась государя на мосту из рубленых плах, перекинутом сквозь двор. От вызолоченных топорков, вскинутых на плечо, от бородатых, умасленных лиц слепяще отражалось солнце. От Воскресенского кабака, будто грачиный гвалт, доносился праздничный ор загулявших ярыг. В прорезь балясин голубело небо, в укромном затишке около двери в застенок, окованной железными полосами, уже ершилась малахитовая пасхальная зелень.
«Господи, Сладчайший мой, как благословенна дарованная тобою жизнь. За что же мы люто изымаем ее друг у друга?»
Это чувство пронеслось мгновенно, как тайный счастливый восклик обрадевшей души, но государю показалось, что это он сам вскричал во весь голос. И ему отозвалась колокольным играньицем вся согласная Москва. Государь оглянулся, окольничий непонимающе пожал плечами, глаза его на заветревшем лице были по сиянью вровень с небом. И вдруг Хитрову открылась государева радость и царева слабость, и он тайно возгордился собою, пугаясь своего знания. Душа царя еще не закременела, и чувства ее, неподвластные монарху, расшатывали его волю. Еще нету царя-то, не-ту-у, есть лишь шапка Мономахова.
Хитров поспешно опустил глаза, глядя на загнутые носы сафьянных сапог, выглядывающие из-под собольего опашня. Красив, рыжий черт, и тайно дерзок.
...Чего ж затуманился, батюшка-государь? И верно, сердешный, что, выйдя из застенков, воля кажется краше обыденки во сто крат. Подавайте милостыню, государи, и навещайте юзилища. Темницы омрачают лишние восторги, но вострят душу, и пусть на время, но дают ей хмеля. В юзилище даже сердечная и немалая подача кажется ничтожною.
Сойдя в темницу, царь прошептал: «Жизнь наша есть пар». Выйдя же на белый свет и отряхнувши липкий прах с плеси, он невольно вскричал: «Господи, как благословенна жизнь!»
Зря возгордился Хитров. Вот он, государь, слегка одутловатый, несколько сонный, в черного сукна однорядке. Не купчина ли гостиной сотни, затуманясь, в свой черед дожидается царева соизволенья? Только и отлички от него, что каповый посох, вынизанный рубинами и топазами. Но всякий, бросив взгляд на дородного человека, еще не зная, кто пред ним, тайным гласом сразу будет извещен, что это великий государь, и спешно бросится ниц долу, будет ли то расквашенный вешний снег под ногами иль осенняя жирная водомоина. Да, многие в еретическом запале и гордыне тщились заместить собою царя, но где память по них? Она скоро истлела в свитках Посольского приказа под гнетом летописного свода. Возможно заполучить трон чарами и кобью, но как заиметь Божие благословение? Ибо лишь по его отблеску на челе и узнается государь. Над головою истинного государя сияние. Вот где спотычка всякому самозванцу на Руси...
Хитров, взмахивая полами опашня, ловко обежал государя, стараясь не смотреть на него; соступая в жидкую площадную кашу, он показал рукою путь в Приказную избу, где сидели виновники за приставом. Взобравшись на засахарившийся сугробец, к слюдяному окованному оконцу тянулся на цыпочках ангел в белом нагольном тулупчике с шалевым воротником. Короткие крыла намокли и обвисли вдоль спины. Кого иль чего домогался маленький ангел? Был глас на литургии, а тут встретил Божий посланник. Царь Алексей, увидев его, пораженный, затрепетал. Может, и не так было все, и после Хитров наколоколил своему карле Захарке, разнес весть по двору. Разве может затрепетать даже слишком восторженный человек, ежели он тучного виду и царского сана? Государи не трепещут; правда, случается, что и они плачут, и, омываясь слезами, возрождают сердце для жалости. Действительно, государь вздрогнул, и, не сдержавшись, как чистосердечный, искренний человек, он невольно воскликнул: «Гляди-ко туда, Богдан Матвеевич, не ангел ли там?» Великое Воскресение посулило государю чудо; ежели не верить в него, оно никогда не явится взору...
Да и так ли важно, что им оказалась девочка-отроковица в высоком колпаке из белой смушки, с долгой льняной косой по спине вдоль вошв. Меньшая дочь знаменитого на Москве кабацкого ярыги князя Федора Пожарского часто наведывалась на Земский двор, своим присутствием невольно пристыжая отца, сидевшего нынче за приставом для науки и острастки. Дядья не однажды жаловались государю на племянника своего: де, он на государевой службе заворовался, пьет беспрестанно, по кабакам ходит, пропился донага и стал без ума и дядьев не слушает, хотя они всеми мерами унимали его, били и в железо, и на чепь сажали, но унять не сумели. Боясь впасть в опалу, молили дядья государя послать Федора Пожарского под начал в монастырь...
Отроковица знала, что будет нынче государь раздавать по Москве милостыньку, и вот подгадала припасть к его стопам. Она оглянулась испуганно, сразу признав царя (таким она видала его во снах), упала на колени и сразу решительно и горько заплакала, моля за тятеньку.
– Добрая девочка. Ангел мой. Христос воскресе, – сказал государь, за овчинный чекмень ухватив, поставил на ноги, расцеловал.
– Воистину, – прошептала отроковица, сразу просыхая глазами; от вешнего солнца напекло ее милое личико, брусничным молоком напитало щеки, из голубых глазенок истекало то сияние, кое и называют ангельским. Так восхищенно светиться могут лишь глаза неискушенного ребенка.
– Добрая девочка. Твой отец горе завивает веревочкой, он по кабакам попустился и этой вервью и вас задушит, с собою в пропасть утянет. – Голос царя стал сухим, резким. Девочка, стоя на зальдившемся сугробе, оказалась лицом вровень с государем и сейчас неотрывно смотрела на его упругие губы, оправленные темно-русой шелковой бородою. Девочка навряд ли слышала царя, она была зачарована его красотою. – Вот ты молишь за него, а он тебя под монастырь тянет, при живом-то отце сирота. Я ослобоню его, а он паки и паки...
Отроковица опомнилась, стряхнула наваждение, возразила упрямо:
– Матушка молвит: тятя по кривой пошел, с копыл съехал. Он с зеленым змием борется, да пока одолеть не может. Я ему державой буду. – Голос ее оказался неожиданно звонким, взор заблистал. – Знаю, смирен он больно и хвор. Ты бы спустил его, батюшка-государь. А коли Господу будет угодно, я со всею охотою в монастырь.
Царь Алексей насупился и, ничего не ответив более, вступил в Приказную избу. Стрельцы оттерли отроковицу к палисаду; она издали смотрела на царский выход, открывши от напряжения рот.
Грозно вступил государь в избу, велел тут же гнать всех по домам за-ради праздника. Федора же Пожарского, сухолицего, горбоносого князя, поставил на колени.
– Ведаешь ли, злодей, что за тебя дочка молит, не ест, не пьет который день. Добрых родителей сын, твой дядька престольную от самозванца спас, а ты? Э-э-эх! На что попустился, кабацкий ярыга. Москва над тобою тешится! – При этих обидных словах князь Федор уросливо вспрянул головою, пытаясь возразить, но царь закричал резко, наливаясь кровью. В таком гневе бывал государь страшен. – Молчи, холоп! Велю с тебя кажинный день шкуру с живого драть на подметки, чтобы иным неповадно. Есть в миру негодные люди: еретики, злодейцы, чаровники, звездобайцы да разбойники. Есть еще кобыльники или скитальцы, – кобылицам подобны люди, что иных народов труд и пот изъедают. А еще есть хлебогубцы или бездельцы. Их повадки: еди, пий, спи, играй, похотем выражай, прочие скорби иным оставляй. Так ты из этой породы, негодный человек. Сам себя в тлю извел своим непотребством. Себя пропил и меня предал, сукин ты сын... Спровадить его в Тоболеск! И нынче штоб! Без харчу и пеши! И без моего благословения! Чтоб каждый тебе вслед плевал: «Ярыга бредет, московский пропойца!» Ишь чего удумал – дно чарки узреть! – Государь перевел дыхание и устыдился крика своего. Слабость почувствовал государь с долгого поста, и пот обильно оросил лоб. Государь, не глядя, без просьб протянул руку, и стряпчий вложил ему в ладонь шелковую фусточку. – Ведь и не клосный ты человек, – утираясь платком, утишил тон государь, – и не урод, не калика, не убогий какой, видом продать. А ведешь себя вроде каженика, да и хуже того. Ну что с тобою поделать? В великом горе я по твоей пропащей душе. Прости меня, Господи. Нагрешил я нынче вместях с тобою, князь. Ох, нагрешил...
– Проси милости, проси, – не сдержавшись, зашумели стряпчие. – Не чинись, Федорушко, а не то совсем пропасть. Вон и девчонка тебя заждалася, собачонкой скулит в подоконье.
Видно, слова о дочери сломили упрямство князя, и он возопил:
– Прости и помилуй, батюшка-свет. Век за тебя буду Бога молить. Спеленали меня черти в тугие железа. Дай еще сроку, авось не поддамся.
– Ну гляди, княже. Христос нынче тебя милует за-ради твоей отроковицы. Однако через седмицу явись-ка, ярыга, на Болото к палачу за наукою...
...Днем царица Мария Ильинишна устроила у себя в Тереме большой стол для нищей братии. Того же числа ввечеру государь ходил к Зиновию расслабленному, что лежал в келице у рождественского попа Никиты, и указал дати милостыню пять рублев.
Глава тринадцатая
Слава Те, Исусе Христе, опять до весны красной перемоглись, дошагали, сломали отчаянно студеную зиму, а теперь вновь жить можно, уповая на Господа. Есть Он, Сладчайший, не покинул нас, вон Его добродушный лик лучится на незамутненных небесных эмалях, это Его вроде бы неслышный милующий глас стекает с голубых сводов и перебивает громогласное церковное петье. Да под этим всепрощающим благословенным взглядом самая заледенелая старая кровь оттеплит вдруг, заворошится под спудом нажитой усталости, закипит, а тут и душа обрадеет, воскликнет в щенячьем восторге, словно бы молодильной водой окатили, и даже древние остамелые негнучие ноги, откинув прочь ключку подпиральную, вдруг в силу войдут и пустятся в пляс, чуя лишь одну небесную музыку. Звените, колокола, играй, престольная, пусть медный грай святой Москвы домчит до самых закраек великой земли, сметет усталость и нежить, пробьет накипь забот, взвеселит очнувшуюся русскую душу.
Пасха!..
Целуйся, христосуйся, крещеный люд, сымая грехи с сердца, и пускай любовный прощающий взгляд, перетекая с лица на лицо, как вервью непроторженной, скрепит вас в одно согласное тело. Хоть на день обрадейте друг другом, простите в изменах и лукавстве, воспримите ближнего, как кровного брата своего, откушайте от единой Пасхи, испробуйте из горсти куличика, дорожа каждою его крошкою, чтобы зряшно не просыпались они, – и тогда Светлое Воскресение надолго останется с вами и в вас и будет державнее брони от всякого искуса.
Шалаши торговые, лари, скамьи и лавки вдоль стены Китай-города нынче заперты, молчат капуственные ряды и яблочные, дынные и огуречные; но гуще, чем в обыдень, насыпало всякого люду на Пожаре и по Неглинной. Тут и холопи, и рабичишки, боярские сытые челядинники и дворяне, стряпчие и приказные, посадские и черная торговая сотня, стрельцы и сотники – все ныне братья, все чествуются с поклоном, в глазах ранний хмель. Знать, успели разговеться. У Воскресенского кабака ор, двери нараспашку, издаля слышна вольная колготня и свара; стрелецкая сторожа и затинщики лыбятся с Китайской стены, завидуя гулеванам и подначивая на выходки. На завостренной стали секир лежит ослепительное солнце. Меж каменных круч крома во рву, набитом грязным ноздреватым льдом, бродят сизари, подбирая крохи праздничных милостей. Мальцы у нагревшегося пристенка устроили горку из елового корья, катают крашенки, к ним соседится братва постарше, у кого над губою зашерстилось; выиграв дюжину яиц, бегут с ковшом к целовальнику за стоялым медом.
Тут и медведь с кольцом в носу, слушаясь поводыря, строит рожи, подает хозяину пуховую шляпу и барабан; поддавшись общему веселью, представляет, как теща зятя потчевала, блины пекла и, угоревши, повалилась; день-деньской кидала из печи на стол сковородники, а зятелко умел стряпню и, несыто утерши рукавом масляные губы, упрекает досадливо тещу. Вот медведь с умильно-хитроватым выражением, но со злым просверком в угрюмых глазках эти всевозможные куры строит, а хозяин кричит гулеванам: «Гли-ко, сколь мужичок нажористый. Стопу блинов умял, а как и не едал, де, размялся лишь». Бражники подносят медведке чару, тот разевает пасть, показывая толпе желтоватые клыки, но хозяин ловко выхватывает посудину и, не чинясь, выливает вино в просторную луженую глотку. Медведь гонится за мужиком, роняет в набродную грязь, после хозяин, сломавши пуховою шляпу и для прилики сгоняя с лица невидимые слезы, вымаливает на коленях милости, а зверь куражится для общей потехи, как может выкобениваться приказной подьячий над бедным просителем; но вот медведко прощает вожатая своего, под общий смех за шкирку ставит на ноги, утирает тому глаза и подносит скобкарик водки... И эта медвежья потеха, как тончайшая косица в речной стремнине, и никак не отженить, не отпутать ее от общего потока; взгляд гулебщика уткнется в нее, выхватит из кипения страстей, но тут же новые волны сходбища подхватят и утопят в себе, выталкивая наружу лишь для передышки, когда усталым взглядом невольно понимаешь, что уже далеко не день, что воздух засиреневел и солнце прощально село на маковицы Ивана Великого. Всяк отдельный звук, как бы ни азартен был он, невольно сливается в один общий тысячеликий гул, словно бы тьма темей сошлась со всех пространств на площадной праздник, чтобы выразиться откровенным признанием всеобщего желанного родства. И витает над престольной неслышимый, но явленный вскрик, исторгнутый Господом и согласно подхваченный Москвою: «Мы брать-я-я!»
Посреди счастливой суеты табор потешников. Тут и слепцы, подложив окутки и сермяги на клок соломы, вздели к небу усталые страдальческие лики и тянут плач о нищей братии; выслушав убогую сироту, всяк, не утративший жалости человек, – а хмельной ярыга особенно слезлив бывает и мягок душою, – непременно подаст подачу. Ныне на дворе праздник, и потому калика и милостынщик с зобенькой, погорелец и бегунок, для коего пространная воля и есть корень жизни, обязательно сыщут здесь утешения и прокорма... А поодаль, стережась царских доглядчиков, рядят свое зрелище скоморохи-самохвалы. Тут и музыканты сладились со своим петьем: рожечники и скрыпотчики, домрачеи и рожечники, гудошники и гусельщики всяк со своей музыкой будоражит гулящую душу и подбивает в пляс пятки... На перевернутой палагушке взгромоздился блаженный Кирюша с позументным венчиком на гладко зачесанной голове, в долгой смертной рубахе с камчатными намышниками, похожими на петушиные гребни. Он опирается на двурогий посох, переступая босыми плюснами на донце, ступни, как гусиные лапы, задеревенели и побагровели, давно уже не чуя зябели, и стучат по дну кадцы, как коровьи-копыта; на впалый живот свисает кожаная сума грамотея, где хранит блаженный Псалтырь и святые мощи с Афона. Кирюша только что с царицыного стола, где наобещал государыне сына, напитал плоть, захмелился и вот, полный достоинств, решительно вознесся над гульбищем, чуя, как на месте лопаток отрастают крылья, щекоча кожу. Далеко ли видно с кадцы поверх праздных гудящих голов? да сажени на две, а какой-то шатун в поярковой белой шляпе, замедлив близ Кирюши, и вовсе застил для него всю площадь. Но... сияющий взгляд блаженного насквозь пронизывает толпу, вознесясь за кипень белояровых облаков прямо к престолу Господнему. Кирюша решительно отпихивает плечом Архангела Михаила и, силою залучив перьевое опахало, овевает воздухами Сладчайшего. На вороненых волосах Христа он увидел седую прядку и умилился... Что-то веселое наяривают сопелки и волынки, вовсе позабывшие про Святой день, а Кирюша, вновь объявившийся посадскому люду после годовой отлучки, выкликает с притопом:
Дураки вы, дураки, Деревенски мужики, Как и эти дураки, Словно с медом бураки. Как и в этих дураках Сам Господь Бог пребывает...Возле кадцы на коленях стоит князь Федор Пожарский и, обхвативши колени юродивого, скулит: «Отечь святый, благослови... отечь святый...»
«Тятя, пойдем домой», – плачет дочь, не в силах сладить с отцом. Кирюша плохо чует суету в подножье новодельного трона, он парит над народом, желая остеречь его.
«Кститеся, грешники, – вопит он. – Суд грядет. Нынче сын антихристов народился, топор точит. – Крик его перешел в бессвязный шепот, слышимый лишь отроковице, что неустанно, горько плачучи, тянет домой грешного отца своего. – Скажи мне, что держит землю?» – «Вода высока». – «А что держит ту воду?» – «Четыре золотых кита». – «Да что держит золотых китов?» – «Река огненная». – «Да что держит тот огонь?» – «Дуб железный, а корение его на силе Божией стоит».
«Отечь святый, благослови. Душа го-ри-ит...»
На темных волосах Пожарского ранняя пороша, впалое лицо покрыто пьяной мглою.
«Тятя, уймися. Ты государю клятву давал. Матушка дома сердце рвет!..»
«Сын антихристов топор точит! – взывает Кирюша. – Будет корение дуба железного сечь! Землю нашу ру-ши-ить! Кститеся, грешники!»
И вдруг блаженный, взмахнув рукавами смертной рубахи, пропал в толпе: оборвали Кирюше крылья, утопили в болоте. Это подкрался сзади долговязый поп, ухватил беднягу за сальную косичку и скинул с трона.
«Уймись, лукавый! – строго сказал Аввакум и отпнул кадку. – Кыш, дурень, не сатани народ!»
Поп оглянулся, на глаз ему пался багровый мужичонко, яростно дувший в сопелку. Прямо изо рта бесстрашно выхватил Аввакум тростниковую дудку, переломил надвое и кинул в парящий притвор кабака.
«И ты поди в преисподнюю, бес! Вовсе забыли Господа, дьяволы!» – Аввакум размашисто перекрестился на главы Кремля и выбрался из толпы. У яблочного ряда его поджидал казанский протопоп Иоанн Неронов.
Представить трудно по наружности более разных людей. Был Аввакум в теплой рясе, подбитой бумагой, в бараньих стоптанных сапожищах, кроенных на медвежью лапу, из ворота рясы прорастала шея бурым жилистым окомелком, глаза с рысьим зорким прищуром. Аввакум спустился на мост скорым шагом, властно впечатывая в отпотевшую землю можжевеловый посох. Остановился резко, раздувая ус, трудно утишая себя. Иоанн же плохо поспевал за спутником, порою позабывал о батоге, держа его на отлете; казалось, что вот вскинет его на узкое плечико, покрытое залоснившимся чекменем, на конец подпорки подвесит котомицу со снедью, да и отправится за святыми дарами на край света. Вот те и бегунок, неистовый странник без прислону, кому мать родная – кочевая дорога. Остановился, задрав голову, вытер пот со лба фусточкой, скуфейку вогнал по самые брови: лицо морщиноватое, с нестихаемой талой полуулыбкой, обращенной куда-то в душу свою, глаза сталистые, блескучие, и поясная неряшливая борода под цвет чекменя – в проседях с желтизною. Но отчего же, поймав взгляд Неронова, смутился Аввакум и отвернулся, глядя на речку в сторону Пушечного двора?
– Ну, Аввакумище, не сносить тебе головы, – раздумчиво, вживаясь в каждое слово, упрекнул Неронов и с этой присказкой размашисто перекрестился на Параскеву Пятницу, где только что вновь ударили в звоны.
– А я с има не чинюсь, – еще не остывше буркнул протопоп, пряча горячий взгляд. Они замолчали, не желая свариться. Светлое Воскресение живет для покоя, и то, что Аввакум вдруг зачинился, запоперечился, поддался гордыне, затомило нутро священниц. Протопопам возвеселиться бы, сладко жмурясь от благодати вешней и поминая Христа, да и торить дорогу далее по своему заделью. Но они, вот, истовые, ревностные богомольники, вдруг оба закисли от всеобщего греха, спиною отгородясь от площадного гульбища. Мимо по Воскресенскому мосту от Тверской на Пожар спешили сбитенщики с бадейками, да пирожники с коробейками через плечо, да всякий посадский люд: нет-нет и девки мелькали, распушив перья, они зорево красели щеками и метали в народ взгляды, не боясь суровой епитимьи; лотошники, расщедрясь, одаривали хваленок жамками да орехами-гнидками...
Но куда подевался крещеный люд, куда затаился? по каким уремам и таежным распадкам осел истинный насельщик, унеся с собою святость? А эти-то, эти-и-и, ой, что деют, Бога на них нет! Вот ужо будет вам, стервы, парная баничка с огненным веником. Разложат черти по каменным скамьям да и примутся выискивать каждый хрящик, выкручивая его. Ишь, разблажились, телеса славят, прихоть свою тешат, распаленные еретиком: и долгий-то пост не истомил утробы. И – эх! стоптали под ноги имя Христово, в который раз распнули, оследясь безумно на светлой его душе...
Ярился Аввакум, взирая на остывшие бани за Неглинной, с застывшими в воздухе черпальными ковшами на журавцах, на пологие взгорки, где на лысинах средь грязной травяной накипи уже пробрызгивало зеленым, на сиреневую розвесь тальников. Речка набухла, прозрачная вода-наледица, осадив ко дну распаренный лед, с брусничными сполохами под крутым кряжем, где поленьями неожиданно вспучивались щуки на икромет, уже заметно напирала из берегов, мечтая излиться на пойму. По кручам, на задах огородов, как большие черные рыбы, днищами вверх лежали дощаники и лодки с морщиноватым, пузырчатым варом на нашвах; вороны упруго вышагивали по посуде, упрямо сбивая черные натеки смолы. Издалека, с Земляного города, из-за застенья доносило гулом посадского веселья, мясными штями и пирогами, хмельная сытость плавала над землею, и пахучий воздух, пьяный сам по себе, лишь добавлял терпкости в этот настой.
Русь разговлялась.
Невдали от Аввакума безразлично маячил весенним упрямым репьем карла Захарка в кафтане шутовской покроми, ватном колпаке, обсаженном хрусталями, и в мокрых лаптях с полураспущенными сборами. Карла пил из скобкарика медовуху и закусывал сдобною перепечей. Лицо его так ловко замурзано сажею, что никто бы вовек не признал в карле хитровского верного слуги.
Аввакум окротел, приблизился к Иоанну, земно поклонился, сказал глухо, скрипуче, как колодезный журавль:
– Прости, бачка. Черт попутал. – Аввакум перекрестился и трижды сплюнул через левое плечо в нечистое рыло, что постоянно дозорит за православным.
– Бог простит...
– Всегда такой я, окаянной, сердит, дратца хочется. – Аввакум вдруг засмеялся молодо, заливисто, вышатив грудь вперед. Темень сошла с лица. – Ловко я дьяволенка-то за косицу турнул. Только сгрохотал. Не гордись, значит. Я и в церкви у себя такоже. Который дурует, тот на чепь, добро пожаловать. Не раздувай уса тово у меня! Потачкою беса не отгонишь.
Глаза Неронова сталисто сверкнули. Воистину сила не во плоти, но в душе.
– Бес ведь не мужик, батога не боится. Боится он креста Христова, да воды святой, да священного масла. А ты кулаком причащать.
– А и Христос вбивал палкою, что словом не мог. Да и ты, бачка, не больно смирен. Шерсть-то овечья, да по-волчьи чесана... Вот и я, ино хочу промолчать, и невозможное дело. Горит во утробе моей, яко пламя палит. И плачу, и ратуюся. – Они неспешно двинулись к Тверской, мимо крохотного кладбища на косогоре, притулившегося к церковке Анастасии Узорешительницы. Тут было шумно: на вековых думах грачи уже вязали гнездовья, делили свою усадьбу. Неронов, снявши скуфью, гребнем причесал сивые волосы, сладко пропел псалм, воззвав Богородицу. Аввакум же и тут терзался, ему обидчиво казалось, что учитель не слышит его, занятый собою. – Видеть не могу, бачка, как скоро теряет заблудший божеское обличье свое. На кого опереть дух свой? К чьему благодатному уму припасть, чтоб испить от источника, разблажась сердцем и восплакав от умиления? К чьей душе приклонить ухо, чтобы гласы наши сплелись в любовный хор? Ох, горе нам, бачка! Одолевают супостаты, яко крысы лезут во всякую щель. И куда спешит Русь, заголя подол? Глядеть тошно. И так страшно ино, что дыханье обсекает. Откуда к Богу такое презорство и бесстрашие! Ничего-то они, грешники, не боятся, ни-че-го! Наедшись и напившись, пьяно скачут на костях отец своих, яко юницы быков желают и яко коты кошек ищут, смерть забывше. Прелюбодей на Пасху без милости мучится, а им хоть бы што...
– Аввакумушко, тяжче тяжелого не снесть. Снесешь, что заповедано. Всяк по своим раменам кладь грузит. Не то изнахратишься вмиг, а с килою-то меж коленок каково? И я ино в рев, плачуся до темени в глазах, глядя на бесстыдство, а вспряну в скорбях – позади-то глядят за нами испытуючи светильники наши, Иосиф с братьею. И обрадею тут, кляня себя за слабость, и горе схлынет, как снег вешний. Чуешь ли, сердешный, скоро крест учнут подымать, куют цыганы гвоздье на наше мясо... Уверься, Аввакумко: до кого без упрека, тот всяк за тобою.
Они вступили в житенный ряд на Петровскую улицу, где сплошь стояли торговые лавки; усадьбы задами спускались к Неглинной, сами же избы с резными ставенками по верхнему жилу выходили на кривую, усыпанную опилками улочку. Подъизбицы с окованными дверьми, где помещается торговля, ныне под запорами, в хоромах же – разговленье. Завидев казанского протопопа, высунулся из окна купец Пахнотей Пируев: в мясистом, багровом от вина лице искреннее почтение. Стал зазывать священниц почтить присутствием дом. Да и то верно, кому не в честь принять благочестивого, славного на Москве батюшку, жаркое слово коего ходит слушать и сам государь. Неронов отговорился недостатком времени. Купец Пахнотей Пируев, низко вывалившись с подоконья, зарокотал вослед: «Христос воскресе, смертию смерть поправ...» На улице пахло рыбной и мясной ествою, мучною пылью и солодом, всем тем, чем напоминает земляная сытая жизнь. В затеньи на последних сугробцах, покрытых мякинною пылью, сновали воробьи. Из подворотни прянула крыса, облезлая по весне, со снулыми глазами. Неронов погрозил ей вослед скрюченным пальцем.
– Вот возьми ее за так. Потому как Господь всяку тварь попускает. И ты, сынок, не чинись шибко. – Неронов поклонился Параскеве Пятнице, коснувшись рукою долу. Персты опачкались, на тонком ногте оказался белый мучнистый червячишко. Неронов бережно отряхнул его наземь. – И эта Божья тварь тоже жить хочет. Вылупилась и живет. А ты не дави ее, она сама ход сыщет.
– Ой ли, ой ли...
– Ядый не ядущего да не укоряет: и не ядый ядущего да не осуждает, Бог бо его прият. Ты кто еси судяй чуждему рабу?
– Все бегуны, все потаковники, все себя ищут, – упирался Аввакум. – И ты меня на укор, отче. Глуп я и слаб. Не ритор я, ни филозоп, дидальскаства и логофетства неискусен, простец человек, но разум Христов в себе имею. Это про меня апостол глаголет: аже и невежды словом, но не разумом... Вот они, искусители смиренных, потаковники и обольстители. Они златом хощут затмити душу. В спеси своей надулися, яко пузыри. А проткни-и – в каждом диавол. Тянут под себя с западного угла от латын всякое непотребство. Не излакать нам будет блевотины той!
Аввакум ткнул перстом в палаты Василия Голицына, стоящие в глубине пространного двора, устроенного на немецкий лад. Сам дом был изукрашен каменной резьбою, а крыша, обтянутая золоченой медью, спорила с солнцем. Напротив же, через Неглинную, светился главами белокаменный Кремль, весь в золотом сиянии, как отплывающий на облаке по воздусям Иерусалим. Протопопы земно поклонились пред Русским сердцем. Третий Рим неколебимо взрастал на семи холмах, и казалось, ничто не могло отныне поколебать его броней.
И волочащийся следом карла Захарка тоже отбил поклон святой обители.
Глава четырнадцатая
...И кто бы подумать мог, что именно здесь четыре благолепных искренних богомольщика решили сегодня судьбу Руси, не помышляя о том, неовеваемые тревогой иль предчувствием, повернули колымагу с торной дороги на неясный, потерявшийся в потемках, робко ослеженный путь. И не вздрогнуло ни одно сердце, не зашлось от боли, и Господь, ныне воскресший, не остерег гласом иль намеком тайным каким.
...Они разговелись нехитрой ествою, шибко не усердствуя, не потворствуя плоти, и перешли в крестовую. В бревенчатых хоромах душновато пахнуло елеем, куличиками; в печурах и на полицах во множестве сияли в венчальных, усердно начищенных ризах иконы, и под каждою светила лампада. Четыре зеркала в темных резных рамах невольно умножали светильники, создавали какую-то переменчивую блескучую игру. И всякий, кто входил в крестовую, невольно озирался и пригорбливался, выбирая угол укромнее. Вышорканные на Пасху стены янтарно, свежо лоснились; заходящее багровеющее солнце скользило по высоким окнам, затянутым желтоватою слюдою, придавая бревнам праздничную и вместе с тем призрачную глубину. Стена на короткое время как бы просматривалась насквозь, и в ней виделся каждый, еще не умерший древесный нерв, по которому текла тревога. Небольшой вычурный столик от дегов, подарок государя к именинам, на нем стопы древлеотеческих книг, три широкие лавки, покрытые камчатными дорогами, да витое черное кресло с червчатыми бархатными подлокотниками дополняли скромное убранство палаты. Ртищев подлил маслица в лампады; Стефан Вонифатьевич, царский духовник, пришаркивая ступнями следом за хозяином, осторожно опустился в кресло и спрятался от всех; скуфейку он поместил на колени, остро выпирающие из рясы, и придавил сверху костлявой ладонью со старческой морщиноватой кожей. Его младенческие, с тайным, спокойным предчувствием близкого ухода глаза внимательно и зорко перемещались по лицам, чувствуя и прощально запоминая их. И каждый, кто был в горенке, готовно отвечал ему благочестивым и любящим взглядом. Явилась сестра хозяина Анна Михайловна Ртищева, принесла ендову стоялого квасу и кубки, попросила наливкою черпать и потчеваться, сама же не удалилась, но осмелело, как бы полагалось ей, прислонилась к ободверине, нимало не тревожа гостей. Была она в костыче из китайского бархата и душегрее из объяри, на голове алый сборник. Ртищев опустился на лавку в переднем простенке, а сестра, скрестив на груди полные руки, отныне не сводила взора с брата, словно бы дозоря его чувства и тайные мысли, как держит коренника за вожжи опытный возница; моленная как бы рассеклась надвое, и невидимый рубеж раздвоил пол, устланный толстыми хоросанскими коврами.
Аввакум заметался, не решаясь нарушить запретную черту; он то цепко перебирал книги в стопах, то прижимался спиною к нагретым изразцам; шаги его, приглушаемые ковром, были по-рысьи скользящи и мягки.
– Ой, Михайлович! – вдруг погрозил протопоп хозяину, ядовито усмехаясь. – И тебя лукавый блазнит. Схоронился к тебе в зепь и ну чикотать за ребрышки.
– Охолонь, Петрович, будет тебе! Потерпи, Бога ради, со мною в дому, – попытался остудить Ртищев, доброе бабье лицо его перекосилось от страдания: уж так тошнехонько было ему заводить в Светлый день долгие споры. Но Аввакум потерялся скоро, заблудился в суземках и, как лось, кинулся чащерою напрямки, навряд ли видя сейчас верных примет. Но боковым взглядом он выхватил, однако, как встрепенулся «батька» Неронов, как с нетерпением добыл из-за пазухи гребень из рыбьего зуба и, усмиряя дух свой, нарочито важно принялся боронить разномастную бороду.
– Обидки берут, Федор Михайлович, ась? Ну да, состроил обитель, хвала тебе. – Аввакум поклонился, косо уводя к полу голову и все, однако, примечая: жесткие волосы свалились на лицо, и сквозь темный хохол зорко проглянул внимательный зеленый глаз. В зеркале Аввакум внезапно поймал себя, по-бабьи сгорбившегося, и от внезапной обиды засуровился еще более. – А доложись-ка, кого навез? А навез ты непутних из Киева, что молитву православную давно во хлев сослали за ненадобностью. Говоришь, в келейном правиле изрядны, а униата подпустили, из одного блюда ушное едят да друг дружку нахваливают. Сатановский, Птицкий, Славинецкий: воистину сатанаиловы дети.
Неронов каждое слово Аввакума отмечал кивком. Ртищев пробовал возразить, но вмешался Иоанн Неронов, досель молчавший.
– Беги от еретика! – возгласил протопоп, осветясь взором. – Обесчестишься, душу свою извредишь, будет, как сито, как устоять такой державе? Ветр снесет, развеет по крупицам, и будет заместо души пустое место. Аще еретик и мяхко пускай с тобою говорит, но ты уклоняйся его, понеже он уловляет тебя в невидимые сети. – Сладко было слушать протопопа, внимать проникновенному, омытому пламенем голосу, когда сквозь напевные напутствия вдруг проскальзывали искры и прожигали насквозь. – Привадили мы к Москве супостата, и не ты один грешен, не ты один уловился в мережу, Михайлович. Видит Бог, в ставце глубокодонном скопятся неиссушаемые наши слезы уныния и печали, и кто-то после, в грядущих днях, открыв его, разглядит ли нас, многогрешных, лежащих на том дне? Вот и греки зачастили, премудрые алманашники. Многоумны и потрафливы и в рот глядят нам, считаючи наши куски, но и сами не промах. Это их патриархи кушают рафленые курочки с варваром турским из одного блюда. Вот шли мы по Пожару и видели, как искушают бесы русского человека. И горько мы с Петровичем восплакали. А сейчас вдруг раздумался я: не зря ли мы допираем русачка? Наш русачок миленькой в огонь полезет, коли нужда припрет, а благоверия не предаст. Он бесу плотию поваживает, а душу меж тем в кулаке держит, струнит душу-то! Аль не так, Петрович?
– Воистину так, батько Иоанн. Хоть и сукины дети русачки, и пороть надо ежедень, да не по едину разу, но с латыном и лутером на одну доску не поставлю. Вот как хошь! Зодейщики и алманашники, коих мы в пример себе норовим, познали Бога внешнего, своим многомудрием поставя себя вровень с Господом. Первый такой сын был Неврод, а по нем Зевс прелагатай и блудодей, после Ермос-пьяница и Артемида-блудодеица. О них же Гронограф и все Кроники в свидетелях. Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Иппократ и Галин все мудры шибко, суесловы, а во ад угодили. Хотя и звездное течение оразумели и небесную твердь. И вздымались выше облак, похваляясь пред Творцом. И Бог, осердясь, отверже их. Отвер-же-е! А и то-о? Все православные от отец своих научены кротости, а не лукавству, и достигают не мудрости внешней, но на самое небо восходят смирением ко престолу Царя Славы. И мыто, Михайлович, мы-то чему позавидовали? Что не то носим да не так едим? Брюху чужому подпали в плен. Пред кем норовим на колена пасть? Зеркала-то, что расставил ты, от дегов засланы сатаною, чтобы уловлять нас. Я только что поймал его мерзкий лик. Он мне поманывает, а я ему зад. На-ко, выкуси! А ты, Михайлович, будто заяц в лежке, не оразумеешь, не чуешь лисьей пасти. И душа твоя силками чуждыми дав-но-о ухаплена...
...Карла незаметно скользнул мимо людской, где бражничала после долгого поста челядь, через сени, невидимый, проник в барские покои, неслышно приоткрыл дверь, загодя смазанную в петлях. Мать рукодельничала в переднем углу чулана, как явленная Богородица, терпеливо дожидаясь блудного сына, и сучила шерстяную нитку. Светлолицая, с волосами, как зимняя заячья шкурка, упряженными в долгую, по пояс косу, оплетенную атласными лентами, она и при возросшем сыне вроде бы оставалась в девушках. Чулан был темный, глухой, без окон, содеян из бывшей кладовой меж крестовой палатой и детскими покоями, где Ефросинья нянчилась с отпрысками уж кой, почитай, бессчетный год. Ефросинья сидела в полуотворот к двери, стоянец освещал лишь половину лица, да лампадка, покачиваясь, отдавала мерцающий полусвет от Казанской, образуя над головою матери полукруг. Руки ловко, бездумно сновали, переливались рукава тонкой кисейной рубахи, расшитой травами по плечам и вкруг шеи, Захарка подглядывал за матерью любопытно и враждебно, как за незнакомой бабой, улавливая те прелести, на кои так падок всякий мужик. Подобное наваждение случалось и прежде; Захарка не понимал, отчего эта женщина с чужим лицом – его мать. Уверяет, де, от черкаса понесла. Де, взял ее, девчоночку, в полон и в таборе схозяиновал над нею. Чернявый такой черкас, востроглазый, усы долгие, за уши закладывал; хотел ее усами задушить, да она не далась... Рассказывая, мать незнаемо отчего смеялась, запрокинувшись назад, наверно, по-прежнему любила того отчаюгу с днепровских плавней. Неизвестно, откуда появилась Ефросинья Шеншина в вотчине Михаилы Ртищева под Звенигородом с младенцем на руках, и скоро всех приручила к себе, небесная птаха. И нынче вот вольная, могла бы поставить себе домок на Пушкарской, но она ютилась в каморе у Федора Михайловича в престольной, дожидаясь непонятного зова; а сын ее, половинка человека, перекинулся в кабалу к Хитрову за сто рублев...
– Чур меня, чур, – зловеще прошептал Захарка, мать вздрогнула и выронила веретенце. Карла будто ласка скользнул в чулан, плотно и неслышно затворив дверь, пал на колени, уткнувши лицо в материны горячие ладони, бессилые, позабытые в туго натянутом подоле. Отчего-то Захарка дурашливо, шумно втянул носом, принюхиваясь: эта женщина пахла матерью и никем более.
– Ох, сынок, все бы тебе посмешки над мамкой строить. И когда за ум-то возьмешься? – Ефросинья стянула с сына ватный колпак с нашитыми горными хрусталями, изнанкою обтерла ему сажное лицо: проглянули печальные, удивленные глаза и нежная, почти девичья кожа с насечкою ранних морщин в обочьях. – Опять выпугал мамку свою, и в радость ему. Ах, непуть ты, непуть. – С каждым словом она обцеловывала сына, его фарфоровой белизны лоб, податливо подставленный. – Разоболокайся давай. Обрядился, вишь. Как шут гороховый.
– Отстань, обслюнявила всего, – суторясь, оборвал Захарка. – Кто я, коли не шут гороховый? – Он устало запрокинулся на лавке, протянул ноги; с крохотных лапотишек, с онучей и распущенных оборов стекала на пол грязная вода. Мать стянула обувку, обласкивая, обогревая в ладонях набрякшие багровые плесны. Она что-то гугнила иль причитала, неясное по смыслу, на каком-то ином языке, иль только так чудилось карле. Он впал в дрему, голову обволокло хмарою, и сквозь вязкий плен наваждения Захарка и не пробовал проломиться, чтобы понять материно бормотанье. Он вдруг увидел себя в берестяной коробейке; мать бредет пространными заснеженными полями, накинув на шею лямку с зобенькой, и, поминутно спохватываясь, проверяет, живо ли дитя. Она откидывает сальные окутки и на ходу сует грудь в наморщиненное, синюшное личико, насильно проталкивая сосок в упрямо стиснутый рот. «Жори, дьявол, жори, сатаненок», – с угрозою, ненавидяще шепчет она, перемогая безразличие и пьянящую усталость. Вот пасть бы в забой и уплыть в никуда...
– Мать, мать... На несчастье ты меня родила, – вдруг упрекнул карла Ефросинью. Она вздрогнула и заплакала. У сына было каменное, с ледяным отблеском лицо, и в углах рта, в обочьях чуждо чернели нарисованные сажею морщины. Женщина заплакала, слезы упали на щеку сына, но Захарка не выказал участия, не признался, что слеза проникла и обожгла самое сердце.
– Поди давай! Разнюнилась! Неси ись-пить, – нетерпеливо потребовал карла. И могла поклясться Ефросинья, что губы сына в тот миг не ворохнулись.
Но только вышла она покорно за порог, карла вскочил, пообсмотрелся в чулане. Половину стены, где стояла материна кровать с горою пуховых сголовьиц, занимала тыльная часть печи, истопка которой выходила в крестовую палату. Карла приоткрыл дверку продуха, приложил ухо, и каждое слово проточилось изнутри глухо, но явственно, как из пещерицы.
– Аввакумушко-то, дитятко мое духовное, устами его глаголет истина, – сладко изрек Неронов и вдруг, не спросясь, из кожаного кошуля добыл пергамент. – Вот, настрадал ночесь. Не расчуешь проказу – не излечишь. Гноищем-то изойдешь, так поздно с лекарем знаться. Царь с царицею добры до нас, яко Аркадий и Евдокия к Иоанну. Понаписал я государю сомнения свои, а вам рассудить, братцы, не скупясь на правду. – Неронов развернул свиток, стянутый голубым позументом. Аввакум, хотя и было светло еще, готовно поднес батьке стоянец со свещою, протопоп, откинув голову, прицелился острыми глазами в лист и запел: – «И паки молим тя, государя, иностранных иноков, окромя Богом избранных истинно неразвратников, благочестия ругателей и ересей вводителей в совет прияти не буди, дондеже, государь, искусными мужи искусиши житие их. Зримо бо в них, ученых выходцах, государь, ни едину от добродетелей: Христова бо смирения не имут, но сатанинскую гордость, и вместо поста многоядение и пианство любят. Крестного же знамения на лицы истинная изобразити не хотят и сложению перст противятся, яко врази истинни...» – Неронов отвлекся от текста, отпил квасу. – С Махметом турским свяжись, так не токмо отеческую науку забудешь, но и имя свое. А они к нам в атаманы поперли, ну-ко на-ко. Словно мы, а не они продалися с потрохами. Вот они, наши подвиги неизреченные, – он потряс в воздухе лестовками. – Вот она, наша София и наша держава.
– Истинно так, батько. Испроказили свою церкву, а теперь нас учить лезут, – поддержал Аввакум.
– Не ты ли учил, Петрович... Священные писанья – суть источники, питающие вселенную, – подала голос Анна Михайловна. Все почтительно поворотились к ней, ибо знали, что Ртищев сестру свою, «аки матерь, почиташе».
Лишь Аввакум, шибко не чинясь, грубо осадил хозяйку:
– Ведомо нам, что Анна, Никонова манна. По ночам-то хорошо укладывают, как чему быть, – сказал осипше и с намеком ухмыльнулся.
Так неожиданно сошло с языка имя новгородского митрополита, собинного друга государя, что сейчас пропадал по Руси с мощами святого Филиппа; и тайное, что на уме лишь жило, едва пробрезживало, вынашивалось с тугою на сердце, вдруг стало явным, и встреча неистовых ревнителей получила смысл.
Да и то сказать: не квасу же чару испить тащились священницы по престольной в Великое Воскресение? Вдовела русская церковь, и требовался ей жених. В крестовой палате окольничего Ртищева решалась судьба патриаршьего престола. А то, что пререковались желанные гости и сварились, так это за обыкновение, еще и не такое слыхали стены ртищевских хором: один Аввакум такой голки, такого мятежа наведет, что и десяти спорщикам не перелаять. Но чтобы приятеля мордвина в патриархи?!
Анна Михайловна не смутилась, ее в худом не уличить: в сереньких расплывчатых глазках ни искры брюзги, недовольства и упрека. Она лишь поцеловала кипарисовое распятие, торжественно возлежавшее в прогале выступистой груди.
– Свет истины к нам с Востока пришел, и не нам затмевать его. Ты, Петрович, Сатановского хулишь, зачем, де, братец с Киева его приволок. А он вельми учен, не с наше, он сличил греческую Библию с нашей и сыскал много вздора не от хитрости, но от простоты нашей. При Птолемее Филаделфе, египетском царе, с еврейского на эллинский диалект перевели семьдесят переводников, а мы и заплутали... Никона Господь послал во спасение наше. Он свет истины не даст потушить. Он с греческого угля вздует костер на нашу славу. Да и сам-то, Петрович, не ты ли на сем месте даве молвил, что подобен нищему человеку, по крохам собирая то у Павла апостола, то у Златоуста, то у Давыда царя, то у Исайи пророка. А сейчас за клосного сойти норовишь, умишком расслабленного.
– Тьфу, язва. Вроде посластила, да тут же и в рожу плюнула. На – утирайся, батько! О сем ли речь? Беда на пороге, а ей бы юбкою трясти пред заморским прелагатаем, – бурчал Аввакум, отведя от Анны Михайловны злой взгляд. Но голоса не повысил. – Хоть ты, Вонифатьич, рассуди нас...
– Жду, как отсобачитесь, ровно малы щенята.
– Жди, протопоп, когда пятки покусают. Дюже смешно мне каже, – не унимался Аввакум, пристегивая четками по изразцам печи. – Дождетеся, как на вервице вздернут вниз головою, а ваши логофеты будут русачкам отходную читать. В науку вам будет, в науку! Украина под ляхом, греки под Махметом, и у них что, вера? Что за вера такая под жерновами да при чужой школе? Их латыны уму-разуму пестуют, до веры ли там? Мы вольные русачки, и веру у них, подневольных, займовать? С ума вы все посходили...
– И не плачь тогда, что вера наша пала, – подал голос Ртищев. – О чем заботы тогда?
– Не вера пала, Михайлович, а порядка в церкви мало. А вы заразу на Русь тащите в соблазн. Ежели вера на логофетстве стоит, то она от дурного ума. Такой веры нам не озобать, братцы. От нее вонько пахнет. Стоит вера лишь на смирении, духе и праведности. А какой у грека дух, ежели он грешит на дню по тридцать раз и на патриаршье место готов посадить всякого, у кого мошна потуже. Смутно мне, что вас, братки, на греков потянуло да с униатами щец похлебать. Ложки-ти наготовили? Как бы с чужой ествы брюхо не порвало! Грек-то, он хитер, лисовин: его лишь на порог пусти. Это Паисий, патриарх, вам в уши надул, а вы уши-ти и развесили. Знать надобно, кого привечать. – Аввакум решительно напялил еломку на голову, видно, собрался уходить из чужого дома. И вот всегда так: войдет в раж, налается, уж никого слышать не хочет, шапку в руки – и прочь за порог: нет такому человеку удержу. Он постоянно вздергивал костистыми плечами, будто ряса вдруг обмалела, и шея, круто вырастая из круглого ворота, багровела от ярости. Эх, Аввакумище! не жилец ты на белом свете. Порвешь душу, скоро истратишь ее: вспыльчивые люди отходчивы, но не долговеки. Ежели и не лопнет душа, так скатится неуемная головушка от шального клинка. – Никон ваш, он пес борзой. Бисер мечет под ноги, горносталькой ластится, а в уме своем – рысь. Вот попомните мои слова! Вонифатьич, батько, и неуж тебя опоил чем этот мордвин?!
Чего пылил Аввакум, для какой надобности донимал сидельцев, ревностных своих братьев? Доложись, протопоп! Но вразумительного не явит Аввакум в оправдание свое. Простецкая теремная со щелявым, до блеска натертым вощанкою полом, с желтоватыми паюсными оконцами раздражала его; и в этом видел Аввакум нарочитое смирение и лукавую игру ума. Вот, де, подойди к оконнице и увидишь невдали сияющую золотом крышу Голицына, очарованного суетою, что блеском палат своих суемудро хощет затмить шеломы Кремля. А я, де, простец человек. И духовитый ровный жар томил пылающую натуру протопопа, хотелось сбросить с плеч одежонку и повыхаживаться растелешенным, пусть перезрелая девица Анна Михайловна содрогнется сердцем. Стоит у двери, чего дозорит? чего лезет в чужие пререкования? вон, ручки скрестила, мягкие, ровно масляные оладьи...
Ртищев сутулился в переднем углу на лавке; был он в голубой праздничной ферязи с долгими рукавами, руки выпростаны в прорези, пламенеет червчатая котыга с широким отложным воротом, в распахе рубашки на ухоженной шее виден кожаный лоснящийся гайтан, ладони пухлые и, как у сестры, короткие, влажные, отчего Ртищев постоянно комкает фусточку; на колене раскрытый Псалтырь с вложенными меж страниц ременными четками. Четки свисают из книги, на конце лествицы крохотный золотой крестик; он мерно покачивается над полом и роняет блики. Ртищев изредка подымает круглую голову и снова опускает взгляд в молитвенник. И даже то, как сидит окольничий, огрузло и безвольно, вроде бы с показною покорностию, тоже раздражало Аввакума, и ему хотелось особенно досадить Ртищеву, чтобы вывести эту незлобивую натуру из себя и поглядеть со стороны, что с нею случится, когда гнев распалит смиренного человека. В повадках хозяина и его сестры Аввакуму мнилась нарочито скрываемая лишность и чужесть его, простолюдина, здесь, в знатных хоромах, куда редко ступает нога худородного московитина. Может, напридумывалось все Аввакуму, причудилсь? Он криком донимал священниц, он так упрямо хотел, чтобы все было по его уму, что даже искренне смиренный Ртищев, понурясь на лавке, принакрыл наконец уши ладонями, дожидаясь, когда устанет и уймется протопоп. «Страстный молитвенник, но человек вздорный. Не пушу боле в дом, – в который раз порешил окольничий, уставши от словесной колготни. – Из-за тына орет на волю, вроде мы глухи и слепы. Знать, не напрасно батьку колотят мужики, ой, не напрасно...»
Захарка стоял на материной кровати, прижавшись к нагретому боку печи, и грезил, принакрыв крупными веками выпуклые сливовины глаз. Каждый голос доносился вроде бы не из крестовой, но из самой утробы разомлевшей, сыто поуркивающей печи. Зеленоватые изразцы хранили долгое, глубокое тепло, из-за льдистой полупрозрачной глубины, казалось, просверкивало множество чьих-то дозористых глаз давно отошедших к Господу людей. «Схоронились, а мне явны. Все у меня в горсти. Вот кабы дознались? Досталось бы мне на орехи». Эта опаска, порой беспокоящая карлу, доставляла ему особое наслаждение: она-то лишь и украшала его такую грустную жизнь. Ресницы Захарки возбужденно мерцали, словно бы через их трепетанье доставлялось в память карлы каждое чужое слово.
«Как мыши затаились, и ну грызть чужой сухарь. А я вас в шапку – и будьте здоровы». Захарка довольно засмеялся. Наверное, подыгрывая карле, мигнула елейница под темным образом. Смоленский святой Меркурий шел неведомой дорогою, держа в одной руке свою голову, а в другой икону Путеводительницы. Голова подмигивала Захарке и силилась что-то подсказать. Ноги карлы отогрелись, в душу сошло печальное благое тепло, неведомо отчего карла стал плавно покачиваться и подпрыгивать на постели все смелее, как случалось подобное в детстве. Он подскакивал и смеялся, всплескивая ручонками. Голова святого Меркурия прыгала и пыталась вскочить на плечи карлы. «А вот и не взлезешь, вот и не вспрыгнешь, глупая башка», – поддразнивал Захарка, строя святому Меркурию куры. Он и подслушивать вдруг позабыл, такое нашло наваждение; тут и время отступило в прежние берега, как вешняя вода...
Заслышав шаги, карла задвинул продух и соскочил с постели. В голове у него кружилось и было блаженно. Воистину Светлое Воскресение на дворе. Может, все и переменится разом, и станется с Захаркою обновленье, и в одну минуту будет он таким же спинастым, рукастым и рослым, как его хозяин Хитров.
Объявилась мать с лоханью парящей воды, и в чулане сразу все стеснилось. Была Ефросинья, как кубышка, и длинный объяринный зипун вовсе убирал ее стати.
«Давай скидывайся, дьяволенок, уряжу тебя, обмою», – нарочито грубясь, велела Ефросинья. И не дождалась, сама сдернула худую одежонку, что напялил карла для личины. Пока Захарка стаскивал исподники, женщина отнесла стоянец со свечою в дальний угол, отчего свет в каморе сместился под образа. Захарка влез в лохань, от горячей воды обливаясь мурашами, прижал колени к лицу. Потом встал, томясь плотью. Ефросинья обернулась и обмерла от виденья: в полумраке прежнее малое дитя, дожидаясь ее, голубело худеньким пробежистым тельцем, крылышки, как ящерки, метались под тонкой кожей. Словно бы и двадцати годков не минуло, и она сама еще в молодой поре, не остарела, не загоркла, покрывшись корою. Вехтем Ефросинья принялась обихаживать малеханного своего сыночка, а тот отчего-то уросил, постоянно отворачивался спиною. «Ну будет, будет... Чай, не матери ли стыдишься? Весь псиной пропах», – забывшись, строго прикрикнула Ефросинья, шлепнула сына по ягодичкам и, силою повернув лицом к себе, опустилась на колени, чтобы, как бывало прежде, обиходить единственное дитя. Что за блазнь нашла на Ефросинью? какая нужда приневолила? не из бегов же, не из великой нужи и работ вернулся парень, а из барских покоев, из неги и холы. Ведь балует, изнаряжает Хитров своего шута...
Смутилась Ефросинья, отвела взгляд; хорошо уряженный заматеревшими мужскими причиндалами, вовсе другой человечек торчал из кадцы и тоскующе, по-собачьи, подсматривал за матерью. «Прикрой срам-то, заголился», – велела Ефросинья и заплакала горько.
Захарка, не вытираясь, скользнул в кровать и, поскуливая, прижался лицом к спине матери, волнуясь, по-щенячьи принюхиваясь влажным носом к объяринному шершавому зипуну, сквозь который прощупывалось налитое женское тело.
«Мать, мать... На несчастье ты меня родила», – вдруг повторил Захарка. Ему так зажалелось себя, захотелось, чтобы мать высказала то обнадеживающее решительное слово, которое бы укрепило его в грядущей одинокой жизни. Но Ефросинья лишь пуще завсхлипывала. Потом, не оборачиваясь, запустила пальцы в смоляные волосы сына, горестно, безвольно опустившись нутром. Скоро она очнулась и поняла, что ее горе – ничто перед сыновьей бедою, на кою обрекла его судьба. Что бы ни запросил сейчас сынок, даже самого грешного, она бы все отдала, не побоясь Божьей кары. «Ну, сынок, требуй, требуй от мамки», – мысленно благословила Ефросинья. Но Захарка вдруг отстранил материну ладонь и признался с каким-то холодно-отстраненным каменным сожалением, будто речь шла о мертвом иль вовсе ином человеке: «Чую, как все растет во мне и никуда не влезает. Разодрать бы шкуру, шкура не дает». – «Ничего, сынка. Бог даст, все смилуется. – Ефросинья перекрестилась на темный образ Меркурия, отстраняя от себя дурные мысли; святой нес в деснице собственную голову, напоминающую лицо ее сына. Те же выпукло-обнаженные сливовые глаза с постоянной печалью в глубине. Подумалось: голова мертвая, а глаза-то живые. – Господь не оставит тебя, сыночек. Ты молись пуще, молись!» – жарко зашептала она, найдя, как ей казалось, единственную защиту для сына.
«Замолчи, сука! – криком захлебнулся Захарка, люто ненавидя мать за ее непростимый тайный грех, который, вот, выказался и на сыне. – С кем сблудила-то? Мышь снесла. Давай поди отсюдова. Оставь меня, – забился Захарка в припадке, до крови раздирая грудь ногтями. – Знай, суч-ка-а... Бога нет! Я всем еще выкажу, что нету Бога!..»
Аввакуму почудилось, что кто-то заскулил за стеною, не то щенок, не то ребенок. Аввакум навострил ухо, зажав еломку в горсти, лицо его стало длинное и острое, как у щуки. Он прижал палец к губам, велел помолчать.
– Испужался чего? Мы ведь не оговорщики, ямы никому не роем. Иль ты, батько, стражу с собою навел? – хитро спросила Анна Михайловна.
– А... померещилось. Ровно бы дитя малое ревет.
– Сядь, протопоп, не солодись. Не засти света, – наконец-то подал голос царский духовник Стефан Вонифатьевич и прижал золотое древо креста, висевшего на впалой груди, к губам. Духовник запросил слова, и все сидельцы в теремной невольно сдвинулись к нему, искренне почитая его меж собою за старшего. Духовник ловчее уместился в креслице, серебряные волосы пуховым облаком вспухли над высоким старческим лбом. – Хлопочешь ты, Аввакумище, кабыть о вере, но страстями преизлиху обуреваем, и потому душа часто претыкается плотию. Сказано было издревле: появятся в последнее время ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Отделят они себя от единства веры, и это будут люди душевные, не имеющие духа. – Аввакум насуровился, не принимая упрека, подался с лавки навстречу Стефану Вонифатьевичу, желая возразить. Но царский духовник упредил протопопа мягким возгласом. – Не о тебе, Аввакумушко, но и ты не струнись. Нет ничего хуже спеси, коя овладела Русью у останков некогда сиявшего Цареграда, и поныне источающего миро. Мы потому, братки милые, и поныне есть, что была венценосная София, и нам бы в благодарной молитве встать перед нею на колени, прося науки. А мы заерестились в гордыне. – Тут Вонифатьевич плавно, велегласно взнял голос, загораясь блеклым голубым взором. – Отчего была? Сей велий град пребудет, пока вживе хоть одна православная душа. А мы хотим восхитить ту славу, чужую багряницу натягиваем себе на плеча. А не велика ли она для обмирщенных плеч, сдюжит ли несть царские покрова? И наши мечтания не превращаются ли ныне в наложество, когда предания, вошедшие в нашу кровь, мы почитаем, как свой наделок, свою вотчину, позабывши тех, кто ввел нас в сии прекрасные владения?
– Что старо, то свято. Что исстари ведется, то не минется, – не стерпел, вновь вмешался Аввакум. – Но для чего они, алманашники, нам от латын всякую ересь везут и нас в тое лайно ввергают. Свиньи и коровы больше их знают – пред погодою визжат да ревут, да под повети бегут. А эти разумные свиньи лицо небу и земли измеряют, а времени своего не чуют, когда умереть.
– Утишься, Аввакум... Мы идем ко Господу, как на спасительный берег, а не в корги каменистые, чтобы опрокинуть наше суденко. Сейчас церковь православная, матушка наша, сирота, всем волнам подвластна, и лишь истинная вера может принесть согласие и спокой. Патриарх – живой образ самого Христа. И коли нет патриарха, то кабыть мы без Господа.
– Будь ты владыкою, Стефан Вонифатьич! Паси нас, унывных и грешных. Призри и обогрей утешным словесным медом речей своих, – попросил Аввакум, взглядом посоветовавшись с Нероновым. Неронов согласно закивал головою.
– Куда мне, отцы! Распоясался я, как худой лапоть. С виду – стена, а всамделе весь в дырьях, ветер сквозь свищет. Сесть-то сяду, миленькие, а встать – подумаю. А вы меня в пастыри. Еще пуще разбредетесь по стогнам и не собрать. – Стефан Вонифатьич промедлил, обвел всех требовательным взглядом. – Попрошу я вас, батьки, постоять за Никона. Это щит веры, броня сирых и убогих, надежа в церкви. Люб он народу, заступничек. И сам не распояшется и других уноровит. Кончится в церкви козлогласование, вспомнят про Софию. Поклонимся государю за Никона, умолим Алексея Михайловича, растопим заступительной молитвою его восковую душу. Пусть восхитится его благородное сердце нашим желанием. У меня и челобитье готово, осталось за малым: скрепить подписью.
– За носатого мордвина не стою. Спесив шибко, – вспыхнул Аввакум и увел в окно неуступчивый взгляд. Но Стефан Вонифатьевич придвинул к протопопу свиток и, не сымая с него восковой руки, вновь мягко попросил:
– Сынок, хочешь на коленях вымолю?
Аввакум помучился еще, загнанно отыскивая взглядом укрепы у ревнителей, и, не найдя помощи, зажал в горсти гордоватое сердце и уступил царскому духовнику:
– Лишь за-ради тебя, учитель, скреплю челобитье. Много хлопочешь ты о Никоне, но слишком нерадостен мне ситцевый завод... Эх, бачка, нашло на вас помраченье. Глядитеся в зеркало на козлиные рожи.
Глава пятнадцатая
Призакрыто мое горе белой моей грудью.
Запечатано мое горе все кровями...
Парко в полуденном жаре средь кремнистой рудо-желтой пустыни, запорошенной тленом. Клейкий прах пачкает черевички, и каждый след на сомлевшей земле тут же окаменевает, скоро наполняется прозрачной влагою, невесть откуда взявшейся, видно, как на дне отпечатка вдруг оживает сердчишко студенца, толчками вздымая щепотку чисто промытого золотого песка. Склонилась Федосья зачерпнуть из ключа, а вода сквозь пальцы ушла, не омочив их, но в пригоршне проросли серебряные светящиеся травы и тут же со стеклянным звоном осыпались в волшебный пречудный срубец. А так хочется смочить спекшийся язык, ублажить истомленную утробушку, и черева крутит под самым сердцем, вызывает их исторгнуть наружу.
Силится Федосья скинуть бархатный повойник с головы, но, ей-ей, так страшно и опаско отчего-то, словно бы доглядывает с небес неведомый и всемогущий презоркий зрак и упреждает вольности. И тут, откуда ни возьмись, сестра Евдокия: она как бы выткалась из бесцветного мреющего жара, пробилась сквозь невидимый тын, по-девичьи убранная в алый штофник и кисейные расшитые рукава. Легкий сарафан в лазоревых цветах подбит ветром, и житние волосы на отлет, и в каждой хитро скрученной прядке по нитке гурмыжского жемчуга: а сойки настигают лётом, по-вороньи жадно гарча, и словно хлебные зерна, склевывают еще живые скатные ягоды, только что снятые с розовых перламутровых постелей...
Федосья обрадованно протянула руку, приноровилась остановить и приобнять сестру, но в ладони остался лишь скрипящий шорох отскользнувшего шелка. И как вихорь пронесся: нет Евдокии, будто наснилась, и лишь откуда-то из-под раскаленной пустыни донесся звенящий, с ойканьем, блаженный смех удоволенного, радостного человека. И вдруг земля расступилась, пред Федосьей обнаружился круто сбегающий склон, гладко вымощенный черными блескучими плитами, струйчато расшитый богородской травкой; далеко внизу (даже от взгляда, мельком брошенного, вскружило голову), на дне ущелья из малахитового свитка вытягивалась медленная река. Евдокия плещется, взывает сестру, кидает пригоршни окатных жемчугов, подставляя под них девичью наспевшую грудь.
Федосья отшатнулась в испуге, торопливо встала на колени, подползла на самый каменистый оток, зачарованно глядя в торжественную реку, неторопливо утекающую к неведомой земле. И вдруг обмысок зашевелился, отторгнутый, неотвратимо пополз навстречу бездне. Федосья только «ах!», лишь мысленно воззвала Бога, и душа ее вскочила в горло... Но что за чудо? Федосья повисла в воздухе, подвешенная невидимой вервью; она пыталась куда-либо отгрести руками, но ее лишь покачивало мерно, как зыбку на очепе: убаюканное дитя, заспавшееся в утробе. И внезапно небесная сила повлекла в сторону; сестра, застывшая в изумлении, вдруг очнулась, закричала: «С Богом!..», земля расступилась, отринув рудо-желтые проклятые пустыни, и сквозь зачарованные, замкнутые допрежь окаемы открылась восхищенному взгляду вся Русь. Федосья всхлипнула, прощаясь с недавней тягостью, и обомлела успокоенным сердцем, ненасытно разглядывая невидимое ранее, чтобы запечатлеть умом... И вдруг почувствовала она, что Небесная Сила, мягкая и властная, охапила ее за ноги, обняла, как малое родимое дитя. В какой-то миг Федосья ощутила в себе что-то сладостно-любовное, затомилась, но тут же окрикнула себя, устыдилась внезапного очарования, греховное отступило разом, и она воскликнула: «Не блажи, баба! Это совсем другое». И спросила она невидимую Силу без робости, не страшась, как близкого и самого родного человека, испытывая к нему смиренное поклонение, куда большее, чем земная любовь: «Ты Бог?» И невидимая Сила спокойно сказала: «Да, Бог!» И Федосья поразилась не ответу, но голосу – столько в нем было отеческого, нежного и любящего. Она не помнила, чтобы когда-то испытывала от ближних такой обволакивающей приязни, заполнившей всю душу ее без остатка благодатью и кротостью. Федосья покрутила головою, пытаясь разглядеть Бога, но уже понимая, что напрасно хлопочет, ибо вся душа ее была тоже наполнена той Силой и как бы слилась с аером, составив одно всеобщее согласие...
Тут оказались они у столов, заставленных ествою, в блюдах была зелияница – огурцы, квашеная капуста и лук. Федосья понюхала прядку лука, но есть не хотелось, и ее чуть не стошнило. И Бог повлек Федосью далее. Тут преградила путь пожилая ключница и что-то стала торопливо и сурово говорить, с неприязнью взглядывая на Федосью. Но Бог отстранил ее... Несколько ступенек вверх, комната, посреди стол, застланный белой скатертью. За столом восседают десять юношей, рушат хлеб и поют задумчиво такой знакомый псалм: «Мати Божья Богородица, скорая помощница, теплая заступница! Заступи, спаси и помилуй Сего дому господина от Огненной пожоги, от Водяной потопи...» Завидев молодицу, они охотно потеснились на лавке, уступая место, ненадолго умолкли, и крайний спевака, цыганистого вида сиделец, протянул гостье с улыбкою отломок от каравая. Федосья мысленно вопросила Бога, как быть ей, но слов не расслышала; вроде бы и не было ответа, но он и был, неслышимый, бессловесный, сразу горячо уместившийся в груди: «Не чинись и не беги». Федосья приняла ломоть и, не торопясь есть, понюхала хлеб и подивилась сладкому, неземному духу...
Беспамятные глаза болезной растворились без усилья, словно бы и не забывалась женщина, только сухо и жарко щемило веки от пота и слез; виденье было столь ласковым, что не хотелось расставаться с ним. Федосья зажмурилась, желая вернуться в сон, и тут же почуяла свое сырое тело, грузно и безвольно растекшееся на высокой перине, набитой шершавым душным сеном. Словно бы в парной июльской луже, оставшейся от грозового дождя, по-лягушачьи распласталась она изнеможенно, ленясь отползти на бережину и обсохнуть.
...Попаси же ему, Господь Бог, Хлор, Лавёр лошадок, Власий коровок, Настасий овечек, Василий свинок. Мамонтий козок, Терентий курок, Зосим Соловецкий пчелок, Стаями, роями, густыми медами.Федосья скосила глаза, увидала женскую спину, туго обтянутую рясой, и черный плат, сбившийся на затылок кулем. Монашена выпевала духовный стих, принаклонясь к берестяной зыбке, словно бы приноравливалась кормить грудью. Из зыбки по-мышиному попискивало, требовало ествы. Но пока ничто не отозвалось в еще не очнувшемся сердце боярыни; память ее блуждала по-над крышею баньки, где-то на седьмом небе, в пахнущем благовониями аере, в невиданных досель палатах, накуренных миром, посреди которых восседают десять цветущих юношей и ломают запашистый хлеб. Федосья торопливо облизала шершавые спекшиеся губы и почуяла след ситного каравашка? иль сдобной перепечи? иль житнего колоба? иль оржаного колача? Пи-ить! – потребовало все ее истосковавшееся воспаленное нутро, но Федосья пересилила себя и промолчала. Она скосила глаза влево: в паюсное оконце увиделся нагой, еще неприбранный сад, низовой ветер шерстил прошлогоднюю травяную бороду. Чья-то знакомая, родная тень упала на рыбий пузырь, застя свет, но лика не увиделось: тень отшатилась, освободив низкое, мглистое, насыревшее небо. Федосья уперлась взглядом в низкие потолочины, медовые от жара, за ними скрывалось вовсе иное небо, откуда она только что возвратилась; булонь была еще молодой, не засиневела, и два сука в черных обводах морщин походили на плачущие очи Богородицы; из слезниц покатилась и замлела, окаменевши, еловая смолка. Под потолком слоился легкий сизый туманец, переливаясь в легком клине света, тянувшемся от проруба; сквозь сеево странной пыли глаза жили на потолочинах отдельно, о чем-то допирали Федосью; и дух распростертой боярыни желанно утекал в зрачки, похожие на черные жемчуга. Федосья сдалась и покорно уплыла обратно в жалостливое, милосердное Богородицыно око...
Очнулась боярыня живой и здоровой в конце пасхальной седмицы. Чьи-то ласковые руки мяли, оглаживали Федосью, перекатывали с боку на бок, домогаясь всякой жилки; в мыльне было так натоплено, что сухо трещали волосы. Над Москвою лился колокольный звон, чей-то голос от порога выпевал в сени, в приоткрытую дверь: «Это Кирю-ша вы-мо-лил. Святой он человек. Государыня парнишон-ку приволокла. На, тятька, наследника...»
– Ой-ой, гли-ко-о! Хозяюшка-то наша очухалась. Дак ты взаболь очухалась, чи ни? – всхлипнула дородная сенная девка, вдруг поймав осмысленный Федосьин взгляд. Она бросила мять госпожу, принялась растерянно тереть руки высоко подоткнутым подолом костыча. Федосья лежала на сенной постели растелешенная, распластанная, разогретая, как огромная розовая рыба. Груди у нее неловко раскинулись на стороны, как грузные невыпеченные хлебы, из левого соска капнуло молозивом, прохладно щекоча отекший бок. Но Федосье блаженно было, и она лишь умоляюще улыбалась оперхавшими, накусанными губами, пытаясь что-то молвить, но набрякший язык во рту худо ворочался. – Ой, выпугала, так выпугала. Намедни соборовали тебя, причастили. Сам-то уревелся. – Девка спохватилась, радостно кликнула повитуху. Тут скоро выросла старушишка об одном лазоревом насмешливом глазе, сердито ткнула Федосью каменным перстом в лоб.
– Ишь чего удумала баба. Она помирать собралась. Ты смекай, где шалить-то! С семи колодцев воду грели, с семи печей золу огребали. Я и потаенное словечушко на хлебец накинула. Пусть, думаю, болезная пожует. Дух хлебный живо на ноги поставит. Да како-о! Скинулась с копыл, да и обмерла. Будто так и надо. Нет, деушка, я тебе помереть не дам. Умом-то думаю. А ты такая сутырная да поперечная. Зубы-ти эдак-ти хоть косарем разнимай. – Повитуха стиснула, показывая, беззубый рот, отчего острый подбородок поехал к носу. – Слушаться, молодка, не станешь, дак запуку сделаю, ой! Такую запуку знаю, веком не проснешься. – Лампея прыснула, утерла губы концом тафтяного плата. В радость повитухе, что родильница оклемалась, опросталась толком, ныне будет Лампее на зубок, и мыла кусок, и портище красной зендени на рубаху, и талер любекский на разговленье. Много чего насулил богатый хозяин Глебушко Иванович: поди, не обмишулит старенькую, не таковьской он человек...
– Ой, как вишен хочу-у, – вдруг счастливо выдохнула Федосья.
– Будет тебе вишенье. И василевка будет, и родителевка под подушки рогачом. Чтоб не залеживалась, – вновь нарочито засуровилась Лампея, меж тем по-мышиному споро, ласково обегая наспелое Федосьино тело ладонями, не забывая пошарить в самой затайке. Чего промысливала повитуха, о чем домогалась от родильницы – одному Богу известно. А сама бормотала рассыпочкой, припшикивая беззубо, говоренье свое перебивала мелким хохотком. – Корми робенка-то, баловница. Отелилась, дак корми. Ишь, развалилась, немято тело. Молоко-то не успевали выдаивать, опозорились. В четыре руки сцеживали ежедень: утром подойничек, вечером лагушок. Сколько в тебе, хозяюшка, ествяного... Сбегони, Палага, скажися: де, Федосья Прокопьевна в ум вошла. Вот радости боярину. Доложися: хозяйка вишенья хочет. Невтерпеж ей...
Мелкой поступочкой, спинывая босыми ногами сено, высоко настланное по полу, старушишка навестила дальний угол мыльни, нарочито томя родильницу, разогревая ее сердце. Постоянно что-то пришамкивая, будто баенника улещала, принесла госпоже берестяную коробейку, принакрытую кисейным пологом. Девки уже оболокли Федосью в шелковую исподницу, образок повесили на грудь, прибрали волосы, срядили в две тугие косы, скрутили надо лбом высоким кренделем, положили поверх лазоревый повойник, обшитый золотым позументом. А Федосья млела, подчиняясь дворне, невмочь сдержать улыбки. Не слухом, но сердцем ловила старушьи причеты, подстегивала, приторапливала повивальную бабку, и нутро родильницы волнами окатывал благостный слезливый жар.
«Берите тело мое и кровь, – сказал Христос. – А я вся Тебе отдаюся, Господине мой». Слеза вскипела и тут же просохла, не пролившись в подглазье. Федосья еще не прислоняла дитяти к груди, долгонько блуждая по горним лугам, но неземной вестью знала, что намедни сыном одарила Глеба Ивановича. Вон оно, красное солнышко, во сне насуленное, незримое пока, а греет пуще всякой мыльни.
– Байкай молодца-то. Писаной красавец. С коровьего рожка давала ись. И все вон. Вдруг на-тко, хлебца запросил. Дай да дай. Нажевала мякиша, в тряпочку закрутила, на, говорю, жори, дьявол. И знашь-ти, всю дурь как рукой...
На эти слова Федосья испуганно вскинула широкие разлетистые брови, уже боясь за сына. «Не наши» незримо слетались к баньке, шумя крылами, жадно граяли, обступили ненадежную крепостцу, отыскивая лаз и желая сглазить, накинуть немочь на ее сына.
– Не страшись, не успеешь оглянуться, как забегает, – по-своему поняла повитуха Федосью. – Баба что квашня. Не выбродит – не родит. Через брюхо родова полнится. Гречишна каша – мать наша, хлебушко оржаной – батюшка родной. Ты поглянь на родненького. Весь в мати.
Повитуха поставила коробейку подле Федосьи. В берестяной зыбке молчали. Федосья приоткинула кисейный положок, и сердце ее охватило суеверной тревогой и радостью. Воистину ангел родился. Мальчонка, уряженный в окутки, туго спеленатый, вроде бы и не дышал, не решаясь выклюнуться из белой скорлупки. Черные кудерьки разметались по пуховому сголовьицу, щечки белые, словно бы промытые коровьим молоком, две крохотные ямочки всклень налиты румянцем.
– Христосик родился, право слово, – прошептала повитуха. – Экого впервой приняла. Обычно щеночки, как обваренные. А тут андел...
Выслушав удивленье старенькой, сын открыл глаза, слегка раскосые, медовые: порошины зрачков были острые, без радуг, и Федосью пронзили насквозь. Словно бы допрашивало дитя: ты где припозднилась, мати, по каким весям блуждала, спокинув меня?
– Ступай, ступай! – нетерпеливо погнала Федосья повитуху. – И дверь за собой прикрой!
Ей хотелось немедленно понять ребенка, как сына, высмотреть всего без чужого призора. Что-то внезапное случилось в природе с Божьего дозволения, какое-то неведомое пока перемененье должно бы накатить на нее, коли из ничего, из пуста, как бы из Духа Святого выткалась безгласая, но уже вопрошающая людына. Вытолкнулась из утробы и завопила на весь белый свет: «Я сын твой!»
«Сынушка мой, сы-но-чек», – пробуя на язык новое слово, неловко прошептала Федосья, зарозовела от смущенья и раскутала младенца с некоторым страхом. В светлице росла, под строгим материным доглядом, и всё вокруг в новой жизни, шаг за шагом, открывалось и вершилось внове. Беспамятная родила, не видя последи своей, ни крови, ни толчеи вокруг беспомощного тела, когда из кельи торопливо несли на меховой постели в баню, закрывая от прикоса тафтяным пологом. Была на сносях грузная, а сейчас и сама-то иная, новая, окупанная в живой молодильной воде. Руку поднимаешь, а ее неслышно... Принюхалась: от ребенка пахло можжевеловой водой. Тельце было красное, сморщенное, в потертостях и лишаях, потому и голова казалась чужой, случайно приставленной. Губы сочные, жадные, с немой усмешкою. Вроде бы силился о чем-то поведать мальчонка, но пока таил. Едва прислонила к груди, сын тут же впился в сосок. Хозяин, чего там: для него и жить ныне. Простонала Федосья от внезапной щемящей боли, едва не отдернула сына, но тут же ей стало хорошо. Всю ее душу заполнило блаженство, куда более сильное, чем любовь. Федосья гладила сына по кудерькам, по влажному зализу на макушке и прималвливала: «Вот вырастешь, оженю, внуки пойдут, буду, старенькая, с внучатами твоими байкаться...»
Ребенок жамкал сытную грудь, а одним взрослым глазом косил на мать, о чем-то допытываясь сквозь текучий, густой мед взора.
Ой-ой, Федосья Прокопьевна, остережись в мечтаньях, не вводи Господа в туту, не вводи судьбу в искушенье, чтобы открылась она до положенного часа. Звезда сыновья лишь загорелась, искорка едва затеплилась на его светильнике жизни, еще ветры невзгод присмирели, затихли возле зыбки, чтобы не задуть беззащитный язычок, сама Невея, тринадцатая Иродова дочь, отступила в затенье, а ты уже путь сыновий начертала на свой лад. Вспомни, Федосья, старинную притчу. Один мужик отправился в торг с яйцами, думая продать их и купить пару кур, а егда те куры нанесут яиц и выведут цыплят, тех цыплят, выростя, продать и купить свинью, а свинья опоросится, поросят, выростя, продать и купить корову, а егда корова отелится, теленка, выростя, продать и купить жеребенка, и, выростя лошадь, ездить и построить себе двор, и станет мужик жить богато и слыть паном; но тут плетеница порвалася, и рассыпались яйца даром.
Да ко времени ли остереженье? Всякие назидательные толки – стариковский опыт: он для молодых не наука. Чужие язвы и колотушки не болят. Какая жалость, что мудрость появляется, когда уже не нужна для жизни...
Тут явилась сенная девка, принесла государеву подачу – рафленых курочек да от хозяина блюдо владимирских вишен. Помнят, жалуют Федосью и все почитают и любят.
– Сам-то каков? – спросила о муже.
– А на передызье остоялся, бояроня, прочь нейдет. Молит сына показать, – с поклоном ответила девка, отступая за дверь. В предбаннике послышался смех и шушуканье, сгремело у печи беремя дров, видно, на ночь намерились протопить.
Федосья резко, стыдливо запахнула срачицу, словно бы подглядели ее сокровенное, обернулась к оконцу. За стеною, как по зову, нерешительно захрустела отжившая трава, сквозь желтоватый паюсный пузырь проступила неясная отдаленная тень. Федосья прижалась к прорубу, щеку прохладно обдал вольный пряный воздух, сквозивший в щель подоконья. Глеб Иванович увидел хозяюшку и земно поклонился, сломавши шапку с рысьим околом. Сивая прядь волос косо свалилась на лоб, глаза, обычно мглистые от печали, сейчас хмельно возбуждены, но не азартом предстоящей полевой охоты, но счастливым известием, что сулит полную перемену жизни. Был боярин в голубом зипуне с высоким воротом, подпирающим короткую седую бороду, в зеленых сафьянных сапогах, расшитых червчатыми цветами, и при всей богатой охотничьей справе. Поджарый, всполошенный новинами, царский спальник, собравшийся на государеву охоту, был ныне истинно счастлив. Боярин подал знак рукою, де, покажи сына, и Федосья поднесла ребенка к прорубу, целуя беззащитный кудрявый затылок, горьковато пахнущий клевером и можжевеловым дымом. Будто в овечьих яслях на сене явился сын на свет. Боярин прижался лицом к паюсу, разглядывая росток древа своего, пораженный его красотою: сын потянулся к отцу, и они поцеловались через прозрачную плеву. Боярин заплакал и, смущенный, отшатился. «Береги сына», – сказал он шепотом, но Федосья шепот расслышала, уложила сына в берестяную коробейку и с переполненным любовью сердцем вновь торопливо повернулась к окну, вдруг испугавшись, что Глеб Иванович уйдет с глаз прочь в глубину сиреневого сада. Морозов снова земно поклонился, решительно нахлобучил шапку с намерением сразу уйти. Но будто пристыли ноги. Да и то, братцы, скажите на милость, ну как спокинуть хоть на малое время разлюбезную сердцу супружницу, что желанна во всякое время. Эх, на беду иль счастие повязался старый сокол с молодою голубкою...
Можно наговорить перед печкой, в трубу, на дым, чтобы жили хорошо: «Стану я, раб Божий, благословясъ, пойду, перекрестясь, из дверьми воротами в чистое поле, под красное солнце, под малый месяц. Покорюся я, помолюся я Христу-царю, Богу нашему, Егорию Храброму, Кузьме, Демьяну, Илье Пророку и самой Пресвятой Богородице. Сама Пресвятая Богородица, состреляй с рабы Божьей все уроки, все прироки, все призвишча, все пригородишча, от двоезуба, от троезуба, от двоежона, от троежена, от бабы-плутовки, от девки-пустоволоски, от попа, от попадьи, от дьякона, от дьяконицы, от своей проклятой думы. Будьте мои слова крепки, лепки, крепче камени-булату, острово укладу. Етой статье ключ – море, замок – ворота».
...Разве за тебя метила, Глеб Иваныч, за старого вдовца, когда в ночь на крещенский сочельник на росстани в решете снег сеяла да приговаривала: «Полю-полю белый снег за батюшкину хлеб-соль, за матушкину добродетель; суженой-ряженой, откликнись».
Не за царского спальника норовила, когда под сголовьице гребень клала, приманивая: «Суженой-ряженой! Причеши мне головку».
Не по тебе, богатому боярину, на постели колодезь из лучинок мастерила да причитывала: «Суженой-ряженой, приходи ко мне коня поить...»
За молодого да пригожего, за поровенку пригадывала, кидая в сочельник валенок за ограду, а вот угодила за Морозова-вдовца. Ну да что пересуживать, перетолковывать, князь богоданный, неизбывный, хозяин мой до смертной постелюшки. Живи, Христовенький, долго, чтоб помереть после меня. Под чьей звездой рождена, ту судьбу и вымолила. Мертвых с погоста не ворочают, верно? А судьбу не переменивают. И мне ли, злой греховоднице, сто раз на дню грешащей, нынче сетовать и которовать, плакаться и гневаться на богатые посулы, коим и счета нет: ребеночком златосердным одарила нас Богородица, не поскупясь, из щедрой горсти. Как на духу покаюся, Глеб Иванович. Сказывали мне верные подружки на повечерии: де, ласки молодецкие слаще сот медовых, хмельнее меда стоялого; а нынь прижаливают, как последнюю нищенку: де, любовь вдовецкая что корочка хлебная сухая. Вот, де, спозналася ты, несчастная, со богатым стариком. А я им в ответ: хмель-то, говорю, схлынет, как вешенная вода с горы, и захочется горбушки зажевать, чтобы силы принять... Маменька меня допрежь всего утешивала и наставливала: доченька, бывает любовь двоякая, сглядная и притягная. Первая любовь взаимная, вторая – невольная, наговорная, и начинает девица тосковать по сердцу глухой тоской.
...Помнишь ли, Глебушко, вот вошли мы в церковь, встали близ алтаря на объяри золотной, меня сваха под локоть держит, а я под покровцем трясуся, такая знобея меня одолела, что кольца височные звенят. Господи, думаю, дай мужа не кривого, не хромого и не горбатого. Протопоп и венец возлагает, и пити вина французского подносит, а я глаза поднять боюся. И поучает он, как нам дале жиги: жене у мужа быти в послушестве и друг на друга не гневатися, разве некия ради вины, мужу поучати ее слегка жезлом, занеже муж жене, яко глава на церкве, и жили бы в чистоте и в богобоязни неделю и средку, и пяток, и все посты постили, и господские праздники, в которые дни прилучится праздновати апостолам и евангелистам, иным нарочитым святым, греха не сотворили, и в церкви Божий приходили, и подаяние давали, и со отцем духовным спрашивали почасту, той бо на все блага научит...
И соверша поучение, взял протопоп мою руку и вдел ее в мужевью, и велел учинить целование. И тут явственный голос возвестил мне: «Не страшися, дочь моя! Не за тело венчаешься, но за душу. Из этого браченья родится святой голубь!»
И заплакала я уже не из горя и досады к доле своей, подняла взгляд, чтоб шагнуть к целованию, и сквозь слезу увидела твои жалостно умоляющие глаза, вдруг небесно воссиявшие, и твоя чистая радость обволокла меня, и зажалела я тебя, как искренняя мать прижаливает свое дитя. С сердца тяжкий камень свалился, что не изверг иль алгимей, не мучитель иль клосный восхитил меня из родителевой светлицы. Только вижу одно: был прежде сокол, да поблекли перья.
Тот первый поцелуй досель сладко горчит на моих губах, как прохладная вересовая ягода.
А как то веселие бывает: и на боярском дворе, и по сеням играют в трубки и сурепки, и бьют в литавры, а на дворе все ночи для светлости жгут костры.
...Ты помнишь, как повели нас почивать?..
Сваха да золовка провожали до горенки по крутой лестнице, устланной толстыми коврами, в теремной верх. В столовой палате ели-пили гости за здравие молодых, застольный шум смирился за плотно прикрытыми дверьми, и челядин-воротник встал возле с саблей наголо. Оглянулась: ой, залучили птичку в золотую клетку. Мати родненькая, всплачь, жалеючи, младшую дочь; исполивана будет моя дороженька да вся слезами. У золовушки-то злорадство в глазах, что непроглядней омута, и в темени той плещутся два светляка. Чего же я рассыпалася вся? ведь не на плаху ведут? Муж богоданный коршуном взлетел по лестнице, распушился перьями: де, вон я каков молодец. В сумерках-то вдруг показался молодым да поспешистым, вроде обавник какой торопится отеребить невинную птаху. Сменил Глеб Иванович личину, только что за спиною крылья демоновы не выросли. Озорко стало, и в душе переполох, словно подменили жениха. За ступистого да степенного венчалася со мглою в прищуристых глазах; ведь та грустная мгла и обволокла, в тот туман и подалася с уверившим сердцем...
Вступили в горницу, свечи на стол да сытенной воды скобкарик деревянный, чтоб горло омочить после любви. На кровати сено высоко наметано, поверх постеля из сине-душчатых лисиц да лебяжье одеяло. Хозяин образа ширинкою затаил. Федосья мимо кровати, как возле смерти, прямиком к окну, сцепила пальцы, унимая дрожь. Ой, знобко-то как. И сразу позабылось, как во снах не раз томилась, приласкивая неведомо кого. В косящатых окнах августовская темь, только блуждают сполохи от костров да как со дна провалища доносится гуд жалейки. Для дворни тоже ества-питье на столах, дубовая бочка выкачена, дворецкий потчует всех свадебным коричным пивом. Подле палаты туда-сюда ездит суровый слуга на коне, меч наголо, чтобы никто к спаленке не подступился, не потревожил молодых в неурочный час.
Золовка застелила место и сама, по обычаю, пала на постелю, чтобы одарили ее. И поднес молодой своей сестре нить жемчугу.
...Ты помнишь, как остались мы одни на всем белом свете, ты опустился на кровать, чтобы я стянула с тебя сапоги. «Возлюби мужа, как душу свою». А мне страшно и некому меня пожалеть. Отдернула покровец с образов, упала на колени пред Богородицей и давай молиться Пречистой. Пол омок от моих слез. «И протекла меж нами непроходимая река слез». А сама спиною-то каждый шорох твой слушаю. Ты же вдруг шепнул протяжно: «Фе-ня-я». И вздрогнула я. И во мне зачался ты, как во темени пашни проклевывается семя. На всем белом свете лишь мати позвала бы так.
«... Как же, помню, что едва не затопила хоромы слезьми. В нижнее жило протекло, гостей подтопило, из палаты прогнало, едва сенные девки ведрами отчерпали». Муж кивнул, поправил шапку с рысьим околом: мех затенил, спрятал лицо. И опять не ушел боярин, задержался возле мыльни. Но чему-то расхохотался вдруг, запрокинув голову.
...Тогда она опустилась на колени и, как научила мать, покорно сдернула с мужа обувку, выказав усердье свое, повернула тугой сафьянный сапожонко, подбитый серебряными гвоздиками, вниз трубой, встряхнула – из голенища на пол посыпались золотые и раскатились по горенке. Глеб Иванович в свой черед снял с невесты бархатные черевички – выпала из них лишь серебряная копейка. Жених поднял деньгу, поцеловал титлу и спрятал монету в потаенную зепь. Федосья улыбнулась милостиво, чуть насмелев, и молвила дрожким голосом, подражая божатке: «Не посудите на наши дары. Наша невеста годами не залетна, дарами не запасна. Прялосе-дремалосе, скалосе-рвалосе, белилосе-дырилосе, вам, наверное, норовилосе!»
«Не норовилосе, так не засватал бы!»
Боярин задул свечи, как-то ловко, неуловимо сбросил одежды, стукнувшись о пол коленями во тьме, опустился перед невестою на пол, положил жалобную свою голову в подол сарафана» шитого из атласистой тяжелой парчи. Федосья по-девчоночьи прыснула.
«Ты, Глеб Иванович, не ратиться ли со мной норовишь?»
«Фе-ня-я, – снова позвал Глеб Иванович жалобно, – жена ты моя, богоданная... Бо-го-дан-ная», – повторил он последнее слово с особенным смыслом. А много ли девушке надо? Ей бы медовое слово в сердце заронить; юница ушами любит. И душа Федосьина воспрянула, потекла навстречу еще недавно чужому человеку. «Муж жене, яко глава на церкве», – отозвалось внутри и отдалось по телу робким согласием. Федосья заглубила пальцы в мужние волосы, тонкие, какие-то детские; как горностаевый мех огладила.
«Не приторапливай меня, ладно? Я тебя любить буду». Пальцы девичьи замешкались, вдруг скользнули в ворот срачицы по жиловатой, упругой шее. «Господи, да ведь сам Морозов пред нею на коленях, – обдало Федосью жаром. – Я отныне Мо-ро-зо-ва! Самой государыне свойка».
Тут в Чудовом монастыре ударил колокол. Пробил час боевой.
«Я ж как горлица из клети слетела к тебе».
На это признание Глеб Иванович лишь пуще вжался лицом в невестины колени. От поста ли, от девичьего близкого тела закружилась, такою ватною сделалась голова.
В дверь постучали, справились о здоровье, де, свершилось ли, нет доброе меж молодыми. Гости хотят знать.
«Здоровьем Бог не обидел. Не тревожь-ка до утра, дядько», – отозвался Морозов. Господи, как желанно и покойно на сердце. Чего еще нать на сем свете мне, многогрешному. Заперхало в горле у Морозова, слеза выпала на золотной бархат, проточила шелка сквозь, обожгла девичье тело.
«Родной мой. Ты муж мне. Ляжем до утра, как брат с сестрой. Мати сказывала: де, первую ночь не знатися, чтобы овечкам велось. Первую ночь не грешити, так волк овечек не заест».
«Хозяюшка моя, ах ты Боже, – втайне умилился Глеб Иванович. – Гляди-ко, из темницы едва выпросталась, из маменькиных ежовых рукавиц, а уже хозяйка. И каково с мужем-то урядила юница. Запрягла тихохонько, да и управила...»
Где-то далеко отгремели по брусчатке колеса колымаг, отвозящих свадебщиков, чей-то возбужденный голос прощально прорезался от красного крыльца. Невидимые во тьме летали по потолку ангелы, и райские птицы склевывали лазоревые цветы с заневестившихся яблонь. Огонь костров бледнел на стеклах, перестукивали конские копыта, неустанно ездил у опочивальни слуга, выня меч наголо. Вот и утреню заблаговестили в Чудовом монастыре, разжижла тьма. Молиться пора. С синими подглазьями лежала бессонная Федосья и, приподнявши тяжелую голову, вроде бы сторожила мужний покой, выглядывая морщиноватое лицо с белесым боевым шрамом у правого виска. Федосья грустила, неслышно всплакивая. Невестино золотное платно лежало на стуле. Иногда ногою Федосья будто случайно касалась мужнего тела и обжигалась кипятком, неведомо для чего пытая себя.
«Вот старичина, разлегся на постели, как колода», – однажды подумалось сурово, и Федосья пытливо, с настороженностью, боясь, что подслушали ее грешную мысль, пригляделась к хозяину. У боярина оказались длинные, слегка загнутые ресницы, и густая тень в обочьях словно нарисована сажей. Лицо было каменным, надменным, неотмякшим, и Федосья верно знала, что муж не спит и сердится.
«Ты не гневайся, Глеб Иванович, не приторапливай. Дозволь попривыкнуть к тебе, мой господине», – Федосья, подластиваясь, вдруг решилась, двинула ворот рубахи, робко поцеловала грудь против сердца. Прикосновение к чужой коже было странным, солоноватым. Боярин вздрогнул резко и затомился. Томление это перелилось в Федосью, заполнило еще неплодную смоковницу; не совладать бы ей с мохнатою мышою, когда сердце близко к обмороку, и муж благоверный вдруг стал куда ближе матушки родимой. Скажите, куда подевалась зорко стерегущая душа, если тело натянулось и зазвенело, как молодая береза под ветром... Да тут не ко времени в стену свистнули горшок глиняный, посыпались на пол черепины: это свекровь, будь она неладна, явилась подымать молодых с кровати: «Вставайте! Урядьте, живо толком поладьте, будить иду!» Едва помедлив, отпахнула дверь, вошла в опочивальню решительно, на громах, зорко, по-старушьи оглядев спаленку, намерилась сдернуть с молодых голубок лебяжье одеяло, примечая, кто быстрее соскочит с постели. Хотелось ей, чтоб сын не зазевался, – ведь «кто первым скочит, тому легше год прожить. А то чирьи замучают». Но сын не попался на стародавний обычай, хмуро остерег, едва приоткрыв свинцово набухшие вежды, и зрак, просочившийся на мать, был холоден и угрюм: «Эх, мать ты, мать, – укорил, – выпугала наших ангелов на таких ранях...»
Тут принесли легкое да питься ковш; пили-ели молодые, не глядя в лицо. В полдень срядился свадебный поезд к жениным родителям, к свату со сватьей. Анисья Соковнина поднесла зятю стопу блинов, де, хвались, зятек. Морозов, смутясь, положил теще на верхний блин разменные деньги, признался: «Я еще не трогал мол оду жену». Тогда над головами молодых на полицу положили хлебины, поставили на них свечу и зажгли. Пусть знают гости, что в мыльню идти рано, молодая еще не распечатана.
Лишь другим утром пошла невеста в мыльню и с нею мать, и иные ближние люди, и сваха, и осмотрели сорочки ее, нашли три пятонышка брусничной алости и показали те сорочки жениховой матери для того, что девство ее в целости совершилось...
...Радуйся, боярин Глеб Иванович, пой аллилуйю, зазеленела бесплодная смоковница: от твоего кореня нежданно завязался росток. Послал Господь мальчонку тебе в утешенье, Федосье на радость, чтоб не пресеклась родова Морозовых, чтоб не растряслось попусту издавна нажитое, есть кому ныне передать дивную гобину, бессчетное имение; услышал Сладчайший ваши молитвы и искренние мольбы, наполнил Федосьино тоскующее чрево.
Муж тихо отпятился от проруба в глубину посиневшего померклого от мокрети сада; вдруг прорвался с гнилого угла дождь-косохлест, Илья Пророк прокатился на телеге, пробуждая землю от спячки; монашена вошла из предбанника в мыльню и, не спросясь, приняла берестяную плетушку с сыном, не дозволила нарадоваться.
«Ты кто?» – с тревогой вопросила Федосья, смутно припоминая, что где-то знавала это притягливое лицо.
«Я матерь твоя духовная», – смиренно ответила Меланья, не подымая взора.
Глава шестнадцатая
Господи и Владыко животу моему, дух уныния и небрежения, сребролюбия и празднословия отжени от мене. Дух же целомудрия и смирения, терпения и любви даруй ми рабу твоему...
Велика, завидно пространна и вельми обильна Святая Русь.
На что уж матер и ухватист орел в своем медлительно-торжественном дозоре, как бы ни подпирали его свистящие крыла воздушной реки, но и ему, гордому в своем одиночестве, не взнятися в тот солнечный горний аер, откуда лишь и возможно объять протягновенную северную землю, всклень залитую дремотными кондовыми лесами, где порубежному гостю без престольного пристава и стрелецкой вахты вольно пропасть и загинуть ни за понюшку свейского табачку. Ибо нынче пред взором невсклоненный лес и дикий зверь за жуткой в ночи выскетью, и завтра тот же лес с засеками и внезапным разбоем, и до самого Скородома провожает съедной комар, от которого одна защита – костер; и так по всей Московии, и лишь речные переправы с прохладою от воды, да рыжие излучины со скобкою сизо-серой деревеньки, да пожни с шеломами копен, да новины на гарях, еще розовые от иван-чая, да белые с золотом церковки, да привальный стоялый мед в ковше из руки хлебосольного воеводы, да копченый телячий стяг, да баранья зажаренная лопатка с вулканчиками застывшего жира, да глетчик топленого молока, да кринка зелеяницы в сметане и возвеселят страдающее от дорожных тягостей сердце. И так изо дня в день, и не в один месяц. И пересчитывая возы, и дорожные укладки, и многую челядь, и всякие посольские и купецкие дары, невольно воскликнешь: Господи милостивый, куда, в какие дремучие аидовы теснины сподобило меня угодить; и самый равнодушный к скорбям человечишко примется неустанно кститься, чтобы оберегла его судьба вдали от родимых домов. И тут-то поймешь вдруг, с внезапным прозрением, сколь велика, таинственна и непостижима барбарская Русь. «Не дуйся, коровушка, не быть бычком...»
Глядите, вон пыщится в застарелой гордыне вещий ворон-каркун, случайно залетевший на Москву из Звенигородских крепей, малой соринкой витает он по небесному крутосклону, но и его злому, немигающему взгляду невмочь усторожить даже потайные укромины Крылатского и Мышцей, Сукова и Озарецкого, тех дворцовых сел, близ которых сбивают охотники царскую медвежью осеку, выискивая опрелого с зимы зверя на болотной поеди. А что медведко, он на Руси не диво, он, лешачина, ратится за каждою горушкою, чуть ли не приступя к Московскому крому, радуя и гневя своими выходками крестьянскую душу. К самым холмам третьего Рима, к семи сосцам блаженно разлегшейся волчицы, обвеивая ее хвойным ветром, наплывают кунцевские пустоши, ухороны лосиных семей, кои травят в зиму лошьими собаками; под Коломенским окладывают лис-сиводушек, травят гончаками зайца; под Можайском объезжают и выманивают волка. В царской псарне на Старом Ваганькове томятся по охоте, наскучиваясь и копя зло, гончие и борзые, меделянские и ищейные кобели, лошьи собаки и угрюмые страшные британы.
Много обавников вкруг Руси, они нашептывают в ухо искус и лукавые коби, и опечатанный лихими чарами чужой человек легко вступает в Русь, как в свое подвластное владенье. Но что за чудо? С каждою верстою словно бы кто навешивает к ногам вериги, опоясывает чресла невидимыми железными крючьями, на рамена взваливает стопудовые гранитные каменья; и шаг становится спотычлив, кровь – жидкою, взгляд – дремотным, и даже постоянная скляница зелья не распалит в жилах огня.
Господь наш сотворил эти просторы по своему разумению и памятливо дозирает все украйны по личной смете без чужого приговору. Но пасти овчей на своих пажитях приставил он государя, осеня его светом своим, и впечатал в лик его третье, незримое око. Вот сутулится государь в своей кабинетной палате на резной золотой стулке, на бархатной подушке и, уставя взгляд в высокое стрельчатое окно из веницейского стекла, забранное в витую медную решетку, как в чудесное серебряное зеркало, видит он землю державную по всем пределам. Ибо Господь постановил ему быти доброчестным батькою и мудрым хозяином.
...Из Великого Новгорода везут к столу рыбных запасов сигов и ладоги, и сиговые икры с четыреста бочек в год, да бобров карих, черно-карих и рыжих, и выдр больших и малых, и лисиц красных и синедушчатых; а с Вологды да с Архангельского городу, из Кольского острогу притянут дощаниками лососи и семги просольной с двадцать тысяч берсковецк, да белых и дымчато-голубых и черных тундровых песцов, да ефимков любских, наменянных на торжище, не один сундук, да рыбий зуб, битую и давленую боровую дичину, соколов и кречетов на царскую потеху, и такой сокол станет дороже золотой отливки в полный вид; из Нижнего Новугорода и Казани, из Астрахани и Терека приплавят Волгою белуги и осетры просольные, большие, и средние, и малые, да белуги и осетры рассечены по звеньям в рассоле в бочках, да белужьи и осетровые спины, и черева сухие и вялые, да в бочках же просольные стерляди, ксени, максы белужьи и осетрьи, да белужью и осетрью икру постную зернистую и паюсную стулами, вязигу, белую рыбицу вялую прутьями; ясачные народцы снесут в государеву казну соболей разных достоинств, да куниц больших и малых, да молодых камчатских бобров-кошлотов черно-бурых и рыжих, да годовалых бобров-ярцев, да лисиц черных, черно-бурых и красных, черногривых и черновых, горностаев и росомах, и черных волков сибирских с мягкой длинной шерстью; татары и ногаи пригонят в престольную табуны несчестные лошадей; да мало ли чего есть на Руси, всякой ученой орации не хватит, чтобы счесть все богатство и обильность сей земли. И деги, и свей, и албанасы, и агаряне, и поляки, и немцы датские – всем хватит русских мехов, чтобы сибирскою искрящейся звериной шкурою укутать дряхлеющую шею...
Беззавистливо дивитеся Руси, съехавши в нее из тесных европейских закутов; и душе прилежной, богобоязливой здесь на каждом шагу вдруг откроется чудо. Спаситель осыпал сию землю манною небесною и сказал: «Много есть позванных, да мало избранных». Истинно: что в Европе за роскошь, в России – за обыкновение. Да и чему тут удивляться, коли вся Европа перед Русью – греховный папежный угол, куда вместе с заходящим солнцем слетается на шабаш вся нежить...
Алексей Михайлович поднялся в Теремной потешный садик; среди ветвистой провеси дикого, еще безлистого винограда гуляли в клетках павлины, распуша хвост и красуясь собою; они так походили на спесивых боярынь. С востока на небо нагнало алой ряби, и оно выглядело тревожным и радостным. Словно розовые диковинные рыбы плескались в небесном половодье. И глухариной пушинкой витал над Белым городом лесовой ворон.
Прошлым днем государь вернулся с птичьей потехи, на его заветренном лице оследился солнечный огонь, и кровь, напитанная вешним жаром, загусла и походила на гречишный мед; губы расседались и пожухли от лесного воздуха, и государь часто слизывал с губ сухую накипь; кожу на лице стянуло и хмельно так, вразнобой, потенькивает молоточками в висках разгулявшаяся молодецкая кровь. Взглядывая в небо, как бы сверяясь с ним и советуясь, государь мысленно сверялся с охотою и, в несколько присестов просмотря его, делал пометы, бочком присаживаясь на плетеный из лозы стул. Костыш был плохо зачинен подьяческой рукою, развозил по бумаге земляные чернила; государь хотел подосадовать на служку, но раздумал... «Будете схочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою, зело потешно, угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие. Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте нелениво и бесскучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу». Государю нравилось, что взял он верный, отеческий строй поучений; что-то в конце прилога ему не слишком залюбились излишества красноречия своего, и государь перед статьями славочестия нововыборного сокольника сделал приписку: «Сия притча душевна и телесна... Делу время и потехе час».
Ворон все плыл и плыл по воздусям и, не колебля крылами, чертил круги (ну не чудо ли сие, Господи?) и прицеливался к золотому шелому Ивана Великого, чтобы скрасть его, наверное, в свое дубравное седалище. Тут духовник Стефан встал пред мысленным взором государя, весь светлый, изжитый и сухой, как тростка, и укоризненно покачал головою: де, государь, ты Спасителя нашего позабыл. Алексей Михайлович опомнился, пожурил себя за гордыню и отбил тридцать поклонов кремлевским храмам, усердно кстясь.
Потом и на престольную загляделся, опершись о кованое узорочье решетки. Внизу на Дворцовой площади перед красным крыльцом кишел всякий чин, месился туда-сюда по-муравьиному, но в этом ежедневном сходбище государь скоро поймал деятельный смысл и удоволился. Сейчас душа его, переполненная птичьей охотою и прелестями воли, прощала и любила всех. С тем же затуманенным взглядом, с возбужденным от любви сердцем Алексей Михайлович в который уже раз всмотрелся в Москву; он каждый раз видел город как бы заново, вроде бы не узнавая его, и постоянно удивлялся громадности престольной, утекающей куда-то за окоем, словно бы великий стол растекся по всему телу Руси. Москва напоминала ему и вечный табор, вставший на семи холмах на ночлег перед битвою, чтобы с утра сняться в поход.
«Вот он, третий Рим, а четвертому не бывать». Это наезжему временному человеку Москва кажется снаружи Иерусалимом золотом и белым камнем изукрашенных строений, а внутри – Вифлеемом, из-за видимой неухоженности, несрядности ее замысловатых улиц, и посадов, и слободок. Из своего, из русского, своеобычного норова, по преданиям суровой жизни и свычаям изустроена святая обитель, и если всю ее впитать взглядом, то сквозь хаос видится строгая разумность устроения... Вон он, Аптекарский сад, еще по-весеннему нагой, но уже принакрытый сиреневыми облаками, сквозною венчальною фатой из восточного киндяка; а там Лебяжий пруд с белыми лебедями для царского стола.
По-детски радуясь увиденному, он узнавал богато устроенные дворы князей Долгорукого, Голицына, Троекурова, золоченую крышу палат князя Василия Голицына, мучные и солодовенные ряды на Петровской и подворья стрелецкого стремянного полка, и уходящую в гору бревенчатую Тверскую, а далее ворота-башни Белого города, купецкие лавки, золото и белый камень тысяч церквей и сорока соборов, и многих монастырей, и россыпи изб, крытых берестом и тесом, и дранью, и гостиные подворья с рядами приземистых амбаров; и на всяком холме, как бы вдруг, сам по себе из сизого дымного туманца проступал не то иной, незнаемый город, не то чудная крепостца. Это летом вся Москва погружается в сады, и лишь из яблоневых и грушевых зеленых волн, как свечки, вспыхивают золотые луковички храмов. А сейчас престольная раздета, как бы выставлена на посмотрение, свободная от свадебных снегов: всюду овраги, полные мутной вешней воды, нагие сквозные сады, капустища и репища, пустоши, кладбища подле церковок, по берегам речонок, захлестнутых деревянными мостами и коваными решетками, болотистые бережины, где мужики рядят деревянную посудину, яры и крежи, приречные поженки, где сутулятся еще селетние копешки, коровьи стада, уже спущенные на поскотину, садки и пруды, где бывает та живая рыба осетры, белая рыбица, стерлядь, лососи, щука, лещи, судаки, окуни и иная добрая всякая, которая годится ставить пред царя...
Притяжная к себе, заманчивая благочестивая Москва, крепко стоит она под крылом своего святого защитника. Да и всякое-то место на Руси сильно святоотеческой опорою, их светлые духи витают над бескрайними землями, их длань с разящим праведным мечом вдруг выпрастывается из грозового облака в минуту тяжкую для Московии и разит басурмана...
Киев блажит Антония и Феодосия, печорских чудотворцев. Москва блажит Петра, Алексея, и Иону, и Максима. Псков же и Великий Новугород блажит Варлаама и Михаила, юродивого Христа ради. Смоленск блажит Леонтия, Игнатия, Исайю, Вассиана и Ефрема. Вологда блажит преподобного Димитрия. Устюжане блажат Прокопия Устюжского. Северная сторона по Двине-реке, Ваге-реке, на которой город Сенкурия, – и те блажат Георгия юродивого Христа ради. Соловецкий же остров и все Поморие блажат Савватия и Зосиму. Пермь чтит Стефана Пермского. Вятка – Николая Великорецкого, Волость Сийская – Антония Сийского. Казанцы уповают на Гурия, Варсанофия и Германа Казанских.Простором защемило глаза, и царь перевел взгляд к земле. Толпа потеряла муравьиный смысл и разбилась на круги и удельные толпешки, словно бы обсуживали внезапный вопрос. Государь куда-то подевался, государя не найдут, как сквозь землю провалился; спальники верные знают, но молчат о царской проделке, позволили час уединения, о коем лишь во снах мечтает великий русский самодержавец. Вырос при чужом догляде и на многих руках, и помереть ему при толпе, улавливающей последний вздох... «Ах ты, Боже... Тяжела сума государская, – вздохнул Алексей Михайлович, однако чуя в себе избыток сил. – Надолго ли остались без меня, и как дети». Мысль, внезапно посетившая, польстила державному, и тут же захотелось утвердиться в ней прочнее. Царь направил дозорную трубку вниз, чтоб яснее разглядеть лица. Сам же, однако, присел за решеткою, чтобы ненароком кто не поймал вдруг за умышленной затеей. Но государь понимал душою, что стыдно ему не оттого, что заметят, но оттого, что с желанием творит грех, да к тому же и двойной, ибо, соображая о грехе, вершит его. Ну не чудо ли... Алексей Михайлович таился от дворцового чина, и в те же минуты, как человек, надевший невидимый колпак, находился средь своих холопишек и считывал сиюминутные откровенные чувства. Эх, кабы подслушать еще, что молвлют и об чем думают, вздохнул кто-то за спиною. «Это лукавый нашептывает», – понял царь и окстился.
Напротив растворенных башенных ворот остановилась черная лакированная полукарета с золотым кружевом, расписанная цветами на ремнях и тонких дутых колесах, запряженная цугом. Такой знатной повозки государь не знавал у дворцовой службы. Слуга с батогом поклончиво отпахнул дверку, вылез оттуда спальник Богдан Хитров, пружинисто, резко раздернул плечи; выправляясь, приосаниваясь, с какой-то гордоватой медленностью оглядел Теремной двор; с запяток кареты по взмаху боярской руки соскочил безносый рабичишко. Царь узнал в нем узника из застенка. Хитров отстегнул саблю от банделера, небрежно кинул сторожу в протянутые руки.
Невдолге вошел истопник, надзиравший царев покой, и испросил государевой воли, де, холопишко Богдан Матвеевич Хитров бьет челом, просит принять.
– Ну зови...
Богдан Матвеевич заявился хлестко, жарко, червчатый кафтан нараспах, атласная голубая рубаха пузырем на жаркой груди, вкруг шеи рудо-желтый плат, повязанный под адамовым яблоком на развесистый бант; из-за узла – пегая бородка задиристым клином.
– Шут, што ли? Разоделся-то... Иль во фрыгах нынче? – искренне удивился Алексей Михайлович. Хитров, не мешкая, поклонился молча, скорехонько сникнув и померкнув. Куда же делся тот молодец, что горячие уголья из печи выдергивает голохватом? – Богдан Матвеевич, забыл ты Спасителя. Легче верблюду перейти через игольную дыру, неже да богатый прийдет в небесное королевство. Что же ты, дурак, похваляешься пред Всевышним, гордыню тешишь и гусей дразнишь. Вот ужо додразнишьсе! Накладут лайна по уши...
– Прими, государь, карету в подарок... царевичу Димитрию. – Хитров трижды поклонился в пол и так застыл полусогбенный, не решаясь расправить рамена. Государь хмыкнул, отвернулся прочь, похлопывая по толстой раскрытой ладони зрительной трубкой, и вдруг поймал косой, торопливо кинутый исподлобья догадливый взгляд. «Ах ты, догада! Сущий бес», – невольно восхитился государь. И тут же по-мальчишечьи смутился, горячо вспыхнул.
– Слы-ха-ал! Воруете! Тащите из сусека, что плохо лежит, да в преизлихе! Крысы! Государь спит. Государь-котко не видит, как мыши бесстыдно плутуют. Ты забыл, что у батьки три глаза! Да не этот, Божий даден мне в присмотр за бражниками и ловыгами. Ну, Богдашка, ведомо мне, что ты плут. Поймаю – не реви. – С каждым словом государь утихал, но Хитров спрямлялся и расцветал, и голубые озорные глаза его наливались благодарною влагою. Государь доверительно сунул спальнику зрительную трубку, присоветовал: – Погляди, плутина, за вахтою своею. Как на Земском дворе они, ленясь, долги батогами выправляют, а гривны – к себе в мошну. И это ведаю. И водку даешь тайно курить за мзду...
Богдан Матвеевич не возражал, да и что тут ереститься: не посадский, шею не намылишь; государь сам на руку резок; опростоволосишься – живо накидает горячих лещей. А что попреки и острастки, так к слову, чтобы грозу и царское око вседневно не позабывал. Да и у Хитрова в приказе сметы уряжены, что и вода не подточит.
– Ну, что у тебя?..
– Шел намедни по английским лавкам, вижу, карета. Жар-птица, ей-ей. Но не по мне, не по чину. Вижу, что не по мне. А царевич растет, царевичу стойно. – Хитров мелко, вполголоса проборматывал, как бы для себя, не отрывая взгляда от зрительной трубки. Но видел сквозь стеколки лишь клин мреющего к близкой непогоде неба. Трубку эту сам же и подносил государю в подарок от свея. И вот, кстати. – Да... У немчин руки к месту пришиты. А у нашего мужика ухват, только горшок со щами вынять, на большее не гожи. На работу – на аркане, к вину – бегом. Да что на аркане? Цепью ковать. А немчин ни одного пригодного часа не заспит. И к чему умом не торкнется, всё мед да патока, всё в нажиток. А наш лентяй ни в науку, ни в работу...
– Добрых речей говори. Не годится нам самим себя оговорять и лаять. Зла та птица, коя сама свое гнездо поганит. Они, латины, исполнены злокознью и хитростью и нам до скончания века не указ.
В словах государя укоризна, но бархатистый голос зыбок, податлив, словно бы и души государевой коснулась тайная немочь и тля. И чем возразить спальнику? Ткани и ковры, узорчье и драгие камни, золото и серебро, бисер и свила, вино, сахар, овощи, посуда, всякое знатное оружие – все в Русь с латинского угла и кого хошь окружат, очаруют, введут в прельщение эти товары.
...Окстись, государь! Задарма ли? За русский товар оне в своих землях вдвое и втрое барыша получат. Задарма и снегу горсть посреди зимы не подадут...
– Прости, государь. – Хитров пал на колени, норовя поцеловать край полы царской однорядки, но Алексей Михайлович, озарясь, отшагнул прочь. В заветренном упругом, щекастом лице проявилась усмешка. А Хитрову, царскому холопишке, каково? Вот и стой на коленях до скончания живота.
– Часа, говоришь, не заспят? А душу-то про-фу-ка-ли! Тю-тю. В Божьем храме золотые жеребцы золотыми яблоками ходят. Дети каиновы, эти кобыльники, каждый день распинают Христа под окнами папежника, славя мамону и сатану. Может, и ты за конское яблоко готов душу запродать?
– Прости, государь. – Хитров осанился, не подымаясь с колен, гордовато встряхнул ладной головой, пшеничные тонкие волосы встали дыбом и потом медленно опали по плечам. – Вели!.. И за отчую землю голову на плаху. И палачу укажу, ловчее штоб...
– То-то... – Царь взглянул куда милостивее. – Свою родову обесить вздумал.
– Одно мучит, государь: народишко испроказился, на тебя клеплет по стогнам: де, ты ханжам церковным попущаешь. И указ твой о единогласии не приемлют. Попов бьют нещадно, чем ни попадя, и ни во что не ставят, и оттого вере православной великий урон творится. Да и работать нет времени. Ханжи заставляют по пяти часов на обедне стояти, силком приневоливают и палками бьют по мясам, если к обедне не ходишь.
– Веру палкой не втолковать. Сколько было говорено...
– И меж попов-то несладица. Гавриловский поп известил: говорил-де ему Никольский поп Прокофей, где с ним ни сойдется, заводите, де, вы, ханжи, ересь новую – единогласное пение и людей в церкви учите, а мы прежде в церкви не учили, а учили их в тайне. И говаривал, де, он, поп Прокофей: беса, де, в себе имеете и вы все ханжи. И протопоп Благовещенский Вонифатьев такой же ханжа. Сказал, де, он господа Саваофа видел, а он, де, беса видел, а не Бога. А Бога кто может видеть во плоти?.. И еще: из верных уст ведомо. Ханжи те Неронов, да Вонифатьев, да Юрьевский протопоп Аввакум собирались нынче в покоях постельничьего твоего Ртищева и столковались за грека переметнуться, уйти в измену. А митрополита Новгородского Никона в патриархи метят по тайному сговору... Скучковались, государь, за твоею спиною и власть емлют, яму тебе копают.
– Да подымись ты с колен, за-ради Господа. Солодишься по полу, как увечный. И что мне с има делать, коли Бога не боятся? – спросил государь совета, сам же слушал вполуха, досадуя на духовника. Не мог Вонифатьев обговоренное утаить, полез с докукою к братии. Вот, скажут, государь патриарха ставит без соборного решения. Нет, надо, надо дать Стефану укорота...
За Никона царь стоял крепко и нынче люто скучал и ждал митрополита на днях. Но слухи-то закоим? Разнесут колокола по престольной.
Что-то суетливое во взгляде иль равнодушное в голосе насторожило Богдана Матвеевича, сердце екнуло. Не перестарался ли, не дал ли пенки? Прост царь, да обманчив. С ханжами в ладу живет. А прознай поди, кто кому паутину ткет...
И потому промолчал Хитров, лишь потупился: де, мое служивое такое дело стеречь да пасти государя от всякой измены и хворобы.
– Ладно, я решу. И о том не сказывай никому. – Царь снова направил зрительную трубку на Дворцовую площадь, сыскал сквозь стеколки колодника. Варнак стоял там же, где оставил его спальник, и задумчиво, отрешенно глазел на царский Терем, разинувши рот. Вдруг взгляды их как будто столкнулись вплотную, перетекли встречно сквозь зеницы в самую душу, и царь вздрогнул от необъяснимой тоски, коя через зрительную трубку вошла в него. – Доставил бесчинника, так зови сюда.
Но не успел спальник выйти, как царь догнал взволнованным окриком:
– Погоди... Веди-ка татебника прямиком на Казенный двор.
«... Но зачем я повелел привесть его? Для какой неотвратимой нужды? Что за блажь понудила? Он тогда предерзко вел себя, полуразвалясь на клоке соломы. Он молил смерти своим бесчинием, а я миловал волю. Мне Сладчайший тогда нашептал. Он растворил мое сердце для милости. Самый последний здесь будет там в первых. Пусть блуждает по миру в науку и посмотрение, чтоб поопасались разврату... И в катах нет нужды. Любой рабичишко кинется на рысях в заплечные мастера, только укажи на него. И что можно считать мне по скупой этой судьбе? Родился – встал – помер. Жалкий изверг. Оттого и торопил он смерть, что уже помер давно? И белый свет стал хуже казни. Мертвых с погоста не ворачивают. А я?.. Закоим? Вот помер человек и вновь народился. А безрадостен. Это я вдунул в уста живой дух...»
Но Светеныш безрадостен и тускл.
Он обреченно, тупо смотрит на порыжевшие бараньи сапоги, выданные из Земского приказа. Хозяин их уже растекся в земле. Сапоги потрескались, носы загнулись, едва отвадили обувку дегтем. Но в соломенных стельках еще тлеют остатки живого. Быть может, в переду подохла мышь и сквозь онуч теплит от нее? Ивашко Светеныш пошевелил пальцами. Ему показалось мерзко. Да нет, вроде как померещилось...
...В каты дак в каты. В катах тоже живут. Катается как сыр в масле да покрикивает: «Давайте кату плату». Есть мастера, распишут по первое число. Одной рукой пишут, а другою – зачеркивают. Подьячий из писцовой площадной избушки на листе так не управится, как палач на воровской спине плетью. У Светеныша от того письма доднесь шкура горит, распахана, как мужицкая десятина... «Дьяволы, отоспались на мне. Но ужо погоди-ка, отметится и вам».
Стояли, замедлясь, в палисаде. Стрелецкая сторожа с секирами осторонь у плотно затворенных ворот; сквозь проушины вдет толстый дубовый брус. В подошвенных бойницах пищалицы крепостного боя и гранатная пушка. У каждого вахтера на поясу пистоли в кожаных ольстрах. И то сказать: есть чего хранить, на царевой мошне покоится государев стол и его честь.
Городьба высокая: вверху кус мглистого неба да золотой окраек Благовещенского соборного купола с летящим в поднебесье крестом. Двор уже густо зарос и пламенно желтел от мать-и-мачехи; только к сокольне, куда и царь пеши ходит, натоптана тропинка да вдоль стен выбита караулами трава.
Что-то мешкали вступить в каменную палатку: сюда сторонней ноге суровый запрет. И лишь государь – частый гость. Любит с мальства Алексей Михайлович повзглядывать на земные сокровища. Дверь узкая, высотою в два аршина, из толстой жести, клепаная, с внутренним запором. У входа казначей да дьяк с ключами на поясе. Лещадные ступени крыльца уже вышорканы корытцем, в них скопилась нерасплесканная дождевая влага. Непочасту в казну гости.
Хитров, подбоченясь, запрокинул голову к небу и чему-то глуповато лыбится. Лицо распаренное, кровь в жилах ярится. Может, девку-литовку вспоминает, что на днях подарил Давыдко Берлов? Весь вид Хитрова: мое дело – сторона. Царь блажит, а я на дуде подгуживаю, лишь бы ему занравилось.
И всем в удивление государева затея.
Ивашку Светеныша вахта запомнила еще с той ночи, когда залучила татя. Луна сблеснула из-за облака – и на: возле дверки в казну лихой человек. Прильнул к кованому полотну, как кошка, и скребется. Не с неба же свалился вор полунощный? И приступа не было на остро затесанные пали, и ворота замкнуты настрого, и решетка спущена. Будто сквозь стену просочился, гад ползучий, иль сторожу опоил чем...
Светеныш в долгополом червчатом кафтане с чужого плеча, в кожаной островерхой басурманской шапке с мохнатым волчьим околом. Колпак пред государем не сломал, с судьбой играется, злодей, бегает взглядом по сторонам. Росту с царем вровень, и подметил Алексей Михайлович, что вор жиловатый. С каким-то любопытством всмотрелся государь заново в это опочное лицо, не бледное, а именно изголуба-белое, с желтоватыми пятнами на висках и разномастной бородою. На месте носа лишь рубцеватая кожа с двумя черными дульцами. Сколько же таких, обкорнанных, бродит по Руси. Мета, отличка злодея, чтобы православный печищанин издали мог распознать его и приготовиться душою. Вдруг варнак спокойно, с холодной равнодушностью остановил взгляд на государе: глаза творожистые, без зрачков, вроде бы вытекшие. Словно из могилы достали человека.
И в который раз поразился государь неоценимой зоркости спальника Хитрова. Видит Бог, зрит Богдан Матвеевич на сто сажен в глубь земли и сквозь человека, раздевает его наголо. Ведь истинного палача нашел, коему цены не станет. Худо, когда в катах человек горячий, злобистый, заводной, он скоро на кости падет, истомится, сгорит, в натуру изойдет, вступив с жертвою своею в борьбу; и равнодушный – тоже не мастер, мигом подкожным жирком обрастет, заленится, как байбак, не замедлив на взятку улеститься. А слабому, слезливому душою православному и вовсе у плахи не место...
– Открывай, Иван Пафнутьевич! Заснул, что ли? – приказал государь казначею. Дверь на петлях тяжело подалась навстречу, протяжно загнусила. Первым, принагнувшись, вошел дьяк и запалил свечи. Казначей смахнул с головы Светеныша колпак и беззлобно выругался.
– Оставьте нас одних и закройте дверь, – сказал Алексей Михайлович, призамедлив на пороге. Хитров подался навстречу, но царь неприветливым взглядом ожег его.
«... И ты меня не боишься, варнак? – спросил государь у Светеныша, когда дверь за ними туго затворилась. – Меня все боятся».
И тут же осекся царь: чем хвалюсь-то? Эко диво – все боятся. Ты поднорови, чтобы все любили тебя. Прости, Господи, за кощуны. Не вем, что творю.
Но Светеныш не заметил царской заминки, ответил с расстановкою, впервые подав звук. Голос оказался утробным, металлическим, и губы вроде не шевельнулись:
«И с чего бояться тебя? Коли я и смерти-то не боюся».
В казне было натоплено, но не до жары. Государь сиротски прижался спиною к печи, ища у нее благодати. Светеныш с пристрастием вгляделся в глубину палаты: она оказалась куда емче, чем мыслилась снаружи.
«Так вот куда метил. Угодил бы, дурак, в небо пальцем», – ревниво подумал Светеныш о государевой казне, как о своей, и длинною улкой, погруженной в полумрак, двинулся в глубь амбара, прицениваясь к скопленному нажитку. Да, здесь и воздух-то пах богатством. Что-то кисловато-пряное, с тленом. Светеныш жадно потянул носом.
Как гробы, по проулкам высились дубовые лари – в каждом ухорониться можно, и сундуки, накрест кованные, и укладки металлические с золотом и серебром, церковная утварь и посуда от немцев и свеев, да в стенах изуделаны печуры со всяким дорогим скарбом, да с сосудами, да с многоценными древними иконами в сияющих ризах, да с ларцами, изукрашенными персидским камением, да тут же и подголовники спальные, да подголовники дорожные с гурмыжским жемчугом и олонецким, и золотой монетою внасыпь, да тут же всякое праздничное платье, и бархаты, и парчи, и объяри, и атласы, и камки, и тафты, и дороги, и киндяки, и шелки, и зендеи трубами и портищами, да ковры золотные и серебряные, да всякая бабья украса, да вешала и свясла с пушниною от ясачных народцев, сорочки соболей всякой цены, да лис, да бобров и выдр, да куниц и песцов...
Труд земли Русской скопился здесь, чтобы после ручейками вновь растечься по множеству всяких государевых дел, зачинов и затей, в посольские съезды и подношения, на устроение городов и ратное оружие, на прокорм солдату и выкуп полоняников, на жалованье всякому чину и на укрепу Великого Стола. Много золотой крови требуется державе, и она сочится из глухих безвестных погостов и деревенек, из яранг и стойбищ, с тысяч речных посудин и купецких лавок, с рыбных ловов и промышленных становий, из таежных охотничьих лабазов и житных клинов, с ярмарок и торжищ. Золотая кровь беззвучно и нестихаемо должна струиться по жилам Руси, чтобы не застопорило ее молодое сердце. Дай, Господи, укрепы державе, чтобы не терзали ее двенадцать Иродовых сестер, чтобы пореже приходила костлявая Невея, чтобы не схитили власть у кормила три родные сестреницы разрухи: неткеиха, непрядиха и распустиха.
Странно, когда сокровища лежат вот так, внавал, во Споков, одно к другому, потерявши отличку, скудный свет сальных свечей превращает весь скоп этот в молчаливую груду, вроде бы навсегда лишенную услады, прелестей и тепла рук человеческих и трепещущего его сердца. Воистину успокоилась тут рухлядь меховая и златокованая, и сребропозлащенная. Но если прислушаться к царской казне, то можно расслышать слитное горячее дыхание. И жар-то струит вовсе не из печей, наверное? Оттого и парко тебе, Светеныш, вот и распахнул ты полы червчатого толстого кафтана, вроде бы приноровясь что-то ухоронить в тайном кошуле.
Светеныш поплутал и вернулся к государю с пониклой повинной головою. Таких сокровищ бедному Ивашке и умом-то не охитить, а он вздумал по воровской привычке с маху сревизовать их. И-эх! не дала ума мамка, так не научит и лямка.
Пол был клепан из железных квадратных листов с немецкими клеймами, и каждый шаг Светеныша гулко отдавался в землю, в подполья, где, видать, и скрывались тайные ходы в особые царские кладовые. В груди Светеныша ворохнулся слабый азарт и тут же угас.
Но Алексею Михайловичу что за забава выхаживаться над бедным рабичишком, этим земляным червем, коего жизнь дешевле полушки? Иль самого смута поедом ест? Царь, Господа наместник на земле, и вот с последней тварью силится наедине отыскать сродство. Тоже нашел совсельника, с коим можно бы ужиться. Не трудись, государь. А может, предчувствуешь смутно, как скоро объявится много палаческой работы? Вот везут Поморьем святые мощи Филиппа, чтобы избыть Иванову кровь, но уже волхвы в глухих углах трубят грядущие беды...
«И последний здесь станет первым Там». От каких соблазнов земных хотел остеречь Господь? Я вот помиловал варнака, а он бы пощадил мою голову, доведись угодить в его руки? Его по суду-то и правде приторочить бы цепью к сундуку и забыть: пусть истечет вор плотью близ золотой казны.
– А я в частом быванье тут, – нарушил молчанье государь. Притомясь, сел за конторку, откинув полы темно-синей однорядки. Рудяного цвета порты вольно натекали на зеленые сафьянные сапоги. Царь состроил ладони домиком над свечою, чтобы сумраком сгладить плоское обличье вора. Сробел, что ли, Светеныш? Но вдруг стянул кожаный колпак, обнажив вполовину обстриженную голову. – Захаживаю сюда, когда грустно мне. Ведь мог бы и застать меня неровен час и припереть?
– Да не-е, – простодушно отмахнулся Светеныш, не принимая царева миролюбия, его утишливого голоса, и оскалил зубы. «Грусть? эко мелет государь. С чего бы это грустить царю?»
– Как не-е... Ты, вор, гляжу, предерзок вельми и ухапист. Не-е. Жаль, не сронили головы. Ты на державное сердце наточил топор, когда скрадывал мою казну. Какой-то шептун навадил тебя? Не сам же решился?
– Князь Тьмы! Я ему душу завещал! – напыщился Светеныш... Вот же изгилье, Христа продал, как вина чарку испил. И каменные своды от кощуны не рухнули.
– С дьяволом спознался? А почто тогда не заступился Князь? Иль без носа ты милее ему, раб?
Светеныш мрачно усмехнулся:
– А на что нос? Я и без носа куда хошь гож. И без носа бабу-то подопру, дак только ой! Всхлипнет да рассмеется. Но топор-то Он отвел. Он. Князенька.
– Не клевещи, богохульник! Это Господь даровал. Гос-по-одь! – вспыхнул государь, на мгновение теряя словесный дар от явных кощунств. И небо-то не рушится, не грозит отместкою на эти шпыньские наузы. – Он миловал тебя, шпынь, за-ради Светлого Воскресения, а я волен отнять. И ныне же, коли захочу.
– А и отыми!.. И захоти. Ежели вольно, – подзуживал Светеныш, не сводя с государя творожистого взгляда: белки студенисто вспухали, грозя пролиться в подглазья сукровицей. Это свет от ближней свечи пытался дрожаще проникнуть через зеницы в самую душу варнака и пробить ее застойную темь. Пламя толстой свечи, стоящей на подьяческой конторке, заколебалось, зашипело, грозя залиться жидким воском. И словно крылья нетопыря восшумели: что-то всполошилось, всхлопало, запищало премерзко в дальнем углу, мостясь на вешалках с мягкой рухлядью. – Чу-у!.. Ты слышь, господине? Князь Тьмы вокруг. Он правит нами. И ты послушник его.
– Не клевещи! Я страшен бываю! – Государев лик покрылся мглою.
А Светеныш вдруг резко, с угрозою просунул руку за пазуху, не празднуя труса, и сердце государя странно, сладко екнуло, как вздрагивало не раз на медвежьей охоте в тот краткий миг, когда ярясь вздымается лесовой зверь на задние лапы, обдавая государя густым вонючим утробным жаром. Вся кровь вскипает тогда, и жизнь, нагаданная чародеями, становится куда слаже.
Лишь на мгновение подумал государь о ноже, висящем на кожаном терлике, и весь напружинился, невольно ухватился за ножны. Вот она, смертушка! Гос-по-ди-и!
Но Светеныш с ухмылкою достал из-за пазухи бязевую ширинку, размотал ее неторопливо и качнул на раскрытой ладони желтоватый мосолик, чуть крупнее указательного пальца. Двадцать ночей с большим терпением варил Светеныш в печи черную одношерстную кошку в чугунном котле, пока-то не истаяли все кости, кроме вот этой, коя и делает владельца ее невидимкой. Две купецкие лавки средь бела дня взял Светеныш, не зная помешки. И тогда покусился на государеву казну, чуя силу.
– Это чего? – простовато спросил Алексей Михайлович и поднялся из-за стола. – А ну, отдай государю. Из казны что схитил?
– Да всего живота твоего, государь, не хватит, чтоб купить мою косточку. Это кость-невидимка, дар Князя Тьмы... Вот сдумаю и стану невидимым, хочь смотри во все глаза.
– Ну-у. И взаболь-то сдумай. – Царь искренне, охотно поверил Светенышу. – Ежели правда, откуплю. Чего хошь возьми. Шепчи, а я подожду. – Алексей Михайлович отвернулся, немного погодил, глядя на полицу, где стоял угодник Николай, сотворил молитву. Обернулся. Светеныш стоял в прежнем своем положении, избоченясь, приотставя вперед правую ногу. – Дак что томишь-то, заплутай. Иде-же сила твоя?
– Не буду, коли на службу берешь. – Светеныш размахнулся и забросил кость-невидимку за лари, в темный угол. Там опять всхлопало, застонало, завозилось, голубой всполох встал столбом к потолку.
– Топор наточил, и быть тебе отныне с топором казну государеву хранить. Не затомишься?
– А то-о... Живо бошку сроню. Чего жалеть-то ее. Это ж как милость сотворить. Чем тут мучиться да грешить, спроважу к Господу. Поди, скажу, к сахарной голове, к медовой кадке. Хлебай да меня чествуй.
Эта ревность в голосе, истекающем из утробы, этот тонкий, подковою рот устрашили государя больше самих слов. Он неожиданно пошел на выход, бросил через плечо:
– Чего хошь бери. Я стороже накажу...
Дверь тягуче заскулила, лишь на миг показалась кулижка зеленой травы и пропала. Повернулся в скважине ключ.
Опомнился Светеныш, со свечою в руке долго ползал средь ларей и кадей с серебром, отыскивая кость-невидимку. В одной из печур открыл подголовник прикроватный, полный земчюгу. Жемчужной ниткой стянул шею, пошарил глазами железный костыль в стене, а не найдя, опустился на пол, устроил удавку к ручке сундука. Земчюг не холодил кожу, но словно бы живое что потекло в грудь, наполняя слезливой жалостью. «Вот возьму и удавлюся», – завсхлипывал Светеныш, надсадно жалея себя, но глаза оставались сухими, жаркими до щеми и рези, словно бы в слезницы насыпали песку. Вот и душа-то иссохлась, как пустынь, иссяк родник. Забыл Господь-то, вовсе забыл. А ты приголубь, Создатель. Дух Святый, обними меня. Дайте внити в Царствие Божие.
Светеныш плотно защемил глаза и обреченно повалился на бок. Но лопнула нитка податливо, даже не прободив, не защемив шеи, и земчюг просыпался на пол. «Ты продал душу диаволу, и нету тебе смерти до сроку», – восшумело в амбаре. Последняя свеча, дотлев, пышкнула, угасла, и казна погрузилась во тьму. Светеныш подложил под щеку кулак и сладко уснул. Утром стрелецкая вахта разоболокла Светеныша донага, и в рот глядели, и на четвереньки ставили, но ничего не нашли. Казначей доложил государю: де, кат Ивашко Светеныш на службу царскую изъявил добро, но просит за нее лишь неразменный рубль, чтоб в лавке брать чего душе надобно за так, и рубля чтоб не менять.
И отковали Светенышу неразменный серебряный рубль с царскою титлою и его волею, размером вдвое больше противу обычного рубля.
Глава семнадцатая
...Что за ветер тревоги подул в русские сени? Вроде и листа не колыхнет, вроде бы повис, как распаренный в июльскую пору, но ведь сквозит же бедою неведомо откуда. Вот, говорят, де, пьянчлив, и темен, и дремотен, и незатейлив, и ленив, и простец русский человек и, де, цена ему за дюжину – грош. Но гляди: лишь приоткрыли волоковое оконце в запад, чтобы промыть застоялый воздух, а уж неведомо отчего, без видимой причины, вдруг затосковал православный, чуя неизбывное худо, и стал приуготовляться к концу земному. Так что же это за душа русская, одетая в брони безвестной медленной жизни, покрытая коростами столь незавидного и спотычливого житья? Еще ж и грозой не загрозило, да где там – еще и пухового облачка не накатило, а уж и запричитало по просторам: быть беде. И толковали книгу о вере записные книжники по ухоронам и кельям, де, егда исполнится 1666 лето, назовется оно звериным числом; тут явится на Русь антихрист Сын погибели, и будет он улыбчив, и медоточив, и ласков, и тих, но с печатию медведя во лбу, и всяк верующий разглядит у него в волосах рожки...
Не зря пасутся ежегодь восточные патриархи близ государя, то и дело ломают такую многотрудную дорогу, спешат на Московию, покинувши по султанской вире агарянские пределы, за дачей и милостию: знают, льстецы, широкое государево сердце. И если вперед-то на рысях поспешают, впусте, меняя на ямах кибитки, то в обрат ворочаются ступью, за охраною, тяжелыми обозами со всяким добром. И пускай, пусть везут на устроение подневольной церкви: богата благословенная Русь и щедр государь, даруя золотным платном, и бархатом, и парчами, и мягкой рухлядью, и ефимками. Си-ро-ты! Одно слово – сироты; и постоянно памятуя, в каком неприкаянном одиночестве и бедности пасется униженная восточная церковь, и в какие тщеты и пагубы сронены патриархи, и как помыкают христианами нечестивцы, устрояя в православных, когда-то великих соборах Цареграда свои конюшни – так от одной лишь мысли о нескончаемых бедствиях греков не только сокрушится сердце слезной печалию, но и сама-то пригоршня, готовно протянутая нищему гостю, невольно наполнится несвычной для запада щедростью...
И неуж с ложной целью улещали патриархи государя, как хитрый лис безмятежного радушного хозяина, чтобы лишь прокрасться в его курятник с сумою, де, во всем православном мире только Русь тверда и неизменна в вере, она щит, бронь и убежище гонимого на Востоке православия. Сам константинопольский патриарх Иеремия торжественно заявлял, что в Москве теперь следует быти престолу вселенского патриарха, что Москва – истинная столица вселенского православия, что она – третий Рим. И что как от солнца щедрые лучи, простираясь окрест, даруют жизнь всякой травинке и Божьей ничтожной твари, так и щедрая русская душа, проникая чувством далеко за рубежи, источает от щедрот своих в немотствующие и алчущие, погибающие сердца своих единоверцев...
Но чу! Уж пятый год с иным словом и умыслом пасется на Руси и Паисий Иерусалимский, и Макарий Антиохийский: они митрополита Никона убедили, что испроказилась русская вера, а церковные книги и чины далеко отошли от греческих, а оттого и разброд в вере, и ересям простор, и душам заблудшим грозит геенна огненная за грешную жизнь. И Никон признал вины и, стоя на коленях, просил прощения у Паисия, и Гавриилу Назаретскому клялся в сыновьей любви, почитая за отеческие напутствия всякое его слово. Греческое сладкое слово и тягучее хвалебное пение нашли убежище в душе Никона и стали крепостью ее. Бедный Никон! И неуж не чуешь ты сквозняка, и какою-то умильной мокротою заслонились твои очи, глядючи на Великий Восток, давно побитый молью неверия и латинских козней. Очнись же, многомысленный монах, и спроси себя: когда и с какою целью были испорчены русские книги, ежели не было на Руси, как в Греции, ни царей-еретиков, ни патриархов-отступников. Давно ли, сердешный, христолюбивый инок, толковал патриарх Иеремия, де, в греческих книгах находится лютое еретическое зелье, занесенное в них латинянами и лютеранами, греческие ученые получали образование в латинских школах, где многие заразились латинством. Искренний учитель Никон, все твои предки шли крестным ходом посолонь вкруг храма вослед за встающим солнцем и вознося ему песню: они следовали по тем природным часам, по коим шествует из рождения в бессмертие всякая ничтожная тварь. И сам Господь завещал шествовать за солнцем, ибо только оно западает в бездну, как в смерть, и вскоре вновь воскресает из провалища, знаменуя бесконечный свет Христа. А где же греки? Они уж кой год побрели супротив солнца, они презрели его, они пугаются глядеть в его очи, они восстали в гордыне и любословии, поддавшись чарам Князя Тьмы. Боясь пройти сквозь тартары вослед за Христом, чтобы очиститься мучительным огнем и вновь возродиться в святости, они, лукавцы и нечестивцы, пятятся от бездны, однако навсегда совлекаемы в нее. Но и Русь-то, латинские собаки, зачем усердно залучаете с собою в погибель?
Несчастный инок, гордоусец Никон, какими льстивыми речами, наузами, наговорами иль стращаниями вырвали греки из тебя признание: «Да, я русский родом, но за греков отдам жизнь». Ты признался в том сладкоречивому гостю в тиши кельи Спасского монастыря, но шепот твой незнаемо, лукаво просочился сквозь каменное городьбище и взошел по земле первыми цветами смуты. Кто-то ослепленный восхитился их чудному нездешнему виду, иной же, более зоркий душою, испугался неведомо чего и принялся яму для себя вырывать, и гроб готовить, и саван одевать, и возлег на одре, – воспевая псалмы и ожидая Господнего суда... Ведь антихрист уже на дворе, уже переступил ворота, это он принес страшную весть на Русь: де, ты и крестишься не так, и молишься не тому, и читаешь ересь.
А про залученного в сети Никона послал патриарх Паисий Алексею Михайловичу лист, где хвалил того: де, полюбилась мне беседа его, и он есть муж благоговейный и досуж, и верный царствия вашего; и прошу, да будет имети повольно приходити к нам беседовати по досугу, без запрещения. И подарил Иерусалимский Паисий, уезжая, мантию из восточных мест, а вскоре же для зазирания послал наместо себя Назаретского митрополита Гавриила, чтоб тот неустанно и неотлучно был возле Никона и пекся о душе верного богомольца, о богоспасении Руси...
Ой, государь, да и ты-то с какою легкостью уловился в Паисиеву мережку: не зря глаголет московский люд, что смотрит царь из греческой горсти, отравлен ядом медоточивых льстивых речей, умасляся сердцем. Паисий пел, а духовник Стефан вторил, что дело не в букве «аз», за кою якобы и помереть должно, как вопят русские пустосвяты, но суть в вере; и как бы ладно хлопотал Паисий вкруг царя, ежели бы во всякой мелочи вы с нами подобны были и неразлучливы, с благоговением чтя наше верховенство... И складывая государевы персты щепотью, унимая их тщетную дрожь, научал многознатливый наезжий грек: «Мы имеем древнее обыкновение по преданию поклоняться, имея первые три перста соединенными во образе Св. Троицы... А двумя персты кстятся лишь еретики-ормляне, да вы, русские, изменившие по своей косной простоте благоуханному крину веры, что извечно цветет в золотой Софии Царя-града...»
Ой, остановися, государь, не осеняйся; ты купился злокозненной простотой явного, поддался хитрому наущению, закоим прорастают дьявольские рожки чужебесного лика.
Но окстился щепотью Алексей Михайлович, ни о чем не помысля, позабыв вдруг древлие отеческие обычаи, ибо музыка греческих словес затмила язык родины и была куда притягливей, пьянее хмельных медовых питий.
В тот вечер видели над Москвою падучую звезду, хвост ее тянулся в полнеба. И загадали православные беду.
...Да в те же дни попадал в престольную с мощами Филиппа Соловецкого митрополит Никон. И в одной колымаге с ним ехал в Москву Арсений Грек, переменивший неведомо зачем множество вер, соглядатай и лазутчик папский, вызволенный Никоном из соловецкого застенка. Долга, изнурительна дорога из Поморья, и как скрасил ее тонколицый грек со жгучими маслянистыми глазами, читая Геродота на греческом и тут же толмача древний истории на барбарский русский язык. Опираясь локтем на серебряную раку со святыми мощами, принакрытую ширинкой, Арсений прислонялся к митрополиту и целовал край его дорожного плаща, подбитого куньим мехом.
Чавкали копыта в дорожной грязи, едва тянулись кони по хлябям, часто увязивая колымаги. Но не странно ли, что вослед за митрополичьим обозом по окрестным затененным выселкам, печищам и погостам невесть откуда являлись лжеучители, проповедуя неустрашенно: что нет на Русской земле истинной церкви, что та церковь, что называется православною, и не церковь вовсе, и таинства ее – не таинства, а скверны, и храмы – не храмы, а конские стоялища, и потому не должно ходить к причастию, венчаться, поклоняться иконам и четвероконечному кресту...
Откуда, из каких невидимых облак вдруг высеивается на землю этот морок гибельных сомнений?
«Россияне согласятся скорее уморить, нежели отправить своих детей в чужие земли: разве что царь их принудит. Они думают, что одна Россия есть государство христианское, что в других странах обитают люди поганые, некрещеные, неверующие в истинного Бога, что их дети навсегда погубят свою душу, если умрут на чужбине между неверными, и только тот идет прямо в рай, кто скончает жизнь свою на родине...»
Отказал Алексей Михайлович дядьке своему боярину Морозову, не сел за шахматы, но после ужны уединился в кабинете, умостился в углу палаты на трон, нахохлился сычом. Смотрел в потемневшее стекло, забранное, как соты, в медную кованую решетку, а видел ката. Что за блазнь? вора в казне государевой заключил с каким-то неясным умыслом, а сейчас вот в груди томление и испуг. Спозаранку откроют дьяки Казенную палату, а в амбаре пусто. В землю истек варнак, иль источился через подволоку, иль сквозь решетки утянулся в нитку, как прохиндейка-мышь? Не это ли и загадал государь? Если есть слуги антихристовы, значит, уже явился в мир Князь Тьмы; явился на Русь сеять смуту, баловать и вводить в искушение, а церковь вдовеет, и народишко начисто испроказился...
Отчего же, государь, ты сбледнел вдруг и кровь отхлынула с лица? Иль помстилось, смерещилось в сумеречном дальнем углу палаты, и чья-то тень отразилась в окне. Вот как бы множество рук прободилось сквозь соты цветных веницейских стеколок, в который раз утаскивая в смерть бедного боярина Плещеева, отданного тобою московской гили. Казнокрад он, мздоимец, расхитник государева добра и потатчик злоумышленнику и вору! Таким нет милосердия! Такого блудодея и лихоимца и на том свете заставят из веку лизать раскаленную сковороду и баниться на огненных полатях!.. Но тогда отчего, государь, не позабывается его седая бритая голова и печальные усы, обвисшие вдоль безвольно растекшихся губ, и молящие милосердия по-собачьи желтые глаза, и протянутая к тебе растопыренная длань, унизанная перстнями; а дюжая рука посадского из кузнецкой слободы уже охапила Плещеева за соболий воротник, подернула к себе, как безродного щенка, и тащит прочь от спасительного Красного крыльца на Болото к палаческой колоде.
Не слышно, о чем молит несчастный, но каждый на площади гилевщик неведомо каким чутьем сквозь ор и гам разобрал кротко сказанное государем: «Я отдаю вам в руки вора и отступника. Казните его!» И палач с наточенным сияющим топором, в червчатой шелковой рубахе и с намасленными воронеными волосами выступил из застенка. Но куда там... Сотни жадных торопливых рук суматошливо распоясали, живехонько ощипали боярина донага, вытряхнули из него живую душу и тут же истоптали в един миг прежде властного человека, истолкли, подняли на охотничьи вилы и, отнеся, кинули за рыбными рядами у Москвы-реки в поганую яму на съедение собакам. Но приступили и за Морозовым, за царевым дядькою Борисом Ивановичем, у которого на коленях возрос царевич Алексей, с его уст напитался словесных речей, из его души испия крепость и аромат православной веры... Но орда московская и дядьку востребовала на вилы, гнала его по заулкам и росстаням престольной, травила, как зайца, и, не находя, распалилась еще больше. А боярин тайным ходом попал в опочивальню государыни и затаился под спальным местом, моля Господа о спасении...
Тем временем государь искренне плакал, жалея дядьку Морозова, и слезами своими вогнал гиль московскую в оторопь. Сам самодержец, великий государь всея Руськой земли плачет, моля о подарке. И воскликнул царь: «Борис Иванович был заместо родного отца мне. Так могу ли отца своего кинуть на погибель? Прошу тебя, московский хрещеный люд... простите его, коли любите меня». И передние ряды вздохнули тяжко, жалея и искренне любя государя, но задние всполошники, что толпились у Крома, и по куполам церквей, и что зависли на деревьях и всползли на стену, смешавшись со сторожей, те еще ворчали, подзуживали к новому азарту. Но царева слезная просьба из уст в уста молвою дошла и до них. И скоро рассосался люд, иссяк по затеньям Москвы, по ее задворкам, как привидение и мара, уняв, залив до времени боярской кровью сердечный жар. Но надолго ли? Лишь десять ступеней Красного крыльца отделяли в тот миг государя от кипящего котла, и уже дерзкие взгляды исподлобья вроде бы примерялись к царевой шее...
Есть в народе тайная несговорная сила, к которой не подступиться, не пригнетить и семью свинцовыми печатями. В сущности, его никогда не понять, он живет по своим законам, внешне признав за государем право управлять землею. И просыпается русский народ тоже по своему тайному зову и Божьему промыслу, но не сговору, выделяя из себя атамана и палача, и идет на все опаски и страхи, вытаращив полуослепшие глаза и на все махнув рукою... Де, мы не первые на свете и не последние; помирать, так с дудкой. А бешеному мужику и море за лужу.
Воистину в одном дереве икона и лопата.
И этот вор Ивашко Светеныш, вступивший в сговор с сатаною, не из той ли московской гили? Он не боится даже аидовых теснин, и государевыми желаниями брезгует: а нет опасливее для государства людей, кто дурует со смертью. Да он и Князя Тьмы не устрашился, расплевался; позабыл, грешник, что выше лба очи не растут.
...О чем закручинился, государь? Знать, хочешь перебить мысли, а они по навязчивому заведенному кругу идут, сплетаясь в косицы, и по всякой-то мелочи вдруг прилучают в свой скоп множество дум. Для чего-то же именно сейчас и вдруг очутились на коленях рассуждения серба Крижанича. Из стопы всяких курантов и ведомостей выудил именно эти листы и, поглаживая машинально, ощущал кожею ладони бархатистую шершавость толстой серой бумаги. Ведь трижды просил Ордина-Нащокина привесть серба для разговору – и все откладывал до другого дня. И сейчас, отвлекшись от Светеныша, помянувши вновь и вдовствующую церковь, и дядьку Бориса Ивановича, и труждающегося в пути собинного друга, вновь пробегал глазами ученые многознатливые листы, что-то особенное выискивая о характере русского человека. И вроде бы соглашался с мнением папского клирика, а душа-то тайно просила другого выгадать о натуре своего подданного. Что вот он и умен-то, и работящ, и смышлен, и непьянчлив... Ах ты, Боже... А ведь и пишет этот серб-папежник как бы о себе, русском по крови и духу.
«... Недостаток в красноречии, леность, пирование и расточительность суть наши природные свойства – четыре первых чина, из которых мы, кажется, сотворены. Наши предавшее предки, еще в поганстве будучи, преклонялись начальному болвану Радигостю, коему в честь пировать и опиваться. А ныне вместо Радигостева праздника имеем две недели святого Николы и масленицу, и всю Светлую Неделю, и крестины, и именины, и поминки, и особенные пиры, и надворные посольские гоститвы для бояр, священников и дворян. И во всех тех случаях всегда упияемся на умор. Да если бы ты, государь, весь широкий свет кругом обошел, нигде бы не нашел такого гнусного и страшного пьянства, яко здесь на Руси. Между тем в более теплых странах гораздо более и упойливого питья испивается, неже у нас. Пьянство меж злонравными порчами и грехами есть наигнуснейшее...
Где причина того предивного пьянства? Мы средни отличаем, а инородники суть лепы и вследствие того дерзки; лепота наряжает дерзость и взгорды. И потому они нас презирают, ничижат, ни за что почитают, оплевывают. Мы некрасноречивы, они языком крепки, говорливы и полны хульных, лояльных, посмешных, ущупливых речей.
Мы косны разумом и просты сердцем; они преполны всяких хитростей. Мы расточительники и пировники, приходу и расходу сметы не держим, свое благо зря раскидываем; они скупы, алчны и все на корысти обращены. День и ночь смотря только, как бы свои мешки наполнить, а наши пиры и гоститвы высмеивают.
Мы ленивы к работе и наукам; они промысельны и ни одного пригодного часа не заспят.
Мы убогой рухляди и мерного жития довольны; они пребуйны, в роскоши и довольствах все утоплены и вовек не насытятся, но всегда завидуют и все больше хотят иметь.
Мы убогой земли обыватели, они в богатых, роскошных странах уряжены, приносят к нам всякие роскошные товары и, яко ловцы зверей, нас прельщают.
Мы просто говорим и мыслим и просто в нашем деянии поступаем, а если поссоримся, опять и помиримся; они же имеют сердце тайно, неискренне, ядовно и образ противоречивый и колкие речи, и что им скажешь, до смерти не забудут, и если единожды поссорятся, во веки истинного мира не учинят, но и после примирения всегда ищут случая к отмщению.
У народа нашего природный недостаток – многопирование, тщеславие и затем идет расточительность. Несчетны люди, что много пируют и имение свое без причин раскидают. А когда им не станет потребного содержания, нещадно притискивают и выжимают бедных подцанников, своего рода племени людей. А к инородникам неблагодарным, огрызливым и бесполезным суть дарливы и рассыпны. Сирахович о таковых говорит: «Кормит и поит незахвальных: а за то горькие речи услышит».
Не знают наши люди ни в чем меры держать, ни средним путем ходить, но всегда по краинам и по пропастям блудят. Ибо у нас владение беспредельно, своевольно, безрядно.
Беда наша жестока в том, что нас иные народы: греки, влахи, немцы, татары на свои стороны влекут, во свои распри вплетают и в нас меж собою невзгоду сеют. А мы по своей глупости даем себя заводить, увлекать в обман. И за иных воюем и чужие рати чиним своими, а между собою себя ненавидим, и враждуем на смерть, и брат брата прогоняет без всякой потребы и причины. Инороднику всячину веруем и с ними дружбу и завет держим, а сами своего народа стыдимся и отвергаем.
А ныне турки и крымцы, ляхи, царь немецкий и сведы нам толико доброго мыслят, сколько волки овцам. И снова нас увлекают в обман, как сами желают...»
А ведь во сие писаное и тебе в упрек налагает серб, и тебя попрекает как потатчика душевным тратам, ибо ты кровь по крови русский и тем же промыслом земным и небесным живешь, и Терем твой почасту полон гоститв и пиров, и погреба твои ломятся от хмельных питий.
Увы, не красную срядную личину, но звериную харю напялил на тебя бродячий серб. Что ж рыло-то твое перекосило набок, Алексей Михайлович? смотрися пуще в беспристрастное зеркало. Потому и видеться с ним не хочешь, ибо не в толк, чего наговорит заморский бродяга. Хотя он мало знает и понаслышке, но многое чувствует.
И Алексея Михайловича осенило. Государь перебрался за письменный стол, отделил от дести лист вощеной бумаги с водяным государевым знаком, поскребся плюснами, обутыми в бархатные с позументами комнатные ступни, и записал для памятки: «Бродячий серб Юрий Крижанич, что полоняником в застенках английского двора, мало знает, но преизлиха чувствует. Обавника бесперечь сослать в Тоболеск и немедля».
...И серб бродячий Юрко, и Паисий с Макарием – отцы церкви, и духовник Стефаний, и дядько Борис Иванович, и льстец Хитров – они что, соединились тайным обычаем? иль повязались нездешней верою и оттого так радеют к перемене народа? Давно ль преставился кир Иосиф, а уж позабыто его наущение: в коейждо стране свои обычаи; не приходит чужой закон в другую страну, но каждая своего обычая закон держит.
...Но где я слышал эту велегласную орацию, что супротив патриарху? де, чтобы переменить народ, надо лишить его природных признаков, постепенно, по частям, не борзо внушая ему новое, говоря, де, что плохо у нас, то премудро в иной земле и утешно. А и следует из этого: напялить на русский лик чужую харю и пустить со святочной звездою за милостыней; закрыть корчмы и кружечные дворы, чтобы не пил, но трудился; одеть в чужое платье; оковать в чужие законы и открыть свободные немецкие торги; облукавить и прельстить завозной роскошью... И тогда всякий народ переродиться в иной.
Но отчего я-то не меняюсь, хотя роскошеством владею в преизлихе, не потворствую утробе и поствую, как мних, и на дно чарки не гляжуся. А я шкурою чувствую, что русский.
...Не в сердце ли твоем и родилось подобное, вынянчилось в ночных муках, Алексей Михайлович?
...Фу-фу. Господь с тобою! Духу чужебесного за версту чую и к поганому платью ношу в сердце страх. Нельзя внити дважды в одну текущую воду; також и не повторить в своем народе чужого нрава. Что нам за дело до обычаев иноземных? Их платье не про нас, а наше не про них. Токмо о вере хлопочу, всех бы агнцев в единое стадо собрать доброму пастуху под начал. Но суждено ли скопиться в единое Христово тело, ежели в пьянстве низко пали и бесу дань платим, и любодеицу чествуем, забывши о будущих муках? А врази, вон они, тьмы тем обступили Русь, терзают Украину, и проклятый униат забрался на великий киевский стол.
И вновь, привыкая, окстился государь щепотью, подсматривая одним оком в малахитовую сверкающую столетию и ловя в себе перемены. Ну царапнуло чуть в грудине иль меж лопаток? словно бы гусиным опахалом колыхнули над левым виском. Ни грозы небесной не случилось, ни иного худа. Да и то, грек Макарий во земном образе Христа пасет овцев своих, он не слукавит, не предаст – пресветлая греческая неугасимая свеща! Всех надобно обнять единою истинной православною верою, собрать под крыло, подпереть державою.
...Ах, многопировники, напойники и бссстудники! Дно ковша хотят увидеть, черти окаянные. Если уж казначей Саввина монастыря запил до беспамятства. Пришлось стрельцов к келейке поставить, чтоб никуда не выпускать, а чернец давай дерзить, поклепы пишет друзьям своим и меня, государя, честит. Он на меня, прелестник, еще и глаз поднял. Вот нынче же и отвещу ему, решил с негодованием государь и засел за письмо. Он любил острозаточенный ставик, но чтобы и не мохнатило бумагу гусиное перо, не загрызалось. Дюжина костышей всегда стояла в серебряном стакане. Государь любил и запах чернил, настоянных на земляном орехе, и аромат тонкой английской бумаги, пахнущей сандаловым деревом. И вообще он любил писать, любил всякое слово, вытекающее по бумаге, когда без всякой связи и усилий вдруг нарождается из немых знаков слово, полное Божественного смысла, воли и государевых желаний. Все сгинет, все истлеет, но лишь светится во времени слово. Аз да буки избавит от муки.
Сел государь за письмо с негодованием и досадою, но слова-то гневливые изымал со дна сердечной черниленки, тайно выхваляясь ими, как драгими каменьями: «От царя и великого князя Алексея Михайловича Всея Руси врагу Божию и богоненавистнику, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею, казначею Никите. Уподобился ты сребролюбцу Июде, якоже он продал Христа за тридесять серебреников, а ты променил, проклятый враг, чудотворцев дом и мои грешные слова на свое збойливое пьянство и пронырливые вражьи мысли. Сам сатана в тебя, врага Божия, вселился, хто тебя, сиротину, спрашивал над домом чудотворцевым да и надо мною, грешным, властвовать? Хто тебе сию власть мимо архимандрита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих Михайловских бить? Да ты ж, сатанин угодник, пишешь и друзьям своим и вычитаешь безчестье свое вражье, что стрельцы у твоей кельи стоят. И дорого добре, что у тебя, скота, стрельцы стоят. Лутче тебя и честнее тебя митрополит, а и у него стрельцы стоят по нашему указу, которой владыко тем же путем ходит, что и ты, окаянный...»
Нет-нет, решил государь, бранить вражину – себя тешить. Оставлю злыдне щелочку для раскаяния...
Ах, этот серб, ущучил он меня в самое сердце, занозил острогою. Ведь и деды наши остерегали: де, душа в пьяном теле, как в яме темной, навозной. «Не реку непити: не буди то! Но реку не упиватися в пьянстве злое. Я дара Божия (вина) не похулю, но похуляю тех, которые пьют без воздержания. Сказано: пейте мало вина веселия ради, а не пьянства ради, ибо пьяницы царства Божия не наследят».
Тайно зреет, да скоро растет. Ужаснулся государь, что с хмельною душою не совладать, из пьянчливого дна выныривает всякий раз сатанин угодник. И не мешкая, как прежде, церковь всю подчинил монастырскому приказу, так и нынче же издал указ. И зачитали его бирючи по стогнам, куда доставала державная рука Тишайшего: де, по всем городам заместо кабаков быти по одному кружечному двору, и продавать вино только на вынос не более трех чарок человеку, питухам близ кружала не пить и не слоняться: в Великий пост, Успенский и по воскресеньям вином не торговати, духовенство белое и черное хмельным не потчевать...
И тогда скоро завелись по всей Руси тайные корчемники, и стали они курить вино в лесных скрытиях, ставить всякие хмельные меда, и варить браги, и наживаться продажею питий истиха, не убоявшись лютой казни. И тогда случились в государевой казне великие протори и убытки.
Глава восемнадцатая
Басовито ударил патриарший колокол в Кремле, ему согласно отозвался Чудов монастырь, а там и пошло частить по всем московским обителям, сзывая православный люд к вечерне.
Молитва нужна человеку, как свеча сидящему во тьме.
Долго молилась Федосья в домовой церкви Пресвятой Богородице Тихвинской, просила о сохранении здравия младенцу Ивану.
Хлеб укрепляет плоть, молитва – душу. Молитва – ключ до сокровищ Божиих.
Вспомнила, что трижды нынче отрубилась с челядью, сенную девку оттаскала за волосы за нерадивость, да после и черта не раз помянула в сердцах. И за эти грехи постановила себе пред сном триста метаний отбить.
Ох-ох... Мудрость женская, аки оплот неокопан, до ветру стоит. Ветер подует, и оплот порушится.
...Где-то благоверный Глеб Иванович сиротеет неприбранный, неутешенный в Великом Новгороде в воеводском дому. Обещался быть на Петров день, но гонца не слыхать. Хоть бы не облукавила мужа девка-простоволоска. Седина в бороду, бес в ребро. Ой, не устоит, христовенький мой, от лукавой чади, не оборонится.
Возревновала Федосья о муже, затосковала вдруг, и жемчужное ожерелье, как змея подколодная, обвило горло. Никогда прежде не блажила по мужу, но вот оплодилась и нет-нет да и сдурит; такой смутою сердце окатит, что одинокая постель покажется хуже могилы.
...Вот она, любовь-то притягная; выказала себя на четвертое лето совместной жизни. Была Федосья допрежь в опочивальне хозяина холодна, как сухостойна в бору, и в середке ничего не тлело, не ярилось. Позвал благоверный под бок, покорно легла, как заповедал Господь: женитесь и плодитесь. Отмиловал – и обратно, вялая, в свою жаркую спаленку под кисейный полог, шитый вошвами. Плывут по струйной кисее живые розовые птицы средь закатных вод.
А ныне Федосью словно бы обмыли гремучим студенцом, и от жгучей родниковой воды остался в утробе неутихающий плотный жар. И сны-то все от беса. Господи, спаси и помилуй...
...Любовь ли то? кто знает. Но лежит на сердце по мужу глухая тоска. Вот тебе и старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня... От обавницы-чаровницы, знать, заимел ту запуку и меня тем заговором накрепко замкнул и ключ вон. Сам-то нынче в отъезде воеводою, а я в смятении, и ум мой нетверд, аки храм непокровен.
Чего нашептал он тогда?
Однажды, взяв хлеба печеного ломоть, вдруг увел Федосью с собою в баню. А там в мякиш налил воску белого, кусок печины, соли отсыпал, волос настриг и тем хлебом обтер пот сначала с правой руки, а потом с левой ноги; и скоблил с ног своих ножом кожу, и взял с парного веника три листа и сделал из всего этого колобок. А после того особливым хлебом и с Федосьи таким же образом пот отирал и колобок сделал и, выйдя из мыльни, неведомо что шептал. Федосья приникла ухом к прорубу, упершись взглядом в ссутуленную спину благоверного, и различила лишь последние слова, когда Глеб Иванович вдруг укрепил голос: «... и кланяюсь я тебе, и поклоняюсь, сослужи ты мне службу и сделай дружбу: зажги сердце Федосьи Прокопьевны ко мне, Глебу Ивановичу, и зажги все печени и легкое, и все суставы по мне. Будь мое слово крепче всех булатов». И, вернувшись в мыльню с неприступным суровым взором, повелел Федосье тот пряник съесть. И подчинилась Федосья. Да и куда денешься: ибо хозяин для жены что глава на церкви. И не диво ли? столько ходили по монастырям – не могли младенца вымолить: а тут как надуло.
Да нет-нет, даже и подумать грех, что наговором мужним сотворился во мне плод.
Вот и Киприян блаженный трубит по Москве, будто он засеял во мне семя духом единым.
...Господи, какая смута на сердце.
Едва взросла, а как старуха старая.
...Из домовой церкви, браня себя немилосердно, прошла Федосья к себе в моленную. Стоят в печурах и на полицах, на божницах образа в киотах, обложенные серебром с гривнами, с жемчугом, с камением, с пеленами. В ризах золотых апостольские лики. Занавески раздернуты. Свещи неслышны теплятся, окапывая воск на лоскутный половик; мерцают голубые лампадки, куря фимиамом; в единственном окне поздние летние сумерки, и если прижаться к стеклу, увидишь заманчивую вольную глубину сада с таинственными закрайками и густой тенью. На полочке у Федосьи особое глухариное крылышко. Каждый образ неспешно поцеловала боярыня и усердно, любуясь святыми угодниками, обмела невидимую пыль с Архангела Михаила, с лика Спасителя, Иоанна Предтечи, Святителя Николы, мягко губкою обтерла Пресвятой Богородицын образ. Вместе с Христом, проникаясь его вознесением, сходила во ад и воскресла вновь. Иконы житий и чудес святых неслышимо освобождали от скверны, легчили душу. Ибо в горних райских садах нет ни печали, ни воздыхания. Там праведники, словно светила сияют. Тихое пристанище всем приходящим от великой скорби земной жизни. Там Свет, там Рай. Там и небо-то не такое, какое видим телесными очами, а как бы вечная, сияющая золотом заря, небо всевечного дня Царствия Христова. Шептала Федосья благолепные, из сердца истекающие слова, обегая взглядом такое нежное, сокровенное лицо Богородицы, часто целуя Пречистую напротив сердца.
...В мире живый, держи правило чернецкое во вся дни.
Потом положила бархатные черные подручники на пол, собралась отбить на коленях обещанные метания, да и раздумалась. Опустилась в креслице около печи, обложенной белым изразцом, и, перебирая пальцами корешок лестовки от зубца к зубцу, сто раз прочла Исусову молитву, а сама взгляда разымчивого, тоскующего не сымала с посиневшего дремотного окна. Встрепенулась зябко, помянула святого ангела Помаила, нощного стража спящим, да святого ангела Афанаила, утешителя человеку, впавшему в печаль, да и святого ангела Рафаила помянула, охранителя всякого путного и странствующего. Нынче вот, на этих днях попадает через леса и блаты в родные домы Глеб Иванович; заждались его, заждались. Дай, Господь, ему оберега от всякого лихого злодея и обавника. Представила Федосья ночной путь, и страшно ей сделалось: помыслился ей Великий Новгород на краю света, и хоромы сразу показались беспечальными и надежными.
...Мал, как червь тленный, и ничтожен человек в ночи под блескучим звездным небом.
Крепок же человек в своем терему.
И куда сразу делась печаль? Молодая, в соках бояроня, хозяйка над многой челядью и свойка государю, вздернувши гордовато нос, ступисто покинула крестовую палатку, душную от благовоний и свечного воска, где столько испроливано искренних слез. Спустилась вниз, подметая подолом летника лестницу, покрытую шемаханским ковром. В проходных сенях подскочил ночной недремотный привратник, без слов подал фонарь. Свеча за слюдяными шибками горела ровно, нетревожно. К доброй погоде.
На крыльце Федосья отстоялась, прислушалась: не скрипнет ли где в терему, не бродит ли кто, полуночный, в хоромах понапрасну со свещою. С огнем на Москве опаско: пожар-лиходей не раз подмел столицу пострашнее татарского хана. Не однажды повыгарывал московский лубяной люд из-за жаркого угля, дурного ума и злого умыслу.
Оттого и озорко белому царю.
И лишь проглянет несколько теплых дней по весне, как тут же отправятся степенные бирючи по Белому городу, и по Скородому, и по всем слободам стучать колотушкою с зычным остерегом: «Заказано накрепко, чтоб изб и мылен никто не топил, вечером поздно с огнем никто не сидел и не ходил: а для хлебного печенья и где есть-варить – поделайте печи на огородах, и на полых местах в земле, подальше от хором, от ветру печи отгородите и лубьем защитите гораздо».
И по воеводскому приказу опечатают избу и баню, и надобно тужить в нетопленой клети, и как студно и немило вдруг, ежели завернут черемховые холода, так частые на Руси, иль падут незваные засиверки с ночным инеем, иль ненастный морок устоится, да к тому случаю, как на грех, вдруг поварня на огороде завалится и горячим ушным не согреться, щец не похлебать, хлеба не испечь и вина не испить. Туго, ой лихо в те минуты православному, и редко кто исхитрится, чтобы втайне нарушить указ.
Кому захочется на свою шею веревку мылить.
И оттого желанен и радостен ведреный день.
А Федосья Морозова сама себе голова, коли хозяин на государевой отлучке. Случись что, греха не оберешься. Есть что наблюдать ей неусыпно. На широком дворе житницы и сушила, погреба, ледники, вонные амбары, клети да подклети, сенницы, конюшни, скотские дворы, поваренные избы да людские. И полно тех запасов в амбарах и погрубицах: и рожь, и солод, и пшеница, и толокно, и сухари; сушатся мясо, солонина, языки, рыба; да в питейных погребах вина бочки да заморского питья ряды четвертей; а на погребницах сыры, и яйца, и масло, и сметана, и сливки, и всякий запас естомый, да капуста соленая и свежая, и постная икра рыбья, да рыжики, репа, капуста, квасы, меда, вода брусничная. А в кладовых всякий сряд и скарб, да праздничная лопатина, да платье повседневное, носильное, да платье дорожное, шляпы и шапки, вареги и ковры, попоны, войлоки, мягкая рухлядь, да меховые одеяльницы и санные волчьи дохи, да медвежьи укрывальницы и оленьи совики. Да в каретном сарае сани, дровни, возки, розвальни расписные санки, да колымаги и каптаны, да кареты от дегов и свеев. А в скотиньих дворах всякое домашнее приплодное стадо и птица. Много добра в господской усадьбе, но и преизлиха всего и надобно, чтобы и боярскую семью удоволить, и челядь (одной дворни, поди, человек с четыреста будет), да частых гостей-пировников, да богомольщиков и путную нищенскую братию, что постится у Морозовых, почитай, через день да кажинный день.
И за всем наблюди, ревностный глаз положи, чтобы не расползлись, не заленивели, ибо без строгого догляда пойдет имение вразброс, враструс, враспыл.
Для сына нажиток, для родной кровинки: есть нынче для кого не спать.
Подальше положишь – поближе возьмешь. Отстоялась Федосья на крыльце. Спущены с цепей британы. Сторожа у всех ворот и калиток, у всяких лазов и перелазов с дубьем. Чего бояться, кого шарашиться? Помолясь, ложись-ка, бояроня, утро вечера мудренее. Темно, звезды наспели, влажным садом пахнет из темени, ранней огородной зелияницей, птицы ворошатся в столетних дубах за конюшнями, кто-то истомно вскрикнул, гулко шлепнувшись в нагретую за день стену. Федосья приподняла фонарь, высветила кулижку стены, карниз, жгучий осмысленный взгляд из вороха тряпья... Фу ты, нечисть: так и вьет вкруг православного. Чу! Всхрапнул жеребец, ударил копытом в стенку денника. Скотиний хозяйнушко проверяет свой нажиток, да чем-то незанравился гнедому, знать, больно искрутил в косицу конью челку. Кто-то с мягким шорохом проструился по траве у крыльца, оставя светящийся след; сердито прогудел подле уха древесный жук. Как странно, тревожно человеку в густой июньской темени перед полуночью. Ты будто окутан в черную кисею, так плотен и душен воздух, напитанный травными благовониями. И как в сновидении, вдруг выхватит настороженный пугливый взгляд обрывок чужой, словно бы загробной жизни, обычно скрытой от света. Это будто угодить по случаю в Потьму и поглядеть ее запретные закоулки...
Но как ты мал, весь обравшись вдруг в ничтожную скорлупку. И как ты черен, ибо не источаешь даже того недолгого света, что испустила проползшая мимо тварь.
И как жадно досматривает чего-то трепещущая, как лист на ночном древе, твоя душа. Но Бог ближе всего к тебе именно в эти часы. Он переживает за тебя, падшего во грехе. И потому бдит пустынный монах в своей келейке, беззаветно сражаясь за душу свою.
...Федосья поводила фонарем под ногами, по волглым от росы ступеням крыльца, боясь оступиться, и отправилась зазирать двор.
Ибо хозяин в дому, что хан в Крыму.
Для пущей уверенности встряхнула тяжелой связкой ключей, висящих на поясе. Как бы на этот зов по деревянному раскату Тверской иноходью проскакал стрелецкий наряд: зычно прокричал привратник у спущенной решетки.
Федосья обошла подворье, проверила сторожу у ворот, каждый замок подергала – не шаток ли. От татя и вора запоры не ухранят: но береженого и Бог бережет. Подергала ворота питейного погреба и житенного амбара, и кузни, и ледника – все под ключом. А сенной-то двор – полый. Брось уголь – и полымя. Ах-ах... Сразу расстроилась Федосья, кинулась искать скотника. Пятунька лежал в розвальнях на клоке сена, беззаботно подложив под голову потник.
«Эй, злыдня! Ну и зловред! – вскричала Федосья, посветила в лицо Пятуньке. – Сибиря по тебе плачет!»
«А чего я, чего? – всполошенно моргал Пятунька, плохо соображая со сна, а узнав госпожу, тут же, в санях, встал на колени, взмолился, ясно представив участь свою. А битому коню лишь лозу кажи. – Ой, матушка родимая, Федосья Прокопьевна, прости! Не вели миловать, вели бить!»
«Знать, на худо задумал, холоп? В распыл пустить? Сам себе и насулил порки. – Федосья еще раз посветила в лицо Пятуньки, увидела взъерошенного, искренне напуганного мужика с сенным натрусом в рыжем колтуне волос. Собралась пожалеть, но раздумала, приказала властно: – С утра явись на конюшню и доложися, чтоб двадцать плетей поднесли. Не научила дурака лямка, так научит палка».
И самолично заперев дверь, отправилась за конюшенные дворы в глубину ночного сада, чтоб и с тылу досмотреть тын, хорошо ли приперты дверцы портомойные да ворота водовозные. А Пятунька тем временем сам себя корил во тьме, не злобясь: «Вишь вот как... С ясного неба да грозы натянуло. Сам, проказник, себя и вини. На кого пенять станешь, коли душа безумна... Голову-то разом обнесло. Помануло в сон, как обухом по темечку. Сон любого богатыря сразит, на землю кинет».
Так успокаивал себя скотник, заново умащиваясь в розвальнях. Ибо насуленное, неотвратимое наказание как бы само собою сымало с души все грядущие грехи.
«Бог не выдаст, свинья не съест», – утишенный, шептал Пятунька, скоро засыпая.
«... Искушают луканьки, строят куры. Петров пост на дворе, а я утробою маюсь, одни скверны на уме. Воистину баба – немощнейшая чадь, острое злое дьяволово оружие, хоругви адовы...»
Федосья сняла с шеи жемчужную повязку, расстегнула на летнике верхние серебряные путвицы, распустила ворот кисейной рубахи. Все тягостно, все жмет, все немило, и в груди теснота, и отчего-то плакать хочется. Господи, взмолилась, прости грешницу и помилуй. Не изжить мне грехов, ибо я самая премерзкая из живущих.
Тропка вилась вдоль огорожки, опутанная вишеньем и смородою. Кусты хлестали по лицу, но было сладко от боли. А сердце так крутит... так немило на душе...
Наволочью незаметно натянуло из-за Неглинной, сулило дождя, доносило окалиной с Пушечного двора и распаренными березовыми вениками от городских бань, стряпнёю от близкой поварни, видно, жарили птицу. Воздух был непродышливый, паркий. Федосья обливалась потом, светя тусклым запотевшим фонарем путь. Федосье почудилось, что ее проваживает по усадьбе кто-то незримый, дозорит ее, и ей вдруг стало стыдно, будто застали за позорным делом.
– Где ты задержался-то? в каких крепях спутался? – вслух помянула мужа и с какой-то внезапной ненавистью, испугавшей Федосью, нестерпимо возжелала благоверного. Так загорелась плотию, словно бы жизни остался один окраек. Окрутил, наслал притягную любовь, старый, а сам съехал в чужие края, не боясь, что покинул молодую бояроню одну. А мало ли боевых соколов вьется? живо обратают лебедуху.
Всех ненавижу, всех, всех... Федосья всхлипнула, топнула ногою, осердясь, по глинистой тропе. Заплакала зло, давясь слезами, не успевая обрать со щек полотняной фусточкой, расшитой цветами. Сорвала с груди пузырь из мелкого олонецкого жемчуга, который с таким усердием низала в приданое еще в девичестве, закинула красу в темень призаборной травы.
И полегчало тут. Как бы злого червя вынула из груди и раскатала ногою. Ах, кабы навсегда. И сразу расслышала неторопливый говор возле водовозных ворот: стража не дремала. Остужаясь росою, не показавшись приворотникам, Федосья пересекла сад мимо пчелиных бортей рядом с шалашом пасечника и вышла к одинокой монашьей клети, где прежде зимовал Кирюша. Бычий пузырь в прорубе светился голубовато, тень наползала на оконце сбоку и замирала. Мать духовная Меланья не спала.
Федосья перекрестилась, поклонилась большим обычаем. Постучалась в косяк рамы, неожиданно робея. «Господи, помилуй», – воззвала осипше.
«Аминь...»
Певучий спокойный голос странно раздался возле лица, словно и не было бревенчатой мощеной стены. Федосья спустилась в приямок у дверки, густо обросший кипреем: кисти цветов доставали плоской крыши, крытой берестом. Проем двери был завешен холщовым пологом. Заградительная молитва монашены пересиливала всякий искус, умысел и нечисть. Входи всяк без камня за пазухой – и будешь гостем.
Меланья сутулилась на низенькой лавочке. Гроба в келейке не было: знать, Кирюша явился однажды истиха, не показавшись бояроне, и уволок его на загорбке. Есть на миру и такие страстотерпцы, что всю жизнь волочат домовину на раменах.
Монашена подняла спокойный взгляд, нимало не удивившись: кроткое лицо ее было желтым от долгого поста, но глаза, обведенные коричневыми тенями бессонницы, ярко светились: из них делась куда-то иль ушла на дно та постоянная вопрошающая пристальность, что обычно досаждала Федосье. Скулы вылупились наружу, нос заострился, но в этой исхудалости обличья Меланья показалась Федосье даже красивой своим глубоким, чистым спокойствием, какое обычно истекает из иконы. Долгие вечера Меланья коротала за рукоделием. Вот и сейчас она, воюя со сном и томя изнемогшую плоть, сугорбилась за работою, при свете свечи обшивала тесьмою лопастки для лестовок. Дюжина вервиц, уже готовая, висела под образами: значит, днями отправится монашена по странноприимным домам, застенкам и тюрьмам дарить лестовки, чтоб страдальцы пуще молились Господу, укрепляя падшую во гресе душу. Была Меланья во всегдашней черной ряске, поверх понева из некрашеной холстинки, на ногах пленицы из лыка, надернутые на босу ногу. Баба да и баба, чего там срядного и видного, чтобы вот именно она однажды выделилась из московской толпы, отыскала Федосью Морозову и плотно прилегла к ее сердцу; приникла вот, да и покорила боярыню до самой смерти. А духовная мати куда выше родимой: она устрояет путь от временной жизни в Господеви вечно цветущие сады.
Легкая улыбка скользнула по лицу монашены: Меланья чуть присбила платок к затылку и испуганно, искренне опасаясь за здоровье госпожи, всплеснула руками, увидев Федосьин летник, намокший по грудь.
– Кабы не заболеть, дочка. Ишь, вся омокла.
Федосья, не отвечая, окстилась образам, поцеловала руку монашены, сроненную на колени, опустилась возле, тяжело вздохнув.
– Ой, дочка, ты вся горишь?
– Горю, матушка, – легко согласилась Федосья...
– Не спуск ли сделали? Много лихих да завистливых. С Пушечного двора да по ветру скинули порчу... Кажинную ночь бродишь по двору, как ведьмачка. Ишь, посинела вся, как снятое молоко. – Меланья отложила рукоделье, огладила гостью по мягко стекающему плечу, тайком приметила разор на груди и вольный распах сорочки, расшитой по круглому вороту. И забытой бабьей тоскою вдруг глубоко поняла Федосью и пожалела ее. – По супругу тоскуешь?
Боярыня согласно кивнула, и глаза ее сразу отуманились.
– Ну будет тебе. Явится твой государь, прилетит ясный сокол. Ты для него сметана с кринки. Поди, ночесь не спит, сердешный, тебя зрит сквозь дареный плат. Томится: верна ли...
– Типун тебе на язык, Меланья. Да я скорее утоплюсь. – Брови гневно взметнула, норки носа раздулись, жемчуг зубов сверкнул под вздернувшейся губою. Крута боярыня Морозова, ой, крутенька. Всю седмицу строго постится, маковой росинки во рту не было, и голос-то попритух, но с гордыней не сладит.
– Ну и ладно, дочка, вот и хорошо, – торопливо, чтобы не завздорить, поддакнула черница. – Знаю, что не потаковница, не блудодеица. В чести выросла да честь и хранишь. А трудно устоять, когда сахарны головы вокруг. Лизнул разок, вот, де, я попробовать лишь – и пропасть.
...Голос-то какой журчащий, так и омывает всю. Нужны ли слова сейчас? кто знает, коли пропадают они, не встревожив. Но певучим, струистым гласом лечится душа. Так и в церкви: частит священница на сулее, бурчит под нос, не вникнуть, что за псалм чтит. Даже ухо прислони к аналою – не понять, говорю. Но если в четыре голоса? Но странно, что в сердце вся песнь духовная умещается тесно, согласно, до слезы и умиления. Ах ты, Господи... Федосья смежила, затенила глаза, расслабилась, как бы опояску внутри себя развязала; и так хорошохонько разжижла нутром, обтекла на лавке. Эй, Федосья-а, не заснула ли, часом?
...Нет, не заспала, ибо сердечко дребезжит суеверно под рубахою, трепещет, ему, бессонному, скорее утро подай. Черница, черница, не смалкивай, Христовенькая, поведи к Господу за собою.
А Меланья почуяла, что ночная гостья умирилась, утишилась, и сразу взяла учительский тон: нельзя матери духовной белицу попускать.
– Ты предо мною, Федосья Прокопьевна, не возносися, не приклякивай и не пререковай. В мире живи, держи правило чернецкое во все дни...
– Прости, матушка. Сызмала поперечная, – повинилась Федосья, не размеживая век. Благостно было ей: взнялась бояроня вместе с келейкою и отлетела тайно неведомо куда. А чернице про то и невестимо.
– Плоть-то, Федосьюшка, обуздать можно. Но трудней всего душу остеречь. В какие заборы ни борони, какую сторожу ни выставляй, но дьявол шшолку всегда сыщет, коли слабину дашь. Такой он пролаза, за версту чует. – Меланья истово перекрестилась, поцеловала образок на груди, поклонилась, не вставая. И пригорбясь, глядючи в земляной набитый пол, вдруг спросила осевшим голосом, словно бы эту мысль допрежь вынашивала скрытно, и вот, наконец, времечко грянуло. – Ты што, Федосья Прокопьевна, никогда меня не спросишь, отчего я в монашки постриглась? Ведь я еще не гриб столетний...
– На все Божья воля...
– Да и то, – согласилась келейница. – Но я-то с великого греха в монастырь пошла. Я человека убила. – Меланья искоса испытующе посмотрела на Федосью.
– Не возводи-ка, матушка, на себя напраслину. Убила бы до смерти, так живую бы небось закопали.
– В гробу мне перевернуться, коли вру. Расскажу я тебе, как было. Сейчас самое время, куроглашение прошло, бесы слетелися. Слышишь, как жируют окаянные вокруг лабазни? А мы их не боимся, верно? – А положок-то при этих словах на открытой двери и действительно подался наоттяг, будто кто просунулся со двора. – Ты про обидящую свечу слыхала? Ежели думаешь кому навредить, ставь пред святым образом обидящую свечу нижним концом вверх и проси: «Переверни так моего врага». Только страшное это дело. Врагу моему не посулю, ибо великая беда может приключиться. – Меланья обтерла ссохшиеся от долгого поста губы концом головного плата, вздохнула с протягом. – Я же, голубеюшка, как и ты, за стариком была. В твоих же годах. Я у него была вторительной женой. И вот муж-то мой с братом своим, мне будет деверь, давай делиться. Досталась нам половина избы да баня. Хорошо долго и не пожили: муж-то вскоре и помри. А ушла я замуж на чужу сторону. Кто защитит, кто заступится? Не нами говорено: хоть за батожок, да на свой бережок. А тут пришатиться некуда. Вдове одна дорога – в монастырь.
Спать повалилась богатой, а проснулась горбатой. Деверь-то в волостной суд на меня подал, стал избу отсуживать. Меня позвали, я и поплелась за тридцать верст себе на шею петлю одевать. Поревела-поревела, чую – худо мне, а куда деться? Мне старшина-то и говорит: де, продай избу деверю за пятнадцать рублей. А я ему: нашто буду продавать, сама где буду жить? А он пристал: продай да продай, и бумагу какую-то сует. Дурная была я тогда, окружило мне голову, я и продала. Не помню уж, как взяла пятнадцать рублей. Выселил меня деверь. Я в баньку жить ушла. Однажды вернулась из лесу, а баньки нет: всю по бревнышку расхитил. И землю мою, три сажени, я ее кажинный год засевала рожью, всю бревнами завалил. Вот и стала я жалиться по властям: и воеводе, и царю писала, да, знать, не дошла до них моя весть. А беды ходят по людям, а не по лесу. И стало мне кормиться нечем, затужила я вовсе. Наломаю в лесу веников, в город снесу да тем и харчусь.
Однове иду с вениками, а Мирон, деверь мой, едет на базар. Я ему и говорю: посади-ка меня, свези в город. Народу-то много шло по дороге, так я не боялась, с одним не поехала бы. Посадил. А я ему и говорю: «Што же, Мирон, долго мы так судиться будем? Долго ты станешь обижать меня, сироту? Смотри, говорю, найду я на тебя управу, поставлю свещу Богу...» Молчит. Пришла я в монастырь молиться, поставила свешу вверх концом перед Царицей Небесной, дак тут и повалилась на пол, сомлела. Монашка подняла меня на ноги, спрашивает: ты что, Меланья, сомлела? А я отвечаю: «Господу жалиться пришла, свешу поставила на обидчика своего». И што ж ты думаешь, Федосья? Вернулся деверь с базара да и слег. Недолго похворал, да и отдал Богу душу. Вот, не обижай сироту. Увидал Батюшка наш вдовьи слезы, покарал супостата. Да только не вем, на ком отметилось, кому легше. По грехам и страдания. Сума на горбу, а грех на душе, с себя не скинешь. Легше мельничный жернов таскать, Федосья Прокопьевна, чем этот грех замаливать. Незамолимый грех-то гнетет выю к земле. Чую, идти мне по смерти в кипящий чан со смолою... Если будешь кому смерти сулить в сердцах иль по чужому наущению, вспомяни черницу Меланию на тот случай. И отверзешься от греха.
– А кому сулить? – отмахнулась Федосья, не в силах разомкнуть глаза. Спала ли опойно, иль дремала под тягучий Меланьин сказ, иль кочевала по неведомым палестинам? С превеликим трудом, озираясь с надеждою, что окрикнут вдруг, остановят, она с неохотою возвращалась в келейку. – Где враги-то мои? Не твори – и не упадешь. – Боярыня, внезапно озябнув, запахнула ворот летника, стянула закоченевшие пальцы на горле. Вспомнила про жемчужную повязку и застегнула ее. Меланья же с грустью следила за хозяйкою, как за дитем безответным.
– Эх-эх, голубушка. Лишь отвернись, загордясь, от Христа и узришь позади врага своего. Паки и паки. Незримые пока бесовские рати пасут нас ежедень и ждут грехопаденья. В ошуюю не спят и в затульях не дремлют. Крадутся, аки тати в нощи, окружают зимовейку латынники и кобыльники, хихикая и глумясь. А мы на них крестом. Не сыскать им силы супротив православного креста... Становись-ка, Федосьюшка, дочерь моя, на колени, да сотворим мы метания Господу нашему, Сладчайшему Заступленнику...
Мелания положила на утоптанный земляной пол черные бархатные подручники (подарок Федосьин), опустилась перед образами. Федосья же, не чинясь, встала на колени подле матери духовной.
Глухая ночь навалилась на Москву. Но в убогой келейке молились две женщины. Им было смутно, и они плакали горько, испроливая слезы на убитый земляной пол и не стыдясь их. У монашки лицо шадроватое, курице некуда клюнуть, и в каждой рябинке, как в святом кладезе, скопилась глубинная сердечная влага.
Знать, в те же часы, переживши недавний всеобщий ужас, робозерский монах, закрывшись в своем куту, писал в памятный столбец, почасту отрываясь для молитвы: «1652 года июня в 27 день было тихо, небо все чистое. В селе Новой Ерги по захождении солнца явилось на небе многим людям страшное знамение, о каком никогда не слыхивали. От солнечного западу явилась звезда великая и, как молния, быстро покатилась по небу, раздвоив его, и протянулась, как змий, голова в огне и хоботя, и так стояло с полчаса. И был оттуда свет необыкновенный, и на том свете вверх, прямо в темя человеку, показалась будто голова, и очи, и руки, и персты, и ноги разогнуты, точно человек, и весь огненный. И потом облак стал мутен, и небо затворилось, а по дворам и по хоромам, и по полям, и по земле пал огонь, будто купели горели: люди от огня бегали, а он, будто гонясь за ними, по земле катался и никого не жег, и потом поднялся в тот же облак. Тогда в облаке стало шуметь, и пошел дым, и загремело, как гром или как великий и страшный голос, и долго гремело, так что земля и хоромы тряслись и люди от ужаса падали...»
Глава девятнадцатая
...Пред цари глаголюща и не страшася.
Патриарх – живой образ самого Христа...
1
Ночь, заполночь приехал на новгородское подворье царский духовник Стефан Вонифатьев. Вместе с митрополитом Никоном отстоял повечерницу, а уходя, вдруг присоветовал: де, ежели станет государь зазывать на патриаршье место, то шибко не чинись.
Сознайся, митрополит, ведь поджидал высокой вести? не тебя ли спосылали за мощами святого Филиппа на оток земли, на Соловки? выходит, загодя посулил государь главизну над вдовеющей церковью?
Но врасплох застала весть. Никон вздрогнул и не сдержал довольной улыбки. Он мысленно похулил себя за тщеславность и отвернулся к темному окну.
«Что же сам-то не сел на женихову стулку? – спросил сухо, с непонятной обидой, выравнивая рукою складки суконного полавошника. – По тебе невеста, по тебе хлопочут священницы, ты и паси ее».
Но Стефан мимо уха пропустил намек, блеклым взглядом объял митрополита и земно поклонился, благодаря за честь, прошелестел, как полночный озерной камыш: «У меня, владычне, уж и кости полы, ветер смерти дудит в мои суставцы. Вот и гроб приспел. Какой из меня толк, старого гриба? Отойду днесь, так поставь клырошанить киевских казачат. Сладко поют отроки, словно ангелы...»
Протопоп уже повернул к двери, взялся за скобу, когда Никон, опомнившись, вскочил испуганно, вскричал вослед:
– Нет-нет, Вонифатьич. Только не я!
Стефан неторопливо оборотился, старчески переступая сафьянными чеботками, помогая каповой ключкою. Лицо под темным куколем светилось, как бы сотканное из серебряной паволоки, пепелесая борода стекала по груди, и в ней потонул теплый кипарисовый крест. Никон дыбился под притолокой, головой упирался в дубовую матицу: мала келеица для монаха, давит на рамена. Уродил же Господь детину: ему и орать безнатужно христианскую пашенку, тянуть православную русскую борозду. Но отчего темные глаза без зрака и нет в них света? Иль причудилось лишь в за полночь? У иконостаса свечи восковые жарко горят, играют блики на лиловой рясе и на шелковых, обшитых серебром путвицах, но трепетный огонь не достигает до Никоновых очей. Лишь на мгновение смутился Стефан, заподозрив недоброе, но тут же, отогнав смуту, отбил владыке большой поклон:
«Хошь, на колени падет старик? Зазываю я вместях с государем. И все ревнители в полку с нами. Много званых, да мало избранных, святитель. Ведомо Руси: молитвенник ты и заступленник за скорбных и сирых. Тем и государя под себя подшатил. По весям далеко слух по тебе. Бери, Никон, в жены вдовеющую церковь...»
Митрополит протянул встречь гостю обе руки, как бы оградился ими от последних слов, упредил себе дорогу в отступ. Заговорил утищенно, подбирая в ряд каждое слово. Цветист на речь любомудр Никон и каждым словом притяглив, как природный камень-магнит.
«Как хошь, Вонифатьич. Нет и нет. Весь мой сказ. Во гресех погряз и жажду покоя. И сам посуди, добрый вещун! Прежде иереи были златые по нравам, хотя и служили на деревянных потирах, а нынче мы медные и железные по словам и делам, хотя и совершаем таинство причащения в сосудах златых и украшенных. – И, не сдержавшись, Никон невольно воспалился собственным красноречием. – Гляди, Стефан, какая в Руси перемена? Ты дай мне архиерея, который бы стяжал кротость Моисея и ревность Илии; и я предпочту его всякому кесарю. Но если между нас являются неепископы, а помрачители, недобро живущие, от них же первый есмь аз окаянный, то какой нам стыд, какого ожидать благословения? Предстоятель церкви должен быть светильником, поставленным на золотом свешнике, чтобы быть видиму, как некоторый Фарос и колосс светящийся. Таков подобает нам архиерей – преподобен, незлобив, нескверен, светлее и чище адаманта, который в пламени огня не сгорел, но еще более очищался...»
«Прости, владыко. Пристал я к тебе, как платяница к коросте», – устало, смиренно попросил протопоп. Через два часа служба в Благовещенском, а еще и не прилег Стефан. Да и то, изжился совсем: ляг да и помирай. Не с Никоном ему тягатися: тот, бывает, коли подопрет нуждишка, и трое дён не заспит, и все сияет, как новехонькая гривна.
«Бог простит, Вонифатьич», – Никон благословил ночного гостя, протянул для целования руку, приблизя лицо свое к старику. И увидел Стефан в глазах Никона слезы. Протопоп взволновался, сдернув суконный колпак с ковыльных волос, приник к мужицкой толстопалой руке митрополита. Никон поцеловал Стефана в серебряную редкую макушку, почуяв горьковатое старческое тепло кожи. Как отца родимого благословил, напутствуя в мир иной. Да разве и не батькою в последние годы стал ему Стефаний? Под его кротким, но всечасным призором, под его тихомирным словом возрос, достигнув святительского сана.
«Ну что передать государю? – настаивая, спросил Стефан и, видя, что Никон смолчал, замешкался, добавил, утверждая разговор последним словом: – Молись, владыко, и найдешь ответ у Господа».
...Не покорливым словом, но внезапными слезами митрополита уже уведомился царский духовник о согласии.
Проводив гостя, Никон вознамерился прикорнуть на одну щеку. Из рундука достал перепоясанное ремнем спальное место, раскатил на лавке бумажный тощий тюфак, в изголовье бросил плоскую подушку, набитую конским волосом, снял рясу и, оставшись в портах и срачице, опустился устало на постель, понурясь, кинув огрузнувшие руки промеж широко расставленных колен. И вдруг забылся Никон во внезапном покое, похожем на краткий обморок иль тонкий сон. И было ему видение. Будто церковь горит деревянна о пяти главах. И Никон посреди пламени одиноко тушит храмину, задыхаясь от дыма. Непонятно, чем гасит, ведь в руках ничего нет – ни кокота, ни бадьи с водою, – но, однако, мечется средь куполов, по закомарам, по лемехам кровли, и где ни появится, там пламя вдруг никнет. И чей-то глас тут возвестил ему: «Сынок, родименький, спасай церковь!» А внизу народ без пути мечется, вопит всяк свое, галдит, прижаливая митрополита: «Владыка, занапрасно погибнешь! Сползай, владычне, ино поздно станет!» И снова с небес бысть глас неведомый: «Спасай церкву, святитель!»
Тут Никон внезапно выпал из тонкого сна. Размеренно встряхнул головою: и не ведомо – дремал ли? Поблазнило ли что иль вьяве приключилось с митрополитом и Господь весть дал? Запах пожарища стоит в ноздрях, и пелены дыма слоятся под потолком. Никон потянул воздух: де, не горит ли подворье, часом? Да нет, приуспокоился, лишь пахнет ладаном и сгоревшей свечою, да легким потом истомленной плоти, да горьковатым духом набрякшей в переносье крови. «Молися, и Господь даст весть».
И вдруг всплыло в памяти нагаданное Никону еще в юности вещуном-мордвином, кривым соседом. Пригласил к себе ведун и объявил парнишке, что юность провел в Жел-товодском монастыре за наукою, ночуя под колоколами: «Царь будешь, парень, иль патриарх». Тогда псаломщик Никита Минич принял слова обавника, как шутку лишь, посмешку.
А ведь тлела, оказывается, шаяла в потайке безумная искра, зароненная в сердце бесноватым мордвином. И неуж сбылось?
«Я пат-ри-арх!» – протянул Никон шепотом, еще робея. Он приблизился к хрустальному зеркалу, обложенному таусинным бархатом. И повторил уже уверенно: «Я пат-ри-арх!» Из глуби зеркала на Никона глянули мрачные, без искры глаза с набрякшими веками, смолевой оклад бороды, покляповатый длинный нос с пригорбком; густой тяжелый волос черной волною скатился на вислые плечи. Гречанин какой-то обличием, чужеземец выглядывал из зеркального хрусталя. Полноте, да не этого ли сербиянина метят нынче в патриархи Руси? Досужие языки молвят: де, из волжских мордвин будет, из самых смердов.
«Сынок родименький, спасай церковь!»
Усмехнулся Никон, гребнем из рыбьего зуба ухожливо разобрал бороду на две стороны, расчесал толстый ус: объявились на свет вишенные набрякшие губы. Ой, трудно будет источить, изнурить и пригнести эту природную и богоданную грешную неутомимую плоть...
Ее-то вдруг и захотелось усмирить Никону, обрядить и урядить: будто тестяная квашня, расползлось тело, и живот попер, полился вон из рубахи. Но посудите, откуда в мужике порода? Коли хлеб по хлебу да каша на кашу. Само рыло вопит из саккоса: мужик ты! Куда лезешь во тщете своей, по хилой лестнице цепляешься вверх, теряя всякое разумение? Но коли падешь, стремишь вниз, то сотрясется вся земля от краю и до краю.
2
Никон торопливо дернул за шнур колокольчика, позвал келейного служку Шушеру. Сам митрополит бдит, тут и чернецу не сон. Скор Никон на правеж: живо в подземные палатки на чепь.
Велел принесть сряду для мытья. Шушера скоро принес оловянник ведерный с теплой водой, губку, брусок итальянского душистого мыла. «Разомкни вериги-то, – впервые осипше попросил Никон. Шушера мысленно устрашился просьбы митрополита, но перечить не стал: он любил Никона куда пуще батьки родного и благоговел пред владыкой. Никон повернулся к служке спиною, Шушера взглянул на образ Спасителя и перекрестился. Ему показалось, что Пресветлый милостиво кивнул головою, прощая грех митрополиту. – Иззуделось все, спасу нет, – пожалился Никон, терпеливо дожидаясь, когда Шушера отопрет замок. – Ты погляди, сынок, не завелось ли там какое семейство шашелей. Кто-то точит и точит».
От кожаных шлей и цепей на теле митрополита затвердел досмертный след: на левой лопатке железами попритерло, изъязвило, из ранки тянулась сукровица.
«Ой, батько-батько, ты без вериг-то, как конь без упряжи», – вдруг не сдержался чернец и осекся, прикусил язык, ожидая митрополичья гнева. А Никон вздохнул глубоко и кротко, слегка заискивая перед келейным служкою: «Ой, слаб человек. И я таковской... Искушеньям тела своего поддался. Ты, Шушера, никому про то. Так зудит, спасу нет. Иоаннушко, потри губкою, обиходь батьку своего. Пуще, пуще... Видит Бог, зачтется тебе сия милость, коли грешника прижалел во славу сердца своего. Ты батьку во грехе узрел, прости и молися нынче за него». – «Ой, владыка-владыка, неугасимый светильник благочестия! Я за вас не токмо руку, но и голову!..» – захлебнулся восторгом монах, пал на колени в мокрое, поймал руку митрополита и стал жарко целовать.
«Будет, будет... Во отечниках писано: егда в лицо человека похвалишь, тогда сатане его словом предаешь. Воздень-ка на меня усладу телесную и замкни надежно, а ключ закинь куда подале, чтоб не блазнил. – Никон поворочал плечами, удостоверяясь, ладно ли легли вериги: цепи грустно и сыро сбренчали, обнимая монашеское тело. – Нет-нет, – поправился Никон торопливо, углядев в своих словах бесовские уловки, – ты положь его на самое видное место, чтоб ключ укорял меня за слабость».
Хотел Никон поведать служке о недавнем видении и раздумал, отправил прочь. Накинул на себя кафтан, сел на спальное место. В обеих крылах новгородского подворья, во всех келейках и приказных палатах стояла глубокая предутренняя тишина: именно в эти часы молитвенному монаху особенно уединенно и близко к Господу. Сон-то был в руку, Христос весть подал. Но отчего дрожит в сомнениях моя душа?..
Собинный друг, Алексей Михайлович, вот ты заслал ко мне своего духовника с посулами: опередив собор, уведомил, великую честь оказал. Но волен ли ты, великий государь, залучивши под себя монастырский приказ, еще и патриарха подбирать своей рукою? Не того, коей ближе церкви и Господу, а коей слаще твоей прихоти. Не два ли меча замыслил восхитить, милостивец? Иль ты позабыл, часом, Константина Великого, что отдал папе Сильвестру Рим со всею вотчиной в управление, вручил ему меч духовный, а сам же удалился в Константинград, уставя при царе меч мирской...
Но глава церкви славен не токмо сиянием, но и страданием. Какой же я благочестивый страдалец, коли от малой язвы до слез убился. Снести ли мне страсти святого Феодота, епископа Киринейского, коего и ногти железными строгали, и на одре железном раскаленном распинали, и гвозди вбивали в нози, а он все стерпел, священномученик, непрестанно обличая князя-безбожника и кумирослужителя. И тот, видя стойкость Феодота, посрамлен бысть и спустил епископа на волю в свой град Киринец.
...Где много власти, там велегласна, обильна слава правителю и почасту искушения. Там пасется возле сатана с ордою.
Страдания земные искупаются славою небесною; мирская же слава по смерти заслоняется забвением.
Господи, Господи, дай сил устоять пред соблазнами мира сего.
Господи, дай мне сил и терпения замирить два меча, что бьются в душе моей, и вогнать их в усты...
3
«1652 года июля в 22 день двенадцать духовных мужей объявили патриархом Никона, и Казанский митрополит Корнилий возвестил о том государю...»
Алексей Михайлович с бояры пришел в Успенскую соборную церковь. Были с ним боярин Бутурлин, да окольничий князь Ромодановский, да начальник Земского приказа Богдан Хитров. Государь влажной губкой протер образ Богоматери, поцеловал край ризы, самолично оправил фитиль елейницы под иконою, возжег свечу и деловито, придирчиво, словно бы настоятелем был, а не самодержцем, оглядел весь собор. И остался доволен лепотою, блеском и сиянием его. Несказанный, предвещающий долгое счастие тихий свет струился с горных вышин, и, томясь радостию, упорно скрывая нестихающую улыбку, государь возвел взгляд поверх паникадила, в голубую, со звездами глубину купола, откуда досматривал за ним строгий, неприступный взор Саваофа. Был государь в повседневном летнем шелковом зипуне с собольей отрочкою, в горсти жал парчовую дворцовую шапочку, чувствуя, как от волнения потеет ладонь и перстень с яхонтом впивается в насыревшую кожу. «Марьюшка-то как рада. Будто младенец, воссияла», – вдруг вспомнил царь о супруге, но эта случайная мысль не помешала торжеству, но лишь наполнила смысл происходящего особой глубиною. Воистину любимого отца, что желанен и первым людям Руси, и челяди, и рабишкам, ныне обретала вдовеющая, тоскующая церковь. Приложившись к раке святого Петра, государь встрепенулся, вышел из алтаря на амвон и, не мешкая, спосылал за Никоном на новгородское подворье митрополита Сарского Серапиона с почтенною дворцовой свитой по чину и уряду. Он с нетерпением ожидал, когда распахнутся врата притвора и в голубом разъеме его, осиянный солнцем, через порог вступит будущий патриарх.
Но послы вернулись ни с чем и были тут же засланы вторично. Никон не захотел прийти.
Послы и в другой раз вернулись ни с чем. Никон не покорился. Тогда были спосыланы бояре в третий раз с наказом привесть новгородского митрополита против его воли...
Боярин Зюзин по дружеству весть подал: случилось жданное – на соборе избрали Никона в святители. Томясь, подглядывая в оконце посольство от государя, Никон впервые со вчерашнего утра поел рыжиков гретых да горшочек кашки смоленской, пирог косой с луком, кислыми штями запил. Велел Шушере подавать выходной убор, вдруг засуетился: служка принес из ризницы митрополичье платье – рясу лиловую шелковую, мантию червчатую со скрижалями, белые плисовые чулки и сафьянные зеленые сапожки. Никон заперся в келье и, мучаясь непонятно, страшась неведомой кары, в одном исподнем тяжело опустился на лавку, перебирая четки, что когда-то низал сам из своеловленого речного земчюга, будучи в иноках Кожеозерского монастыря. Господи, как давно то было, когда жил он в уединенной келье в глухой олонецкой тайболе и всякий проходящий дикий зверь был ему за брата. И вдруг почувствовал Никон себя ужасно старым, изжитым, и сорок семь отмоленных лет помыслились пределом земного быванья. И еще помнилось ему, будто сон, все случившееся с ним, и он много лет постоянно обманывает ближних, уверяя их в какой-то особости своей. И отчего-то люди с охотою на эту уловку покупаются, как карась на червя. Молитвенник он? постник? трудник? начетник и книжник? Да мало ли на миру, на просторах Руси невидимых скромных подвижников, кто изо дня в день до гробовой доски неутомимо трудится во славу Христа. Так почто же он, Никон, подпал под общий глаз? чего так сладко насулил он, что православные с охотою уверились в его духовную силу и славу?
...Видит Бог, гореть мне в аду огненном за грехи тяжкие: ибо нет ничего блуднее и нелепее самодоволия и гордыни. Боже, Боже, прости меня! не хочу славы, но хочу уединенья!
Решился – и тягость с сердца долою; из сундука, крытого устюжской прорезной жестью, что всегда возил с собою, достал иеромонашью суконную рясу, не однажды штопанную, в коей сошел на землю с Анзерского острова, встряхнул ее на свету и, убедившись, не потратила ли где тля, степенно облачился, перепоясался кожаным широким ремнем, голову же покрыл по самые брови монашьей вязаной скуфьей с воскрыльями; меж ног поставил можжевеловый посох с рогами и, утвердившись на лавке, принялся ждать гостей.
Все суета сует, с легкостью думал Никон, все тлен и прах; все в свой час приходит, и все уходит в свой час. И все тщания мира, все мудрствования его не стоят одной тихогласной молитвы к Господу.
...И вот вошли послы зазывать Никона на патриаршество; а Никон изгнал их.
И другой раз заявились митрополит Сарский Серапион с бояры – и был немилосердно изгнан.
«Сожигаешь, владыко, мосток к Господевым плеснам!» – обиженно посулил Серапион, уходя.
И тогда упал Никон на колени перед образом Спасителя, немилосердно ударился лбом о пол, испустил горестный стон: «За что терзают меня, Господи? На радость и величие ведут стражи, а как на муку!»
И тут послышался строгий голос Христа: «Послушайся моей вести, монах. Иди и правь четыре лета!»
В третий раз послы волею царя переступили порог кельи, и митрополит низко, согласно поклонился им. И в монашьем своем одеянии, не замечая удивленных взглядов, отправился в Успенский собор. На паперти же, по обыкновению, Никон подал десяти успенским нищим милостыньку по алтыну. «Молись за меня, грешника», – шепнул он последней христараднице.
...В дверях вырос молодой псалтырник, что стоял на дозорах в ожидании Никона, и, низко поклонившись государю, возвестил всем о спосыланных. По виду вестника все поняли, что Никон смирился. Алексей Михайлович наконец-то облегченно вздохнул, а собравшийся причт оживился. Царь терпеливо, улыбчиво дожидался посередке собора, тесно окруженный иереями, когда в притворе появился митрополит. Дверь за ним осталась отпахнутой, чин, следовавший за ним, замедлил на паперти, и в голубом проеме, припорошенном жаркой солнечной пылью, Никон почудился царю бесплотным, плывущим по воздусям, сотканным из полуденного июльского марева, с жемчужным венцом над головою. «И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Воистину патриарх, воистину воплощенный Христос, – подумалось мгновенно, и государь готов был пасть пред Никоном на колени. Слава Богу, дождалась Русь праздника.
Но с каждым неспешным шагом Никон преображался. Он приближался к царю, пристукивая двурогой можжевеловой ключкою; он явился весь в старческом, сам черный, как ворон; нависшие густые брови скрывали приспущенный взгляд, изредка вдруг вспыхивающий. Иереи смутно зароптали, заметив для себя насмешку и непочтение: ждали Новгородского митрополита, обряженного по чину, а заявился в Успенскую государеву церковь монах. Царь вскинулся было упрекнуть Никона, но пересилил характер, сам шагнул под благословение; от руки митрополита пахло елеем и пергаментом; еще в средних летах монах, но как старец. Царь заметил, что рукава ряски коротковаты и обредились от старости. Он поднял взор, приглашая Никона своею улыбкою ко всеобщей радости; лик митрополита был мертвенно бледен, в обочьях лиловые пятаки.
– Мы заждались тебя, святитель, – мягко укорил государь и попридержал Никона за рукав рясы, схватывая ищущим взглядом что-то сокровенное в его бледном сухощеком лице. Глаза государя приобволокло скорой влагою. У искренних всегда открыт благочестивый родник. Никон-то больше всего и пугался этого вопрошающего взгляда, от которого слабнет и тает суровое сердце. – Ты бежишь нас, яко агнец от волка, страшась его клыков. Как уды тела не могут жить без главизны, так и церква не стоит без пастыря. Мы зовем, а ты с готовностью отзовись: иди и паси овец словесных твоих. – Государь отступил на шаг и широко, с разворотом обвел рукою собор, приглашая в свидетели апостолов, евангелистов, всех русских святых и земную священническую дружину, что сгрудилась за спиною.
Никона что-то нудило сзади, отвлекало слушать: он невольно, противу приличия, оглянулся, поймал нехороший, прилипчивый взгляд спальника Хитрова, его белозубую открытую улыбку, странную в эти редкие минуты всеобщего торжества. Хитров, гордоватясь, встряхнул пшеничными волосами и голубых наглых глаз не отвел.
«Прихильник и лукавец, – подумал митрополит, – пригрел государь лису. Сказывают, с колдуньей знается». Никона скоро повлекло в гнев и последних царских слов он не улучил. Остужаясь, Никон вздохнул поглубже, мысленно прочитал Исусову молитву. От сердца сразу отлегло.
«Кобенится мордвин. Поймал государя на крюк, а сейчас за губу тянет на берег, да и кобенится. – С сумеречной завистью Хитров упорно продолжал сверлить митрополита взглядом. – Сам карась, а думает, что стерлядь». Его вдруг поразило, что дородностью, поставом широких плеч, породою облика митрополит шибко смахивал на государя. «Не брательники ли? Слух-то был... На одну колодку кроены, одним сапожником шиты...»
– Оле, государь! Не мне, неключимому рабу Божью, скоморошничать пред тобою. Видит Бог, твоими молитвами лишь и живу, твоими благими милостями удивляюсь смиренно и каждоденно прошу у Господа мира державе и здоровья царственному дому твоему. Не гневайся, государь, и отступи от слов твоих!
Алексей Михайлович вдруг растерялся, почуяв внезапный подвох, румянец схлынул с лица, и, чтобы скрыть внезапную кручину, похожую на смертную тоску, он прищурился, призатенил глаза пологом ресниц. И будто ослеп самодержец, пришибленный отказом собинного друга. Как знать, может, в этот миг впервые темный вихорь сомнения пронесся в душе государя, не оставив видимой пометы... Но ты-то, Никон, зачем клусничаешь, какой привады сладкой еще желаешь, чтобы приманили тебя, коли пред самим ликом великого государя строишь всякие куры и проказы? Ведь была тебе спосылана Христова весть, так что же ты медлишь, тянешь канитель? от каких сомнений колеблется твой разум, чуя тайную угрозу? Явился по зову собора, чтоб возложить на чело патриаршью шапку, так и не отступай!
– Иди, Никон, иди! Мы всем собором тебя просим! Государь с нами, вся церковь кланяется тебе, – восшумели иереи.
...Слышишь, и тебя, Никон, возгласили государем, склонили выю.
Иерархи чтят, но отчего за спиною бояре угрюмо молчат? Где Вонифатьич, Ртищев и Зюзин, куда запропастились они? Впервые в патриархи мужик метит; отныне мужичье слово, укрепленное Христовым знаменем, станет направлять знатную жизнь, руководить ею; так закоим родовые предания, старинный корень и скопленная гобина, и власть, ежели мужичий сын встанет вровень с царем и взгромоздится над боярством, затмит собою их величие? Ну инок он, иерей, мних, святитель! Но ведь мужицкого отродья, а потому и весь норов смерда, смутителя, постоянно хотящего воли. Непоклончив и с потайным умыслом.
Вольному воля, спасенному рай. А тут явился предстатель, коему при жизни и воля, и рай. Явился мужичий Бог, живое воплощение самого Христа. Гордоусец, смирения искреннего не познал, и еще не воссев на патриаршью стулку, уже требует поклона.
Ндравная тишина установилась за спиною Никона, бояре ловят царское слово. И неуж государь не подымет голоса, не приструнит спесивца? Вон куда, на экую высоту взнялась церковь, что и царя не чествует...
– Ты за што нас невзлюбил, владыка? – с натугою спросил государь. – Иль обидели чем ненароком?! Так скажись. Иль напраслиной оговорили?! Так прости. Иль навели нарошный извет? Так сломи сердце, Никон.
– Нет-нет, великий государь. Никто не чинил на меня напраслины, премного всем доволен. Да и дивно ли надо усердному богомольцу?.. Не осилить мне церкву, не поднять. Кто примет на веру советы неразумного монаха? Всяк на Руси извечно живет по натуре своей, науки шибко не любит, чтоб нос кто совал, вот и не совладать мне с разбредшимся стадом словесных овец Христовых. Не упасти их, как хошь, государь, не упасти. За всяким древом дьявол ухоронился. Так и норовит схитить заблудшую душу. Не буду, государь, и не проси больше! Последнее мое слово! – И тут испугался Никон, что перешел меру. Царь – наместник Божий на земле, он Господом спосылан, чтобы направлять неразумную челядь. И до какой поры можно ему перечить? Разгневается, изгонит владыку прочь из церквы – и будет сто раз прав... И не сердцем, но бывалым умом вдруг понял Никон, кто желается быть в патриархах. Это на долгом иноческом пути взобраться по стеклянной горе к самим Христовым вратам и узреть его очесами и облобызать плесны. – И кто я такой, чтобы быть в первых? – продолжал Никон, слегка передохнувши, он возвысил голос, тайно любуясь своей речистостью. – Вон они, истинно первые, наши отцы лежат в храме Богородицы, разумнейшие из разумных, наши святые отцы Петр и Киприан, и Фотий, и строитель Филипп, и чудотворец Иона. Возможно ли мне даже мысленно приблизиться к ним? И помыслить-то чудно, что я решуся вдруг взять в руки наследный посох святителя Петра. И мне, ничтожному, отягощенному грехами, встать в один ряд со столпами православной веры? Раздумайтесь, милостивцы, отягощенные земной властию! Если священник, призывая Святого Духа, прикасается устами к рукам владыки, то какой он должен быть чистоты, какого благочестия? Какими должны быть руки, служащие такому таинству? Каков должен быть язык, произносящий такие слова? Не всего ли чище и святее должна быть душа, приемлющая толикую силу Духа?..
Не чаровник ли Никон? искуситель и обавник? Из каких недр истекают его слова, коли от них податливо расплавляется душа и хочется, подобно жертвенному агнцу, покорно брести тем путем, куда укажет длань Никона. И слеза всегда близко-близко, в самом устье источника, и готова легко пролиться...
– Доколь мучить будешь? – уловив заминку в речи Никона, воскликнул царь, пал на колени и заплакал. И бояре, и священство, и весь народ, притекший в собор, повалились ничком на пол, многогласно упрашивая Никона в пастыри.
...О, благословенная минута! Испытав ее однажды, можно и помирать! Кто из смертных на Руси удостаивался подобного царева смирения? Можно горделиво насладиться почестью, но можно и устыдиться.
Лишь на мгновение промедлил Никон, растерявшись, дал потачки гордолюбию. И тут же, отрясая сердечную скверну и тайное злоумышление, пал на колени возле государя, вымоленного иноком Елеазаром, поцеловал его в шелковистые, льющиеся теплые волосы, заплакал без натуги, орошая слезами цареву маковицу, подхватил самодержца под локти и попытался поднять с колен. Но Алексей Михайлович упирался, испытывая в таком смирении особую сладость. Простец государь: сам пал на колени и всех соборян без меча сронил наземь. А теперь решись, подымись-ка первым, и сразу угодишь в супротивники. Где Шушера? где Иоаннушко Неронов? где Вонифатьич? где Славинецкий и Сатановский? где те книжники-чернцы из московской штамбы, чтобы описать для памяти это мгновение? Охапились собинные друзья, и голова государя на груди Никона; словно бы блудный сын вернулся к отцу и получил прощение. Дивитеся, милостивцы и многознатцы, и любомудры! Царь русский у мужика вымаливает милости. Да у какого русского тут не займется в слезах душа? что за каменное сердце нужно иметь, чтобы не заплакать желанно?
И вдруг за спиною у Никона раздался знакомый умильный голос: «Свет наш! Свят свет! Всякому костельнику грозное око! Владыка, не томи паству свою! Отдай слово».
Эй, кто насмелился нарушить соборную молитвенную тишину холопьей дерзкой просьбою? Гугнивый земляной червь, источающий лайно, вторгся в царскую печаль. Никон гневно обернулся, встретил искренний, небесно-голубой взгляд Богдана Хитрова. На подзавитых, ублаженных розовой водой рыжих усах спальника скопились слезы. И тут дрогнул Никон, ибо от немилого человека услышал сердечный призыв. Такими устами обычно глаголет сам Господь.
– Отдать слово не диво. Честь бы не потерять, – откликнулся Никон. Получилось сварливо, с умыслом. – Ну, ежели молите, не встану на мир, но подымусь с миром. Знать, Христос того возжелал. – Никон умолк, но весь собор отозвался облегченным выдохом. А народу уже густо набилось; и вся бы Москва сошлась в государеву главную церковь, кабы вместились пасть ничком пред царские очи.
Алексей Михайлович осушил глаза ширинкою и поднялся с полу. И Никон, опираясь на посох, выпрямился, обратился к богомольцам поначалу кротким голосом, слышимым лишь царю:
– Бежать бы надо мне от пастырства, но Христос улучил меня на московском крестце во дни всеобщей грусти, и вы, верные молитвенники и печальники, собравшись в Богородицыной церкви, решили повязать меня оветным словом. – Никон упорно глядел куда-то поверх Алексея Михайловича. Лицо его осеклось, построжело от волнения, но с каждым новым словом наполнялось упрямством и властностью. Не смотри, государь, на Никона с такою любовию: он обворожит тебя и ослепит. – Заколебался ли я? Да... Ибо смирен преизлиха, неразумен и слаб, как беспомощно малое чадо пред лицом грядущих земных бед. Возгордился ли я? Да... Ибо слаб человек пред плотскими мечтами и воздыханиями. Дьявол пасет нас неустанно во дни и нощи, и нужно велие сердце, чтобы устоять от его ков и чар. Стою я пред вами, будто повапленная скудельница с истраченной плотию, но увы! Странная радость возвышения и меня вдруг проточила сквозь, ожгла, опалила, оплела напрасными путами. Я не горазд на орации, и ученостью многие бы, здесь стоящие, затмили бы меня. Но... Вы нужою привели меня сюда, чтобы повенчать со вдовеющей церковью и поставить на Христово царство. И поначалу, еще не давши согласия, я благодарно поклонюсь государю, что он не погнушался моим иноческим именем. – И Никон отдал честь государю большим поклоном, достал рукою каменного пола; и так замедлился на какое-то время со склоненной головою, словно бы разбил его паралик: черные воскрылья клобука скатились на грудь, шалашиком перекрыв лицо. Когда разогнулся Никон, жаркий смуглый пот пеленою покрыл его щеки и лоб. – Я желаю тебе, великий государь, чтобы Бог распространил твое царствие от моря и до моря, и от рек, до конца вселенной. И воссияти тебе, самодержцу християнскому, яко солнцу посреди звезд. И пусть меч твой будет всегда готов на неприятеля веры православной. – Никон перевел дыхание и, другорядь поклонившись, вдруг накалил голос. – Православные, вы знаете верно, что мы от начала приняли святое Евангелие и царские благочестивые законы из славной Греции и потому называемся христианами. Но на деле мы куда как далеко отшатились от заповедей и догматов святых отцей, испроказили истинную греческую веру, переиначили на свой домашний лад. Оттого и живем по грехам и во блуде погрязли! И еще насмеливаемся называть себя христианами! И если вы упорно призываете, слезно молите меня в пастыри ваши, то, не выходя из собора, пред Христом Господом нашим дайте нерушимое слово, обещайте неложно послушатися Нас во всем, яко начальника и пастыря, и отца краснейшего. И если поклянетесь, я не смогу более отрекатися от великого архиерейства.
...И впервые на Руси царь-государь и бояре, и освященный собор били челом Никону и дали клятву на святом Евангелии послушатися патриарху во всем.
Через три дня в той же соборной Успенской церкви Никон был поставлен в патриархи. Святители дали ему настольную грамоту за своими подписями и печатями: «... С великой нуждою умолиша его на высочайший святительский престол». Уповая на клятвы и нерушимое слово, Никон, однако, памятуя о человечей слабости, заручился с надеждою той архиерейской скрепою, что неволит всякое сердечное шатание и измену в мыслях. Всегда в укоризну и оправдание оставался крайний довод: де, не я пехался на патриаршью стулку, не я ухапил с гордынею верховную власть, но вы меня приневолили силком, и потому помните от века о ваших слезных молениях. И тут на Стоглавый собор, духовной нерушимой властию коего жил всякий православный на Руси, вдруг наложилось обетное слово, данное Никону, а вековечная присяга покрылась новою. Это что же, братцы? Ныне лишь Никона чтить, лишь ему поклонятися смиренно, отринув главизну Стоглавого великого собора? Ой-ой: одумайтесь, отцы драгие! Знать, не ведаете, что творите, коли, нарушая отеческую клятву, разрушаете мир. И ведь не дрогнула архиерейская рука, не споткнулась о бумагу тростка, разбрызгивая чернила...
Алексей Михайлович поднес собинному другу из своей казны саккос из аксамита (по червчатому шелку шитье из петельчатого золота) весом в полтора пуда: такой убор не нашивать хилому и немощному; по дядьке и платье. Устроил царь для Никона торжественный стол в государевой Золотой палате, по особому случаю выстланной персидскими жаркими коврами: за кривым столом в глубь палаты лавки для властей убраны бархатными полавошниками. Коники для гостиной сотни, что подле дверей, устланы пестрыми сукнами всяких цветов. Под Никоном же узорное креслице с подушкою, покрытой золотым бархатом по червчатой земле. Стол патриарха по левую руку от государя, на сажень отступя, за его плечом стольник в алой ферязи с нашивкою в тридцать три гнезда ловит любое желание. У стольника честь дворянская уходит в глубь памяти на десять колен. Друг иль враг за спиною укрепил настойчивый взгляд на клобуке святителя? Сидит Никон забывчиво, воздев очи горе, и навряд ли кого видит нынче. Худо он ест, да мало и пьет, едва пригубя из чары. Подавали ему блюдо стерляжины свежепросольной, уху и каравай – так чуть отщипнул. Господи-Господи, – нейдет из ума, – да его ли, матерого и уже обрюзгшего, еще в мальчонках скинула мачеха в погреб, чтобы погрызли парнишку крысы; его ли пехала в русскую печь, чтобы выел огонь; ему ли мешала в еду отравы, чтобы до смерти выжгло утробушку? Сохранил Сладчайший, сохранил, издалека наметя службу.
Мостится государь-патриарх на великом месте в шелковой лазоревой рясе, на плечах мантия из зеленого рытого узорчатого бархата с алыми скрижалями, на голове вязаный клобук с серебряными плащами, в обвершии золотой крест с камнем-лалом и двумя жемчужинами бурминскими большими. Эк напыщился, будто рогач бабий проглотил, – подумает, наверное, всякий, взглянув на патриарха. Ослабни, Никон, переведи дух, освободи от тягости сердце свое, повороти голову и приметь, как великий государь не сводит с тебя улыбчивого талого взгляда. Вот Алексей Михайлович отпил из кубка романеи, велит стольнику передать вино патриарху. А ты, Никон, отчего вдруг осветился ликом, пригубив от царевой подачи? Да вот не ко времени вовсе отчего-то приблизил взор царицы Марьюшки, каким смотрела из окна своего Терема на соборное крыльцо; ведь устерегла, поймала выход нового желанного патриарха и, заметив его торжественный непокорливый взгляд, поспешно отбила поклон. Словно бы сама Мати Богородица благословила на добрый поход. Не унывай, батько, – наверное, воскликнула она с любовию. Не тужи, самый главный русский поп! Чему быть, того не миновать. И посох святого Петра по твоей деснице.
«Поставили спесивца под патриаршью шапку. Теперь наделает темных делов, – нахмурился князь Хованский. – Вишь, как загордился мужик».
«С его подачи полезут ханжи поперед нас. Ретиво полезут – и не подступись, – охотно поддакнул Богдан Хитров, принимая от стольника ковш чернишного меду. – Эта порода хуже жидовинов и кобыльников. Говорят одно, а вытворяют завес поперек. Такие поперечные люди».
...Э-э, вот и горюйте, коли запустили козла в огород! Невдали гордоус, как пивень на нашесте сидит, но уже за особым, государевым столом; скуфью с его головы не сдернешь, не наломаешь в боки; скоро, не затужив, обратает патриаршья челядь, да и кинет в застенок на чепь, не поглядев на княжьи седины и боярскую честь.
После третьей ествы – пироги с шелешпером – Никон поднялся из-за стола, чтобы совершить положенный объезд вокруг Кремля на осляти, в сопровождении властей. Архиереи повели его под руку из дворца: патриарх сошел с Красного крыльца по золотой лестнице. Внизу уже дожидалась лошадь, вся убранная в белые объяри, виднелась лишь пригорблая морда, украшенная серебряными кольцами поводьев и золотыми ворворками. Это ей придется послужить патриарху заместо осляти. Никон с деревянного приступка с помощью архиереев воссел на лошадь, оправил мантию зеленого бархата, осанился, на мгновение зажмурясь от той высоты, на коей очутился. Вся Дворцовая площадь вдруг оказалась под пятою, покорно склоненная и подвластная велению патриарха. Ну как тут не вскружиться голове? Но страшно ли тебе, Никон? Иначе отчего перехватило в груди: то ли от счастия иль от испуга? Не робей, святитель, ибо золотой херувим на твоей белоснежной скуфейке летит вестником, сияя на всю престольную. Дождалась русская церковь жениха, еще славнее вознесет она свою величавую главу на весь православный мир.
Взявши за узду, повели лошадь вкруг Кремля князь Алексей Трубецкой, да князь Федор Куракин, да князь Юрий Долгорукий, да окольничий Прокопий Соковнин, отец государевой свойки Федосьи Морозовой. Подле стремени сутулился богобоязненный Богдан Хитров: порою с умыслом иль случайно шатнувшись, он касался щекой сафьянного зеленого башмака патриарха и подымал тающие от счастливой влаги голубые преданные глаза, ловя взгляд Никона. Никон будто ненароком приопускал длань и, нашарив ершистый, как житний колос, вихор покорного боярина, слегка, но державно притягивал к ноге, как бы поучая Хитрова: де, покорись, дерзкий, смири норов пред первым святителем.
Выехали из Спасских ворот; Никон взошел на уготованый приступ и, обратясь к Спасову образу на вратах, отслужил и окропил святой водою твердыни Кремля и весь градской русский люд, разом повалившийся наземь пред своим пастырем.
4
Прямо от праздничного стола скрылся Никон. Крытой галдареей, минуя задний патриарший двор, святитель ушел в особую одинокую келейку с малыми сенцами, поставленную в свое время патриархом Филаретом. Это была крестовая писаная палатка, украшенная по стенам травами и птицами, с тремя стекольчатыми нарядными окончинами и с опушкою из лазоревого сукна. Келейку окружал высокий бревенчатый замет, небольшой дворик густо усажен яблоневыми деревьями, так что ничей нескромный взгляд не смог бы пробиться в монашье уединение. Да и навряд ли кто в Москве догадывался о патриаршьей пустыньке. И Никон прежде никогда не бывал здесь, но, руководимый неизъяснимой волею, болезненно желая хоть на час схорониться здесь, убегая от праздничного пира, он, как во сне, не только не заплутал в многочисленных переходах и крытых галдареях, словно норы, опутавших Дворец, но во всех палатах и сенях, коленцах и избах, в приказах и подклетах, где обитали дети боярские и подьяки, в службах для кормового и приспешного обихода, но сразу же твердою ногою ступил в крестовую палатку. Служка Шушера пытался выследить святителя, но Никок грозно шумнул чернца, пристукнув осном, и стремительно скрылся за углом перехода, развевая бархатной зеленой мантией.
Велик православный мир, и неисчислимые церкви и монастыри его – эти жилища Нерукотворенного Спаса, как бы нерушимые столпы всемерного и нетленного согласия с Господом: они невидимой спиралью скручиваются в один благоговейно принятый душою свиток, в центре которого, в его лоне, одинокая келейка патриарха; вот оно, горчичное зерно, из коего и вырастает ветвистое сияющее древо веры, ибо сам патриарх – это воплощенный образ Христа.
Палатка была открыта, она ждала гостя. В сенцах стояла лавка с опушкою из темно-синего сукна; Никон помедлил, желая присесть, но перемогся и открыл дубовую дверь. От близкого сада окна показались зелеными, в зеленом же полумраке тихо обитал мир бывых, ныне усопших патриархов. Студено было в келеице, изразчатая печь с лежанкою давно не топлена. Но лампадки горели бестрепетно пред сияющей золотом божницею, с неожиданной пристрастностью, требуя ответа, глядел в открывшуюся дверь Спас Недреманное Око. Темные налавошники поистерты, около двери на спичке висит зипун из червчатого сукна да меховой колпак, под коником у порога черные кожаные ступни, опушенные лисою. Как все знакомо, как мило это обиталище монаха; в такой вот келейке, борясь с натурою и смиряя ее, провел Никон четыре года в Обонежьи, отстранясь от монастыря. И вот, покинув одну пустыньку, он однажды вдруг заимел другую; но при всей схожести затворов они бесконечно разнились самим воздухом, что наполнял келейку. Там, в Обонежьи, был воздух тайги, скитского сурового житья, а здесь все напоминало государскую власть. Вот и подсвешники вызолочены, и образа густо усажены алмазным каменьем и яхонтами, и земчюгом, и Новый Завет на аналое, поди, с пуд весу, крышка вычеканена из серебра, изузорена древлецерковной вязью. И эта Великая книга покоится в своем главном месте, откуда не след ее волочить. Из этого кладезя веры и исчерпывается извеку вся мудрость мира сего.
Не преступая порога, Никон осмотрел цветную палатку и присел, слабеюще, на лавку в сенцах, искоса, любопытно, с некоторым поклончивым замиранием проглядывая заново всякую мелочь и тем привыкая к избе; из этих стен пойдут в кочевье по Руси новины. Никон устало сомкнул глаза, привалился к стене и почувствовал себя воистину счастливым, и загордился собою. Эта минута стоила всей жизни. Он, Никон, государь, государский посох в правой руке, а в левой – четки из онежского речного земчюга, четки прежней монашеской жизни. Он почувствовал, как тяжело, с натугою бьется сердце, сдвинул панагию, сбросил с плеч манатью и прижал ладонь к груди. Никону на какое-то мгновение стало дурно, он вроде бы выпал из памяти. Его шатко поволокло ввысь на невидимой качели, и сердце перестало биться. И Господь явился взору в ратных доспехах: то был Спас Грозное Око. Но не успел Никон испросить у Исуса совета, как послышались в переходе шаги, ступистые, с подволакиванием подкованных каблуков. Не совсем еще очнувшись, патриарх уже знал, кто нашел его.
– Навесил, государь, жернов себе на шею. Ой, не мед я тебе, – скрипуче встретил царя Никон.
– А я подслащу, – легко, улыбчиво отозвался Алексей Михайлович, открыл серебряный судок и достал коврижки сахарные да митру и поручи пряничные. – Прими, патриарх. Коли горчит еще, дак подсластись, сбей оскомину.
Никон пытался встать, но государь не дал, упирая в плечи горячими тяжелыми ладонями.
– Сиди, сиди, отец, – вдруг просто сказал царь и опустился на лавку возле святителя, медля начать разговор. Да и неспуста же искал, шел в особую келейку? Неожиданное почитание было куда лестнее всяких гостинцев. Никон, однако, не выказал радости и, утая слезу, бесстрастно уставился в притвор двери, словно бы ожидая нового видения. Веки сухо щипало от непролитой влаги. Торжественный праздник неожиданно продолжился.
Два государя затаились в сумеречных сенях спрятанной от мира кельи: темные стены потемнели от старости, и мох высыпался. Меркло горела свеча, едва рождая свету. Вдруг государь положил руку на колено собинному другу.
– Мне показалось, что ты нерадостен? Не тужи, владыко. Господь чрез меня отметил тебя, вручил посох святителя Петра.
– Подпятника себе ищешь?
– Верного друга... Иль ты не друг мне?
– Знатье тебе... Исстари по жеребью ставили патриарха. А ты нарушил завет, – упрямо, со скрытой печалью ответил Никон. – Ты нарушил заведенный чин и поставил себя над собором. В этом деле я тебе не подначальный, не борзой кобель. Иль неведомо тебе: как солнце отличается от луны, так и патриарх разнится от государя? Они живут в одном небе, но сияют-то в разное время. Ты государь в мирских законах и волен нынче же сечь мне повинную голову... Но зря тщишься, Алексей Михайлович, стать владыкою духовного мира, ибо от небесного меча не уберегчись. Только мы, архиереи, владеем душами! – Никон накалил голос, неожиданно распаляясь, сам себя кляня за вспыльчивость. А может, он тайно испытывал государя на истинную крепость уз? Никон был властен в речах, в сумерках келейки его слова звучали остерегающе и особенно грозно. Царь чувствовал, как воля его иссякает, уходит в песок, и все доводы, с какими он шел к патриарху, неожиданно потускнели. Алексей Михайлович оказался уличен даже в самом тайном, что исподволь зрело в мыслях.
– Никон, Никон... послушай. Вонми гласу моему. Прошу, не досади мне, упрямец, – с дрожью в голосе сказал государь. – Ты верха надо мною хочешь? Но я наместник Бога на земле!
– А я живой образ самого Христа, – возразил Никон.
– Я клятву принародно дал слушатися в церковных обычаях и волю твою исполнять. Чего тебе еще?
– И я согласился. Не для чина, но для дела. Видя, в какую тлю и разор упадает православная вера.
– Вот видишь! Вот видишь! – встрепенулся государь и с силою, порывисто, с юношеской ухваткою снова прихлопнул Никона по колену и, радостно светясь, весь потянулся навстречу патриарху. Видно было, что еще не заматерел государь, не волен над своими чувствами. – Ты с Анзера шел к престольной, богоданный. Тебя Божий урок вел к нам, и красногласье твое, твой пространный ум во все дни питают мою немощную грешную душу. Видит Бог, как чту я тебя, и матушка-государыня коленопреклоненна. – Он помолчал чуть, отворотя голову ко входу в келейку, где дед его, страдалец Филарет, любил сыскивать уединенье. – Знать, на роду написано... не деться нам от мужиков. Да и то... Отца спас от польской гили Ивашо Сусанин, живот свой положа. Меня вымолил у Господа Елеазар Анзерский, а ты вот прибрел с Соловков крепить веру. Ты – мой державный посох.
– Я не посох твой. Я живой образ Христа. Я государь, – упрямо возразил Никон, не уступая царю.
– Ты великий государь! Ты отец мне, – согласно подхватил Алексей Михайлович. – Какой же искренний отец не поможет сыну? Я слышу ежедень, как сыплется все и трухнет внутри моей земли, и мне больно оттого. Ехидны пустоголовые, хлопоча лишь о брюхе своем, роют норы и режут подпятные жилы державе, пускают кровь. Мы слабнем и хвораем, они же тучнеют, собирая свою гобину. А мне жалко всех! Ты слышишь? Мне жалко всех. Я чую, как плачут братья наши в Малой Руси и Белой Руси, просят щита и приклона. Молит защиты и призора Цареград под пятою салтана. Ты, вещий святитель: весь мир открыт тебе от папского трона, предавшего Дух Святой, до нецыев на другой стороне земли, где живут люди о двух головах; ты ведаешь, как над третьим Римом нависла тьма, слетаются от всех мест вороны, чуя падаль, как прежде пожрали они древний Вавилон. Тьма наползает с Запада и Востока, от свеев и немцев, от турков и ляхов. Обавники и чаровники, прельстители веры сдвинули свои полки у рубежей, чтобы исшаять, предать скверне православную веру. В Цареграде и Киеве, в Вильне и Смоленске вьют они свои змеиные гнездовья, чтобы источить, изветрить истинный дух веры, а после те народы сдвинуть под свою власть. Слышишь ли ты, святитель, архангеловы трубы?.. Благослови меня, отец, на рать!
Вдруг голос царя оборвался, прорезалась близкая слеза, он вроде бы и всхлипнул даже. Никон вздрогнул и очнулся, поразившись своей дерзости.
– Не гневайся, государь! Я вздивиял, одержимый бесом. Я вознепщевал, счел себя за самого Господа Бога, мерзкий человек. Нашла на меня паморока. Прости, свет-царь, за изврат...
– И ты прости, коли обидел чем. Твой день нынче, тебе сиять, первый святитель. Пожелай лишь, восхоти, и дам я тебе запись своею рукою, не выходя из келейки деда моего Филарета-патриарха, де, я, царь-государь, покорник твой и подпятник, и твоя одесная оружная рука, оборона от синклита моего, ослушников и бояр.
– А закоим? Не на бумаге вера, но в сердце. Ты лишь чти наше духовное царство. И ладно. Не дам тебе меч, но дух, что бронею покроет твое войско. – Патриарх поднялся и поклонился царю земно, смиренно. – Я поклончив, но и ты не гнушайся поклониться Богу. И не дело, самодержец, чтобы твой слуга хватал за колпак монаха, честил священницей и сволакивал в твои застенки. У нас свой устав и своя погребица на ослушника. И не смешивай, государь, две власти, не вводи меж нас свару и прю, а я за тебя неустанно молиться буду.
И благословил Никон честного царя-молитвенника...
Глава двадцатая
1
Ошибся князь Хованский, скрипя зубами на святителя. Не под патриаршью шапку, минуя жеребью, но под митру поставил государь Никона. На Успенье, пятнадцатого августа, Алексей Михайлович поднес Никону на золотой мисе золотую митру-корону заместо обычной до сего времени патриаршьей шапки, опушенной горностаем; еще подарил образ св. Филиппа митрополита да полную братину золота. И в тот же день уступил просьбе Никона, пожаловал патриарху пустующий Цареборисовский дворец. И уже через две недели повезли мужики на двор каленый кирпич, тесаный камень да брус, и мастера принялись ставить богатые Святые ворота.
...Не екнуло ли сердце патриарха, когда решился он занять покрытые тленом, заброшенные палаты царя Бориса? Какая нужда была присочинять каменные хоромы к прежним, филаретовской починки, поновлять их, уже окоченелые и одряхлевшие, с увядшими сводами и подклетями, проеденные мышами и древоточцами, покрытые нещадною ржавчиной забвения, пропахшие зелияницей, ибо в этом дворце уж кой год помещались патриаршьи капустные погреба. Ведь бывалый до него кир Иосиф десять лет тому указал подмастерью каменных дел Давыду Охлебинину заново устроить крестовые сени и палаты: Крестовую, Золотую, Казенную; стало быть, корпус древней застройки был разобран до подошвы и сделан внове по смете известного подмастерья каменных дел Антилы Константинова. Значит, на твоей памяти, Никон, и ублажался кружевами патриарший дворец?
А не бранитеся понапрасну за труды, ибо труды человеческие желанны Господу. Еще в бытность Спасским архимандритом, Никон изрядно поновил монастырь и стены его, и башни, и кельи многие, а сделавшись Новгородским митрополитом, воздвиг архиерейский дом. Ибо уверовал с иноческих лет: церковь цветет лишь заботами своего иерея.
И нынче, с вышины, на кою воссел Божьим промыслом, куда взнялся смирением и твердостью старческого подвига, бесстрашием ума и дерзостью мужицкого сердца – все на бренной земле, распростертой от северных вод и до каменных теснин Алтая, в один час увиделось уже своим, домашним: а хозяину всегда хочется новин, чтоб перестроить вотчину на свой погляд.
Всяк тщится подмять под себя подначальных своих, кто бы ни восседал на святительский трон, ибо кротость сердца вдруг уступает рачительному уму. Вот и молитеся, келейники и пустынники, старцы и схимники, о воспылавшей душе Никона, просите ей смирения и покоя, ибо золотая митра и полуторапудовый саккос лишили тихомирности его водительскую натуру. Вот она, сияющая вершина. За тридцать три года пройден Никоном тернистый путь от псаломщика и читальщика до святителя-государя третьего Рима.
Золотая гора власти неприступна суетным и обладает мраком гробовой доски и постоянным холодом ледяной занебесной горы. И как хочется оттеплить свою одинокость, поначалу обрядить, обставить хотя бы свое житье, подначальный патриарший дом, его монашью уставную жизнь, что каждоденно крутится вкруг престола. Его кельи, его приказы и службы, его постройки для кормового и приспешного обихода вдруг оцениваются иным, наскучившим взглядом; и коли есть затаенная мечта приступить к устроению церкви, возврату ее в истинное Христово лоно, то перво-наперво надобно устроить свой дом согласно своим привычкам. Да и золотой митре полагается иной чин.
Плоть инока, а тем паче старца затворена в гробовые тесины задолго до упокоения, и оставлена в них расщелинка ровно настолько, чтобы раньше положенного срока не истек из ребер дух. Но ответьте, затворники, православные златоусты: откуда берется в монахе мирское, ежели оно давно выдавлено по капле из каждой кости, желанно тоскующей о смерти?..
...Ибо Русь толпится в Больших сенях у келий патриарха, дожидается по лавкам и коникам, мечтая добраться до рундука пред дверками в переднюю, дожидаясь государева зова. Боярские дети дозирают чин, окрикивают неслухов, сулят шелопов, иных гонят с крыльца прочь, чтоб не гордовались и не торговались священницы, но блюли трезвость и послушание. И рядом с боярской летней золотною шубою сидит домашняя посконная сермяга, а возле парчовой ферезеи, опоясанной турской сабелькой, притулился купецкий темно-синий зипун, а с лазоревой суконною рясой перемалвливается покрытая дорожной пылью епанча...
Отныне долго не бывать Никону в Крестовой писаной палатке. Ибо кто есть для Руси патриарх? Он и первосвятитель, и проповедник, и благостник, отпускающий грехи последнему злодею; он и богомольщик, постник и учитель; он и батюшка, отец родимый для всякого православного, к коему можно притечь за советом; да он и бесстрашный воин на поле брани за веру, он и праведный судия, он и ревностный плакальщик за всех, кто в беде, иль при смерти, иль кто на время по глупости своей отпал от церкви.
И кто только не прибредет в дом припасть к руке патриарха, отправляясь на рать иль вживе возвращаясь с бою, отлучаясь на воеводство, иль на торг, иль с посольством в чужедальнюю сторону, и прибывая оттуда – всяк не преминет тут же явиться пред очи святителя с дачею, чтоб получить из рук патриарха икону Владимирской Божией Матери; а еще спешат на Двор, чтоб получить благословение на женитьбу иль на переход в новые хоромы; иной заявится с именинным пирогом иль со свадебной ширинкой, с первой летней ягодой иль с заморским плодом – и всякому до смерти охота запечатлеть на себе кроткий, любящий взгляд святителя...
Обошел Никон всю свою брусяную избу – три келейки – нигде не усиделось: мнится ему чужой дух и пристальный догляд сквозь часто посаженные слюдяные окончины. Подумал: хоть решетки ставь. Но тут же и остерег себя, де, чужой дух не имеет препон и бродит там, где хочет. Лишь усердная благочестивая молитва да крест православный ему оградою.
Кликнул патриарх келейного слугу, тот в опочивальне на широкой лавке подле печи раскинул новый тюфак из хлопчатой бумаги, купленный в Ветошном ряду за двадцать три алтына, на тюфак положил пуховик в наволоке из камки алой индейской, да одеяло из камки, да подушку пуховую. Хотел за пуховик на служку накричать, де, на соблазны подстрекаешь? – и раздумал: монаху – монахово, кесарю – кесарево. Ссутулился Никон на постели в чужом житье, как примак иль бобыль, не принимая его сердцем, маялся, грезил о чем-то без натуги, склоняя себя ко сну. Был он в одном исподнем, в лазоревых камчатных чулках, в домашней байбарековой скуфейке. Прислонился спиною к печи, писанной травами, холод проник сквозь белье. В животе вдруг запоуркивало, из капового ковша испил монастырского квасу. Вспомнил, что с прошлого дня хлебной крохи во рту не было. Хотя с утра из кухонной избы приносили роспись ествы. А было готовлено кушаний на патриарший стол: хлебца чет, папошник, взвар сладкий со пшеном и с ягоды, хрен, греночки, капуста тяпаная холодная, горошек-зобанец, киселек клюквенный с медом, кашка тертая с маковым сочком – и та еда простояла в поварне не спрошена святейшим патриархом. Да от Алексея Михайловича была Никону присылка: кубок романеи, кубок ренского, кубок малвазии, хлебец кругличатый, полоса арбузная, горшочек патоки с имбирем, горшочек мазули с шафраном да три шишки ядер кедровых.
Оле! Суета и тщета сокрушили мир, а потачки плоти иссушили веру.
Господи! Любая власть так приманчива, и сладка, и прельстительна: она дает человеку куда больше того, чем надобно смертному, и тем слабит натуру, скоро забывающую всякий зазор. А через приоткрытую дверцу тщеславия вместе с корыстью вползает искушение. Как мышь погубливает слона, проточив ему пятку, так и соблазн может сокрушить самый властный и упрямчивый характер.
Подарки государя на столе. Они еще не отданы в Верхнюю палатку в личную патриаршью казну. Никон зачерпнул из братины пригоршню золота, перелил монеты с ладони на ладонь, ссыпал обратно в посудину. Как без казны нет государя, так и без золота нет власти. Золотые кресты венчают главы православных церквей. Ладони вдруг стали потными, жирными от золотой пыли. Вот она, проказа, что подтачивает и самое простодушное сердце. Никон вытер руки о льняную ширинку, снял с поставца подсвешник и, наклонив горящую свечу, окропил сокровища расплавленным воском, чтоб потушить обманчивый блеск металла; потом прочитал Исусову молитву, и хотя золото сразу потускнело, утратило обманчивое сходство с солнцем, но ощутимый изврат, как жар, по-прежнему истекал от братины. Лишь насмелься, человече, и только раз однажды испей сполна этой сладкой отравы, и тягучая болезнь заселится в чреве и родит в нем Гада алчбы. Но, возможно, и Красоту поднебесного купола? Значит, не в самом золоте зло и скверна, но в душе, утратившей искреннюю веру, посчитавшей вдруг, что всякая вера от Бога...
Оле! из этой братины с царским золотом и вырастает мой новый Дом, ибо нет ничего слаже, чем оставлять по себе творения добросердных замыслов...
Ты помнишь, Никон, как хотел распорядиться скитскими деньгами анзерского отца Елеазария и как за это осерчал он: ибо ему страстно хотелось оставить по себе память на земле, а ты своею волею вторгся в дела Учителя. Надобно нынче же послать отцу анзерскому рыбу белугу да денег на устрой скита, чтоб знал Елеазар: Никон на верных Христовых иноков зла не держит...
Никон вдруг принял со стола золотую митру и, водрузив на голову, подошел к трехстворчатому зеркалу, опушенному синим бархатом. В вороте распахнутой ночной котыги широкая, слегка обрюзгшая грудь, покрытая курчавой шерстью, в ложбине на вздохе поверх верижного креста легкое кипарисовое распятие. А лицо смутное, словно бы его черты застил свет государевой короны и небесно-голубых эмалей с изображениями евангелистов.
...Ах ты, слепец, под носом у себя не зришь, а взвалил на рамена такую тягость.
Патриарх достал из серебряного влагалища очки, водрузил на грузный пригорблый нос, обличье сразу приблизилось и стало неузнаваемо чужим. И сам себе сильно не заправился Никон: длинное худое лицо, изрезанное глубокими дельными морщинами, лохматые брови черным козырем, крупные изжелта веки. С необычной пристрастностью Никон отметил пористую серую кожу, жесткую кудель бороды, глубокие, с желтой искрою заводи выпуклых глаз. И сколь странна показалась на тяжелом волосатом челе золотая государева корона. Невзлюбив себя, Никон принялся охорашиваться тонким гребнем слоновой кости, подарком Антиохийского патриарха, наслюнил и примял брови, чтобы не так ершились они, тщательно выстриг подусья. Ему вдруг захотелось выпростаться из прежней своей оболочки, сменить облик, надеть такую светлую сияющую личину, чтобы каждый при первом же взгляде на первосвятитсля обрадел сердцем.
«Отец! – вдруг раздалось извне. – Суета и тщета сокрушили мир, а потачки плоти иссушили веру».
И спохватился Никон, снял очки и гневно отступил от створчатого зеркала, не отводя взгляда. И не странно ли, но будущая патриаршья обитель вдруг чудесно представилась вся, до мелочей, тайно, без примерки рожденная замысловатым умом, словно бы выглядел ее Никон в туманной закрайке зеркала, куда худо доставал отсвет свечи. Осталось лишь Никону из черной дубовой шкатулки достать серебряную черниленку, бумагу да лебяжьей тросткой описать план... В нижней части здания он устроит семь приказов, печь и огромную кухню, дабы тепло поднималось наверх; насупротив собора перекинет лестницу из мячковского камня с точеными балясинами и накроет ее шемаханскими коврами. Над приказами будет Христова палата, устланная разноцветными изразцами; оконницы из слюды выходят на собор и расписаны травами; в углу изразчатая печь, вдоль стен – рундуки, на них лавки с лазоревыми налавошниками, под потолком пять полиелеев серебряных амбургских мастеров, да чтоб в одном часы с боем были запечатаны, чтоб всякий, воззря очами, видел, как время утекает в вечность; в западном углу поставлю небольшую церковь во имя новых Московских святых и велю портреты их написать над дверьми, а в самой церкви, пожалуй, следует написать лики шести патриархов, бывших со времен Иеремии Константинопольского: первый из них Иов, затем Герман, Герасим, Филарет, Иоасаф, Иосиф. Свой же портрет велю написать после тех, ибо я седьмой патриарх. Двери надобно оббить зеленым сукном, а оконницы опушить синим. Да к Христовой палате пристроить брусовые келейки для зимнего житья...
До чего же смешон я в исподнем, лазоревых камчатных чулках и митре...
Никон скрутил столбец в свиток и положил в шкатулку.
Вот он, червь тщеславия и гордыни, а я потатчик ему и желанно впустил в душу свою и устроил там гнездовье врагам нашим. Заступница, Царица Небесная, внемли гласу раба твоего, ослобони от недуга и дай мочи в подвиге.
Помолясь, Никон лег в постель, накрылся бумажным одеялом: патриарха слегка знобило, от изразчатой печи тянуло холодом. Давно ли горели царицыны покои, и тревога от пожара еще не потухла. Часы боевые в стоячем черном деревянном стану пробили два пополуночи.
...Ох-ох, грехи наши тяжкие. За што приматься? Сладкое разлижут, горькое расплюют... Даве Богдан Хитров приходил, заставил его в сенях ждать. Вошел с улыбкою, а в сердце грома. Все они спесивцы... Хлопотал за лекаря Берлова, чтоб не трогать с обжитого места, оставить в своем дому. На Кукуй его, всех на Кукуй: не хотят веры православной примать – латины и луторы – всех на Кукуй, в свейскую слободу, чтоб не соблазняли русского человека в чужую веру, не строили кобь и чары...
...Вот и Неронов навестил, точил, пошто, де, греков чту и Арсения-чернца в патриаршьем дому в подклети заселил, со своих рук кормишь-поишь и до святых книг допустил. Заплутай он и по своим еретическим чарам выправит да такой каши наварит, что и веком не расхлебать... А пото и допустил его, что вельми грамоте учен, а вы волокетесь по Писанию, как худая телега: того и гляди – развалится. Попробуй обряди церковь в золотые одежды, коли ни священниц достойных, ни дьяконов, ни подьяков. Приедет поп на Москву, чтоб ставиться на новое место, велишь ему Апостолов читать, а он и ступить не умеет; велишь Псалтырь дать – и по тому едва бредет; велишь хоть ектиниям его научить, а он и к слову пристать не может; велишь начинать с азбуки, а он, поучившись немного, просится прочь... Такова земля наша, Иоаннушко, что не можем найти, кто бы грамоте горазд. Так отчего же не чтить греков и наших киевских любомудров, ежели от них пришла наша вера и не надобно нам иной? И если свет Божественный освещает путь наш, то истекает он от Златой Софии Цареградской. И нам ли пыщиться на тою Премудрость, из коей мы испили лишь глоточек, да и захмелели в гордыне и норовим заплутать? Да и заплутали, нагородили огорожу – не разобрать. А коли заблудились, так давайте вместях выбираться на истинную тропу и негоже ереститься, уповая на глупость свою... Эх, Неронов, лесная голова... Уверяешь прихожан своих, сбиваешь с пути, де, у греков лживая вера, а у нас истинная. Значит, и вселенский патриарх непроточен демонами? И все благословение его неискренне? И патриархам первым русским нету веры, коли ставлены на престол греками? Остепенись, протопоп, вспомни заповедь святого Феодосия Киевопечерского. Заповедал он: «Берегитесь кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. Если кто тебе скажет: „Ваша и наша вера от Бога“, – то ты, чадо, ответь так: «Кривовер! Или ты и Бога считаешь двоеверным! Не слышишь ли, что говорит Писание:
«Един Бог, едина Вера, едино Крещение».
И не зря остерегал Феодосии. Эвон куда загнули мы, уж и крестимся-то, как папежники, позабывши Дух Святый; да и пьют священницы, вконец позабывши Господа, а после, одурев, бродят по городу, не чая Божьего гнева, и орут бестолково, как онагры, страмя монаший чин. Отдам-ка нынче же своим стрельцам команду, чтоб, нетрезвого попа завидя, хватали немедля и волокли в застенки, и сажали в колодки на длинную чепь да на хлеб с водою. Пусть ведают греховодники: от кого отступился Бог, на того изливается гнев Его. В Святом Писании сказано, что не погрешите истине и правилам святых отец, ежели возьмете бич и погоните из церкви соборной прелюбы творящих и прочих беззаконников. И как иначе вразумить заплутая, падшего во гноище? Да и что взять с паствы, с холопишки и рабичишки, чему научать их с амвона, коли вконец испроказился пастырь его, если в церковь прибрел он не ради спасения своего, но ради покормки. Нынче же призову всякого попа, большого и малого, пред очи свои и вопрошу: «Ты поискал Исуса для Исуса или для хлебы куса?»
...Ох-ох, предался соблазну, во гресе заблудился народ, не убоясь страху, а хотят душу спасти...
2
Из челобитной к царю на Никона:
«... Иные ставленники-попы пропадают и живот свой мучают в Москве, к слушанью ходят, да насилу недели в две дождутся слушанья, ждут до часу шестого ночи, зимнею порою побредет иной ночью к себе на подворье, да и пропадет без вести, а нигде на патриарховом дворе пускать не велено. При прежних патриархах ставленники все ночевали в хлебне безденежно, а нынче при Никоне и в сенях не велят стоять, зимою мучатся на крыльце. При прежних святителях до самых крестовых сеней и к казначею, и к ризничему, и в Казенный приказ рано и поздно ходить было невозбранно; а нынче у святителя устроено подобно адову подписанию, страшно приблизиться и ко вратам, потому что одне ворота и те постоянно заперты.
...Год тому назад нового города Корсуня протопоп приезжал с святительской казною, дьяку Ивану Кокошилову и жене его, и людям рублей по десять перешло от него и казну приняли; надобно было взять от него еще и отписки, он тут денег не дал и за то волочился многое время, и, не хотя умереть голодною смертью, голову свою закабалил в десяти рублях, да жене дьяка отнес, а она у него взяла. В это время по твоему указу бит кнутом за посул Крапоткин; дьякон испугался, чтоб протопоп не стал бить на него челом, да и скажи патриарху, будто бы протопоп подкинул жене его десять рублей, и патриарх приказал его же, протопопа, посадить на цепь и, муча его в разряде долгое время, в ссылку сослать велел, а вор по-старому живет да ворует.
...Да он же, Никон, велел по всей патриаршьей области переписать в городах и уездах все приходы и данью обложил вновь, да в окладе же велел положить с попова двора по 8 денег, с дьяконова по алтыну, с дьячкова, Пономарева и просвирнина по грошу, с нищенского по 2 деньги, с четверти земли по 6 денег, с копны сена по 2 деньги. Татарским абызам жить гораздо лучше! Видишь ли, государь, свет премилостивый, что он возлюбил стоять высоко, ездить широко...»
Держи тело в туге и нуже – душу свою спасешь.
Пред постом 1653 года прислал Никон в Казанский собор протопопу Иоанну Неронову память, подобную вселенской грозе: де, по преданию св. апостол и св. отец не подобает в церкви метания творить на колену, но в пояс бы вам творить поклоны; еще тремя персты бы есте крестились.
Сошлись протопопы в крестовой келейке Неронова в его дому, где остановилась постоем и была с любовью принята большая семья Аввакума с чадами, домочадцами и челядью. Не по разу прочитали священницы патриаршью вестку, перенимая бумагу друг у друга и не вверя глазам своим: всё полагали, сердешные, нехитрым умом своим, что случаем обознались, не то вычитали, убогонькие, и не так поняли святительское слово, но когда, решившись, проникли в аспидную темь столбца, то ужаснулись сразу, сердца их задрожали, озябли тоскою. Аввакум долго не решался взглянуть на учителя, а когда поднял глаза, то не признал Неронова: куда-то подевалась блескучая яркость его взгляда и скорая острота ума, ибо немо, мертво сутулился протопоп с краю лавки и смотрел зальдело, остойчиво куда-то внутрь себя, в само брюхо свое, как могут заглубляться лишь великие затворники и молчальники. Веки Иоанна вдруг покраснели, обметались сыпью, будто крапивницей ожгло, и почудилось Аввакуму, что Неронов заплакал. Мысленно повинился Аввакум пред учителем, будто он-то и обманул в чем, и горько зажалел того, сникшего и загорюнившегося. Подать бы гневное слово? растопыриться перьями? Хитрое ли дело вскинуть в низкий потолок велий вопль негодования. Но вольно ли молодому пехаться поперед батьки? И лишь закряхтел Аввакум – и не решился разбить молчание. Может, в эти минуты рождается верный ток мысли и самое искреннее чувство, освещающее все последующее быванье до смертной ямки. Да и кто он пред Учителем, пред истинным Отцом своим, чтобы досаждать ему скорыми, незрелыми словами?
...Какой разлад в душе, какая негласица и нестроение, какая сумятица чувств: вот подкралась из валежника подпенная змея и ужалила под самый вздох. Что же это такое? как жить дале, коли не в истинного Бога веровали, а в поддельного, не так кланялись и неподобно крестились? и древлие отцы церкви и святители Стоглавого собора, и великие князья и государи, и воины и смерды непотребно осеняли себя именем Христа? и вдруг нашептал шептун и обавник, выбредший по случаю из мордовских лесов, что ересью и неправдою жили отчичи ваши и дедичи от давнего веку, не тому научали и не про то толковали, и не Господу поклонялись, а самому диаволу, и тому же наущали внуков своих, и в грехи столкнули, и прямой тропою направили всех в геенну огненную на судилище. Значит, и Мелетий Антиохийский ошибался, и многомысленный Феодорит, и любомудр Максим Грек, и все прежние, бывые на Руси патриархи, что толковали о нерушимой истине двоеперстия, и их научения были натвердо втолкованы православному человеку. А тут объявился на миру Никитка Минич и распечатал глаза неучам истинным светом. И неуж у государя очи затмились, не видит он, кого пригрел под боком, кому доверил патриарший престол и душу свою? И как нам быть ныне? ведь Стоглавому собору клятву нерушимую на все века дали, но и патриарху Никону обещались накрепко слушатися. Так где правда? и бывает ли твердым раздвоенное, как жало змеи, слово? А лишь шатни душу, подтолкни к мысленному блуду, тут и пойдет сыпаться все вокруг, валиться и рушиться. И обнаружится вдруг ясным днем, что нет тверди под ногами, а лишь зыбун и трясина, и не вем, что творить и где искать укрепы.
...Нет и нет! – сразу все запротестовало в Аввакуме, и еще не затвердив мысли словами из святых писаний, он нутром уже твердо знал, что смутная неправда исходит из медоточивых уст патриарха, кривым путем отправился Никон. Кого пригрели, за кого хлопотали, государю кланялись, а вымолили байстрюка. А Стефаний-то, насквозь промытый гремучими родниками, как же он-то заблудился, не разглядел шакала в обличье человечьем? И меня умолили, уломали меня. Кривовер! Не от таковых ли и заклинал старорусский святой Феодосий Киевопечерский, де, берегитесь кривоверов и бесед с ними... Един Бог, едина Вера, едино Крещение. Есть лишь православная Москва, светло-озаренная любовью Господа и нареченная по миру, как третий Рим; и есть Русь великая, вместилище и неоскудевающий источник неугасимой веры; все же остальное есть лжа и ржавь, и мрачное узилище для духа...
Но не дождался Аввакум толкований из «Маргарита». Приказал ему Неронов править Казанским собором, а сам скрылся в Чудовом монастыре и всю седмицу истово молился в крохотной каменной палатке, не принимая ествы и питья, не приклонив к подушке недремной головы. И во время молитвы впал Неронов накоротко в забытье, и в тонком сне было ему видение, что долбит его в голову огромный черный лебедь с красной короной. Протопоп от ужаса очнулся и от образа Спаса, пред которым лежал на полу распростерт, он вдруг услышал глас: «Иоанне, дерзай и не бойся до смерти: подобает ти укрепити царя о имени моем, да не постраждет Русия».
Вернувшись, он поведал о гласе со слезами на глазах Коломенскому епископу Павлу, Даниилу Костромскому, протопопу Аввакуму, а также всей братии: «Время приспело страдания! Подобает вам неослабно страдати».
Объявил – и все поверили, ибо вещей прозорливостью обладал сухонький прислеповатый протопоп. На общей памяти было, как лет двадцать тому Неронов советовал государю Михаилу Федоровичу и Филарету патриарху не начинать войны с Польшею, потому что прозрел духом, «яко не одолеть супротивных, не токмо кровь христианская прольется всуе». И долго с упорством молил он царя не затевать брани. За такое предсказание был сослан Неронов в Корельский монастырь, но вскоре и возвращен, ибо все случилось именно так, как и предсказывал вещун...
Вот и нынче послал он вестку государю Алексею Михайловичу, остерегая: де, «искушение прииде, потрясающее церковь, и великое несогласие. Чего ради отцами преданное коленное поклонение попираемо и крестного знамения сложение перст пререкуемо? Молю тя, государя! Не точию в вере, но ни у малейшей частицы канонов и песней, ни у какого слова, ни у какой речи ни убавить, ни прибавить. Православным нужно умирать за едину букву „аз“!..»
Глава двадцать первая
С первых дней почуял Никон азартную высоту трона, на коий взобрался, и эта высота не только пьянила властью, но и вострила зрение его и приглядчивый разум. Казалось бы, велико ли патриаршье креслице, стоящее в переднем углу Крестовой палаты с алым бархатным подголовником, с перильцами, крытыми сусальным золотом, но с этой государевой стулки, если иметь восприимчивую голову, далеко все видать. Вон еретики, окаянные папежники, уже давно подпятили под себя Европу, вкрались на славную Украину, смутив ее унией, как шальные избяные тараканы, разбрелись по заморским землям, склоняя варварские народы в свою оскверненную веру. Подпали под прелагатая, а как очиститься от прелюбы и скверны? Ох-хо-хо...
Но слава Спасителю, еше неприступно и незыблемо стоит остров истинной Христовой церкви, но и его подтачивают, скрадывают тайные смутные воды. И как тут выстоять?
Гетман Хмельницкий, враг униатов, подбил казаков, располовинил Украину и шлет гонцов под руку великого государя: не раз и не два кушивали казачьи послы в патриаршьей столовой палате. Чтит Никона богобоязливый гетман, остойчив он в вере и гордым умом незамутнен, боясь скверны, и коварные униаты, тайно скрадывая жизнь Богдана, хлопочут тщетно, никак не могут уловить его души в свои еретические тенета. Под пятой монгола однажды распалась святая Русь, а нынче самое время собирать камни в груды, орать пашню и сеять жито.
И Белая Русь томится, и балтийские словене позабывают родову под немцем, и древний Смоленск под ляхом, и швед раскорячкою в наших вотчинах и мнит себя за господина. Все подступили к русийскому караваю, всякому хочется рассыпчатого калача да стоялого меду.
Так как же выстоять против костельника, лутера и папежника? Да лишь верою, да коли собраться купно вокруг Золотой Софии, сгрудиться обороною в горсти. Вон и Киев-град давно ересь изгнал; еще Петр Могила ввел троеперстие и все служебники наново перевел с древних греческих хартий. А я окунулся в наши служебники и от дикости и мги лишь воскликнул с тоскою: «О горе нам!» Сблудили, ой, крепко сблудили мы, наслушавшись иосифлян, в гордыню впали, а заплутав, бредем по миру наодинку вперекор всем куда глаза глядят. Недаром остерегал меня Паисий Константинопольский в своих наказах, пасет от кривоверов, что хитро, как дикие волки, исподовольки оскверняют новинками старинные догматы и писания. «Блюдитеся крепко от таких волков, – пишет Паисий. – Под образом исправления недостатков церковных они ищут привнести в нее свои ядовитые плевелы и приносят к нам новины свои и апокрифические свои молитвы. Потому должны они быть отсечены от церкви, как гнилые и неисцелимые члены, оставаясь нераскаянными. Таковые молитвы их мы считаем богохульством, ибо они бросают подозрения на молитвы наших святых и пытаются ввести новые порядки, которым мы никогда не учились от отцов, передавших нам веру...»
Да и как пристанет к нам Малая Русь, и болгары, и словены южные, если мы отшатнулись от них по вере и навычаи греческие растрясли по неразумению? Все купно, все в груду, под один прислон и щит! И Москва православная – это не третий Рим, но Новый Иерусалим; под его золотыми крестами соединится под брони весь Восток, Европа и Азия, подпавшие под басурмана, махмета и латина. И откроется им Свет истинный, несказанный. Слово и дело соединим навечно мечом Христовым. Так и только так!
И царь-господине неразлучен со мною в этом деянии. Он – меч карающий праведный, я – крест Сладчайший, Да благословит нас Господь и убережет от злоумышлении.
...И разослал Никон грамоту по церквам, и стал ждать вестей: как-то отзовутся ревнители-иосифляне, позабывшие греческую премудрость. А норов-то у них в чести и гордыню преизлиха тешат. Угадал прозорливец Никон: немедля отозвались ревнители. Вскоре царь переслал патриарху, на его усмотрение, выписки Аввакума и Даниила, где священницы на святые книги бранились и всяко хулили святителя, убеждали государя: де, греки нашу русскую Псалтырь сожгли и книгу Кирилла Иерусалимского потратили, и скоро нас еретики новомодные вместях с Никоном научат курочек рафленых ести и табаку через губу пить.
«Ах, сукины дети, ну пустосвяты, – ярился Никон. – Грамоте нимало не толкуют, а туда же, Отца учить лезут. Коли не ведают смиренья, так пусть опознают мою руку».
И представил Господь случай выказать праведный гнев и науку: первому пастырю не перечат. Слушали в соборе в Крестовой палате отписку муромского воеводы на протопопа Логгина, будто он похулил образ Пресвятой Богородицы. Логгин, голубоглазый русачок, с тонким белым лицом, стоял, потупясь, у порога Крестовой и жамкал в руках скуфейку. Вроде бы и смирен, и почтителен, но чем же не заправился, не залюбился он патриарху, еще не вымолвив и слова? Лишь когда дочитали челобитную и принесли все вины на голову Логгина, он впервые поднял глаза, и кроткий, задумчивый взгляд, на мгновение яростно вспыхнув, тут же и утек над святительскими клобуками в слюдяные окончины, за которыми пестро просвечивал царицын Терем. И как ожгло патриарха: почтение нету в Логгине, смирения и страху. Вот и этот слуга церкви болен гордынею и невесть что возомнил о себе. Гордоусы, они своею проказою не только заразили православную обитель, но и смуту закинули в христианское сердце. Со своей патриаршьей стулки, стоящей на рундуке, Никон зорко вглядывался в русачка с глазами, источающими голубой свет, и тайно узнавал себя: ревнив к вере, блюдет старопрежний обычай, чествует Господа, почасту поствует, оттого и бледен...
Но ты повинись, пади на колени, сломай выю пред иереями, срони слезу, проси прощения, даже если и безгрешен. Да куда там? Лишь Спаситель наш не ведал грехов, а мы же под тяжестью вин едва носим главу. А ты скрозь нас глядишь, суевер и бесстудник.
Оттого и согласья нет на Руси, что всяк про себя толкует, блудя по Писанию, всяк власти хощет. Но ты, священник, дай примера, не возносись пред земными властями, но уловляй душу мирянина Христовым словом, пробуждай в ней стыд. Ведь в ком стыд, в том и совесть. Всякое перекование с властями – туга для церкви. А мы, чуть что, ереститься сразу, в первых хотим быти: всяк на своего коня скочит и ну братися, ну рвать узду! Неучи, одно слово, не могут понять, что всякий трус и гиль от гордыни нашей...
Никон молчал, а святители допытывали от Логгина истин, принуждали признать проступки, но протопоп вин своих не приносил.
– Я не только словом, но и мыслию не хулил святых образов, которым поклоняюсь со страхом, – упрямился Логгин. Голос у протопопа ровный, струйчатый, без смущенья и робости. Неронов сидел на конике невдали от двери и, слушая Логгина, верил ему. В моленной не по разу и подолгу беседовали о вере, и Неронову была понятна и близка душа молодого священника. Да и за что пытать человека, коли нет верного дознания? Нам ли не ведать, как забыли воеводы Божий страх и глумятся над попами, почитая священников хуже собаки. И сам-то Неронов неоднова сносил от них побои лишь за то, что пробовал пробудить ревность к Спасителю. – Я только и сказал жене воеводы у него в дому, когда она подошла ко мне на благословение: не белена ли ты? Уж больно крашеной показалась, как идолище поганое иль баба степная. Такая страмница. Слово мое подхватили гости, и сам воевода на меня: де, ты, протопоп, хулишь белила, а без белил не пишутся образа. А я им, де, какими составами пишутся образа, такие и составляют писцы, а если на ваши рожи такие составы положить, то вы не захотите. Сам Спас и Пресвятая Богородица и все святые честнее своих образов...
...Эх, простая душа, позабыл вовсе, что трезвость ума и сердца в краткости слов. Хоть запнись, но удержи в себе последнюю мысль, ибо она может статься лишней.
– Так образа лгут? – вдруг вмешался Никон и азартно подался навстречу тяжелым телом, так что всхлипнуло кресло золочеными перильцами. – Коли образа лгут, то и вера наша измышлена? Не про то ли и толкуют лутеры? Не от них ли ты понахватался злоумышлений? Ежели сам Спас честнее своего образа, так кому издревле поклоняемся мы? Вот мы вглядываемся в икону, как в лазурное сияющее благолепием окно, и в нем видим Лик, бесконечно дозирающий нас...
Логгин вдруг несогласно встряхнул волосами, белыми, как мех горностая. И куда только подевалась недавняя смиренность, пониклость острых, тоненьких плеч? В боковую окончину упал предвечерний солнечный свет и ласково вызолотил маковицу протопопа, словно бы сам Сладчайший погладил сердешно страстотерпца благословляющей дланью. Темная однорядка обвисла на плоском, тщедушном его теле с впалою грудью, на тонкой шее порывисто каталось адамово яйцо. Такие отроки являются в ночных видениях, с ними связывают желанные и благие вести. Никон, еще не услышав ответа, уже почуял к протопопу острую вражду. Он косо, мельком глянул на Иоанна Неронова, сутулившегося с дальнего края лавки, поймал его тонкую усмешку. Вот кто ножи на меня точит, вот от кого чары, – угадал Никон сразу. – Всех святых собою затмить хощет и тому сына духовного научает. От него и поползуха. Втянули силком на патриарший престол, умолили, чуть ли не в ногах валялись, а теперь, лукавцы, ждут отдарка, смекают об меня свои драные чеботки обтирать. А вот этого не хотите?.. Никон мысленно состроил мужицкую охальную фигуру.
...А с чего ты вдруг озлился? с чего загорелся страстию так, что запылали уши и стеснило сердце? И запамятовал, что страсти нужно тушить водою любви, позабыл неоскудеваемое: «Прощающе друг другу, яко ж и Бог во Христе простил есть вам». Никон, поозрись вокруг, отыщи сердечными очами врага бесплотного и поскорее закрой уста.
– Так образа лгут? – настойчиво повторил Никон, понуждаемый кем-то невидимым, и навострил взгляд, словно бы восхотел прожечь Логгина насквозь. Супротивится рабичишко, из кожи вон лезет, а про честь давно позабыл.
Последние слова понукнули Логгина. Этот мордвин всю землю переучивать решил, подумал протопоп сварливо, уже видя в патриархе дьявольское наущение. Давно ли на святительской стулке, а уж всего себя обложил коврами. Но заговорил Логгин весело, с медоточивой ласкою: так змея выстилается перед жертвою, собираясь ее ужалить.
– Авва Дорофей поучал: «Бог вселяется в любовнова человека чувством небесным, и таковое тело дом Божий бывает». Всяк человек сотворен по образу Божию, но никто из нас не покусится сказать, что он походит на Спасителя, ибо Христос один. Такожде и икона, лишь наше мысленное чувство, с каким мы хотим обороть в себе мирское. – Тут вздох несогласия и сожаления прошел по собору, а Никон вдруг облегчился сердцем, ибо понял исток недовольства своего: и этот молодой благочинный норовит собою заместить в сердцах прихожан пречудный образ Спаса. – Я не хочу уверить, что надобно всем походить на образ Божий, коий нам недоступно зрети. Но ведь потребно душу и тело держать открыту и достойну, чтобы в жилище этом всегда было весело и любовно Христу. Враг бесплотный входит в нас всеми нашими чувствами, и надо берегчи себя...
– Образ – явленное, а не списанное. Он является внезапно, когда сильно веруешь и хочешь спастись. Он виден всем угодникам русским, – возразил Никон и властно припечатал посохом, обрывая тем дальнейшие споры. – Не наводи, поп, тень на плетень. Вот ужо сдам в науку злому приставу в палатку, там тебе скоро откроются небесные истины, еретник.
Никон стращал Логгина, уже не сердясь, охолонувши, лишь для прилики, чтобы образумить. Зачем обрекать доброго пастыря для волокиты? Ну заплутал поп, так пусть покается, и дело с концом. Посмирить путаника, привесть к истине, да и гнать домой к пастве. Чего шляться бездельно?
Ой, не надо бы Неронову выскакивать с дерзостью, ведь знал верно, как грозен Никон до ослушников. Лисою обовьется, чтоб поманить лишь, а после глотку перехватит – не вздохнуть. Но допекло Неронова, вишь ли, допекло христовенького. Даже озеночки залазоревели. Того и надобно Никону, того и ждал.
– Почему злым приставом грозишь, патриарх! – возмутился Неронов. – Нужно прежде произвести розыск. Тут дело великое, Божие и царево. Самому царю поистине следует быть на сем соборе.
– У государя и без нашего хлопот – не обраться. Еще своих собак ему на шею вешать. Насели со своими бедами, высморкаться бедному некогда...
Иль глуховат Неронов, иль дослышал, чего хотелось умом, но только завопил он, тыча в пол тросткою, не чинясь пред святителем:
– Патриарх Никон! Взбесился ты иль взбеленился, что такие кощуны мечешь на государское величество. Еще вчерась приклякивал государю, а нынче хульные слова клеплешь.
– Вот и ступай с ябедами, протопоп. Поспеши, пока другие не обогнали.
– Не ябеда Неронов, не-е, но царю верный слуга! – С этим решительным последним словом Неронов покинул собор и тем же днем, сославшись на Ростовского митрополита Иону, будто бы слышавшего хульные речи, он донес духовнику Стефану и Алексею Михайловичу: де, патриарх присоборно объявил, будто ему царская помощь не годна и не надобна и он на нее плюет и сморкает...
Через несколько дней с тайным крутым намерением Никон вновь собрал духовные власти, где объявил Неронова клеветником и навадником. Тот не повиновался, но сослался на митрополита Иону, что и тот слышал хулы. Иона сначала подтвердил, но тут же и заперся вдруг: «Патриарх Никон таких слов не говаривал».
– Эх вы, Христовы воины, – сгоряча укорил Неронов собор. – Пятитесь в лужу, как раки. А еще не припекло. Тьфу... и только. Вам бы объедки с патриаршьего стола подбирать. На кого воззрились? Омойте очи! Никон всю землю переучивать стал, а вам и дела нет. Как же... Он всей царской орды мудрее. А мы глупы-ы, ой глупы! На что умнику церковные догматы? К чему отцовы заветы?..
– Я сужу только по Евангелию, – кротко ответил Никон и снова спрятал взор. Клобук с байбарековой черной скуфейкой глубоко насажен на лоб, из-под густых нависших бровей кротко выглядывают любопытные улыбчатые глаза; всех привечает Учитель, все прижаливает, принимая в сердце; но зеницы темны, намглились, острые, как шилья, и даже сквозь длинную Крестовую палату стараются наколоть, усмирить протопопа. Да и то, чего взъелся? Как перцу под хвост... Взнялся под небеса, а перье ощипано. И глаза-то у него куриные, с бородавками на веках, и борода скопческая в три волосины. Царь-то к чему повадился ходить да слушать? – с неприязнью думал Никон, отыскивая слабину в протопопе, и все казалось в нем худым, нарочитым, предерзостным. А давно ли, кажись, в друзьяках верных ходили, клялись в верности...
– Какое Евангелие? – взвился Неронов. – Ты же под Арсенову дудку пляшешь, а тот все православные книги готов переиначить, кривовер и обрезанец. В Евангелии-то сказано: любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас; а ты и тех, кто добра тебе хочет, ненавидишь, а которые клеветники и щепотники, тех ты любишь, жалуешь и слушаешь.
– Я сужу по правилам святых апостолов и святых отцов, – спокойно возразил Никон, не взнявши голоса. Кроткое слово имеет особую силу унимать и бешеных, а с яростью вселяется в душу враг невидимый.
– В правилах написано не верить клеветникам, уличеных же наказывать без пощады. – Тут взгляд его упал на протодиакона Григория, ненавистника своего. Это он наклепал патриарху, прелагатай, лазутчик и проныра, он уже и в Крестовую пролез, и в первых советчиках у Никона. – Вон сидит, как сыч, Григорий протодиакон. Давно ли ты называл его врагом Божиим, разорителем, а нынче он у тебя самый добрый человек. Прежде ты имел совет с протопопом Стефаном и на дом к нему часто приезжал, когда был игуменом и митрополитом. Тогда все у тебя были непорочны, а ныне те же люди у тебя недостойны. И протопоп Стефан тебе враг стал, везде ты его поносишь и укоряешь, а друзей разоряешь, с женами и детьми разлучаешь. Досель ты друг наш был – и вот на нас восстал, кощунник. А Бог не прощает отступникам на том и этом свете. Ты за что, мучитель, старца соловецкого, своего духовного отца, велел бить немилостиво и в воскресный день? Вот ты укоряешь новоуложенную книгу, де, она церковь попирает и много власти дает государю. А ведь и ты руку к ней приложил и называл ее доброю, когда составляли четыре года тому. Приложил руку из земного страха, а ныне же на соборе дерзаешь против этой книги, на царя плюешь и сморкаешь, потому что государь дал тебе волю. Зри, Никон, пред тобою страстотерпец. И не навостривай взгляд на меня, не суровь. Я тебя все равно не боюся, ибо слово мое слышит сам Господь. А любящие Бога не боялись нищеты, скорби и смерти, за истину стояли, страдали крепко, как и ныне от тебя богомольцы терпят беды и разорение...
– Ты на святителя лжу клеплешь, в проповедях и ябедах на всю Москву меня хулишь. Хотя точно знаешь, что непокорников да разврастителей призываю к ответу, чтобы укрепить мир в церкви. Эх, Иоанне... Как я был всегда добр до тебя. Не раз мы плакали вместе, читая Святое Писание и видя, как настают последние дни, – сокрушенно посетовал Никон, в эту минуту искренне жалея заблудшего и желая ему прозрения. Он даже недоуменно, широко развел руками, указуя всему святому собору, дескать, сами видите, что протопоп глух к мольбам, не внемлет гласу патриарха и отторгает его увещевания. И все иереи зашумели, сдвинулись согласно укрепою патриарху, с почтением кивая Никону. – Ты, Неронов, и государю на меня клевещешь. А я терплю, стенаю и плачу за грехи твои, но молчу, не злобствуя. Но как мне быть, присоветуй, коли причетники твоего собора подали на тебя челобитную, де, смущаешь ты народ, имя мое понапрасну треплешь? Зачем восстал на меня, чего восхотел, Иоанн? Иль позабыл вразумление святых апостолов: «Аще кто из клира досадит епископу, да будет извержен».
– А ты вели прочитать на соборе, в чем меня обвиняют ябедники? Ты, патриарх, воистину лжешь, как и те шептуны, что окружили меня. Ну донеси до всех мои вины! – доступал Неронов, чувствуя, как слова его проваливаются в пустоту. Никон молитвенно улыскался, и эта притворная, неискренняя улыбка еще более взвинчивала протопопа... Любимый государь, где-ка ты? Отчего не поддержал мою челобитную и отдаешь бедного протопопа на травлю Никону? И неужели пелена на глазах застила беду? Русь гибнет. Ру-усь! Уже встала сердешная у врат погибели. Иль и ты, государь, вместях с псом своим Никоном, хочешь казить веру? Да нет-нет... Про то и помыслить страшно. – Я до самой смерти буду братися с тобою, празднословен! – с отчаянием выкрикнул Неронов. – Хоть все полки веди на меня...
Смешон он был, протопоп, в этой просторной темно-синей однорядке, длинной рясе и поистертых, не раз чиненных сапожонках: жиденькая, уже сивая косичка сбилась к левому плечу, пепелесый клок бороды задрался, открывая беззащитную, худую, морщиноватую шею. Эх ты, Аника-воин! – наверное, подумал всякий на соборе. – Тебе ли мечом потрясать!
Неронов победительно оглядел собор: иереи, игумены и старцы молчали, устрашенные вольностью протопопа, и лишь Павел, епископ Коломенский, вдруг решительно пересек Крестовую палату и подсел к смутителю, потянул Неронова за полу платья, прося успокоиться. Молчание нарушил протодиакон Григорий.
– Протопоп, побойся Бога. Ты ведь великого святителя кощунником и празднословием, и мучителем, и лжесоставником называешь...
Нашел себе Никон верную ищейку. Волос черный, витой, как у перса, глаза влажные, жгучие: такой вот и волочил Спасителя на Голгофу. Из-за каких морей прибило его на Русь? Кривоверы! Давно ли приклякивали мне, вопили, что только на Руси и сохранилась истинная вера. А нынче, еще роса не высохла, уже под грека приклонились. Смутно-то ка-ак... Заступница, заслони дланью.
– Что ты, Григорий, вопишь? – упрекнул устало. – Я не во Святую Троицу погрешил и не похуляю ваш собор. Сам патриарх попустил всякие нелепые слова говорить.
Никон тяжело огруз в кресле и, перебирая четки, в пререкования не вступал. Лишь молчанием он взял верх. Иереи ждали решения святителя. Ведь такой гили и свары еще не слыхала Крестовая палата. И неуж стерпит Никон?
– Неронов Иоанн, удались в сени и жди соборного решения, – велел патриарх глухо.
– А ты вели прочитать шпынскую бумагу свою, что сам и насочинял. А я твоего юзилища не страшуся!
Неронов ступисто вышел, гордо неся голову и припечатывая каждый шаг ключкою.
– Шут гороховый, – кто-то угодливо бросил ему в спину.
– Не шут, но духовидец! – твердо поправил епископ Павел. И за эти-то слова платить ему вскорости слезами и несчастьем.
Не добрался государев любимец до своей семьи. Тем же часом из патриаршьих сеней отвезли Неронова в Симонов монастырь, где и был он отдан под крепкое начало; томили его в пристенной келейке в затворе семь дён, не давали и в церковь сходить; даже ночью при свечах стерегла его вахта, не допуская к сидельцу ни причетников верных, ни сынов духовных, ни кого из домашних чад и домочадцев. Вот и сон в руку, Иоанн: страдать отныне до гробовой доски. На восьмой день на крутых рысях на телеге вернули протопопа на Цареборисовский двор, на булыжниках и ухабах чуть душу не вытряхнули, едва живого доставили, да тут же в темничке взяли Неронова в батоги, раскатали по лавке и били немилостиво. И не дав отлежаться, притащили в соборную церковь, и Крутицкий митрополит Сильвестр снял с опального протопопа скуфью. Смиренно принял Неронов свою судьбу и был несказанно рад выпавшим мукам. Телом и духом он въявь понял Христовы страдания и решился повторить их. Он так бы, тихомолком, в сопровождении чернца и сел бы на поджидавшую его телегу, но тут епископ Коломенский Павел заплакал вдруг и вопросил: «Иоаннушко! И не страшно тебе страдати? Напитай меня духом своим». – «Сладко... и слаже того нету. – И отыскав взглядом патриарха, затаившегося под сенью, добавил мирно, с тихой улыбкой, словно бы прощенья просил: – Никон, услышь!.. Да, время невдолги будет, и сам с Москвы поскачешь никем же не гоним, токмо Божиим изволением! Вам всем глаголю ныне, что Никон нас дале посылает, то вскоре и самому ему бегать!»
В четвертый день августа наложили на Неронова большую цепь, погрузили в телегу вместе с немудреным скарбишком, что притащила в монастырь напоследях Протопопова дворовая челядь, и отправили сердешного в Вологодский уезд на Кубенское озеро в Каменный монастырь под крепкое начало. И пристав, что сопровождал опального, повез с собою патриаршью грамоту настоятелю: «... за великое бесчиние велено в черных службах ходить».
Вроде бы давно ли из родного вологодского сельца отправился на чужбину с одною горбушкою в пестере, а вот и жизнь колесом прокатилась, как один день: уже сивого, редковолосого, с плешкою на темени и с морщиноватой шеей везут Неронова, точно преступника, в обрат на Вологду с большою цепью по чреслам; но тихая слава о праведнике бежит уже далеко поперед от деревни к починку, от сельца к погосту, от паперти к трапезной; а велика и неиссякновенна неприметная русская милостынька, не даст она пропасть христовенькому в самую лихую минуту; тем более нынче, когда Божьего человека, заступленника и ревнителя, везут по хлябям и в неволе. Окованный праведник для всякого русского поселянина уже свят тем, что страдает, муками приравниваясь к Спасителю.
1 Из жития Неронова
«... Иоанн еще юношей оставил родное село, пришел в Вологду, где сразу заявил себя смелым ревнителем благочестия. Он пришел в город на святках, когда неразумные люди собирались на бесовские игралища, налагая на лица свои личины разные страшные, по подобию демонских зраков. Увидев ряженых, выходящих из архиерейского дома, молодой Иоанн разжегся духом, начал обличать их дерзновенно, за что был очень жестоко избит. Но лютые побои не охладили ревности юноши. Оставив негостеприимную Вологду, он удалился в пределы града Устюга, где решился обучиться грамоте у одного благочестивого мастера. Медленно давалась Иоанну грамота, един букварь учил лето и месяцев шесть, учитель даже опасался за его зрение, ибо Иоанн, прилежно очима зря в букварь, непрестанно слезы лил; и разум юноши наконец отверзся, и стал он разуметь писания лучше всех своих сверстников. Оставив Устюг, Иоанн перешел в Юрьевец в село Никольское, где и женился на дочери тамошнего священника. Живя у тестя, Неронов ревностно занимался чтением и пением в церкви и в то же время, видя развращенное житие жителей, непрестанно обличал их пианство и многое бесчинство. И на этот раз обличения не прошли даром. Священники написали донос патриарху Филарету Никитычу; на доносе подписались не только мирские люди, но и тесть. Тогда Неронов тайно ночью оставил село и отправился в Троице-Сергиев монастырь...»
Провожал Неронова Аввакум. Пристав – добрая душа – разрешил ему накоротко прискочить на задок телеги, чтобы попрощаться, да вроде бы и забыл о чужаке.
Уже третий день ехали под сиротским дождем: нудил и нудил окаянный, не зная отдоху; ляги, перемоины налились всклень и с пополудни мерцали по-августовски темно и тревожно. Спутники больше молчали, не то чтобы остерегаясь уха возницы, но так легче было разговаривать душою. Порою, вздыхая тяжко, перекидывались взглядом, удостоверяясь в сердечной верности, и взоры их были согласны. Под дорожным кабатом Неронов был едва приметен и походил на примятый сноп. Аввакум сидел избочась, просунув длинные руки меж колен; телегу качало на ухабах, и протопоп переваливался в лад. Сзади, приотстав, раскидывая копытами грязь, попадали на конях дюжина стрельцов. Что за разбойник, шиш подорожный, оторви – да брось, душегубец и злодей тянулся в запредельную северную сторону, коли так сурово приходилось стеречь его по указу патриарха? Да нет, всего лишь языкатый, норовистый попишко, от которого богомольная Москва уж кой год без ума...
Когда резко шатало телегу на колдобине, глухо взбренчивала и влажно мерцала большая цепь. Слушай, Аввакумище, этот грустный перезвон, вглядывайся прощально в эти мерклые сиротские пажити, в эти веси за серой кисеею дождя, на почерневшие древние церковки, сторожко, задумчиво стоящие на взгорках, далеко провожающие путника и поклонника чешуйчатым осиновым взглавьицем.
...Эй, Неронов, гони прочь совсельника, не запустошай его сердце червем бездоли, не соблазняй душу отмщением, пагубой любви и веры: тебе сладко страдать, но зачем младшего брата своего толкать на мятную гибельную стезю?
И словно бы услышал Неронов неясный призыв, пробудился, выпростал из куколя голову, снял скуфейку и умылся дождем, блаженно разминая ладонями осунувшееся лицо; и волосы, с уже заметным гуменцом на темечке, протер и улыбнулся тепло и грустно: и так по-отечески взглянул на духовного сына, что у Аввакума забродило в груди, и он глухо керкнул горлом, сдерживая слезу, как лесовой старый ворон. Эх ты, мокрая твоя душа!
– Ты не взаболь ли со мною собрался страдать? – спросил Неронов улыбчиво, внезапно освобождаясь от нудившей его внутренней тесноты и обиды: и понял вдруг, что уже смирился с изгоном. Бог не выдаст, свинья не съест: и там люди родные живут, и с има Христос! – Слышь, Аввакум? С первой же попажей вертайся назад. Собор оставили покинутый и затворенный для верных. Давай возвращайся – и отвори! Говори прихожанам: люди, обнимитеся сердцем, хватит вздорить. Настали последние времена, Змей Горыныч идет на Русь! Ты понял?
– Ой, батько-батько! – поднял Аввакум тоскующие глаза. – Может, обойдется еще? – Он порывисто заголил у Неронова намокревший рукав дорожного кабата, отодвинул огибное железо, закованное намертво кинжами, и поцеловал припухлую мертвеющую кожу: запястье руки тонкое, с ручейками сонных жил. – Жалко мне тебя, так жалко... Давай дадим тягу?
– За меня не тужи и не бери в голову. – Неронов решительно отнял руку, из-за пазухи добыл тряпошный узелок, долго, коряво копался остамевшими от дождя пальцами, помогая зубами. Возница-мирянин обернулся, подозрительно приглядываясь к седокам, но смолчал. – На тебе просвирку, сынок. А как станет больно худо, так и причастися, и дух мой вместе с Христовой плотью в тебя и вольется, займет каждый твой сустав и жилку и укрепит в немощи и туге. – И чего не ожидал Аввакум, Неронов цепко, азартно притянул его за шею и, подмигивая в спину возницы, горячо зашептал на ухо: – Пристав трижды ковал меня в темнице, да и отступился. Слетывают железа, не держат. Леший, говорит. Это про меня-то... леший, мол. Не связать им меня цепью. Как захочу – уйду, и великим войском не удержать.
Только сейчас дошло до Аввакума, что десница опального протопопа свободна, та самая длань, кою так горячо еще минуту тому он целовал. Да и то верно: разве оковать святого человека? И потому не шибко удивился Аввакум особой чудесной силе Неронова. Коли сквозь мглу времен предвидит божественные решенья, так что стоит ему скинуть чужебесные узы?
Неронов приотвернулся, неприметно просунул ладонь обратно в огибное железно и для верности, с какой-то странной ребячьей похвальбой встряхнул тяжелой цепью, мерно пролившейся звеньями вдоль тела к щиколоткам ног. Лошадь вспрянула и затрусила полевой дорогой.
Снова въехали в суземок, пошла лесная тележница, перевитая кореньем, еловый лапник свешивался почти к земле, гнус, не отставая, так и висел облаком над телегой. Тишина невмолчная, серенький денек, провисшие, готовые снова лопнуть дождем небеса – и на десятки верст ни одной живой души: из престольной да в звериную глухомань сунул изверг такую светлую душу. И невольно воскликнул Аввакум, вдруг открывшись, что на сердце его отныне поселилась жесточь к патриарху и будет жечь, пока восседает он на государевой стулке.
– Скинулся на нашу голову шиш антихристов. Скоро и антихриста жди...
– Не величай зря его, – возразил Неронов. – Просто он вздорный человек. Чего ему не смолвят – всем искренне верит. Вздорный он – и все. Какой он шиш?
– Стефан смутил, а нынче, поди, локоть кусает. Кусай-кусай, перетыка.
– Не злобись! Экий ты...
– Дак что... Втащили греховодника в церкву. Он заставит вас в алтаре бесов тешить. Как в пряженье лишнее масло пеною изойдет, так и в книгах писаных нельзя блуждати, утопая в словесах. Вы-то, батьки наши, куда глядели? Чем опоил Никон, что поддалися его посулам? Думали князьями церкви стать? Возмечтали втай сливки снять, а получили сукровью по губам. Чего ж вы, а? – копнул Аввакум тлеющую язву.
– Ругай, протопоп, кляни нас. Думали, рубль золотой нашли, а то грош ломаный.
– Может, обойдется? Друг ведь сердешный был. Только и миловались: челом да в губы, – снова невольно укорил Аввакум. И не хотел бы утыкивать страдальца, но горечь из сердца сама проливается пеною. До слезы жалко батьку: вернется ли в родные домы? С его-то крутым норовом полезет с орациями к чернцам, а они таких не шибко милуют. В опале да в чужой трапезной не величаются шибко, но больше плачутся. Чего же ты спрятал глаза честные, Иоанн? Глянь-ка сыну духовному прямо в душу, обойми его взглядом, возвесели путным словом, укрепи от досадителя и вертопраха, чтобы не прокрался, не обольстил алгимей прелестными речами. Тяжко будет без тебя на Москве, тяжко и горько...
– Гордоус он. А гречанам то и надо было. Живо окрутили, ухватили от нас похвалебщика. Он, вишь ли, в книгах древних знаток, он Петра Могилу впитал. А не понял того, глупец, что Могила папежников ненавидел, а русских презирал. Какой же правды святой можно почерпнуть из чужого презрения? – Не хотел, да возжегся Неронов: сын духовный зацепил за больное. Не раз ночами в духовных моленьях думалось о грехе, что допустили сообща. Вдовеющую церковь повенчали с дурнем и самохвалом. Ох ты, Господи, прости грешника. Дурни дурня затащили на престол, будто спьяну. – Тебе слезать за поворотом. Слышу, бубенец сбрякал. Не перебивай, Аввакум. Ты знаешь, закоим приидет Христос на землю: не вложити в руку мира, но рать и меч; разделити отца на сына и сына на отца, и дщерь на мать свою, и невестку на свекровь свою. Сицево Спасово речение часто вспоминай и мне не заступай, дело начавшему. Но, молю, и помогай. Аз орю и добре землю делаю, ты по ней посей. Не угаси, молю, малые искры, лежащие в тебе, да не от Бога наказан будешь, ежели погубишь правду. А теперь ступай, ступай, и более ни слова.
Неронов спихнул Аввакума с телеги. Возница наддал лошадь вожжою, и телега запрыгала по кореньям. Мимо, чуть не сронив жаркими коньими боками, проехала стража. Аввакум, запоздало спохватившись, закричал вдогон: «Бать-ко-о! Как прибудешь на место, дай весть... Ждать бу-ду-у!»
Глава двадцать вторая
...Семя – злак – зерно...
Посеялись – возросли – легли под косу.
Открылось оконце в небе, выглянул оттуда ангел и занес в свой имянник народившееся дитя.
Но однажды закрылось оконце – потухла звезда – угасла свеча.
Всё из земли и всё в землю.
Но для чего-то ведь скопился люд в единую груду, неутомимо храня кровное и сердечное родство, обустроился, обзавелся гобиною и порядком, кромами и лавками, царем и войском, церквами и кружечными дворами, палачами и тиунами, языческими идолами и душевными праздниками, нищими и святыми праведниками: сбился под одно ярмо, впрягся согласно в колымагу, подноравливаясь к единому ладу, подставил плечо под крест Христовый, чтобы дружнее было тащить его на Голгофу.
Зри круга начертание – о нем же святой Авва учит: жизнь – смерть – жизнь.
Неужель для того скучился с покорностию русский народ, чтобы только кормить волостелей и тянуть тягло? А платит тяглый люд постоянно: дани и оброки, деньги на выкуп пленных (полоняничные) со двора по восемь денег, со дворов служилых по две деньги; стрелецкие деньги, ямские, на корм воеводе, в подмогу подьячим, сторожам, палачам, тюремным и губным целовальникам, на строение воеводских дворов, губных изб и тюрем; в Приказную избу на свечи, бумагу, чернила и дрова; прорубные деньги за позволение зимою в прорубях воду черпать, платье мыть, скот поить; чинить крепости, строить мосты; да для ратных людей собирают со всего Русского государства двадцатую деньгу серебром; а еще взимают хлебные запасы рожь и муку, и сухари, и толокно, и крупы, и мясо, и соль, и вино со всяких вотчинников и помещиков, с крестьянских дворов и бобыльих и велят везти в порубежные земли, где война ведется, иль войско стоит, иль рать затеивается, а коли далеко, то берут деньгами.
Неужель для того является на свет мил человек, чтобы неустанно биться над пашнею, обильно поливая ее потом, тянуть из нее живые соки, а после те соки перегонять в равнодушную деньгу, а после ту, рубленую и чеканеную, меховую и золотую, медную и дармовую, серебряную и потную, разбойную и потешную, последнюю и смертную – гнать, гнать, гнать в невидимую народу мошну, в подвалы и кади, столь ненадежные, податливые для всякой охочей твари, строящей подкопы и норы, в кои и утекает в неведомые уже места русская сила.
Господи!.. зачем рождаться для такой нужды, тоски и скуки, для столь бесполезного занятия, для утех беспамятной утробы своей, коли сама-то копейка – предательское колесо; деньги, точно пустынные барханы, кочуют из подвала в подвал; будто перекати-поле носятся по земле, страшась надолго задержаться в чьей-то мошне. Деньги – это явленый бес, и не в его же услугу поступать с подъяремной выей, чтобы после нищу, и нагу, и босу лечь под гробовую доску, ибо по смерти ничего не надо, да и ничего не прихватишь с собою, окромя своей Души...
Русский человек и буйничает-то, и задорится самохвально, и бражничает, в хмельном угаре поклоняясь всем богам кряду, и вольничает без удержу лишь для того, чтобы, образумясь, еще глубже задуматься и озаботиться своей душою. А за-ради этой заботы простится всякий, даже немыслимый грех.
Ибо все идет мимо, токмо душа – вещь непременна...
...Никон прогнал меня, Аввакума Петрова, как бродячего пса, как латинянина с соборной паперти, как опойцу из кружечного двора. Даже с последним холопом так не обходятся. Ишь ли, он видеть не захотел и гневается. Из сеней патриаршьих велел вон выпинать: де, он Юрьевского протопопа и прежде не знавывал и нынче знать не хощет, а коли тот станет и дальше шататься по Москве, то велит ябедника засадить в темницу, как тех двух дьяконов, что ныне в Сергиевом монастыре плачутся в особой избушке без еды и питья.
Это что за причуда? государь с государыней меня жалуют, а подпятник царев, слуга вернейший, коего царь за хоботье вытащил на свет белый из ямы, вдруг вздивияв на меня, с крыльца своего пехает, нарочито предав старое знакомство. Верно, что всего однажды встренулись в доме Ртищева, ну ладно, тогда же и поцапались, как дикие коты. Он напротив, ну и я не уступил. А что? был будто бы верным иосифлянином, о Руси плакался, а тут на... зашатался, как трухлый обабок. Оба хулили упадок веры, беспутство и безмерное пианство, но при этом Никон все на киевского Петра Могилу да на Сатановского упирал, на патриарха Паисия, не чая в них души, уповал на их крепость и подмогу, а он, протопоп, Русью возгоржался да утыкивал митрополита тем, де, негоже прокусывать себе подпятные жилы, чтобы после осесть на лавку сиднем, когда всякий чужестранный шишига, улестив поначалу обманчивыми речами да сахарной головой и кубком романеи, после станет тебе же в рожу плевать...
Ненавистничает Никон: де, отчего я памятку на него государю составил. Злопамятен патриарх и ерестлив, как царь Неврод, и теперь не успокоится, пока со свету не сживет меня иль в ноги не паду. А вон этого хощешь? Хрен тебе с маком. Даже заяц, коли на уши ему наступить, и тот на волка загрызется. Окружил Никон себя лазутчиками и душегубцами, кои готовы своими руками кровь проливать, заслонился клеветниками и навадниками, что мучимы бесами: они-то все у тебя вылижут усердно, что ни подставь им, да и возрадуются, воспев: ой, сладко!
Но и Стефаний, друг сердешный, тоже хорош. Давно ли Неронов с Москвы съехал, а духовник об него и ноги вытер. Иль ушел в потаи, страшася святительской мести? иль душою всяко ослабел, потерявши друга? О, юдоль наша плачевная. Написал государю челобитную, прося о помощи: ведь как умолял Стефания снесть в Верх, открыть очи Алексею Михайловичу на тернии наши, ибо стеснены мы ныне, как овцы посреди волков. Крещения православного греки не имеют, ни следа христианского в них нет во всех, чернецах и бельцах, и горше они, злее, чем татарове. Сами продались латинам и турскому махмету и нас хотят продать за презренное злато... А Стефаний не только не снес государю, но как признался, что в ларь ту бумагу скрыл подальше от глаз, одного вида ее боясь. Как не вспомнить тут Давыда богоотца, что рекл: не надейтеся на князя на сына человеческого, в них нет спасения.
Но, однако, хорош лазутчик, умаслил меня сковородником по лбу. От царя, сказывал, утаил мою грамотку, страшась гнева, а Никону-то объявил за моей спиною. Бедный Иоанн, оставь упования свои и хлопоты издалека о церковной порухе. Ты подобен Павлу апостолу, благодать устны твоими действует, яко же Павловыми. Но тут, на Москве, уже слаялись борзые. Добры законники церковные, что наши земские ярыжки: что им велят, то они и творят. Прикажут им гнать смиренного человека в шеи, они и рады стараться. И неуж я один остался с раскрытыми очима, как часовенка придорожная сиротская? И скоро рухнет православная вера, а с нею и Русь. И никого не поразит в самое сердце это переменение света? Никто не восплачет, не застонет, не возрыдает, не падет в ужасе ниц, проклиная тот час, в коий привелось родиться? И земля наша не содрогнется в неистовых корчах, не встанет торчком, опрокинув в тартары блудодеев, для коих кусок хлеба покажется черствее камня-дресвы?
Последняя мысль ужаснула Аввакума более всего, для него даже небо померкло въяве и солнце вдруг закатилось. Если бы известили его, что ты завтра погибнешь, то и это обещание, безжалостный приговор не навели бы на разум подобного помрачения. К чему жить без Господа нашего? и ежели с такою легкостью переменяют на нем одежды, изменяют его облик, его образ, его мысли, то не обручают ли втайне с самим сатаною, меняющим личины с такой хитростью и умелостью? И что мы, русии, без Спасителя нашего? ибо все быванье наше сразу становится усекновенным, короче заячьего хвоста. Воистину жизнь уподобляется младенческому вздоху, когда, появляясь из материнской утробы, первым воплем ты с тоскою возвещаешь о своей смерти. Протер глаза от слизи – восплакал от ужаса – и помер. И всё? И значит, нет жизни бесконечной той, что встречает радостно за саваном Невеи, жизни богооткровенной, всерадостной, всепрощающей, окутанной прозрачными солнечными покровами...
«Проснитеся, злодеи! – все взовопило, воззвало внутри. – Вы промениваете жизнь вечную на утехи утробы своей. Вам обещает Господь вечное блаженство, а вы хотите погубить себя навсегда в извратах плоти своей! О, бессмысленные, чудовищные... Очнитеся!»
Наверное, и въявь простонал протопоп, потому как у рыбных рядов, мимо которых блуждал Аввакум, у сходней торжища, где катили бочки и таскали в ящиках живое серебро, в пристанной, пропахшей рыбою толчее на него заоглядывались. Оскальзываясь на глинистой тропе, Аввакум портомойным мостком прошел к Москве-реке и, нагнувшись, наплескал и в глаза, и на грудь, и на шею за ворот однорядки, остужаясь от сердечного плача. И только тут пообсмотрелся посторонне, как бы сходя в могилу, трезво и скорбно. Сизая туча наплывала с запада, наступала на вечереющее солнце, и оно, прощально золотя чешуйчатую спину наползающего дракона, с неохотою, но неизбежно погружалось в аспидную темь. И в реке отражение тучи жадно схитило и серебро убегающей воды, и сверкающие золотом кремлевские шеломы, и белый клин китай-городской стены. У берега притулилась патриаршья насада с живою рыбою. Мужики сачили черпаками из садков белуг, и осетров, и стерлядей, таскали в ящиках к телегам с чанами, залитыми водою, с уханьем и плеском сбрасывали пудовые туши с желтыми от жира брюхами в ждущие кади, чтобы после доставить лошадьми в патриарший сад, откуда свежину станут отлавливать к святительской трапезе. И что тут такого? обычная русская жизнь; на любом русском столе подобная ества не в диво. Но в досаде Аввакуму все виделось мерзким и развратительным.
«Ишь, брюхо-то тешит, – подумалось ненавистно. – Для брюха-то своего и Бога готов продать...»
...Бедный, бедный руський царь; он до нас-то всею душою, следит, родитель, и балует, как малых детей, а какое за это ему благодаренье? только готовят тайком всякие свары да прю. Замкнули бедного в Терему, как в застенке, окружили христианское солнце, яко темные облаки, норовя совсем угасить. Ведал бы ты, свет-царь, какая туга, какая кручина и печаль накатывается на православных, так неужли не встал бы на их укрепу? Царь-государь, проснися от колдовского опоя, встряхни наваждение со своих очей и озрися кругом, разгони властной десницей мглу, что нависает над твоей державой. Не потух ли ты в опочивальне своей на торжество западным еретикам, и потому не чуешь, как падают на поле брани за веру твои верные воители. Был заступленник за правду Иоанн Неронов, коего ты так любил слушать и даже плакал, внимая его речам: и тот ныне на краю света на каменном острову заключен бесами...
Где же мне-то сыскать правды? куда толкнуться? в какие приветные двери вступить с надежею и державою? Ведь Никон науськал казанских священников, те и погнали меня вон: вчерась не дали читать поучение к народу, толкуя, де, ты в Юрьевце протопоп, а не здесь. Там и проповедуй! Выпроводили из церкви и дверь за спиною закрыли. Ну, мало разве терпел я? и в шеи толкали, и волочили за власы по стогнам и торжищам на посмех поганым язычникам, и били смертным боем для острастки. Ан жив курилка! Бока от битвы той задубели, и шкура бархатной стала. И ежели воистину настали окаянные дни, то и конюшни иных церквей лучше...
Другой раз и малого огня достанет, чтоб занялся пожар. Был бы сухостой да хворост, иль пороховатая истлевшая валежина, иль берестяной завиток, а то и падет одна лишь жадная искра – и пойдет тогда пластать полымя, и не унять огня, сколько ни бейся, пока все не пожрет пал. Вон и Москва не раз гарывала окаянно и горько от одного лишь свечного огарыша, и терпкий кислый запах пепелищ так и не выветрился днесь из кривых посадских заулков, из купеческих хором и боярских палат.
...Иной человек – сама Христова церковь, излучающая братолюбие.
А другого взять – сплошной ходячий огнь: он и трутоноша, и кремень, и кресало. Вроде бы и не видный собою, а от него так и летят искры, так и светит вокруг: слегка коснись лишь – и опалит всего разом от подочв до маковицы...
Августа тринадцатый день.
Казанский священник Иван Данилов снова встретил Аввакума в притворе дверей и сказал: «Протопоп, причтом велено тебя выпроваживать и на вечерницу не пущать». Паства шла мимо на моленье, и Аввакуму показалось особенно стыдно и зазорно таких прилюдных гонений. Он не сдержался и взовопил, размахивая ключкою пред лицом священника. «Воры! Каковы митрополиты и архиепископы, таковы и попы наставлены!»
Кто-то из прихожан, внимавших протопопу прежде, невольно замедлил на шум. Но Аввакум худо признавал знакомые лица. В сутемках, при жидком свете слюдяных фонарей на паперти все богомольники сливались в одно текучее серое пятно. Оно колыхалось, свиваясь в свиток и неожиданно напоминая тягучее водяное кружило, и увлекало в себя. Душа торопилась что-то выкрикнуть внятное, и лишь посторонним умом Аввакум запоздало и тревожно остерегал себя: Господи, не дай потеряться разумом. Прочь, изгинь бешенина, отступи от меня. Крестом гражуся и святой водой. И тут же кто-то твердо, неотвратимо настаивал: ну и пусть случится, пусть. Тебя Христос призвал!
Тьма расступилась вдруг, в голове стало просторно, а в груди жарко. Аввакума словно бы разъяло надвое, и один он остался на паперти с запрокинутой головою и с тоскою, тревогою провожал взглядом себя второго, отлетающего прочь: виднелись отпахнутые от ветра червчатые полы однорядки, подочвы зеленых юфтевых сапожонок, подбитые медными гвоздями, и плисовые штаны, надувшиеся над голенищами пузырями.
Того, второго, Аввакума подъяло над землею, над подкисшей августовской слякотью улиц, над Пожаром и Болотом, над тускло блеснувшей излучиной реки, и он разглядел тут свой грядущий путь, усыпанный маревыми болотными огоньками: извилист он был и похож на тундряную реку. Но так заманчиво было бы убрести прочь этой дорогою...
А с земли вослед донеслось: «Жадобый... желанный ты мой...»
Не голос ли супружницы Настасьи Марковны не пускал, не давал отлететь вовсе? Что же ты, жонка, не удержалась в дому, привязка такая, и приплелась следом: вечно же ты, как нитка за иголкой. Не где ты, за чьей спиною затупилась? Никак не сыщу взглядом.
«Поди, поди давай с Богом прочь, а то кликну стражу», – вернул на землю Данилов, нетерпеливо кулаком спихивая протопопа с крыльца. Но тот отмахнулся от священника, как от назойливой мухи, а после и давай шириться грудью, приступать угрозливо, как медведь на вилы: «Эй ты, шиш болотный. А ну, сгинь!»
И заговорил, возвышая голос, отвернувшись нарочито от врат церкви и обращаясь куда-то в простор площади, в самую темь, к мосту через Неглинную, где у решетки, еще не спущенной на ночь, светил костер и маячила стрелецкая вахта:
«Темные мы, темные, куда там... Лапти темные, ходим-бродим, об оборки запинаемся, из крапивы шти варим, сосне молимся. Вот и явился Никон-мордвин и всех нас переучивать стал. Еретику Арсену дедовы книги отдал: на, обрезанец, измывайся над преданием, печатай, как хошь, лишь бы посмешней. У себя в келье пригрел гречанина, и каждый день с ним совет держат. Темные не поймут, куда Русь из-под носа уводят, не увидят, им бы шарпаться при лучине... А мне то ведомо, православные, что, кроме подлинного часовника митрополита Киприана, был еще подметный, и тот подметный часовник со иными растленными книгами положен бысть в пустой палате под крыльцом у Благовещенского собора в сенях нетления ради повелением святейшего патриарха Филарета. И егда Никон, сокровенный вам, вскочил на патриаршество, тогда он те растленные книги вынял и в церкву внес и от того времени почал расколы творить в церкви и всю землю переучивать стал от гордыни своей и безумия. Не ведает того, греховодник, что до нас положено, так и лежи оно во веки веков! Не передвигай вещей церковных с места на место. Иже кто хотя малое переменит, да будет проклят! Держи, христианин, церковное неизменным и благословен будеши Богом. Отдайте матери нашей церкви имение все, и аз-от, которой передвинули на иное место, положите на старое место, где от святых отец положен был...
Ан што! Ныне приказал Никон и в церковь нас не пускать, истинных христиан, кто не поддался отраве и крепко держится древлего благочестия. А я вот то скажу верно: ежели воистину настали окаянные дни, то и конюшни иных церквей лучше. И кто в Спасителя нашего верует, отвернемся от капища прокаженных и блудодеев. Пусть ведают нечестивцы, что мы свет неизреченный душою видим, когда небо замгнуло и солнца нет, ни луны, а мы воистину и в темени видим, как в зеркальце. И истина та – Христос...»
Но приметил Аввакум, что одесную от него, ступенькою ниже, напряженно застыла боярыня Морозова, плотно окруженная сенными девками, и она вторит шепотом вослед проповеднику: «А мы истину и в темени видим, как в зеркальце. И истина та – Христос».
Смутитель еще и поучения не докончил, а священник казанский Иван Данилов уже тайно послал нарочного псалтырника с жалобою к патриарху на бесчиние протопопа, де, он святителя прилюдно дерзко хулит, сам же самовольно отдалился от церкви и кощунами на Господа сталкивает к ереси прихожан.
...Всенощную служили на сушиле во дворе Неронова; собралось ревностных знакомцев и ближней челяди человек с полста. Новый хлеб уже обмолотили и ссыпали в кади, ржаную солому выкидали во двор и убрали в скирды, и сейчас в сушилке от новин остался только густой житный дух да кучи половы, сметенные в дальний край глинобитного пола. Да тянуло прощальным теплом из-под колосников, из овинной ямы, где недавно денно и нощно горел огонь и под строгим досмотром костровщика сушились снопы.
Тихо было на Москве, и даже собаки ленились брехать. С воли в проруб натягивало сырью ночного воздуха, переспевшей борщовкой и падалицей: нынче деревья огрузли под антоновкой. Прихожане, как бы чуя свой грех иль испытывая вину и смуту, может, страшились грядущего наказания и порухи, а потому стояли в ближнем углу, близ дверей в сени, слитно, молча, дожидаясь от протопопа особенных вещих слов. От Бога человек спосылан, с самим Государем и Государыней на короткой ноге, он на дурное не направит; ему многое видится из сердечных глубин и святых книг, кои он прочел сквозь. На опрокинутой кадце пред Аввакумом горела тонкая свеча, на белой ширинке лежали поучения Иоанна Златоуста. Покрышка из телячьей кожи придавлена костистой ладонью протопопа. Узловатые пальцы нервно блуждают по книге, отыскивая в ней крепость. Всмотрелся Аввакум в поклонников и глубоко зажалел христовеньких, глаза защипало близкой слезою. Ну сам-то подвигся на бои, вдруг меч харалужный обнажил за веру, но их-то, исповедующих Христа, зачем сбивать на тревоги? Затем и подвигает на пути истинном, что еще не отравлены смутою и крепко веруют начертаниям старопрежних книг. Ой, бедные-бедные вы мои... Возле двери, как-то осторонь от дворни, жена в темно-синем костыче из крашенины и в камчатных рукавах, на шее нитка янтарей, на плечи наброшена пепелесая суконная епанча с опушкою из беличьих хребтин, белый плат смиренно надвинут шалашиком на лоб и повязан у горла в роспуск, как издревле повелось на Руси. Возле сын Иван, он присадист, коротконог, волосы сивым ершистым горбиком, рубаха лазоревая навыпуск, еще длинна ребенку, по самые колена, вязаная опояска сползла под пупок: ну сноп пшеничный, да и только; сыну уже одиннадцать, держит себя мужичком, и узко поставленные рысьи глаза его сторожко блюдут за прихожанами, чтобы каждого взять себе в память. Ивану неведомо, что у батьки на уме, но он уже записался в его ватагу и признает атаманское начало; дочь Агриппина утопила светлую головенку в матин подол, и из широких складок Настасьиного сарафана, как из птичьего гнезда, взблескивают навстречу отцу вишневые, слегка вздернутые глаза. В них какой-то зоркий недетский вопрос: де, что ты, батька, нам велишь нынче? Настасья же Марковна слегка приобвалилась к косяку, и грудь ее победно всплыла из-за костыча, как два каравая нынешней выпечки. Аввакум, блуждая взглядом, нет-нет да и натыкался на женино богатство, мигом растеривая воинственный настрой. «Приубрала бы телеса-то?» – сердится он на бабьи повадки, прижаливая супругу.
Их-то куда влеку? детишек-то зачем впрягаю в соху с такой рани? не для их неспелых шулняток чепи и колода невольников, не для их сердчишка темное юзилище.
...Но ежли не им ратиться с идолищем, так кому же?
– Чады мои церковный! Собрался было из «Маргарита» толковать поучения Златоуста, как наставлял страдалец наш батько Неронов, де, не чурайся истин и на каждый день из этого срубца почерпнешь себе живой воды. Ан слышите, трубы судные зовут? – Аввакум поднял над головою свечу и медленно обвел ею, разбуживая овинную темь и нарочито всматриваясь в каждое лицо, словно бы вызнавал средь прихожан Июду. Неужли из этих благочестивых молельников выползет змея и ужалит его в плесну? – Видит Бог, чада мои, не раздора мыслю, но мира. Я просился намедни к патриарху, чтоб умолить за Иоанна и Логгина, а он меня не допустил к руке своей, протомил в сенях и велел передать: де, знать не знает меня и видеть не хощет. Так пусть уверится Никон, что не меня нынче загнушался он, а слова Божьего. От самого себя сбежал в чащобу ересей и сблудил, несчастный. И долго ему страдати и шарпаться, пока-то сыщется прежнее упование под уметами грязи. Нам всем, православным христианам, подобает умирати за един «азъ», его же окаянный враг выбросил из «Символа» там, идежи глаголется о Сыне Божий: «Рождения, а не сотворения». Великая зело сила в сем «азъ»!..
...Враг человеческий не дремлет: о нем только подумаешь втай, а он уже у ворот стоит и грозится карой. Как сумел он протиснуться в протопопов двор, что и собака не лайконула для острастки, и приворотник не очнулся, не пужнул? Июды же навели на след ревнителей, сами не показавшись: не стыда убоялись они, ибо совесть давно похоронили, но укоризны бессильной тех, кого нынче предали.
Вдруг в бревенчатую стену сушила гулко сбрякало, раздался зычный грубый окрик, и Аввакум споткнулся в проповеди, так и не вразумив богомольникам, какая сила в «азъ», выброшенном Никоном из «Символа веры». Народ взволновался, затеснился; распихивая прихожан в стороны, светя походными фонарями, появился в сушиле голова Борис Нелединский со стрельцами. И Аввакум обрадовался, что явились мучители, проведали о нем гонители, и все повторяется, как в старопрежние времена, когда «поругали жидове истинного Христа».
– А... незваны прибрели, душегубцы! Соскучились по праведной крови! Ишь, упитались у трапезы Иезавелины! – Протопоп шагнул навстречу Нелединскому, протягивая тому руки: вяжи-де. Был тот кряжист, кривоног, на голову короче Аввакума, усы пушистые, как беличьи хвосты, голова в серой пуховой шляпе навскид. – Вяжи! Выслужился охичивать чужие портки, позабывши про свою душу! Пять Рублев положил Никон жалованья, да питье, да платье, так и готов рычать, как пес подпазушный...
– Берите волка, ребята! Воистину волк! – вскричал, осердясь, Нелединский и, проворно подскочив, ткнул кулаком в ноздри, чтоб юшку пустить попу, но промахнулся, угодил в плечо. Аввакум шатнулся, но устоял, кадца опрокинулась, и свеча упала в полову, пламя охотно заструилось по сухому хлебному праху. Аввакум опомнился, наступил ногою, освечной огарыш сломился под сапогом и умер. – Именем патриарха... велено вязать всех и доставить. Ему принесено «слово и дело».
Прихожане испуганно теснились в дальнем углу. Были тут несколько близких Аввакуму священниц да прихожане из ближних дворов, но главные-то молельщики – челядь Протопопова да домовые работники Неронова. Не им же голос вздымать. Стрельцы напирали на паству бердышами, грудили овчей в одно стадо. Кто упирался, тому живо доставалось ратовищем по хребтине: де, не противься, поганец. Тут Аввакумова дочь Агриппина вдруг всплакала навзрыд, по-щенячьи тонко прискучивая. И все тут поняли: гроза немилосердно свалилась на их бедные головы.
– Не плачьте, молитвенники, – воззвал протопоп. – Во Апокалипсисе писано: «Аще кто в пленение ведет, в пленение да идет, а аще кто мечом убиет, подобает тому убиенну быти». – Стрельцы ухватили протопопа за ризу, заломили руки за спину. Нелединский стоптал священническую шапку под ноги, притянул Аввакума за чуприну, пытаясь пригнуть его главизну долу, чтобы всякий еретик опознал, как мал и ничтожен их атаман, поднявшийся противу патриарха. Но шея, что ли, каменная у этого гилевщика и не гнется, окаянная, как ни заламывай ее, а голова не чует боли? Ой, бесстрашный человек, смирись, ибо неуступчивостью своей еще пуще злобишь врага. Свет стрелецкого фонаря падал в лицо протопопу, глаза его, покрытые кровавой сеткой, сверкали звериной жесточью. – Помните, чада! Уверуйте, милосердники! – из последних усилий взовопил Аввакум, жалеючи всех; он горел огнем и в эти мгновения мог пересилить любые язвы. – Кого любит Бог, того и наказует. Терпите наказание, тогда яко сыном обретается вам Бог. Детки мои, детки! Все мимо идет, токмо душа – вещь непременна...
Аввакума немилосердно вытолкали на волю, злобясь на строптивость протопопа. Пастырь вроде бы должен учить мирян терпению, а сам строполится святейшим властям и скалится, как уловленный в тенета волчара. Какой смиренности он может преподать богомольникам, коли сам-то полон зависти и нетерпения. Самому патриарху прилюдно спосылал кощуны! Вот и им, стрельцам, преподнес нуждишку и страсти: самое время средь ночи в постели байкаться, а после, ревностно помолясь, идти на новую службу, а тут возись с неслухом, отряхай с ворота непотребные брани. Потому и суровилась стража. Как душегубца и злодейца, полонив руки вервью, отвели Аввакума на патриарший двор в темничку, где и посадили на чепь. Ведал ли кир Никон, что в те минуты, когда в Успенском соборе он горячо молился за Русь, погрязшую в неверии, в патриаршие подвалы привели не просто ослушника и суторщика, но и грядущего главнейшего врага, что немилостиво ополчится на церковные власти и с этим гневом доживет до конца лет своих. Лопатинский попович Аввакумище озлился на лысковского крестьянского сына Никитку Минича и отныне примется травить его ежедень, не принимая перемен. Ах, кабы уверовал Никон, что судьбу свою он самолично повелел приторочить под полом брусяной келейцы. Как вопил Аввакум, обещая всяких лих на голову святителя, спосылывал громы и метал молоньи в низкий потолок, куда чуть пробрезживало из патриаршьей спаленки. Порою протопоп замолкал, напрягал слух. Как хотелось ему, чтобы патриарх отозвался, застучал ключкою в пол, затопал ногами и загрозился.
Но не слышал Никон тех злых наветов и остерега, а услышав, и не воспринял бы эти досады, посчитав их за самохвальство и изгильство Аввакумовой скверной натуры, ибо нынче был занят кир сугубыми делами обширной державы. А коли ширится и чинит всякие наузы, то плеть, тюремные узы и строгая монастырская келья живо смирят любого ослушника...
Прочих же грешников, кто предавался на сушиле тайным кощунным речам протопопа, отправили в тюрьму, там протомили с неделю на одном хлебце, подавая к случаю, а в следующее воскресенье Никон во время литургии всех предал анафеме и отлучил от церкви. Ибо вера стоит чином, строгостью и послушанием.
...Августа четырнадцатого, когда рассвело, в день недельный Аввакума отвезли на телеге в Андроньев монастырь и посадили на большую цепь в подвале трапезной. Три дня не давали ествы, лишь на четвертый неизвестный чернец тайно принес узнику в потемках немного хлеба и штец. Несколько дней водили Аввакума пеши из монастыря в Патриарший приказ для увещеваний: архидьякон Григорий допрашивал о челобитной к царю и велел принести Никону свои вины, а патриарх смилостивится и вернет их обратно, простя. Но Аввакум собачился дерзко, лаял и Никона, и архидьякона, называя того приспешником дьявола и борзым кобелем. «Неуж ты, отступник, не ведаешь, какую беду чинишь и засылаешь на Русь разор и поруху? Наши деды от веку двумя персты крестились, а ты живо на щепоть перескочил. А не ведаешь того, что глаголют богословцы: змий, зверь, лжепророк являет в перстах сих, сиречь змий – диавол, зверь – антихрист, лжепророк – учитель лукавый, папа римский и патриарх русский...» Григорий выругал протопопа матерно, обозвал безумцем и прогнал обратно в Андроньев монастырь.
Сентября первого за подписью дьяка Василия Потапова была начертана память Сибирскому приказу боярину князю Алексею Никитичу Трубецкому, чтоб отставленного протопопа с семьею по указу Никона за его многие бесчинства сослать в сибирский город на Лену в Якутский острог...
Сентября пятнадцатого в Никитин день привели Аввакума к Успенскому собору, когда совершался крестный ход. Сам патриарх служил литургию. Аввакума долго держали у порога храма, и все прихожане с любопытством и страхом дожидались, когда Никон начнет стричь протопопа. Но никто не догадывался, что царевна Ирина Михайловна, старшая из сестер, умолила государя, чтоб не лишали Аввакума сана, а дали время к исправлению. И решил государь: тоскует и почасту блудит сибирская паства без духовных пастырей, так пусть и отправится туда дерзкий протопоп.
И вот внезапно Алексей Михайлович сошел с царева места из-под сени, приблизился к патриарху и, поклонившись, упросил не стричь строптивца и дать пути к возвращению в истинное стадо Христово. Подьячий патриаршьего двора Иван Васильев и пристав Василий Волков отвели помилованного Аввакума в Сибирский приказ и передали дьяку Третьяку Башмаку для высылки. И отправили Аввакума Петрова вместе с женью Анастасией Марковной и чадами (сын Иван одиннадцати лет, Прокопий – пяти лет, Агриппина – восьми лет) в дальний Тобольский город. Загрузились на пяти возах, все житьишко прихватив с собою: еще раз обошел Аввакум свой зажиток, проверил, хорошо ли приторочены клади; каждого дворового благословил; супруге, сидевшей с детьми в телеге с крытым верхом, поклонился низко: «Не журись, Настасьюшка! Спасителю угодны страннички. Эко диво, и в тамошней сибирской стороне тоже наш народ живет и исповедует Христа». И обратившись в сторону патриаршьих палат, не сдержался, погрозил сурово: «Скоро и сам побежишь с Москвы, слуга антихристов, как пес борзой побежишь».
И тронулся аргиш в глухую сторону. За последней телегой, ухватясь за грядку, побрел протопоп, едва выдирая сапожонки из осенней слякоти, залившей бродные московские улицы.
Склони покорно, скиталец, голову к пожиткам и не заламывай ее почасту назад, чтоб не оставить здесь тоскующее сердце свое: кто знает, воротишься ли когда в престольную, в свой третий Рим, иль сронишь где голову, как репку, на глухой росстани. Давно ли маешься, сердешный, на веку, а уж четвертое житье меняешь, гонимый, волочась со всем нажитком и дворовой челядью. А что сулится впереди, то одному Господу ведомо. Но веруй и спасешься: кого Бог любит, того и наказует...
Царевна же Ирина Михайловна следом отослала с Москвы ризы и всю службу церковную, чтоб не подзабывал несчастный протопоп свою заступницу. Покинул Аввакум Земляной город и вроде бы выпал из всеобщей памяти навсегда. Да и кому ревновать о нем, коли единственный заступленник, отец духовный, батько Неронов и сам томится на каменном острову...
Костромскому протопопу Данииле, что вместе с Аввакумом жалился на патриарха, остригли голову и, сняв с него однорядку, отвели в Чудов монастырь на работу в хлебню, а после сослали в Астрахань.
Когда Никону донесли, что Логгину, запертому в студеную темничку, Господь чудесно дал шапку и шубу во избавление от смерти, патриарх лишь рассмеялся: «Знаю я пустосвятов тех».
Логгину остригли голову, лишили сана священства, содрали однорядку и кафтан. Логгин же разжегся ревностным огнем и через порог кричал на патриарха, плевал в глаза, спосылывая на Никона всякие будущие кары, а после схватил с себя рубаху и кинул ему в лицо. И не чудно ли распласталась рубашка и покрыла на престоле дискос, будто воздух.
Павла, епископа Коломенского, за возражения на соборе Никон изверг с кафедры, снял с него мантию, предал тяжкому телесному наказанию и сослал в заточение. И пропал Павел, как бы неслышно растворился на Руси, но слухи долго тревожили ревностную паству: де, отвезли епископа на Хутынь в монастырь Варлаама, а там был архимандрит Бряшко, и того Павла, угождая Никону, всяко мучил. Павел же начал юродствовать Христа ради, странствуя по новгородским пределам. И будто бы Никон послал злых слуг своих, и те убили страдальца, а тело сожгли огнем.
Глава двадцать третья
ИЗ ХРОНИК. «... Старец Арсений грек был принят в свиту Иерусалимского патриарха Паисия под именем уставщика в 1649 году: знал многие языки. В Путивле Паисий услыхал от малоросских старцев разные дурные толки об Арсении и сообщил в Москву царю: „Еще да будет ведомо тебе, благочестивый царь, про Арсения, который остался в твоем царстве: испытайте его добре, утвержден ли он в своей благочестивой христианской вере. Прежде он был инок и сделался басурманом, потом бежал к ляхам и у них обратился в униаты – способен на всякое злое безделие: испытайте его добре и все это найдете. Мне все подробно рассказали старцы, пришедшие от гетмана. Лучше прекратите эту молву, пока Арсений сам здесь, чтобы не произошло соблазна церковного. Не подобает на ниве оставлять терние, чтобы она вся не заросла им: нужно удалять и тех, которые держатся ереси и двуличны в вере. Я нашел его в Киеве, он не мой старец“.
Было приказано боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому да думному дьяку Михаилу Волошенинову расспросить старца Арсения, и 25 июля они расспрашивали его. И Арсений показал, что родом он грек турской области; отец его Антоний был попом в городе Трикале и имел пять сынов. Пятый он – Арсений, крещен в младенчестве, грамоте и церковному кругу учился у отца своего, а потом брал его с собою в венецианскую землю брат архимандрит Афанасий для учения, и в Венеции он выучился грамматике. А из Венеции брат свез его для учения в Рим, где он был пять лет и учился в школе Омерову и Аристотелеву учению и седми соборам. Когда же дошло до осьмого и девятого соборов, то от него, Арсения, потребовали присяги с клятвою, что он примет римскую веру, иначе учить не велят. Видя то, он прикинулся больным и уехал из Рима, чтобы не отпасть от греческой веры. Сказал, что жил в Риме у греческой церкви св. Афанасия Великого. Ему заметили, что он говорит ложь, будто жил в Риме у греческой церкви и митрополит тот не униат, когда всему свету известно, что папа всех иноверцев в Риме приводит к своей вере посредством унии, не только учащихся в школе, но и приводимых в Рим пленных, а митрополит тот ходит к папе на соборы и молится за него. Следовало бы Арсению сказать правду и повиниться перед царем. На что Арсений отвечал, что, находясь в Риме, в униатстве не был и сакрамента не принимал.
Он из Рима переехал в венецианский город Бадов и там три года учился философским наукам и лекарскому учению. А из Бадова пришел в Царь-город к брату Афанасию и желал постричься. Но постричь его не хотели, думая, что он в римской вере, но он пред всеми римскую веру проклял трижды. Братья хотели его женить, но он не согласился и постригся двадцати трех лет. На другой год поставлен в диаконы, а вскоре и в попы от Ларийского епископа Каллиста. После того епископ поставил его на Кафе-острове в Богородицкий монастырь игуменом, и был он там шесть месяцев. Из монастыря ездил в город Хию купить книг о седми соборах, но книг не купил и отправился в Царь-город и, находясь у великого человека Антония Вабы, учил сына его грамматике. Из Царь-города приехал в мутьянскую землю к воеводе Матвею и жил у него три месяца. От Матвея приехал в молдавскую землю к воеводе Василию и жил у него два года. Из Молдавии переехал в Польшу, в город Львов, и тут ему сказали, что есть школа в Киеве, только без королевской грамоты его в ту школу не примут, и он, Арсений, ездил бить челом к королю Владиславу в Варшаву. Король был болен каменной болезнию, и Арсений вылечил его, и король Владислав дал в Киев от себя к митрополиту Сильвестру Коссову грамоту, чтобы Арсения приняли...
27 июля по указу государя описана была вся рухлядь Арсения на ростовском подворье, где он остановился, и было велено сослать старца в Соловецкий монастырь для исправления. Велено было отдать его под крепкое начало уставщику Никодиму, и береженье велели держать большое, из монастыря никуда не выпускать, а пищу и одежду давать братскую.
В Соловках выяснили, что он в молодости действительно переменял веры и был в унии, как сознался на исповеди духовному священнику Мартирию, и што иначе не принимали в училища. В Соловках Арсений прожил три года и успел научиться славянской грамоте и русскому языку. Иноки убедились, что Арсений не еретик, но что он плохо исполнял внешние обряды, поклоны, посты. И молился не тремя, а двумя перстами, как иноки соловецкие, восхвалял русские церковные обряды, а о греках говорил: «У нас много потеряно в неволе турецкой, нет ни поста, ни поклонов, ни молитвы келейной».
Никон вызволил Арсения, дал ему келию в своем патриаршьем доме, сделал его библиотекарем патриаршьей библиотеки и одним из справщиков с греческого языка...»
ИЗ ХРОНИК. «... Мы вошли в церковь, когда колокол ударил в три часа, а вышли из нее не ранее десяти, проведши таким образом около семи часов на ногах на железном помосте, под влиянием сильной стужи и сырости, проникавшей до костей... И патриарх не удовольствовался только службою и прочтением длинного синоксаря, но присоединил и длинное поучение. Боже, даруй ему умеренность... Как сердце не чувствовало сострадания ни к царю, ни к малым детям его? Что сказали бы мы, если бы в наших странах было это? О, если бы Господу угодно было послать нам такое терпение и крепость!»
(Павел Алеппский.)
1
«Ковы невинному – есть дар Божий. Ломайте кости, жгите плоть мою, пусть кровь моя источится по капле и оросит землю на поедь собакам. А я радуюсь! Ибо чем неправеднее наказание, чем жесточее оно, тем слаже узы, хоть и рвут они плоть мою, подобно цепным псам. А я пою Исусову молитву благодарную: „Господи Исусе Христе, помилуй мя греш-но-го. Да пусть пожрет сия молитва мое сердце, но останется там осиянный облик Господи-на-а мое-го-о... Я плюю на вас, сатанаиловы слуги!“
Аввакум прощально обернулся к патриаршьей брусяной келеице, где так и не довелось прежде бывать, скоро обежал взглядом по окнам, ревниво отыскивая вражину своего и, дерзко вскинув голову, встряхнул цепью. За цветными окончинами, забранными в узорчатую кованую решетку, протопоп не выглядел Никона.
«Ну ты... еретник!» – лениво, для острастки понукнул стрелец и пихнул страдальца в спину ратовищем бердыша.
2
...А Никон-то ведь стоял тогда за крайним слюдяным оконцем, сжав пальцами темно-синюю суконную опушку окончины. Он грустно смотрел во двор, не поджидая для себя никакой новизны. Он вернулся со всенощной с непонятной прежде тоскою, присел на край лавки, чуя ломоту в костях, обвалился на изразчатую настывшую печь и вдруг накоротко забылся. Минуту спал иль час, но вдруг увидел, как в яви, свою прошлую истекшую жизнь, и сон этот занозил сердце. Стараясь сбросить наваждение, он и подошел к окну, чтобы омыть глаза утренним перламутровым воздухом, когда всякая убоявшаяся света мара утаилась до ночи в затайки и скрытни. И увидел Никон, как из патриаршьей темнички вдруг вывели узника. Никон сразу узнал его по этой особенной повадке шириться, заваливать назад плечи и заламливать голову, будто не попом служил этот человек, а рейтаром, наймованным за целковые. Да, не монах он, не чернец, что всегда смотрит в землю, как бы смиреннее ступить: этого узника томит гордыня. Ишь ли, как распушил перья, пустосвят и лжепророк. Завладела има горячка, затмила разум: хоть на каленые уголья посади, а им неймется. Плевелы эти надобно рвать разом и немедля, пока вовсе не заполнили Христов сад. Где ихняя вера, где им до Господа? только я да я, в самих себе заплутали! Никон с досадою стал нарочито вспоминать имя досадителя, хотя и не позабывал его. Намедни сам же по ябеде и повелел привесть еретника в темничку для расспросу: своими злокозненными речьями протопоп баламутил Москву и призывал к гили...
Никон и простил бы Аввакума, ежли бы тот покорно склонил выю, постучался до патриаршьего сердца, принес повинное слово никогда более не задираться. Но гляди-тка, лжепророк не только не припал со слезою к ступне патриарха, но дерзко обернулся и потряс цепями: де, гляди, патриарх, никого я не боюся. Значит, и самого Господа не страшится злодей, коли хульными речами попирает сам живой его образ...
Сквозь цветные шибки Никон придирчиво дозирал протопопа, и когда поворотился тот, Никон отчего-то вздрогнул и попятился за окончину, будто спрятался, уличенный в негодном умысле. Стоял Никон в белых нитяных чулках и в лиловом подряснике, глубоко распахнутом. Он хлестнул четками по оконной решетке, достал из подвздошной ямки верижный крест, пахнущий потным телом, и поцеловал. Нет, не мирскому священнику тягатися в истинной вере с чернецом, давно отряхнувшим с себя все земное, душе коего покорился и подшатился сам великий государь-царь.
Еретника и распутника можно и плеткою гнать из церкви...
А заноза из сердца так и нейдет. Проводил Никон взглядом Аввакума, да и позабыл того. Но ум-то мутится. Зачем же Господь послал весть из давно позабытой жизни? А привиделся Никону мертвый сынок, но будто он живой еще, лежит в берестяной зыбке, головенка бессильно повернута набок, жена над сыном приклонилась, и о чем-то они так доверчиво говорят, каждое слово бережно переливают из сердца в сердце, и ни одна капля не пропадает напрасно. Никон вошел в горницу, и сын взглянул на него избока, одним круглым светящимся глазом, похожим на изумруд. Он разом, сквозисто вобрал отца в себя, а черный зрак и озеночек вдруг торопливо стали остывать. Никон поймал с ревностию, как мирно, с любовию шепчутся мать с сыном – и позавидовал, грешный. Ему захотелось, чтобы и сын с ним посоветовался столь же доверчиво. «Это наш сын? Но он же умер», – изумленно спросил Никон, поразившись, что первенец, оказывается, жив, не преставился и, едва народившись, уже делится сокровенным. Но ответа от жены Никон не дождался. С тем и пробудился он.
О чем же с такой любовию и кротостью толковали они? Ведь что-то я расслышал с порога? какие-то отдельные слова? вот сын провещал: де, Бога не видно глазом, но он везде и повсюду...
Мой сын извергал хулу? Нет-нет, лишь причудилось мне и натолковалось нынче: это лжепророк Аввакумище нанес на меня смуту. Господь наш виден ревностному взору, как вижу я сей миг свой указательный перст.
...А сын мой удалился к Пресветлой Лучье в обитель, невинный, беспорочный агнец. И дочь последовала за ним в райские кущи. Не весть ли прислал какую и остерег, чтоб не мешкал я в церковных затеях ввиду грозящей непогоды? А может, и свидеться нам вскоре? Никон с покорностью подумал о смерти, и ничто не восстало, не ужаснулось в нем, лишь кровь вдруг вспыхнула в жилах. Детки мои, детки, благодарные Господни голуби.
В печуре стояла икона Иверской Божией Матери. Никон всхлипнул, опустился на колени и запричитал: «О, прекрасная Заря, держащая истинного Света! Возлюби раба недостойнейшего своего, дай соломинку утопающему в безмерном гресе! Помоги отшатитися от мирского и управиться с сердечной досадою и тщетою».
И сразу отпустило в груди, отмякла горечь в горле. Патриарх, не утирая слез, поднялся с тоскнущих колен, чувствуя себя одиноким и старым. Он насунул очки на взгорок носа, припухшего от слез, и Божья Матерь сквозь зеницы вступила в него и заполнила всего благодатью и миром. Воистину Заря Прекрасная и неизреченная в святых небесных одеждах.
...На Валдае приканчивалось строительство Иверского монастыря: затеял его Никон, безмерно возлюбя Иверскую Богоматерь. Поклончивый и богобоязненный государь одарил монашью обитель подворьем в Москве, наделил пустошами, и селами, и деревнями, и разными ухожьями. Никон же вывез из франкских земель большой полислей из желтой меди в размахе с большое дерево с коваными цветами и птицами; обошлось паникадило в девятьсот динаров. Он же решил поднесть приписанному под себя монастырю икону Иверской Заступницы, сработанную афонскими старцами. А дворцовые чеканщики одели Царицу Небесную в золотые ризы, обложили драгоценным камением, так что встала икона патриаршьей казне в четырнадцать тысяч рублей: столько и все церкви Москвы за лето не насбирают...
Никон нищ, как смиренный инок: много ли стоят житняя горбушка, соленый огурец и горшочек тыквенной кашки? Но он и наделен воистину царскими сокровищами, как патриарх-государь: ибо бесконечна к нему щедрая любовь Алексея Михайловича. Давно ли Никон на патриаршьем троне, а уже пятнадцать тысяч крестьянских дворов, помимо прежних десяти тысяч, отошли по царской воле в Монастырский приказ. Давая хлебы на пропитанье искреннему молельщику своему, русский мужичонко копытит копорюгою пашню, тянет тягло, чистит новины и устроят гари, ловит рыбу и бьет зверя, выхаживает всяческие плоды, варит соль, гоняет табуны и сбивает коровье масло; тонок, почти невидим денежный ручеек от каждого подворья, но зато с краями полна патриаршья золотая криница.
...Монаху подобает трудиться неустанно и молиться смиренно, а не стяжатися. Грех тот батько-патриарх на свои плечи взвалил, чтобы не скудела монастырская гобина, чтобы изящные изуграфы писали святые доски, чтобы не тратились молью соборные ризницы и не опадал в прах церковный завод. Да, я – кир Никон, не замотай и не заплутай, я не утаил из мошны ни полушки, никто не зазрит меня в поклончивости утробе своей и многопировании, и ни единой копейки не выпадет из патриаршьей казны, пока я прочно держу в руке посок святого Петра. Я скупец? Да, но для себя лишь. Мне-то хватит одного опреснока, чтобы умирить глад. Тогда, быть может, я великий Мамона монастырских угодий и за-ради лишнего ефимка вогнал в маету и нищету чернецов и старцев, попрекая всякою ложкою похлебки? иль ввел в зазор трудника и работника? иль ввергнул в юзилище праведника, упадя в напраслины и ревность? Велики протори монастырские, много надо труждатися всем, чтобы спасти храм Христов от туги и студеня.
...А как плакали неискренние, умоляя меня воссесть на патриаршью стулку; и вот одно лето минуло, а уж за горло норовят взятися и палкой хвостягой обиходить мои боки. Но позабыли враги Божий: кто лишь взгляд один предерзостный подымет на патриарха, тот будет изгнан из храма бичом без жалости. Так Свет наш заповедал...
Не жалуют меня ревнители, что я в ризах богатых хожу, похваляюсь златом и серебром и многими красотами. Но того в толк не примут, что Спаситель наш – это Солнце красное, а патриарх – живой образ Христа; так подобает ли ему являться к пастве в рубище и сороме? Государский венец патриарха – свет добродетели и красоты, исходящий не токмо из души его и одежд. Неужли я хульник и басурман, чтобы напрасно чернить Спасов лик?
Влажною губкой Никон протер образ Иверской Заступницы, ее сверкающие ризы и богатое каменье: изумруды и лалы, смарагды и яхонты, рубины и гранаты, алмазы и земчюг гурмыжский «Все кажденья наши и все золото мира ништо пред щедростью души твоей, Заступница родимая. – Никон отбил большой поклон. – От твоих щедрот и на меня, волдемановского мужика, осыпалось предовольно. Лишь одного прошу исступленно: не дай оступитися и душу свою обратить в черствый гранит...»
И как случалось вчастую, мысли его сразу качнулись в неиссякаемые заботы. От валдайских насельщиков в Монастырский приказ приспела челобитная с плачем на иверского строителя: де, он мужиков и братью гнетет без милости и ни во что не чтит. И хоть в мальцах еще подался, бывало, Никитка Минич в Желтоводский монастырь в учение, но до сей поры душою помнит деревенский устрой и то старание, с каким доставался столу ситный каравашек и ложка сбитого коровьего масла. С того времени и уверовал Никон: если на неведомых трех китах стоит земля – матерь наша, то держава Руськая покоится на мужицкой спине; оттого и горбатая она вчастую у кончины бренных лет, и руки в узлах помертвелых жил иссечены глубокими черными трещинами, будто кора вековечного дуба, и виснут почти до земли. Много и почасту плакал Никон, его глубокие очи всегда открыты для слезного родника, точащего влагу, но особенно желанно растворяется он от жалости к кормильцу. Нерадивого – побей, яко пса шелудивого, но труждающегося во славу Господа нашего чти любовно.
...Ведь и Государь любезный приписал деревеньки к монастырю не для разора и прозябанья, но для устроя, чтоб было куда приклониться народишку в лихую годину, под кого подпятиться и тем сохранить и живот свой и гнездо. Наветы то всё, вражьи подметные стрелы, де, монастырские старцы втихую собирают гобину под себя и предерзостным досмотром мытарят поильца: Божественная благодать обители златоносною водою окропляет все угодье окрест, куда достает свет соборного креста. Тихомирная радость от молитвенных ближних стен куда слаже ефимка, принесенного в подати Господу, и невем отчего, но вдруг дар этот вернется обратно в домы прибытком вдесятеро большим, чем отдашь ты в монастырскую казну. Ибо пасет и зрит с любовию неустанная Иверская Заступница. Только труждайтеся, христовенькие, и любите Бога нашего и друг друга.
Никон покрыл поцелуями ризы Богородицы и тут же, не мешкая, сел за письмо архимандриту Филарею: «... да я же слышал, что, де, скорбят крестьяне и плотники от строителя Герасима, де, могорца мало дает, и ты прикажи ему отнюдь не оскорблять наймом никаких наймитов и даром бы немного нудить. Бога ради, будьте милостивы к братье и ко крестьянам, и ко всем живущим во святой обители. А однолично б вам давать наем плотникам по нашему указу сполна, без убавки, чтобы плотников от дела не отгонять и монастырские строения не остановить. А за работу им, крестьянам, давать по достоинству. А только денег не будет, и тебе бы по деньги прислать к нам к Москве. А строителя иеромонаха Герасима за его бесчиния посмирить: бить шелопами на соборе нещадно, чтобы иным так плутать и бесчинствовать было неповадно...»
Докончить письмо Никон не успел. Тут за дверью попросился войти келейник Шушера, а войдя, объявил святителю, что в патриаршьей столовой палатке дожидаются государь с государыней.
3
Келейник с прилежностью помог облачиться патриарху. Поверх голубой котыги с серебряными путвицами и лиловой однорядки Никон набросил на плечи червчатый шелковый зипун, голову покрыл парчовым колпаком, опушенным соболем, придирчиво оценил себя в створчатом зеркале и остался доволен. Келейник расчесал ему костяным гребнем тяжелые с проседью волосы, обрызгал родостамом, подал патриарху единроговый посох и бесценное сокровище – Иверскую Заступницу. Государь еще не видел иконы. Никон вышел из опочивальни, крепко прижимая икону к груди и минуя сени особым переходом. Государя он нашел в трапезной пред иконостасом; благостный молитвенник, улучив свободную минутку, густым низким голосом тянул канон, слегка гнусавя в протягах от нехватки воздуха. Лицо его светилось от благочестия.
Мария Ильинишна, кротко подтягивая, неловко сидела на лавке, не зная, куда деть ноги. Никон низко поклонился, собираясь поцеловать государя в плечо, но тот опередил патриарха, приложился к его руке и с каким-то нетерпеливым жаром облобызал икону Иверской Богоматери. Царица приблизилась, не подымая взора, едва коснулась патриаршьей руки студеными сухими губами: Никон даже вздрогнул от неожиданности, словно бы вставшего из гроба покойника благословил. Царица снова была на сносях, живот заметным косячком проступал сквозь парчовый складчатый сарафан. Царь остался позади царицы, не снимая любовного взгляда с образа. Божья Матерь не точила тоску и грусть, но благосклонно улыбалась, слегка прижаливая государя, и ощутимое тепло, наплывая волнами, обволакивало Алексея Михайловича и позывало к умиротворенной слезе. Благорастворенный, погруженный в свет небесный, струящийся от иконы, он как-то пропустил начало разговора. Он лишь тогда встревожился, когда заметил, что царица вроде бы отпрянула от патриарха и надменно вскинула темно-русую головку с высокой короной волос, уряженных в шапочку из просечного золота. А ей в ее интересном положении опасно волноваться...
«Помилосердствуй, владыка, и прости! – властно сказала Мария Ильинишна и оглянулась: у нее был стемнелый, набрякший взгляд, не сулящий ничего доброго. – Господь завещал и к врагу своему относиться с любовию, а ты ближних своих, ревностных богомольников, разослал по монастырям, лишив сана».
«Не страха для и не из ненависти спровадил их, государыня, но чтобы вернулись заплутаи в лоно Христовой церкви, где вечно будут ждать их, исправившихся. Божьи человецы и великие творцы, восточные богословы и учители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый, Иоанн Дамаскин, Петр, Алексей, Иона и Филипп, московские чудотворцы, завещали нам хранить истинную церковь и блюсти единую букву греческого догмата, что есть корень и ствол, и ветви православной веры. А когда я окунулся, дочь моя, в учения наших отцев и сравнил с нашими книгами, то и нашел вдруг, устрашась, как далеко же забрели мы в дебри, окруженные сонмищами „не наших“, уловляющих христианские души... Мария Ильинишна, государыня, не так страшен злодей, как эти улестители, похвалебщики и хулители, что ополчились на догматы, хоща увести истинное Слово кривым путем ошибок и заблуждений. – Никон разохотился поучать и незаметно потонул в глубоком потоке красноречия, в который раз тайно гордясь собою. А забывшись, он пристукнул посохом, невольно возжелав повадками, статью и властностью речей походить на великого государя. Призажмурясь и царственно приоткинув голову, он вдруг посмотрел на царицу, как на греховный сосуд. – Госпожа моя, – утишая голос, советовал Никон, – когда лукавый помысл мутит ум, утешься почитанием святых книг. Ибо праведник без почитания книжного все равно что корабль без гвоздей».
Напрасно патриарх забылся, ибо искренняя в вере, смиренная сердцем, лишенная гордыни православная женщина обладает тем волшебным фонарем, что высвечивает и в глухих потемках коварный умысел и самую затаенную лукавость. И государыня впервые вдруг усомнилась в святости патриарха. Уж больно хорошится, величается Никон, одеждами своими без особой нужды выделяя природную стать. Желтый свет от золотого яблока падал в лицо святителю и мельчил взгляд патриарха. Он вдруг напомнил польского еврея-менялу, что однажды допустили в Терем государыни.
«Но пастырь с каменным сердцем, что корабль без правила, – неподатливо возразила царица. – Ты дерзко прижал к груди Великую Заступницу, но не блюдешь завета: для Божьей Матери нет худых детей. Каждый для нее что свой палец. Ударь – больно. Низвергнутых тобою, патриарх, она возлюбила куда пуще тебя!»
«Матушка, окстись! Чего молвишь непотребное!» – с испугом воззрясь на Никона, сердито воскликнул Алексей Михайлович. Жена взглянула с укоризною и молча удалилась в притвор Ризоположенской церкви...
Государь закручинился, опустился на лавку, чувствуя себя виноватым. Обычно Алексей Михайлович красен, как спелая ягода, а тут на упругих щеках лимонная желтизна и в обочьях паутина ржавчины. Нет, здоров государь и полон деяний, но эта рыхлость подглазий намекает на близкий черевный недуг. Лицо Никона расцвело крапивными пятнами: он был оскорблен и удручен. Позабывшись, патриарх по-прежнему прижимал к груди тяжелый образ Иверской Заступницы, словно бы заслоняясь им от недруга. Царь потупился, жевал губами, прихватив завиток бороды. Он не решался посмотреть на собинного друга. Наконец попросил икону и, отстранясь, долго смотрел в лик Богоматери, озарившись от ее Света, а укрепившись душевно, сказал мягко, просяще, не снимая с патриарха карих удивленных глаз:
– Отче милосердный! Я тебя отметил и приблизил в бытность твою в спасских архимандритах. Заступленник ты был и жалостник для всякого русского, и не один, спасенный тобою от нужи и лиха, восплакал на радостях. Ты был верный ходатай пред Господом, и Спаситель не отказывал тебе. Но нынче не строг ли ты преизлиха к детям своим? Вот и сестра моя, Иринья Михайловна, кланяется слезно за Юрьевского протопопа, коего вогнал ты в немилость.
– Бродяга он. Паству свою кинул, чтоб ябедничать и шататься. Шатун он, а ты ему потатчик...
– Ну-ну... Но, однако, простил бы ты его. И ведь он неспроста лается, заветы блюдет, – настаивал государь, однако не теряя мирности тона.
– Нет-нет... Плут он и ловыга, пред царя крохи обирает. А приход свой запустошил и осиротил.
Никон потемнел, стуча посохом в изразчатый пол, удалился в дальний угол Крестовой палаты, где окна выходили на царицын Терем, искоса, бегло взглянул на покои государыни. Показалось, будто мелькнула там тень. Ох, не живать теперь мирно, не живать, чует сердце. Прежде-то, как из собора правишь, низко челом отобьешь, а она-то, государыня наша, всегда за цветными стеколками поджидает... Добавил глухо, не оборачиваясь к царю, напрочь забыв о смирении:
– Великий государь! Бери посох мой и паси церковь, коли лучше меня знаешь, как управляться монахами. Ты и без того подпятил под себя православную церкву, чего и Грозный, твой прадед, себе не позволял. Уже мирские судят священство и творят казни над ним. На мой посох и правь...
Никон решительно повернулся, шагнул навстречу и протянул царю посох. Жесткие брови шалашиком прошиты ранней сединою, во впалых щеках постника словно бы застоялась темная вода, и сквозь нее просвечивали дольние морщины. Гарчал Никон скрипуче, как черный зловещий ворон, а в слюдяных глазах упрямая непробиваемая слепота. Смотрел вроде бы на государя, но и куда-то сквозь. Откуда в монахе вдруг этакая гордыня? Меж двух сверкающих панагий, надетых на грудь наперекрест, через котыгу и однорядку явственно проступал крест. Государь пригляделся, недоумевая, ибо не знал о веригах первосвятителя. Усердный монах, уже его кости сочиняются в виде креста: он одной ногою при жизни был возле Господа, куда государю закрыт доступ. Грешен он, ой, грешен. В душе сокрушился государь, потупился вновь и сказал просяще, как отрок пред батькою:
– Не смей так говорить, отче. Мы два оба великие государи, и нам ли вступать в пререковы? Выслушай, как сердце мое льнет безответно к тебе...
Впервые на Руси государь приравнял патриарха к себе, назвав великим государем, и разделил власть. Но драгоценная сия минута обернется однажды неизлечимой язвою, она выроет внутри народа ту непроходимую пропасть, коей не минуть и с заговорным словом, не перекинуть через нее и соломинки в долгие века при и страданий. С какой-то сладостью, искупая неведомый грех, государь вдруг опустился на колени и подал патриарху обе ладони, так возжелав согласия. И в палату наискось упал солнечный искрящийся луч, пролился на пол морошковым соком, и осветилась Крестовая, как бы сам Спаситель явился в дверях. Никон зажмурился от яркого света, но характера не мог переломить сразу. Ему было сладко смирение государя, но ничто не восстало, не испугалось в Никоне от этого смирения. Ясновидец Никон, зрящий сквозь череду дней и темень суеверий, чем тебе затмило очи, что в несогласии своем ты вдруг ослеп и потерял здравый ум. Удоволься малым, Отец отцев, смирися, скорей пади на колени, приклонись челом к полу, пока не обнаружил государь твоих радостных глаз. Не трави на сердце государя язву обиды. Как под белой пеной невинного облака зреет гроза, так и под епанчой смирения зачастую прорастает яд мщения.
– Встань, государь, подымися, – взмолился Никон. – Не подобает царю стоять на коленях и пред золотой шапкой патриарха. – Никон попытался приподнять Алексея Михайловича, поцеловал царя в шелковистое темечко, как свое дитяти, губами чувствуя чистое тепло темно-русых кудрей. И вдруг завсхлипывал: – Государь, я не просился в патриархи. Невжели позабыл, что я не своим изволом поставлен? И ведая свою худость и недостаток ума, что не станет меня на такое великое дело, спусти меня, Бога ради, в монастырь. Вы поклялися великою страшною клятвою слушаться меня, когда венчали со вдовеющей церковью. А ныне чую, как все ополчаются супротив меня. Не так ем, не так пью, не так уряжаюся, не те слова молвлю. Как онагра бессловесного, как худобу несчастную норовят поставить в стойло на привязку. Гроза зреет, гроза, вот и первая молонья просеклася сквозь тучу и ударила меня в самое сердце. Матушка-государыня больнее ножа сразила, чуть не до смерти. Бью тебе челом, великий государь: спусти меня в монастырь...
– Нет-нет, и думать не смей, – еще не веря в искренность Никоновых слов, с тихой задумчивостью отказал царь.
– Да как не думать, коли в кручине исплакался весь...
Что-то неуловимо твердое, неподатливое в голосе патриарха смутило Алексея Михайловича. Он спрятал беспечальный взгляд и легко вскочил на ноги, только цокнули по изразчатому полу серебряные подковки.
– Ну да, ну да... Наустили наушники. Ежедень вьются вороны. Но я тебя в обиду не дам, пока жив. Иль не веришь мне, собинный друг? Ты же отец мне, великий государь! И что бы ни случилось, какое бы нестроенье ни пало на твою голову, кто бы ни пытался оговорить нелепицей – всегда в поддержку тебе будет государева рука. Каждая встреча с тобою для меня – это очистительное Воскресение. Я как бы для жизни рождаюсь, слабый человек, испивши из твоего источника. Я грешен, азъ окаянный злодеец, припадаю со слезами к твоим стопам, а ты восхотел покинуть меня на самом крестце по дороге в ад, не давая случая исправиться, когда все в кручине на моей земле, в неустрое и туте. Три года побудь, Никон, со мною, всего три года, и я спущу тебя в монастырь. Уверься же: ты крайний святитель не токмо в Русии великой, но и во всем славянском мире. Отныне и до веку здесь быти Новому Иерусалиму, здесь возжется главный светильник веры, и храм, вознесенный в купели очистительного огня, возвратится к нам, ниспосланный Господом, до скончания веку...
– Ушеса мои растворены от покровцев и тают от ласковых слов. Нет нужды сомневаться в их искренности. – Никон достал фусточку, скрывая платком невольную улыбку, промокнул глаза. Речи государя доставили ему сладкий восторг и то восторженное умиление, от коего зябкостью опахнуло по спине. И волосы, казалось, встали колом под парчового шапкою. И чего бы, казалось, братиться и задориться друг с другом, когда примирение так и накатывает от государя? Но нынче опять было известие из Терема от наушника: де, царь ближним боярам сетует на патриарха. С того и, знать, суровится, неуступчиво досадует сердце, не позабывшее недавних укорливых слов. Как бы осечь его, настроить на мягкость, искоренить досаду и желчь. И добавил Никон, потупясь: – Государь, если кто говорит, что не имеет греха, тот обманывает самого себя, и истины в нем нет. И я отряхаюся от грехов, как шелудивый пес, и стращаю свою душу, как цепной британ...
– Ты сосуд боговдохновенный, а я твой кубок...
– Ой ли, ой ли, – примирительно улыбнулся Никон, открываясь сердцем. Самому бы подластиться к Алексею Михайловичу, но не сыскать в сердечной мошне подкупного злата. – Ты запамятовал, мой Свет, что уничижение паче гордости. Боюся, ой, бояся я, как бы всякое похвальное слово не обернулось для меня больною розгой. Да и неспроста ты заявился нынче, но с затеей. Отчего дозоришь меня, государь? Чего сыскиваешь и не даешь воли, и в обитель мою приходишь с командою? И неуж навсегда уверился, что хозяин в доме больше архиерея? Бойся называть себя Богом земным и не упади на лесть.
Государь побагровел от строгого допроса, но не нашелся сразу с ответом. Он вдруг обиделся на патриарха и решил, что устал более пререковываться с ним. И вскользь подумал: коли просится в монастырь, так зачем держать? Царь замглился, напыщился, уставясь на Иверскую Заступницу, и даже ее ласкающий взгляд не мог утишить неслышной наруже бури. Да и как не обижаться на Никона, ежели к каждому слову у него затычка. Но промолвил государь, насилу улыбнувшись:
– Ты пошто, отец, все насупротив меня? Чем ни слаже, тем и гаже...
– Великий государь, прости прихильника. Каким уряжон, таким и во гроб положен. – Наконец-то Никон опустился на лавку, застланную камчатным налавошником, но по другую сторону образа – и невольно оказались великие государи разделенными иконой Богоматери. А бес невидимый тешился за окном Крестовой палатки, понукая патриархом, и тот, скорбя и стеная, любя Алексея Михайловича всем сердцем, ничего, однако, не мог пособить с натурою. И вновь зацепил Никон собинного друга острогою, неведомо чего домогаясь. – Ты меня батькой своим кличешь, сиречь отцом. А сын отцу – сосед. Но в соседское подворье со своим уставом не лезут. Всё-всё-всё! – торопливо воскликнул Никон, наконец-то почуяв близкую государеву грозу. – Был я заступленник, был. А ныне – ты. Но я заступленник за бездольных, кого нужа съела, а не за еретниц, что обгрызают углы матери-церкви. Мыши подпольные, ой, мыши-и! Залезли в наши сусеки, и я им не потатчик. Хоть обижайся, хоть прочь гони.
– О чем спорим, в толк не возьму? А может, оттого и любы, что завсе грыземся? – Царь задумчиво пожал плечами, распахнул суконную однорядку: ему вдруг стало душно, зашлось сердце. И Алексея Михайловича уязвила непонятная кручина. Он опустил взор и усердно занялся четками, перегоняя жемчужные зерна. Вел ли он, смиряясь, Исусову молитву, иль загадал что на успех? Но замолчали они надолго.
Никон молился, стоя на коленях, и лиловая манатья крылом распласталась по полу. Царь же грезил, запрокинувшись к стене, на расписном потолке уловляя нескончаемое движение Божьих ратей. Утишились друзьяки, согласно выстраивая друг к другу переклад. И все вроде бы ладно, все хорошо; но тут встрепенулся Никон и будто ужаленный глухо попросил государя:
– Спусти, миленький, меня в монастырь. Богом прошу, спусти...
Но сказалось так тихо и неразборчиво, что Алексей Михайлович, наверное, не расслышал просьбы. И сказал он собинному другу:
– Я зачем шел-то к тебе... Войной решился на польского короля. Пора дать отпор костельнику, чтоб не зарился он на православную землю. Так тебя оставляю на Москве заместо себя. – И замявшись, добавил резко: – Вижу, тебе все власти мало, Никон. Так бери всю и правь!
И не дожидаясь возражений и такой лишней сейчас при, государь порывисто встал и исчез в потайной двери. Но не странно ли, не дивно ли сие? покидал-то он патриарха с удоволенным, легким сердцем.
Глава двадцать четвертая
ИЗ ХРОНИК. «... Во время приготовления к походу Никон из своих патриаршьих средств десять тысяч рублей челом ударил на подъем ратным людям. По его распоряжению с монастырей собирался и ссылался в армию хлеб, назначал подводы и лошадей, строил боевые топорки, бердыши, длинные пищали для пехоты, посылал ратных людей к Динабургу, посылал мнение к царю, где и как войску действовать.
Царь завязывал переговоры с литовским гетманом Радзивиллом, перешедшим на сторону шведского короля, и по этому случаю Никон писал царю: «Чтобы Радзивилла не призывать, а ево и так Бог предаст».
Посылал царю благословение идти походом на Минск и Вильну, чтоб за ним не только Вильна была, но чтобы он добывал себе и Варшаву, и Краков, и всю Польшу; писал, чтоб послал в полк Петру Потемкину донских казаков, чтобы они морем напали на Стокгольм и другие места, в видах заставить шведов оставить прибалтийский край».
1
Боже, храни русского человека.
Страшнее всего православному потерять душу, ибо она заветный ключ в Христово царство и, обитая на земле в юдоли, устремлена горе, а не долу, постоянно рвется в лазурное небо, где вечная ей уготована благодать. И над чем бы ни пекся поселянин в короткую земную бытность, копя гобину и всякие сокровища, украшая хоромы и домашний уряд, заботясь о ближних чадах и домочадцах – все эти хлопоты до смертного часа лишь на устроение души.
А коли вседневен страх утратить душу соблазнам, что толкутся непременно подле, то и уповает русич с неслабнущей надеждою в хрустальный Господний храм, ибо должен в том вертограде найтись его зоркий защитник. Верьте, есть, есть у каждого православного неутомимый ангел, что дозорит с первого и до последнего вздоха. Ненапрасно уверяет премудрый Епифаний, де, есть ангел облаков и мглы, снега и града, мороза и грома, ангелы зимы и зноя, весны и лета, у преисподней тьмы и у сущей в безднах земли, ангел ветра и ночи, света и дня – ко всяким тварям ангелы приставлены.
Но противу всякого ангела разбойно пасется орда нежити, беря приступом и всякое смиренное житьишко: чтобы не пропасть молитвеннику, не заблудиться во гресех, не утратить божеского обличья, есть и домашняя броня, что ниспослана Господом для вашего спасения на всякое время: это икона и молитва.
Икона пуще высокой ограды боронит от беса вашу душу. И потому пред входом в каждую холопскую избенку, крытую дерном иль берестою, над дверью в брусяные хоромы и белокаменные палаты, над крепостными вратами и пред царским Красным крыльцом, у входа в питейный двор и охотничий лабаз, в суземке, на тябле в бревенчатой скрытие и путевой часовенке, над всяким спальным местом в дому и над прилавками торгового ряда, в богадельне и городской мыльне, на стенах тысячей тысяч церквей и над усыпальницами государей, на речной насаде, поднимающейся вверх по реке на тягловой лямке, и в соляной варнице, в тюремном доме и рыбацком становье, в разбойном таборе и на казацком майдане, в писчей избушке, у лобного места на Болоте и в печурах подземных скудельниц – везде негасимо и кротко взирает на вас с любовию желанный лик...
Цка, доска, икона, образ, лик... Из одного дерева лопата и икона, но...Икона встречает и провожает на всем крестном пути от края и до края Русской земли; и идя под свадебным венцом иль в похоронном скорбном платне вслед за гробом, всяк православный невольно замедлит пред каждою иконою, встреченной на пути, сотворит крестное знамение.
Медная иконка посадского литья иль липовая досточка усердного изуграфа-постника непременно на груди у всякого солдата, стрельца и ратника под зипуном, кафтаном иль сермягою – она живет под исподней холщовой рубахою на подвздошье, постоянно напоминая о себе, о Господе, о доме родном и родителях, о близкой смерти, что надобно достойно принять; и в каждый день военного похода, найдя тихую минуту и укромное уединенье, ставит православный иконку на придорожный камень, иль в чистом поле на пестерек, набитый немудрящим походным скарбом, иль на березовый окомелок и усердно молится Богородительнице и Заступленнице, прося защиты. И с каждым молитвенным словом светлеет и мягчеет душа, отряхаясь, освежаясь от суровой походной накипи. Далеко растянулося войско Алексея Михайловича, неутомимо стремясь под Смоленск на ляха, и многие из пищальников, рейтар и драгун, и стрельцов, и наимованных солдат, и простых смердов в кольчужках, кованных в сельских горнах, падут на стенах крепости и вместе с иконкою будут погребены в сырую мать-землю. Ночами долго не спит государь в своем ковровом шатре, молясь за святую Русь и прося победы над костельником-супостатом, испоганившим христианскую веру.
Издревле лик на русской иконе тончаво-постный и безмятежно-неукорливый, на нем печать вечного блаженства. Святой угодник пребывает в вечности, его не волнуют земные страсти, он отринул от себя всякую житейскую печаль; угодник наш всевечно жив, как мимолетно живой христовенький, и, поселяясь в каждой доброрадной, богопоклончивой избе, угодник становится учителем, неуступчивым наставником во всяком добром деле, что по-доброму отзывается на душе, изгоняет из нее хмару. Вот и Богородица наша Пресветлая – не призрак какой, не воображение художного ума, не нравоучительный урок, хотя бы и благочестивый и возвышенный, но она живая, еще более живая, чем мы сами; и через явление Ее прославленных икон в Казани и Смоленске, Тихвине и во многих городах, селах и погостах, и урочищах ощущается ее повсеместное присутствие на земле. Вот года с два тому явилась икона Пречистыя Богородицы на Оковце, в лесу чистом, на сосне на сучке, и в то лето хлеб был дешев, кадь ржи продавали по четыре московки, а лето было ведрено и красно, и не засушливо, и всяким овощам плодовито, а от поля тишина была, а людям здравие было и всякому скоту плод.
В иконе нет отвлеченных красот и житейской суетности, и чувственных зовов грешной плоти нашей; она куда больше красоты – ибо вся Дух. Святая икона – это источник духовный, целебный душе и телу, это река неисчерпаемая, точащая живую воду. Безотчивым она дает зрение, глухим – благоглаголание, хромым – хождение, прокаженным – очищение, беснующимся – целомудрие. Пречистая икона бесов прогоняет и лица нечестивы омрачает; не терпит нежить ее, боится и бежит прочь, и исчезает...
Потому к иконе такое глубокое почтение. Иконник, прежде чем начать труд свой бессонный, изнуряет себя постом, чтобы изжелта-светлым обличьем с голубыми обочьями, нездешним покоем в заголубившихся кротких глазах походить на святого угодника. По обыкновению, писатель-молитвенник неустанный, допоздна живет в его келеице свеча, а уж часа через два после куровозглашения наш изуграф опять на ногах, растирает краски, подливая в них святой воды, а то и подмешивает частички святых мощей. Ночь черна, непроницаема во все концы света, и за слюдяной шибкой в четвертушку листа нет-нет да и всхохочет луканька, зажгутся зоркой зеленью чужие глаза; встрепещет, содрогнувшись от внезапного сквозняка, восковой огарыш, и снова завладеет миром всеместная тишина. В эти минуты и навещает труждающегося живописца благодать творения и праздник духа.
Иконник – не табашник и вина не пьет, не дерзит монастырским старцам и властям и бежит напрасного гнева; взгляд его тал, истончен, ласков и направлен внутрь себя, в самую душу, откуда нескончаемыми молитвами он и изымает образ угодника...
Оскорбить святой лик – великий грех. Неприлично не только оказаться пред иконою в шапке, но и умащиваясь ко сну, класть ноги на лавке в сторону тябла. В пожар прежде спасают образа, а после и прочий живот, но если икона в войну попала в руки ворогу, то за дорогую цену освобождают ее из плена. Грешно сказать, что икона куплена, но говорят, де, икона выменяна на деньги. Если погибает на пожаре, то не повернется язык сказать, что икона сгорела, но «вознеслась на небо». Считается кощуною вешать иконы на гвозди, поэтому ставят на полицу иль в печурку. Если икона по ветхости не может более служить, ее не выбрасывают и не сжигают, но иль пускают в реку, иль закапывают глубоко в землю на кладбище или в саду, и самое то место охраняют от всего нечистого.
Ибо поругание икон навлекает гнев Божий...
Напрасно народ полагает, что властители правят с царского трона, с площадного примоста, из бранного шатра иль амвона: многознатливые вершат государскую жизнь из уединенья кельи, Кабинетной палаты, из крестовой и моленной; лишь созерцание и тишина дают току мыслей искреннее и верное русло...
Всяк на Руси блажит свою икону, что идет по роду-племени и по наследству. Свою защитницу и в церковь на службу носят, так издревле повелось, и в то время все храмовые стены от алтаря до притвора бывают уставлены образами, и всяк кланяется родному святому угоднику, защитнику очага и живота семейного: ну, то и ладно, нельзя покушаться на отеческие корни, подрубать их, лишая соков родовое древо; но то худо, что всяк в церкви ведет себя вольно, нецеломудренно, и тем не только клир и чин, но и самого Господа невольно не чтят, ибо кланяясь своему угоднику, кто спиной стоит к алтарю, кто боком, в то время плохо ведая канон, и оттого согласия в молитве нет и в пении разброд; вот и творятся прихожанами частые кощуны без всякого умысла.
А в последнее время завелось и того чище и мудренее: попривыкли хвалиться своими щедротами, кто краснее, богаче обрядит домашнего Учителя в златые и серебряные ризы, словно бы сиянье от дивно усаженного оклада невольно падает и на лицо владельца. А иные и тем гордиться стали, что их иконы сильно разнятся от родительских, писанные богомазами в чужих землях франкским обычаем. Если в православной иконе всякие чувства тончавы, а лики измождены примерным постом и трудами во славу Господа, то на еретических привозных досках угодники, словно люди земные, отягощенные грехами – толсторожи и толстобрюхи, а ноги и руки будто стулцы.
Вот он, яд-от сатанинский, неслышно проникает сквозь рубежи и вливается в жадное до чужебесия и поклончества, спесивое и преизлиха сытое от крестьянских покорливых щедрот боярское сердце. Ах-ах-ах... Ну запрещу я, Никон, носить свои образа в церковь; запретил колготиться, шуметь в храме, ибо ведут себя неразумно, яко дети на игрище; прогнал на паперть прочь нищих и бесноватых; запретил многогласную службу вести, когда псалмы и псалтыри поют священницы в пять и шесть голосов разом без пропусков, чтобы и церковный устав соблюсти, но и службу поскорее закруглить; запретил кланяться земно и преизлиха падать на колени зряшно, как то делают поганые... Но какими всесильными дозорами перекрыть тех секретных лазутчиков, что копытят не токмо русские земли, но наши души? Как уберечься от лукавых промышленников?
...Ведь как научал меня желтоводский старец, я за те наставления и поныне в ноги ему паду. Не высокоумствуй, отрок... Да-да, так и толковал: не высокоумствуй! Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, но учуся книгам благодатного закона, как бы можно душу мою грешную очистить от грехов... Аще не учен диалектике, риторике и философии, но разум Христов в себе имею. К благодати ведет череда истинных знаний: со смирением, со ступеньки на ступеньку карабкайся по высокой лестнице трудов нескончаемых, чтобы после, как миром помазало, как бы малаксой опечатало лоб твой сим разумом Христовым, что поселится вдруг в душе по долгому размышлению в постной, многотерпеливой жизни.
А нынче-то как потрафили себе высокоумные, вовсе расповадились, взяв за образец Запад; привыкли в золоченых каретах ездить в чужом платье да рыло стричь, отвергая заповеди великих подвижников Павла Фивейского и святого Онуфрия, что имели бороды до колен. Ой, рано забыли остерег, что на Страшном суде ошуюю сторону встанут бесермены и еретики, лютеры и поляки и иные подобные брадобритенники. Ибо обрить бороду – это лишиться образа Божия.
Только дай поклончивым потачки, не догляди суровым евангельским законом, не призови к исповеди раз-другой – там он и сам себе суд, вровень с Богом самим. Распушат усы-ти котовьи, брадобритенники, да и намаслят взоры на затхлый Запад к лягушатникам и коноедам (прости их, Всевышний), что грехи свои у Господа выкупают за злато, чтобы сладко было есть и спать на этой земле. Многопировствуют, адовы псы, хотят в утехе и довольстве встретить Судный день, словно бы их не остановят на том свете жупелом огненным и лютым расспросом; жируют, ублажают вонявую утробу, с того и иконы-то у них по своему обличью мазаны жадным до талеров бесовым притворщикам.
...Куда дальше ехать, ежели царев дядя Никита Иванович Романов первый потатчик немцам и слугам своим пошил шутовские ливреи; а свояк государев Борис Иванович Морозов одел своего воспитанника в немецкое платье, палаты каменные состроил, обив стены золотыми кожами бельгийской работы, да и весь быт у него на иноземный лад, а за вечерней вытью немчин играет на органе и в трубы трубит; нынче же не о Боге печется боярин, держа духовника лишь для отвода глаз, и не про то горюет, как бы греси изжить, а жалится горько прилюдно, де, одна печать сердце точит, что вот упустил, не получил в молодых летах европейских наук. А начальник Посольского приказа Ордин-Нащокин до того доучил своего сына, что, отуманившись ересью и посулами, соскочил парень в чужие земли, отказался от родины... А куда совратился дьячий сын Артемон Матвеев? а Голицын Василий? иль тот же богомольщик усердный Федор Ртищев? Устроив под Москвою Андреевский монастырь, свез на свой счет из Малороссии до тридцати ученых монасей, набрал вольную школу из недорослей, да и сам вступил в учебу, все ночи проводя за философией и риторикой с Епифанием Славинецким...
Ну что с того, что сселил я иноземцев за Яузу? Они уже развезли по народу любостайные приманки свои, растрясли по стогнам и московским улицам лукавства и коби, и всякие прелести, соблазняя роскошеством жизни слабый народишко и ломая старопрежние привычки... Затопило престольную множеством инородников, они дурачат нас и за нос водят, больше того – сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, свиньями и псами нас обзывают, себя считают богами, а нас дураками.
Куда свет-царь смотрит, дивясь чужим вещам и сам неприметно впадая в соблазн? И неуж не чует, сердешный, как развратились ближние бояре его, привыкнувшие ездить в иноземных каретах, окованных чистым серебром и обтянутых золотою парчою; как презирают свое домашнее житье и с довольностью утопают в чужих нравах. Не заметят того, что и самих-то пожрут с потрохами греческие и немецкие купцы да крымские разбойники.
И с чего бы это ревнители благочестия так злобятся на меня, де, я Русь хочу отдать в откуп за тридцать серебреников и дареную царскую ризу? Да я за державу голову сложу под топор; но и за веру истинную стеною встану, и всякого под ноги стопчу без милости, кто воспротивится на меня и полезет с рогатиной... Ополчаются-то протопопы из зависти лишь, что я попереди их встал Божьим соизволом и государевой милостью, что Бог пометил меня, как сына родного своего. Но я глупостей их не потерплю, предерзостей всяких, гордыни и самовлюбленности, с коей взирают они на искривленную ересью православную церковь. Дом похилился, и подворье в упадок пришло, а они грызутся, кому первой быти да кому править. Порядка не ведают, кощунники, истинного Христа порастеряли в злословьях, но зато прочат себя самовольно в пастыри, не стыдясь варварской евангельской темноты своей. Учат с амвона, а сами-то язычники. Ишь, разбойники, решили рядом с батькой сести да батькой и погонять. А я, вот, ваш-то норов с кореньем выдерну да призову к порядку, чтоб знали чин свой. Надулись, как дождевые грибы, а надави плесною – лишь дым да воня. Ах ты, прости, Господи. И я-то нынче худой вовсе, расклеился и рассопливился, возгрями и жидью облился. Иверская Заступница, золотая смоковница наша, поддержи упадающую в сомнениях нищую и безвольную, грешную душу мою.
...Если дожили до чести, что господа всесилые, подпирающие престол руський, поклоняются лживым образам, то какой веры и чести можно ждать от простого смерда, упадающего на дно каббалы и скорби. Потрафляете, господа, поклончивому до разврата сердцу своему и не хотите видеть, как порушается под вами жиденький евангельский мосток.
Нет и нет, никогда боярский спесивый глаз не увидит меня, кир Никона, согбенным иль устрашившимся, просящим из горсти чужой милостыньки: приклониться святителю к руке дающей, как к гремучему студенцу, дарующему испить благодати, – это впасть в непрощаемый грех; но помните, всесилые, от моей немилости не спасут вас и золотые брони.
...Но возможно ли, Господи, чтобы четыре предерзких протопопа замутили Русь?
«... Мы вступили в день своего въезда в Москву на путь усилий для перенесения трудов, стояний и бдений, на путь самообуздания, совершенства и благонравия, почтительного страха и молчания. Что касается шуток и смеха, то мы стали им совершенно чужды, ибо коварные московиты подсматривали за нами и обо всем доносили патриарху. Поэтому мы строго следили за собою, но не по доброй воле, а по нужде и против желания вели себя по образу святых. После службы мы не в состоянии были прийти в себя, и наши ноги подкашивались. В этот пост мы переносили еще большее мучение, ибо русские в пост не едят масла, и по этой причине мы испытывали великую муку. Если кто желает сократить свою жизнь на пятнадцать лет, пусть едет в страну московитов и живет среди них, как подвижник».
Архимандрит Павел Алеппский
И побежали по престольной бирючи, и подьяки, и патриаршьи стрельцы по боярским палатам и купецким хоромам, по Белому городу и Скородому, не минуя распоследней холопской избенки, чтоб выискать чужебесные иконы. Те доски доставили в крестовую келью, и Никон, не сробевши, выколол у святых глаза. Стрельцы же вновь понесли казненные еретические образа по площадям Москвы, и, сбивая в толпы посадских, зычно вопили глашатаи: «Кто отныне будет писать иконы по образцам картин франкских и польских и поклоняться им, да будет проклят». Бирючи спешили дальше, оглашая грозный патриарший указ, а за ними в морозной дымке вечереющей Москвы остаивался людской недоуменный ропот. И тут не одно сердце сжалось от дурного предчувствия. Видано ли: новый немилосердный иконоборец завелся на святой Руси, в самом сердце истинной матери-церкви обжился змий подколодный, и не видать нынче православным добра и мира. Вот и миленькой царь где-то в дальнем походе и не чает, сердешный, неминучей грозы: некому дать укорота осатаневшему патриарху.
...Никон дернул за посконную веревку благовестного колокольчика, призвал келейника и велел бить к вечернице; глухо ударил Реут, не замешкав, басовито поддержал патриарший колокол, следом отозвалось медное петье Чудова монастыря, а там пошли катиться звоны по всей золотой Москве. Шушера достал выходной патриарший сряд. По случаю наступивших зимних холодов облачился Никон в тафтяные штаны на беличьем меху, да чулочки суконные на собольих пупках, да ряску красного бархата и фиолетовую мантию; на плечи накинул кунью шубу, крытую брусничными дорогами, на голову нахлобучил лисий малахай. Громоздко, но тепло и свычно; вроде бы не за тридевять земель в поход собрался, всей-то дороги до Успенского собора с десяток сажен, но для всякого случая у великого государя свой неколебимый чин, и нарушить его – непростимый грех. Вера истинная, как и держава, нерушимо стоят на заповеди и догмате: чуть приослабь обычай, потрафь человеческой слабости, иль немощи, иль норову, не могущему блюсти преданье, с того края и начнет неудержимо сыпаться самая нерушимая стена.
...Никон вышел на Золотое крыльцо, поддерживаемый под локти дьяконами. Над Москвою висела морозная малиновая пыль, деревья густо закуржавели, замлели, иней отсвечивал голубым. Небо с закрайкой налилось кровью, дымы подымались сизыми упругими столбами и пахли ествою. Но изжелта-мутное солнце присыпано мукою и рассечено иссиня-черным крестом. Никон осенил себя знамением, в груди уместилась тревога: то ли затеял? Он торопливо отвел взгляд, чтобы не заметили сего небесного вещего знака соборный причт и патриаршьи бояре. Но уловил, однако, как растерянно вздрогнули дьяконы, провожавшие патриарха под локти. Задумчиво подымаясь на Западное крыльцо, Никон запоздало обернулся, подал каповый посох архидьякону Григорию. Солнце прощально играло в теремных окнах, окрашивая их алым, на позлащенных, сейчас неподвижных в безветрии флюгерах над башенками дворца, слепило веницейские цветные стеколки, забранные частыми медными решетками, за одним из которых, по обыкновению, стояла Марья Ильинишна. Порою выходила она к службе через церковку во имя Положения пояса Владычицы, скрытая от чужих глаз, но нынче она сказалась нездоровою. Поди, тоскует государыня по своем благоверном, что стынет под Смоленском, добиваясь победы.
Не позднее как вчера была от него орация патриарху, де, приступили к осаде крома, и ляхам нынче не устояти противу православного царя. Орация была коротка и деловита: христославный царь впервые почувствовал себя воистину воином и державным мужем. Дай Бог, дай Бог... С этой мыслью Никон благословил невидимую государыню, поклонился до земли, потом и вторично благословил и отбил большой поклон.
В соборе стояла морозная тишина, прихожане еще не обогрели церковь своим молитвенным дыханием: большой полиелей – ветвистое серебряное дерево с сотнею возжженных свечей – сиял жаром, и этот жар, проливаясь на образа, благоговейно высветлял святые чины иконостаса, причудливую золотую канитель царских врат и всю древнюю достойную живопись стен и сводов. Поклонившись иконам, Никон замедлил, решил почествовать мощи святого Петра, чтобы покровитель Московии благословил и напутствовал патриарха из каменной скудельницы. Тут от южной двери раздался многий топот шагов и гул, вовсе не молитвенный, и в притворе показался Антиохийский патриарх Макарий с сирийской многою свитой.
Макарий был преизлиха тучен и одышлив от ходьбы, он часто вытирал фусточкой взмокший лоб, черные волосы курчавились над ушами, выбиваясь из-под шелковой камилавки. Он издали еще заулыбался Никону, топорща котовьи, с рыжиною, усы и взмахивая двурогим посохом, а таусиные глазки излучали такой свет поклончивой любви, что и серебряный полиелей в сто свечей померк в эту минуту. Они отбили друг другу земной поклон, Никон снял вязаный клобук с золотыми плащами и херувимом и попросил Макария благословить его. Драгоман перевел просьбу русского крайнего святителя. С трудом, после многих отказов Макарий благословил Никона. Поклонившись иконам, патриархи вошли в алтарь, помолились пред престолом и приложились, по обыкновению, к Евангелию и кресту. Напротив престола стояло в рост человека зеркало в раме из черного дерева, усаженное по углам золотыми ангелами. Патриарх взял щетку из свиных волос, передал клобук протодиакону и стал охорашиваться.
Борода окладом была настолько густа, что свиная щеть едва продирала ее; волосы, прошитые ранней сединою, опадали волною на плечи, на рытый бархат мантии, и Никон с каким-то неожиданным чувственным тщанием обиходил их, красуясь пред зеркалом. Макарий остался несколько поодаль и казался в зеркале коротконогим и криворотым. Никон взглянул с почтением в отражение сирийца и поймал холодную ухмылку на смуглом лице. Иль показалось, померещилось лишь? Никон зорко и строго пригляделся: узкие, с прозеленью глаза Макария были по-прежнему приветно-улыбчивы, но с какой-то надоедающей приторностью. Тут приблизились священники за благословением и отвлекли Никона от сомнений. Архимандриты кланялись земно, целуя крест и правую руку патриарха, унизанную перстнями.
Затем святители подошли к жертвеннику, приложились к чаше и дискосу и отправились в нарфекс. Никон взошел на архиерейский амвон, где дьяконы принялись облачать его в параманд и стихарь, не снимая со спины бархатную мантию; сирийский гость встал на своем патриаршьем месте. Русский пост тяготил его, с соленого огурца и стоялого кислого квасу нехорошо бродило в желудке; вдруг с тоскою подумал владыка, что нынче вечерница рано не кончится. Плоть его внезапно затомилась, и дальняя восточная родина, полоненная агарянином, откуда Макарий с такими тяготами притащился на Русь за милостыней, почудилась ему землей обетованной. В малой алтарной Макарий приметил груду икон, лежащих внавал, на многих образах лица святых безжалостно соскоблены. Владыка переступил оскверненные доски и почувствовал торжество. Долгие поучения Паисия Иерусалимского не источились в песок, но нашли в Никоне верного старца.
«Вот она, видимая скверна. Божья кара настигнет всякого в свой час, кто нарушит заповеди великой Святой Софии», – остерег Макарий, полуобернувшись к архимандриту Павлу Алеппскому. Драгоман, не испросив соизволения, торопливо перевел слова Никону, и патриарх благодарно поклонился.
...Собор скоро заполнился прихожанами всякого чину. Никона побаивались и после строгого указу о бесчиниях в церкви, многие страшились не только кашлянуть, но и вздохнуть глубоко. Был народ в смирных одеждах, чтобы не показаться тщеславным. Дьякон возглашал ектинию, певчие-парубки, привезенные из Киева, в белых кафтанах с алыми петлицами, с голубыми кроткими глазенками, возведенными горе, сладкоголосо выпевали. «Господи, помилуй». Кто-то в соборе внезапно всплакал, наверное, вспомнив убитого под Смоленском благоверного; на вдовицу цыкнули. Никон доверил службу патриарху Макарию, сам же затаился под патриаршьей сенью, неведомо чего выглядывая в прорези шатра. Какой ковы, каких неведомых угроз стоило ждать из сумрака притвора, с заснеженной площади, куда не доставал свет полиелея? Архидьякон торжественно приблизился к патриаршьей сени с кадилом и, звякая серебряными цепями курильницы, окутал владыку благовониями. Никону стало зябко, остыли ноги, плохо грели суконные чулочки на собольих пупках; его охватила дрожь от странного возбуждения, словно бы он приблизился к пропасти.
Никон взял золотое яблочко, наполненное горячей водою, и стал катать его в ладонях, грея руки. Тут западное окно Успенского собора прощально окрасилось кровавым. И вдруг, нарушив заповедь, вроде бы невидимый соборянам, Никон вместо востока трижды поклонился вослед западающему солнцу. Архидьякон замешкался испуганно, и рука сирийского иерея, протянутая навстречу, чтобы перенять курильницу, зависла в воздухе. Макария опередил архимандрит Павел из свиты. Смутно, тягостно стало в соборе от предчувствия, и всяк молитвенник, истово верующий в святую Русь, вдруг почуял из патриаршьей изукрашенной сени угрозу.
Словно бы навостренную рапиду приставили к сердцу кроткого агнца, чтобы прободить его. Заступленник, смиренник, усердный богомольщик за всякую христианскую душу, бессребренный ходатай пред Господом, что же богомерзкое ты затеял, Никон, в своих скрытных беседах в патриаршьей келеице? Каких таких извратных кощун надули тебе в уши заморские шептуны, почасту наезжающие на Москву за милостынькой? Попрошайки, давно утратившие прародителев приход, паству и заветы, променявшие веру истинного на еллинские книги, – чего же вы с таким самодовольством и самохвальством переступываете по амвону первой церкви Руси, оттеснив от службы великого государя! И неуж кир Никон сам восхотел того?
А вы, отцы церкви нашей, куда вдруг заторопились на рысях, возомнили о себе невесть что, запрягли в коренники беса и давай поманывать скверну в распахнутые чужаку царские врата. А он-то, антихрист, вельми выучен всяким прелестям и заведет вас скоро в такие чаруса, откуда веком не выбраться. И неуж не ведаете, что новые вероучители учат нас неслыханной вере, точно мы мордва иль черемисы; пожалуй, придется нам вторично креститься, а угодников Божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить. Уже иноземцы смеются над нами: де, что мы и веры христианской по се время не знали...
Шепот рос, вспыхивал волнами и почасту перетыкивался сквозь псалмы, нарушая строй службы. Ввечеру видели московцы черный крест на солнце: знамо, быть беде. Где ты, Никон, отец наш? Объявился...
Никон подманил анагноста, велел ставить аналой. Дьяконы принесли стул, положили на шелковую ширинку сборник отеческих бесед, откуда Никон порою после обедни вычитывал проповеди. А нынче-то время неурочное для бесед; какой же неотложною наукою вдруг возжелал поделиться пастырь? Никон поглубже надвинул Филаретову вязаную скуфейку на лоб (клобук тесным обручем сдавил голову), расправил по плечам белоснежные воскрылья и поцеловал нагрудный крест. От сладкого лобзанья он открыл в себе решительную силу; ему сделалось так горячо, что губы пересохли от внутреннего жара. «Детки вы мои, детки, – по-голубиному вскрикнуло сердце, – я вас отыму от пагубы». Он решительно, как на ристалище, вышел на патриаршье место за амвон, без тени сомнения отбил Макарию большой поклон и, не тая голоса, возвестил трубно:
– Сам Спаситель прислал тебя учить нас, маловерных, и рассеивать тьму...
И снова земно поклонился, ставя себя ниже Антиохийского иерея.
Вот оно, началося: мрак нисходит. Где ты, инок Филофей, бывалоче вразумивший великого князя Василия, де, соборная русская церковь теперь паче солнца сияет благочестием по всей поднебесной. Кости твои сотряслися, и от мощей исторгнулся по святой Руси изумленный стон.
Едино вздохнул собор в предчувствии беды, и лишь иереи согласно сняли клобуки и трижды поклонились Макарию. А митрополит Павел Крутицкий, никем не спрашиваемый, вдруг высунулся наперед и торопливо возвестил:
– Свет веры во Христе воссиял нам из стран Востока... Никон сурово сдвинул брови, взгляд исподлобья не сулил ничего доброго.
– Отец святой, блаженнейший, владыка кир Макарий, патриарх великого града Божьего Антиохии и стран Каликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока! Твоя святость уподобляется Господу Христу, и я подобен Закхею, который, будучи мал ростом и домогаясь увидеть Христа, влез на сикимору. Так и я, грешный, вышел теперь на амвон, чтобы лицезреть твою святость...
Макарий поощрительно склонил голову, не стирая с лица отеческой улыбки, и драгоман нашептал Никоновы похвальбы в мясистое старческое ухо, принакрытое курчавой седеющей шерстью.
– Медоточивы твои уста, великий государь Никон, сладконапевны и велегласны они, – вступил Макарий. – Щедра на милостыньку богомольная Русь, но и ее подточил недуг ересей. Кобыльники притащили к вам заразу, а вы испили ее, как нектар. Но надобно помнити вовек: свет истины притек от нас. В Антиохии, а не в ином каком месте, верующие во Христа впервые были наименованы христианами. Но вы не только евангельские заветы малодушно испроказили, но и давно позабыли соль веры, как крестится от веку Царь-город и святой Афон, Александрия и Синай. Утратили завет апостолов, учеников Господевых, потчевая язычников. Знаменуете себя, как архиереи, двумя персты, и тем впадаете в пагубу тщеславия и гордыни. Вот, де, я – сам Христос! Глядите, каков я! Вот и владыка ваш Никон ослеп от слез, плачучи, что в темени и гресех прозябает отчаявшаяся Русь! Но и я скорблю и стенаю с тобою, православный воитель!
– О, блаженнейший, спосыланный к нам самим Спасителем. Я, немощнейшая чадь, припадаю к твоим стопам, источающим елей, прося подмоги. И ныне пред Золотым Евангелием клянуся: я русский, сын русского, но мои убеждения и вера греческие. Будь моим поводырем, владыка, и веди претыкающегося слепца к вратам Света присно и во веки веков. Паки и паки казни меня своею рукою, прелюбы творящего, в науку мне и всем православным богомольникам, хотящим слышать ваше святое слово. И крепкой клятвой клянуся смертно стояти за истинную веру...
– Благословляю, чтобы заблудившиеся прозрели, отчаявшиеся воспряли духом, кривоверы соступили с тропы безумных логофетов! – Макарий простер руку и как бы всех разом принакрыл и обласкал пухлой дланью, унизанной перстнями. Сиянье полиелея отразилось от перстов мерцающими копьями. И от этих слепящих рапид, казалось, прободающих сквозь, соборяне призатенили глаза и впали как бы в обморок. Такая вдруг установилась тишина. И даже соборные нищие, что от холода жались к притвору, перестали гнусавить милостыньку Христа ради. И многие из прихожан тут заплакали, искренне кляня себя за пороки, другие же, глядя на оплывшее лицо наезжего владыки, что явно любит есть-пить, подумали, усомнясь: «Слепец слепца ведет в яму. У самих вера давно испроказилась махметовой прелестью безбожных агарян, зато нас собрались вдруг излечивати. Ну что мы за жалкий такой и смиренной народишко, воистину овечье стадо, что всяк, кому не лень только, садятся нам на голову, едут издалека нас поучати и наставлять и исповедовать». И те, кто не приклякивал гостью, у кого не отсырели очи, вдруг с особой пристрастностью огляделись вокруг и пообиделись за тех, кто с готовностью отворил родники слез. И меж прихожанами впервые опустилась невидимая решетка.
И снова Никон покорливо отступил пред антиохийским святителем, глядя с некой грустью и почтением и дальней завистью на его пригорблые жирноватые плечи, на донце шелковой, раструбом, камилавки и широкие белоснежные воскрылья, полотнищами опадающие к спине. И решил Никон, болезненно чуя, как Филаретова вязаная скуфейка тесно перетянула ему лоб, что даже самая неприметная утраченная малость изымает из православной веры ее всеобнимающую красоту. Ну какой же мы всамделе третий Рим, да и станем ли когда воистину вселенской церковью, ежели так разнимся не токмо в заветах, но и в обрядах, и в обличье?
...Сам Макарий Антиохийский напутствовал, чтобы мы решительно возвернулись в истинное лоно греческой церкви. И время ли далее-то отступать, когда вся христианская паства с мольбою смотрит на нас? И царь-государь того же хочет. Так какого же особого слова еще поджидать?
Никон вступил на аналой, потрогал кожаные крышки нового служебника, переведенного Арсением греком и разосланного ныне по всем приходам Москвы. Он трудно поискал первых, самых решительных слов и сказал мягко, но с неколебимой верою в правоту:
– Чады мои, дети мои духовные... Царь вавилонский Навходоносор похвастал однажды, загордясь собою, де, я Бог. И Вавилон рассыпался, аки песок в пустыне. И развеяло его по ветру, и в том месте завелись змеи, и та отрава растеклася по всей земле. Нельзя единому двоиться, даже мысленно, ибо всякое царствие, разделенное в себе, не устоит: грех нестираемый переманывать славу небесную на мертвую плоть. А мы-то о чем помыслили, отплывя от Царя-града, перехвативши от верных правило церковного корабля? А решили сразу, что и ветры нам нипочем. Де, сами с усами, такие похвалебщики. Мы – третий Рим! Мы – крепость пра-вос-ла-вия-я. А сами заскорбели во гресех и лик Божественный утратили. Помните, чада милые, неразумные! Есть одна лишь Святая София, откуда Божьим промыслом притек на Русь свет евангельского знания, раскрывшего наши дремотные языческие вежды, и другой не бывать вовеки. И спосыланный со стран Востока кир Макарий напомнил, что заплутали мы, паки и паки пособляем сатане. Знайте же, маловеры, и кривоверы, и слабые сердцем, сбитые с толку утробой ненасытною, впитавшие искус иосифлян! Кто хочет стяжати славу земную, забывши о душе, тот первым предстанет на судилище пред Господом нашим, ибо позабыл в суете сует, что вся слава земная не стоит и одной минуты грядущей райской жизни. И ввергнут будет в огненную дебрь. О чем возомнили вы, одевшие чуже платье, взявшие за пример богомерзкую геометрию, еллинские книги и роскошь, потрафляя чреву во всякой прихоти; вы потаковщики латинам и иудеям? Верно, подумали, что вас минуют весы, на которых до малой гривенки измерят ваши грехи и добродетели? Вы, отступники, и образ-то Господен позабыли, поклоняясь чужим доскам, изгнали от себя печалующий о вас, тончавый лик Царицы Небесной. С польских земель привезли франкские иконы и похваляетесь ими, как драгим камением. Что сталось с вами? каким чарам и кобям предались, малодушные, в неурочный час, когда немотствовала душа ваша? О горе, горе нам! – Никон всплеснул руками, и прихожане заоглядывались, отыскивая промеж себя прокаженных, отмеченных немилостью патриарха. Не зря же последнюю неделю бегали бирючи по престольной, стаскивая чужебесные иконы в патриаршью ризницу. И взгляд истовых богомольников вдруг стал подозрительным, немилостивым, и даже близкие по родству иль кумовству, гоститвами и домами отвели друг от друга смущенные и беспомощные взоры, чтобы не быть уличенными во грехе. Никон дал знать рукою, и архидьякон Григорий, зоревея упругим возбужденным лицом, вынес из малой алтарной образ Богородицы умиленной с младенцем.
Никон вскинул доску над головою. Богородица была, как живая, срисованная с московской боярыни, червлена да сурмлена, с брусничной спелости щеками и обволакивающим таусиным взглядом. Ножки же и ручки младенца все в перевязках, головенка покрыта витыми кудерьками. И тут куда только делась умильная кротость патриаршьего взора и раскатистая, густая сладость слов, выбивающих чистосердечную слезу из самой мерклой, иссохлой груди. Патриарх взъярился, потрясая иконою, чтобы криком подавить в себе самое малое сомнение и всякую уступку нечестивцам, чтобы не открылась к жалости душа.
– Глядите, чада мои, на эту бабу! – заторопился Никон, ткнул перстом в Богородицу. – Эта скверна с тябла дяди царева боярина Никиты Ивановича сына Романова. От фрягов спосылана. Сам-то боярин-брадобритенник, он до всего заморского давно охоч и табаку нюхает, и своих слуг обряжает в кощунное платье, страмя дедовы заветы. Он и есть-пить шибко любит, угождая брюху своему, и не каждый день поминает молитвы. Где-ка ты, Никита Иванович, скажися народу? Пусть добрый люд посмотрит на каженика, что любодеице поклоняется...
А цареву дяде не пристало прятаться, коли его свычное место на самом почете подле государевой сени. Вон на кого замахнулся, взнял руку Никон, вот кому засучился грозою! Никита Иванович стар уже, седой, как песец, со сталистым прищуром пасмурных, неулыбчивых глаз. Прихожане невольно отшатились от Романова, и он остался стоять сиротливо, как перед казнью: зачем-то явился в собор в вишенном сюртуке английского покроя с кружевным воротом и с толстой золотой цепью для карманных часов с музыкой; в ответ на издевку патриарха он набычился, жамкая в кулаке бархатную круглую шапочку с собольим околом, потом достал часы, открыл крышку со звоном и сухо-притворно рассмеялся, гордовато откинул голову. И покинул вечерницу, постукивая ореховой палкой. И соборяне, всегда поклончивые пред боярином, добро знавшие его веселую, искреннюю натуру, раздвинулись готовно, образуя коридор... Но затейно, право, уж так затейно соборянам поглядеть на посрамление царева дяди, первого богатея и охотника до иноземного сряда, любителя немецких фортепьян. Ничьей власти не добраться до ближнего боярина, а тут нашелся человек выше царева рода и призвал спесивца к чести. Будет нынче разговоров на Москве; вот и черный крест на солнце, скоро сбылось для Романова грозное предзнаменование. И неуж смолчит гордоус, не даст Никону отмашки?
А Никон выдержал молчание, проводил боярина взглядом до притвора, чтоб всяк насладился позором думного сановника, и тем дал весть народу, что любой кощунник, в какой бы вышине ни числился на Руси, будет посрамлен и наказан, ибо церковный меч поразит всякого.
– Эта баба каждый Божий день набивает черева жирной ествою, и с того брашна любострастна она. А на руках-то что за младенец? Ноги и руки как стулцы березовые, и взор горит похотью. Вглядитеся пуще, там бесы свили себе гайно и вскочут во всякого, кто хоть раз поклонится еретической живописи. И богомаз, что насмелился тончавый постный лик Царицы Небесной иначить по скверному своему розмыслу, да будет проклят навечно и изгнан из матери-церкви. И так всякий, кто решится держати в доме своем подобную ересь польского и франкского письма, да будет предан анафеме. Изгоном погоним эту заразу из православных стен. И пусть сожгут ее палачи, а пепел закопают в землю, чтобы не коснулась проказа ничьих одежд.
Но кто вложил в десницу Никону золотую рапиду? Он с холодной решимостью, как по живому и трепещущему, в страхе вонзил острие сначала в очи Богородице, провернув жало в окровавленной мякоти глаза, а после и плачущего младенца ослепил и сокрушил икону о железные плиты пола. Всеобщий испуганный стон раздался в Успенском соборе. Эти священные стены еще не знавали подобного иконоборца. И многие в ужасе втянули голову в плечи, устрашась неминучей кары. Ведь саму Богородицу смертно уязвил патриарх.
Владыка Никон, великий отец наш, уймися, не дай гневу своему простору...
Напрасно ждали соборяне вышней кары: не обрушились своды храма на владычну голову, и черти, с таким тщанием написанные на задней стене церкви, по-прежнему деловито купали грешников в кипящей смоле, подвешивали на крючья под ребра и парили огненным веником на раскаленном ложе. А великие апостолы, и евангелисты, и святые отцы Руси бестрепетно взирали на властного, неистового патриарха, бывшего мужика, нынче же царствующего на Руси. В морозной темени на Дворцовой площади садился в богатую карету, подбитую куньими хребтинами, боярин Никита Романов, отныне враг Никона. Он услыхал протяжный стон в соборе и оглянулся; со тщанием выбритое лицо его не дрогнуло; слуги в ливреях с серебряными позументами вскинули наперевес черемховые батоги и поспешили впереди поезда, освобождая дорогу от зевак. Тонкие ошинованные колеса сдвинулись, увязая в сыпучем снеге и прорезывая недолгую глубокую колею. Возничие каптанов с усмешкою провожали карету...
Архидьякон Григорий вынес образ Святителя в богатых ризах, убранных жемчугом и алмазами. Сириец Макарий вздохнул, подался навстречу, пытаясь перенять икону: жалко было серебряного кованого ковчега и многих драгих каменьев. Но его движение было неуловимым, и вряд ли кто заметил, кроме архимандрита Паисия.
– Это ли Искупитель? Отец-Свет наш? – воскликнул Никон, подымая икону над головой. – Чада мои благочестивые! Думно мне, что боярин Борис Иванович Морозов спутал его с разносчиком питий. Не хватает ему, опойцу, намалеванному еретником-изуграфом, братины с медом. Эко обрюзг, ярыжка, и с вина-то осоловел. Свинья свиньей, только что не хрюкает. Сам большой грешник и греху поклоняется Морозов, мишурою и блеском хотящи откупиться у Превечного от огненной дебри. Потаковщик лютерам и сам кривовер, держащий отца духовного лишь для блезиру, он нынче всюду плачется: де, мало вкусил прелестей от дегов и фрягов. Небось нету его на вечернице? Сказался больным?
– Владыка премилостивый, не порази Божественных очей! Чую, отзовется вскоре. Невдолге минет срок и сам ослепнешь! – несдержно донеслось с женской половины собора. Из-под суконных червчатых пол, кои врастяжку держали юные челядинницы, на миг показалось набеленное лицо Федосьи Морозовой. Уже глухо, из-за опоны, взмолилась госпожа:
– Опомнись, великий отец наш, и не заступай Света!
– Бедная, охти мне. И ты обманута сатаною? Сколь глубоко въелась скверна промеж нас. Гляди-тка, голубица, сейчас взвоет сатана, уязвленный мною! – Никон взмахнул рапидой и поразил левое око Исуса Христа. И немилосердно кинул образ под ноги себе; и раскололась доска наполы, попав на кованые поистертые заклепки; и дорогое камение раскатилось по амвону, выбитое из гнезд. Патриарх Макарий ловко присел и поймал в пригоршню полыхнувший голубым адамант величиною с перепелиное яйцо. Алмаз пропал в широком рукаве дареной ризы. Тут под куполом собора прощально всхлопало, раздался звериный вскрик, и все взоры прихожан уперлись в подсвеченную глубину морозного купола, откуда грозно сиял изумрудный зрак Творца.
Архидьякон, торопясь, уже подавал новые образа.
– Ртищева Федора Михайловича, окольничего богомерзостная икона...
– Стрелецкого начальника Артамона Матвеева кощунные доски...
– Князя Василия Голицына любострастные еллинские обманки...
Собор опустел. Вечерница, внезапно разрубившая Русь наполы, закончилась, оставив в сердце каждого горечь неясной проказы, но колокол, обычно извещавший о выходе патриарха, так и не подал вести задремывающей Москве. Из тайной зепи Никон достал замшевую кошулю и подал певчим по алтыну. Он задержал сирийца Макария, отправил вон клир и приезжих служебников антиохийского посольства; остался в соборе лишь архидьякон Григорий и успенский поп.
Никон сам проводил сирийцев, чувствуя, как устал, остамел ногами и опаршивел телом – будто трудную рать выдержал, настолько источился душою, был безвольно вял, сонлив и спотычлив. Архимандрита Павла, безотчетно любя его за чистую бледность лица и смиренность взора, прощально погладил по плечу, как бы отпустил в мир; ключарь, попросив благословения, закрыл кованые врата тяжелым ключом и просунул в проушины дубовый засов; сирийцы, намаянные и устрашенные долгой службой, промерзшие до костей, столпились на Южном крыльце, мысленно глядя в сторону милой родины; слышно было, как они гулко топотали валяными сапогами по ледыхам паперти, кляня Московию; на небесной жаровне ярко тлели уголья; у воротных решеток в царский кром горели костры, выхватывая из ночи мохнатые собачьи шапки стрельцов, край площади, заиндевелый бок Благовещенского собора и святительскую каптану на полозьях с опущенными бархатными опонами. Никон прислушался к чужеземному говору и, охватив внешнюю жизнь умственным взором, чуть оттаял, приободрился, словно бы уверился в надежности охраны. Макарий по-прежнему задумчиво стыл на амвоне, не покидая патриаршьего места. Никон вошел в государеву сень, принял с тарели золотое яблочко, покатал в ладонях. Но вода давно остыла, и яблочко не грело. Ничто нынче не радовало Никона...
«Не круто я взялся?» – спросил Никон у гостя. Драгомана не было, и слова до Макария не дошли. Никон усмехнулся, подумал: частенько, брат мой, гостишься в Русии, мог бы чего и схитить из нашенского языка. Гордость, вишь ли, долит владыку.
«Нет-нет, в самую пору. Час настал боевой!» – сам себя укрепил Никон. Макарий ласково заулыбался, часто закивал головою, вроде бы понял тайный смысл слов. Не хитрит ли гость?! Исстари известно: иудей цыгана обманет, а иудея – грек.
Соборный поп неслышно блуждал по церкви, любовно убирал иконы влажной губкой, целовал образа, боялся прогневить патриарха; ключарь тушил свечи, собирал огарки в плетуху. Макарий, забывшись, достал из рукава ризы утаенный адамант, стал глядеться в него, восторгаясь голубой глубокой водою камня. Никон вкрадчиво приблизился, боясь выпугать гостя: неприкрытая жадность грека смущала его. Никон и сам был преизлиха скупенек, скупидом, он все тащил в церковную ризницу, выпрашивая частые подачи у государя; но до чужого и чтоб воровски – не грешил.
«Дай-кось, чего там выглядел?» – спросил у Макария с усмешкой и забрал алмаз. Патриарх, запрокинув голову, долго смотрел сквозь адамант в призрачную, дробящуюся глубину ночного купола, из которой проливался на церковь изумрудный взгляд Творца. Ведь туда, шумя крылами, отлетел сатана. И не бреши там, ни другого лаза, гнезда иль схорона. Потом поместил драгой камень в замшевую кошулю и просунул ее куда-то в тайную зепь, за пазуху, к самому телу возле вериг. Подумал нерешительно: надобно боярину Морозову сказаться, чтобы не палось на грех; разнесет Бориско, де, Никон на чужое покусился.
«Беда зариться на чужое», – сурово остерег Никон гостя, но тут же прощающе улыбнулся, прошел в алтарную, пальцем поманил сирийца. Макарий оскорбился небрежению, но в замрелом от долгих бдений лице, покрытом частой сеткой багровых прожилок, не выказалось неудовольствия. Давно под турским махметом византийская церковь и приноровилась скрывать истинные чувства.
«Кого Господь наш возлюбит, того почасту и наказывает», – по-гречески вдруг молвил Никон, любуясь сладконапевностью звуков.
«Слава Творцу нашему», – в ответ вяло возблагодарил Макарий.
«И в нашу церковь проник враг Божий, чуя потворство. Надобно его низвергнуть», – громоподобно возвестил Никон в пустынном храме, вызывая сатану на рать. И чего не случалось прежде в обыкновение, Никон принял с престола на голову злащеный ковчег, примяв клобук с золотыми плащами, пронес драгоценную укладку в храм, бережно поставил на средний аналой. Патриарх вскрыл царскую печать, отомкнул святое место, откуда молитвенно достал золотой ларец. И здесь была нерушимая царская мета, кою мог обойти лишь первый святитель. Никон разъял ее, отпахнул крышку, извлек ризу Господню. Он за обыденку, как самое обычное дело, раскинул Христово платно: подол его с шорохом и свечением скатился на пол. И неуж сам Спаситель облекался в него? Тут сноп света разъял сумерки, и владыки повалились ниц, не смея дерзко вздохнуть, трепеща от страха и благоговейного восторга. Запела небесная музыка, скоро отдавшаяся в сердце каждого. Патриархи омолодились, воспряли, услышав в себе силы на благое дело. И раздался с вышин Божественный благословляющий глас: «С вами Бог!»
Никон окадил льняную, темную от старости ризу, однако не утратившую сиянья, и трепеща поцеловал ее край. Тут и сириец Макарий подступил, отринув робость, облобызал смертную Христову рубаху. «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас», – гулко зарокотал Никон, не подымаясь с колен. Макарий, гнусавя, с осторожностью и несмелостью поддержал русского патриарха, с дерзостью преступившего дедовские заветы. И верно: с какой такой необъяснимой нуждою вдруг сломал Никон стародавний закон? Что ему нашептала Христова риза, в чем укрепила его, на что подвигла? Глыба, гора православная – этот патриарх, плечи коего подпирают сами своды Успенского собора. Для чего-то именно его выбрал государь средь русских святителей? Значит, был глас? Так, устрашась, подумал гость, с испугом, презрением и неприязнью озирая снизу вверх покатые, державные, упругие плечи Никона, покрытые церковным платном, как воинскими бронями. Разве не обидно гостю? Что греку за богатство, то русскому за обыденку.
Наверное, извлек Никон себе защиту из самолюбивой кощуны своей? Кто узнает сие... Он протяжно, с облегчением вздохнул, будто бы получил разрешение Спасителя на подвиг земной, и, не спросив гостя, уже спокойно, деловито запечатал ларец с ризой Господней, поместил ее назад в ковчежец, возложил на голову и отнес обратно в алтарь. От престола, благословив друг друга, они и разминулись, и Макарий покинул собор с неразрешенной загадкою.
Подьяк-ключарь с заплаканными, воспаленными глазами, рискуя разбиться, взобрался по лестнице к большому полиелею и взялся тушить свечи, погружая собор во мрак. Он почасту, без нужды взглядывал вниз, на тусклые железные плиты пола, притягивающие его слабую плоть. Такое желание посещало подьяка почасту, двоило его сердце странным соблазном. Может, оттолкнуться от поручней и полететь? Душа рвалась в небо сквозь стемневший купол, а болезненное постное тело, снедаемое червями, готовно опадало встречь земле. И от восторга мороз пробивал его замлевшие пустые кости.
«Приидет свой час, и Господь сам призовет меня!» – воскликнул служка и очнулся.
2 Из жития Неронова
...Когда Неронова сослали в Каменный монастырь на Кубенское озеро, то архимандрит Александр принял его поначалу с радостию, яко страдальца, и воздал ему честь, поставив в церкви выше келаря, новый войлок овечий подложил ему под ноги, чтоб не стыли плесны, и кожушок бараний подарил на плечи, и в келий жить повелел с отцом его духовным священником Григорием, и слугу ему дал для чести да повелел из поварни прибавочной ествы приносить в келью да квасу доброго в оловянниках да братинах медных с покрывалами.
Неронов же, освоившись на крохотном каменном острову середь озера, скоро стал укорять настоятеля за бесчиние, вмешиваться в монастырские дела, за поездки из обители, за то, что кормит монахов рыбою в посты, а монахов досаждал за пьянство и небрежение в службах. Эти укоризны на страстной седмице до того усилились, что архимандрит в великий пяток по окончании службы вышел из алтаря с попами и дьяконами и стал кричать: «Доколе нам терпеть от протопопа Иоанна? Он противится церкви!» И запретили ему ходить в церковь, прогнали от него всех слуг и оставили одного в келье.
Вскоре братия монастыря, выведенная из терпения постоянными обличениями, решила избавиться от сосыланного, чтобы не утратила крохотная уединенная обитель благословенного мира. Иноки, нарочно вытопив жарко келью Неронова, напустили в нее чаду и заперли в ней протопопа, чтобы он умер от угару. Неронов, воздев руки к Богу, стал молить о спасении пользы ради иных. Молитва его была услышана.
«Невидимой рукою в полунощи Неронов неожиданно взят был из угарной кельи и поставлен за девять-десять поприщ на Холмогорах в храмине воина некоего». Так уверяет летописец...
Неронов пересылал письма к царю и царице и постоянно хулил Никона как врага Божия. К нему приезжали отовсюду боголюбцы, был тут и протопоп Муромский Логгин, сосланный в Муромские пределы; пришел сюда и остался на житье писцом игумен московского Златоустовского монастыря Феоктист, который первым пристал к четырем протопопам, врагам Никона.
Никон приказал сослать Неронова в Кандалакшский монастырь и там держать его на цепи в железах, чернил и бумаги ему не давать. Отправившись в путь, Неронов задержался в Вологде и отсюда отправил два послания: одно к царскому духовнику Стефанию, де, «гредет на мучения в дальние страны заточаем»; другое – ко всей братии, боголюбцам царствующего града Москвы и прочих градов, и всех купно стран, чтобы они не скорбели о нем, а радовались, чтобы облеклись во все оружия Божий противу козней диаволовых...
...И сослал Никон немирного протопопа Иоанна к лопарям на Мурман на оток моря, в страну полуночную; сына же его духовного Аввакума выпроводил из Тоболеска в Даурию с отрядом воеводы Афанасия Пашкова. Решил патриарх, легко вздохнувши: с глаз подале – из сердца вон. И так постоянные вести беспокоят: де, мутят воду гордецы, шлют подметные письма. Ныне труднее будет сыскать путей в государев Терем проказливым ябедам еретиков.
Тешь себя, патриарх, усмиряй душу нераздельной властью, когда всякий ближний царев боярин, покорливо выжидая участи своей в холодных сенях, почитает за великое счастие показаться на глаза святителю и получить благословение. Да и кто они, попишки, прежние спесивцы, чтобы уповать на бесконечное терпение великого государя? Откуда в них столько зломыслия и блудословия? Жестока, немилосердна, безгласна темь Руси, и на любом крестце внезапно и невзначай отыщется Иродова сестра Невея и захлестнет горло строптивцу.
Но, знать, ты позабыл, патриарх, что напрасные гонения растепливают, разогревают сокрытые прежде силы, разлепляют внутренние очи, освобождая от слепоты, и тогда многое, прежде сокрытое, увидится вдруг окрест и вдаль. Видно, запамятовал Никон, что сухорослый проповедник Неронов – известный провидец, для коего невидимое бысть видимо. Это страстотерпцы, молельщики из той нередкой породы русских людей, коих чем больше прижимаешь, неволишь, гнешь их непокорливую выю долу, тем упрямее, дерзливее и ерестливее становится ожесточившееся сердце; такой человек, распаливая в костер свою душу, готов идти за веру на крайние муки и даже на саму смерть; ибо убеждения его – сама истина и правда, осененная Христом. И с каждым днем слух о боголюбцах, безвинно страждущих, неисповедимыми дорогами разносится по земле, завоевывая все новых попутчиков, ибо всякое православное сердце так склончиво и любовно к страдальцу, муками своими походящему на Спасителя... Эх, владыка, тебе бы пригреть супротивника, обласкать гордеца, обнадежить и приветить посулами, и ты бы, ласками окутав, утишив непокорника, содеял куда больше для упрочения веры, похилившейся на русский манер. Но отныне же ты в глазах ревнивцев лишь иконоборец, смутитель и первый раскольник, сатанин угодник, продавшийся антихристу. Пока слух этот немощен, едва слышим в Руси, но тебя то и дело ставят рядом с богоотступником греком Исидором митрополитом, что притащил в Москву унию. И если бы великий князь Василий Васильевич не обличил злокозненного врага, то олатынил бы Исидор русскую церкву, исказил древлее благочестие, насажденное святым князем Владимиром...
Милостивец, еще не поздно подклониться под отеческое предание: «Вожди суть слепи, слепец же слепца аще водит, оба в яму падут». Как неспелое яблоко втуне пропадает, так и народ, неготовый для перемен, скоро пожалеет о внезапных новинах и обратит свои взгляды на старопрежнее, милое и привычное, от чего вдруг и сразу отскочил под чужой волей.
Поверь, милостивец, еще ничто в миру не грозит бедою, но от слухов невидимых многие несчастья случаются; и не токмо слабые помыслом и сердцем, но и целые народы в погибель впадают.
Доносят священницы из приходов, горюя от ересей, о многих печалях. В Злынке посадский, прослышав о переменах в вере и спасаясь от неминуемого греха, убил ночью жену и троих детей своих. Поутре сам пришел в земскую избу и объявил: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в Царстве Небесном мученики».
Далеко Неронов, но и за сотни поприщ с рыбными обозами и стрелецкими вахтами, и с кочевой кибиткою попадают от него письменные памятки и в государев Дом, и Вонифатьеву, и братьям Плещеевым, и архимандриту Данилова монастыря Тихону, и соборным чадам своим: пишет он: де, Никон еретик нас посылает вдаль, то вскоре и ему самому бегать. Да и вы если о том станете молчать, всем вам пострадать. Не одним вам говорю, детки: за молчание всем зле страдати.
И прочитавши горестное письмо, невольно воскликнет искренний богомольник: «О, бедная, бедная Русь! что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков? Жидове знамения просят, еллини же премудрость ищут, мы же проповедуем Христа распята, Божию силу и Божию премудрость. Один псалом Давида нам милее всех книг мира...»
«... За грехи нам, ох, за грехи...»
Всумятилась в голову русского человека и уже не отпускала эта повинная мысль.
Наслал Господь на третий Рим девку Маруху, чтоб известь московитов за неверие. Невесть откуда явились волосатые толкователи священных писаний, прорицатели снов, расслабленные девицы и прокаженные нищие, чернокнижники и упыри с красными глазами; они стали бродить средь всполошенного народа, суля гибельную тоску и конец мира. Богатые затворились в хоромах и палатах, денно и нощно окуривая комнаты кадильницами и наглухо затворив окна и двери. Мудрые постились, вовсе не принимая ествы, лихие же, сорвиголовы, пустились в пьянство, вином отгоняя прочь дурные чувства. И всяк нестерпимо захотел выжить, тайно покидая Москву, подкупая караулы. Иные спаслись, а иные были на месте изрублены бердышами. Заслоился над Москвою горький костровой туман, по речным излукам, на взгорках, у богаделен и вокруг кладбищ жгли всякую ветошь. Упали на въездных воротах дубовые засовы, опустились по улицам кованые решетки, у рогаток осекли посадских стрелецкие вахты; встала у подворий, куда навестила язва, суровая сторожа, убивая смертно всякого, кто намерился покинуть свое имение; и тогда целые роды выбивало чумою. Скончался и верховой царицын поп Иван, брат Аввакумов. Запустели церкви и причты, не покидая соборов, молились неустанно, тут же и умирая возле престолов. Далеко великий государь, он воюет с ляхами, добывая побед, и казалось бы, самое время торжества. Но пляшет Невея в известковых братских ямах на московских безвинных костях.
Никон оставил воеводою над столицей боярина Михаила Петровича Пронского и в самые июльские жары, под покровом ночи, тайно вывез из Москвы во спасение царскую семью подальше от язвы. И всякого, кто по нечаянной судьбе иль злому умыслу попадался в пути, того прокалывали стрельцы долгими пиками, труп отволакивали подальше в лес и зарывали там без причастия, а одежды свои сожигали, чтобы, упаси Бог, не занесть в государынин обоз морового духу. А землю ту срывали с дороги на несколько пядей и насыпали свежей, чтоб проехал царский обоз, и так благополучно добрались до Колязина монастыря; сам же Никон закрылся в Троице-Сергиеве, молясь о спасении несчастных и стеная о нескончаемых своих грехах.
Но в Успенском соборе еще славили Спасителя, чтобы он даровал живота, и всяк православный, уповая на милость Божию, как никогда, глубоко воспринимал евангельский завет: «Все в жизни временно, токмо душа вещь непременна». Второго августа померкло солнце, и люд московский впал в уныние; ночами через Скородом проникали в город лазутчики, мутили народ, сеяли гиль и смуту. И ляхам то поветрие было во спасение, ибо русский царь одолевал Польшу. В Москве оставалось мало войска, и воровским людям была безнаказанная воля. Нашлись и главные заводчики, купцы гостиной сотни Заика, Баев и Нагаев. Но кто настроил их против Никона, кто подвиг на московский сполох, позднее так и осталось неизвестным. Двадцать пятого августа воевода князь Пронский после обедни вышел на паперть и вдруг увидал пред собою множество посадских из разных слобод. Передние держали икону Спаса Нерукотворенного, на которой лик был изъязвлен ножом. Земские приблизились бестрепетно к боярину и объявили: «Взят этот образ на патриархов двор у тяглеца новгородской сотни Софона Лапотникова и возвращен ему образ из туинской избы для переписки. Скребли образ по патриархову указу».
«Православные, и неуж стерпим такое поругание!» – вскричал Софон Лапотников.
Толпа заворчала: «На всех теперь гнев Божий. Так делали иконоборцы. Во всем виноват патриарх, держит он ведомого еретика старца Арсения, дал ему волю, и тот чернец много книг перепортил. Ведут нас щепотники к конечной гибели. Патриарху было пристойно в Москве молиться за православных, а он Москву покинул, и попы, смотря на него, многие от приходских церквей разбежались; православные христиане умирают без покаяния и без причастия».
Пронский успокоил народ, говоря, что Никон покинул Москву по государеву указу. Толпа разошлась, но в тот же день вновь стеклась у Красного крыльца с порчеными иконными досками. «Мы разнесем эти образа во все сотни и слободы и завтра придем к боярам по этому делу». Пронский призвал к себе сотских и старост и лучших людей черных сотен и слобод и убедил их, чтобы они не приставали к совету худых людей и заводчиков воровства выдали боярам. Заику, Баева и Нагаева залучили под стражу и заковали в цепи.
Но смерть не личит правых и виноватых, всех косит без предписаний. Трус приутих, гилевщики разбрелись по дворам: надо было хоронить ближних и озаботиться о своей душе: неровен час, что скоротечная горячка в один час сожжет и того, кто даве с такой удалью ширился пред воеводою и кричал хулы на патриарха и кто норовил выдернуть засапожник, чтоб перехватить боярское горло.
Пошел снег. Пали первые морозы. По прежним оттайкам кривые улочки и заулки скоро обросли колобашками: ни пройти, ни проехать городом и некому было убраться при доме. Оказалась престольная осажденной крепостью не от крымского хана, но от повальной язвы. Уже и покойников не отпевали, не ладили им домовин, но наскоро окутывали холстами, волочили хокотами в ближайший захорон и заливали известью. У спущенных рогаток бессменные вахты жгли костры. В Скородоме по слободам вдруг взметывался в занебесье рыжий огненный лис, распустив погребальный дымный хвост: то отлетала в райские кущи чья-то безвинная страдальческая душа, а вместе с чумной проказою выгарывала до зольного пятна и осиротевшая усадьба.
И не было охотников навестить престольную; лишь порою к спущенной решетке подскакивал всполошенный царский гонец и приказывал скорее отворять ворота. Но однажды подтянулись сани, запряженные цугом, с закуржавленной избушкой и спущенным кожаным фартуком, с пятью слугами о конь. Очумел кто, чтоб самовольно попадать в ад? Иль навадник какой решился проникнуть в несчастный город, чтоб добраться до государевой казны? Нет, то был Богдан Матвеевич Хитров, начальник Земского приказа и царский спальник, срубленный в походе ляшской сабелькой. Он меркло, изнемогше утонул под медвежьи полости и, страдая от тягучей дороги, однако, с упорством стремился в Москву. Какая нелегкая несла его из смерти да в смерть? Может, литовка тому виною? Не давала покоя, изводила в мыслях, чудилась и во снах, такая жаркая до нездешних любовей, в постель сряжающаяся, как на брань, в какие-то широкие пояса на голое тело с медными бубенцами и в кожаные шлеи с бирюльками. Одно слово – чертовка, огненная кобылка. Грешишь с нею – и каешься, согрешишь – и вновь покаешься. Слад-ко-о... Хитров воочию увидел пред собою зеленоглазую литовку, засмеялся и забыл про раны.
Дворецкий доносил хозяину письмом, де, наведывались в усадьбу по осени патриаршьи подьяки без уговору, как в доме своем, шарились в хоромах и амбарах, и крестовой палатке, и в спаленке, искали чужебесные иконы франкского письма, коих у нас и от веку не водилось. Ведунья-литовка вскочила пред холопами на лавку и вдруг вскричала: «Ой, спасайтеся, волки, сейчас вода вас затопит!» И в сей миг затопило трапезную, сам тому очевидец. И владычни слуги, напугавшись, только и спаслися бегством. Но что за диво, хозяин: вода была, сам зрел, но никто не замочился. Другим днем снова явились патриаршьи слуги и увели литовку с собою, обещаясь люто постегать за чертовщину. Мы уж, грешным делом, распрощались с нею, зная, как зол патриарх до беса. Привели литовку в Монастырский приказ, поставили к расспросу, и сказала девка подьячему: «Я тебя не вижу и не слышу. Я уйду сейчас, а ты меня и пальцем не тронешь». Открыла дверь – и была такова. И был дьяческий сыск на литовку, но воевода князь Михаил Петрович велел отступиться от девки до вашего возвращения с походу...
А может, за нажитую гобину страшился Хитров? Мнилось маловеру, что воры и тати подорожные, безнадзорные рабичишки и холопы, что ныне во множестве разбрелись по Москве от умерших хозяев своих, сейчас ратью домогаются до его сундуков и поставцов с посудою, платна и меховой рухляди, скопленной с такими ухищрениями под рукою государя. Залетному с улицы соколу боярские бархаты в самую пору, чтоб заскорузлые плесны обмотать заместо онучек, а кизылбашские бесценные ковры ой как весело кинуть в осеннюю жирную грязь улицы и перейти по ним в краденых чеботках, не замарав узорного, шитого серебряными травами сафьяна... Ах-ах, ну до сна ли тут? И не столько гнойная рана гнетет, как те черные думы, что кречатьим клювом своим так и долбят в височную кость. Да и то поймите, христовенькие, легко ли было худородному алексинскому дворянину Хитрову взнятися наверх, выбиться в знати, встать по правую цареву руку. И все бы ладно, уж как ладно сотворилась жизнь, кабы не повенчалась вдовая церковь со спесивым чернецом Никоном; и дурь его призавесила грядущие дни Руси гибельным туманом. Иконоборец, что удумал! решил собою великого государя заместить.
...Добрался наконец Хитров до своего имения: все вживе. И отлегло от сердца. Теперь на поправку пойдет. Дал он на радостях вольную престарелой дворне во спасение живота своего, чтоб молили Господа за щедрого хозяина. А литовка в постели пожаловалась на Захарку, де, доступался до меня карла, и едва я отборонилась. И взревновав, дал Хитров вольную карле и десять рублей на домок свой и спровадил с глаз долой, не веря, однако, наветам литовки. Пообещался Богдан Матвеевич всегда любить карлу и привечать в хоромах. С угрюмым сердцем и сухими глазами убрел Захарка на Москву, с немудрым скарбом на загорбке и шутовским своим платьем. Он едва пробивался через забои, рискуя утонуть в снегу, и удивлялся мерклости обезлюдевшей престольной. Было время к обедне, но молчали сорок сороков Москвы, и не нашлось в Чудове монахов, чтобы раскачать главный православный колокол и призвать прихожан молиться за Русь. На скудном торжище повстречал Захарка карлу Ивашку из царевой потешной палаты: покупал Ивашка миндальных ядер да калачей на корм комнатных попугаев, что были доверены государыней на сохранение. И отправились сироты в опустелый дворец, засыпанный снегами, где и поселился Захарка досматривать заморскую птицу. И жил он в деревянной келейке, дружа с истопничим Барковым двадцать недель, пока не вернулся с победного похода великий государь...
И на исходе пятьдесят четвертого года сошли на Русь знамения.
Старец Корнилий, проживавший в Чудове монастыре, увидел во сне себя в московском Успенском соборе и приметил двух «неких». Один благообразный, со старым восьмиконечным крестом, сказал: «Сей есть истинный крест». Другой, темнообразный, после борьбы одолевший благообразного, держал в руке крыж, новый четырехконечный крест, и говорил: «Сие знамя ныне почитать будем».
Волжская крестьянка Иустина видела чудесный образ святого Игнатия. Он наставлял проверить новые книги, положивши их на гробницу патриарха Алексия.
Старцу Онуфрию явился епископ Павел в ясном свете и со всеми признаками законного архиерея, и Никон – весь омраченный...
Росстань
1
...И неуж Вседержитель из одной лишь песчинки, оставшейся под ногтем у лукавого, размутовал целую землю? Да и черт, однако, хорош; оттого, поди, сатанаилы и не стригут ногтей, чтобы нас заразить орлиным когтем и увлечь в Потьму. Любим вдруг вспомнил вчерашнее отцово предание, искренне веря его правде, и поразился необъятной Господней силе. В шесть дней все заквасить да и замесить? Это ж ого-го-о! Любим отряхнулся от полуденного наваждения, вынырнул из небес, где давно уже, придремавши, блуждал взглядом, приподнялся на локте с травяного клоча – старого гусиного гнездовья, раздвинул рукою серебристые стоянцы пушицы и пообсмотрелся вокруг свежо, в диковинку, обмершим от восторга сердцем. Какая вечная впереди жизнь!
А Канская земля воистину во все стороны была дика, но красно благолепна в июньские Петровки, когда всякая травина и животинка пыщится из последней натуги, чтобы оставить по себе потомство. Потому и живет и возносится в занебесье неутомимый клич: жить хо-чу-у! А быть может, это душа вьюноши, распаленная молодыми соками, сладко возжелала любви и вскричала, как зовет жадный до любви сентябрьский лось?
На западе, добро выбродив, пролилось из квашни морское тесто и неприметно перетекло в слинявшее от полуденной истомы небо, стерев от взгляда окоем, и солнце подтекшим яишным желтком едва протаивало сквозь струистую ряднину. Море протяжно гудело на выносе и неутомимо, оно пело любовную песнь всему родящему, живому и трепетному, что сейчас жарко ловило редкие северные дни, чтобы растешить жажду потомства. Белухи, взблескивая гнучими лоснящимися телами, вдруг вспыхивали из морских глубин, словно бы пытаясь настывшим телом прислониться к ярилу, и, пообсохнув на солнечном ветру, на миг уподобляясь чайке, снова гибко зарывались в толщу, на два белых уса вспарывая таусинную воду, и белые веретена долго виднелись сквозь прозрачные малахиты, отороченные легкими кружевами. Любим свесил голову со скалы, распластавшись на шершавом горячем беломошнике, и проводил взглядом звериное юрово, угадывая темно-синие проточины, эти неведомые ходы, куда невесомо и призрачно проскользнули от дозора белухи.
Волны с тихим шорохом накатывались на глянцево-червленые гранитные валуны, густо испятнанные птичьим лайном, оставляя после себя на узком заплеске шипящую пузырчатую пену и скоро каменеющих звездчатых тварей. Невдали, если отвернуть взгляд, в крутых глинистых бережинах, обметанных кулижками лазоревого иван-чая, иссякала на отливе Кия едва различимой рыжеватой слюдою среди иссиня-черной няши; но куда впадала река, там постоянно кипел сулой, мелкая волна-толкунец выказывала поморскому взгляду коварную песчаную кошку. Сейчас по вязкому дну реки, ждущей прилива, зазывно бегала красноносая птица-кипитка и непрестанно ворожила охотнику: иди ко мне, иди ко мне.
В полуночной же стороне, куда схватывал глаз, зыбилась распаренная, зреющая тундра, пьяная от багульника, можжевела и богатой болотной ягоды; морошка уже загрудела, почти напиталась солнцем, рдяно вылупилась и червлеными, лимонными красками густо обрызгала каждую кочку, разлилась кулигами и желтыми неохватными пластинами меж водянистых обманных чарусов и низких черных озерин, обметанных осотою. Едва морща недвижную гладь, оставляя по себе немеркнущее отражение, скользили лебеди, гордовато, презрительно запрокинув к спине змеиную шипящую головку. И с Шехоходских дальних круч, знать, уже летел сокол-сапсан, чтобы заразить, окрасить кровяной ягодой эту царственную шею.
Березовая ёра слабосило стлалась на сухих веретьях и по беломошнику, и ранний, красноголовый гриб-колосовик храмом высился над рахитичными, сизолистными кустами. А еще далее, как бы оторвавшись от тундры, воспарив над безлюдной землею, где редко, сиротливо протянется аргишем кочевая оленная самоядь, подымались Шехоходские горы, где гнездился, по поверью, сам царь – белый кречет. Вдруг в просвет березовой ёры показалась землисто-бурая гусиная голова, заскрипела, заворчала, растворив черный толстый клюв с желто-красным кольцом. Саженях в пяти скрадывался гуменник, не ведая куда. Ах ты, немтыря, на свою погибель уставился, гоготун. И Любим невольно выцелил казарку.
Левая рука его сама собою нашарила кожаное саадачное лубье, потянула из влагалища за верхнюю кость вересковый лук, и, не сымая с гуся навострившегося взгляда, заминая в себе азарт, вытряхнул охотник из колчана вяленую березовую стрелу с четырехгранным копейцом, кое сам точил из рыбьего зуба, а пальцы уже впились в волосяную тетиву и костяное ушко, вынизанное кречатьими перьями. Неуловимо привстав на колено, помытчик пустил стрелу промеж ореховых немигающих глаз.
Стрела насквозь пробила головенку дикого гуся, и пока заваливалась казарка на бок, еще дрожала с провеек в диво, и воля была немтыре, отлучившись от гусыни, вдруг любопытно выстать из-за болотного волосяного клоча и поймать смерть. Тут, почуяв тревогу, пронзительно заверещал сорокопуд и спрыгнул в схорон; Любим схватил шнур помчей, вгляделся в Шехоходские горы, ожидая оттуда сокола: но это с ближнего веретья поднялся мохноногий канюк, приискивая тундровую пеструшку. Любим отпугнул сарыча от ловушки и поднял казарку.
Птица была еще теплая, она жидко, влажно, скользко обвисла в ладони, потухая пером, и последнее дыханье скоро покинуло серебристо-белый зоб и оранжевые ноги, прощально дрогнувшие. Значит, и у птиц душа выходит через пятки? – решил Любим. И если что и ворохнулось в груди, какой-то дальний отголосок мгновенной жалости, то тут же и погас. Любим вспомнил захворавшего отца и свои постоянные заботы поваренка, оставленного помытчиками для пригляду за кормщиком. Коли молод, так не сутырься: хоть и не молодик уже, но и не дикомыт. Сами-то кормленщики, насторожив парня, ушли на шняке вдоль Канина без головщика и обещались через два семика вернуться; видишь ли, государь грамоткой через мезенского воеводу повелел двинским помытчикам изловить сей год трех белых кречетов для царской сокольни.
И вот уже с месяц тащилась ватажка помытчиков по Канским землям с неудачей и напрасной проедью.
Любим споро отеребил гуся, вывалил черева на поедь песцу-крестоватику, терпеливо отмахиваясь от гнуса и безмятежно улыбаясь чему-то. До Петрова дни нельзя комаров бить: за каждого комара решето вырастет. Он спустился вниз, птица-кипитка отбежала прочь, за глинистый мысок, и оттуда сквозь долгие хвощи просунула красный клюв и запричитала надоедно: иди ко мне, иди ко мне. Да ну тебя, отмахнулся Любим и засмеялся, радый жизни. Хмель бродил в голове, будто ковш стоялого меду испил. Смех этот был странен и чуден посреди Канской тундры, и даже бесконечный ор моевок и тулупанов на птичьем базаре не подавил его. Из берега точился старинный ключ, тут же был выбит кладезь и обложен червленым каменьем, в глуби срубца бился неутомимый язычок студенца. Рядом был берестяной корчик в виде крюка – питейной кабацкой чарки, сработанный Созонтом еще в те давние поры, когда Любима и на свете не было.
Сколько уст приложилось к коричневой, завяленной непогодами посудинке, которую и гниль не источила, скольких ублажила родниковая благодатная слеза? Вот вроде бы и дальняя, заповеданная страна, воистину край света, но так все обжито здесь, по-хозяйски навечно застолблено, чтобы и вослед идущим за зверем иль по рыбу было надежно становать. Любим остудил нутро, потом палагушкою слил воды за ворот сермяги на бурую от ветра шею, для которой всякая одежда казалась тесной. Он вздрогнул и вдруг снова вскричал вольно, перебивая восторг смехом. Тут же споро он управился с добычею и представил себе, как, вернувшись, заварит дичину и повеселит ествою тоскующего отца...
Река меж тем окротела, и рыжая тонкая стрежь воды посреди глинистого русла на какое-то время прояснилась, обрела прозрачность; видны были егозливые камбалки-синявки: иные, поднявши облачком муть, споро отрывались от своей лежки и, совершив трусливую пробежку, тут же опадали, по цвету сравниваясь с сизоватым дном, словно бы улегся березовый избаенный лист. Река окротела, по ней вдруг прокатился ласковый вздох, что-то переменилось, сдвинулось в природе, как бы отсчитала она прожитые часы, сверившись с луною; в этой мгновенной всеобщей тишине вода в устье вспухла вроде бы из ничего, вспучилась накатом, куда выше деревенской избы, и Кия, до того задремавшая, очнулась и попятилась назад в дальние вершины, ускоряя свой бег. Ой, милок, не зевай, уноси, дай Бог, ноги, а иначе живо подтопит река и поминай как звали.
И тут лишь спохватился Любим, что совсем потерял время и об отце недужном позабыл. Собрать снасти ловецкие – минутное дело, да и никто и не позарится, хоть на десять лет оставляй – не тронут, лишь приметь вешкою. Привадного голубя, сдернув с его лапы кожаный должик, засунул в плетуху из ивового прута, туда же запустил сорокопуда – не раздерутся. Ишь разнылись, изголодались, сорочье племя; да и то, у самого ни маковой росинки с утра; брюхо и котел добра не помнят. Сряжался быстро, оглядываясь на взбурлившую реку, будто подгонял кто. О чем-то пригадывал, словно той стороны нынче не миновать, а переправы нет. Странно, вроде бы напусте выходил из становья, а насобиралось изрядно: и саадак, и топор, и отцов карабин винтовальный, и огневой припас, да лузан с ловчим снарядом, что потребен сокольнику во всякий день в его ухожьях. Но промышленнику, выросшему в долгих ходах, это не поклажа, да и три версты до поварни – не путь...
Любим срезал дорогу через павну, зная прямую тропу меж двух озерин, чтобы не коротать береговой мег, где ходу возле моря верст десять; и скоро уже увидел обросшую травою дерновую крышу и серебристую от ветхости бревенчатую стену с крохотным паюсным оконцем. Даже почудилось, что мелькнула в нем отцова тень; солнце спокойно западало, уже отпустило жар, и в замшенных пазьях легла вечерняя голубень.
Созонт Ванюков, по прозвищу Медвежья Смерть, меркло, забыто лежал на дощатом примосте, как на смертном одре, укрытый по шею меховой полостью. Его познабливало. Увидев сына, оживился истомленным увечным лицом; в здоровом глазу вздрогнуло что-то жалобное и жальливое; прост, неискусен и суров в чувствах артельный староста, но тут, увидев на пороге кушной избенки сына, невольно восхитился им. Экий увалень, отелепыш, экая каменная варака взгромоздилась в зимовейке, низко пригнувши чело, чтобы не снять, не унести на плечах потолок. Остоялся с воли, привыкая к сумеречному жилью: росту, поди, с два аршина и три пяди, да сажень в плечах, толстогубый, нос утушкой, крохотные глазенки изголуба, круглое лицо иссмугла уже окладисто обрядило вороненой мягкой порослью, из-под мягкой пуховой шляпы, присбитой к затылку, осыпался на плечи давно не стриженный волос. Надо будет горшок надвинуть парню на голову, подумал, да подбить шерсть, а то, неровен час, заболеет парень колтуном, дивно ли в долгих промыслах зарасти грязью?
Охота – одно лихо, а без нее – два. Вроде бы и матер мужик, воистину Медвежья Смерть, а еще не выломился из дити. Давно ли я экой же был? – вдруг ознобило Созонта, и непривычно для себя раскливился, разжидился сердцем, вот и очи защипало. И левый выболевший озеночек, обметанный багровой бахромою, непривычно принакрылся слезою. Любим смутился и отворотил взгляд от таты, сбросил в угол подле остывшей каменицы лузан, достал казарку, потряс, прихваливаясь: «Чего раскис, а? Сейчас кулешу наварю, горячее ись будем, на ноги встанешь, дальше пойдем. Без тебя впусте хлебы проживаем».
В распахнутые дощатые дверцы с нащельниками был виден полый проем из сеней на волю, на веток, весь сизо-зеленый от стланика, с волнистым зыбким маревом дальних гор, надвое рассекших Канскую землю. По тундре пролилась желтая браная скатерть то ли от морошечной назревшей рады иль от прощального солнца; она неуловимо сдвигалась к зарокотавшему морю, оставляя на мшаниках жемчужную, иссера, кисейную паволоку. Отец и сын с похожим волнением уставились на волю, неведомо чего ожидая от нее, вести какой иль нарочного гонца, вдруг странно загрустив в предвестии долгой белой ночи.
– Только зря ноги мнешь. В здешних местах на моей памяти веком четвертного сокола не бывало. – По изжеванной щеке сокольника пробежала судорога, и медвежьи царапыши, побагровев, выступили на сухом, изжелта, пергаменте, обтянувшем изъеденную зверем скулу.
– Кто в море не бывал, тот и Богу не маливался, – хвастливо ответил Любим. – Кречет, он, как дух, живет, где хочет. Завтра сам в избу завалится.
– Экий ты быстрый... Потопчись с мое-то, там поглядим.
– И потопчусь. Есть ли что слаже-то! Веком бы не вышел из этих мест...
– Осатанеешь, парень. Это когда в новинку да на дармовщинку, – поддел сына. В голосе почуялось раздражение.
Созонт потянулся с примоста, принял даренную государем пиалицу, прислоненную к столу, поцеловал яблоневое ложе, душою сразу отстраняясь от сына. В паюсном акульем пузыре, испятнанном давлеными комарами, солнечный свет как бы осекался и оставался снаружи крохотного оконца. А и к чему свет, коли все в памяти. Позабывши сына, Созонт водил пальцем по яблоневому станку, повторяя резьбу, по искусно сеченым травам, восхищаясь тонкостью иноземного дела и глубиной черни с серебром на колесчатом замке. Мастер радел, чего там...
Летом, отправляясь на ловы, окурил охотник пищалицу травой колюкой, и отныне ни одна птица и зверь не уйдут от выстрела. Сын же изморенно остоялся в проеме двери, запамятовав, что пора трапезничать, жамкал в ручище гусиную пупырчатую тушку, смотрел на тундру: осота стлалась под полуночником, отливая седым; у порога высеялась откуда-то, знать, притащили на подочвах с родины, куртинка плешивцев; пуховые шапочки уже просквозились, напряглись на родове, готовые к полету, только чудом крепясь к тощему стоянцу. Любим сорвал цветок, сломил коленце и, выдавив белый сок, слизнул горькое молозиво. Подумал: может, из одуванчиков затеять питье, чтоб скрепило отцову утробу? Но отец и сам с усам, кто лучше его травы на Мезени знает? Любим спохватился, вышел на волю, споро развел костер на поварне, рассек казарку, загрузил в кашный котел, добавил крупяной заспы. Проста, безыскусна еда промышленника, и скитаясь по северам, кочуя с реки в реки, из тундры в тундру, он пользуется зачастую лишь тем малым, что тащит на своих раменах.
Что солдат русский, что помор – на одном тесте замешены и крепятся вчастую, когда застигнет лихо, только духом и прадедовой, досюльной привычкой. Постоянная мужичья утроба, навыкшая к посту, к недостаче кормовой, к утеснениям норовом и душою; ей ли, грешнице, властвовать над православным, коли в рисковых скитаниях его каждую минуту скрадывает Невея, а жизнь бывает ссечена в самый кроткий, незлобивый миг. Кто спохватится о поморянине, когда пластается он, доска доскою, на сиротском ложе, в нетопленной зимовейке, дожидаясь конца, а ветер скорбит, толчется с воем в волоковое, наглухо задвинутое оконце, когда бродят у стены песцы, чуя поживу, когда от догорающей сальной плошки непродых и последний артельщик уже давно мертв, зальдился, согнулся корчужкою на соседнем примосте, и оленная постель ему и последняя утеха, и погребица, и жальник. И крепит тогда умирающего поморянина лишь дух несносимый да Господь, дозирающий у изголовья, чтобы вовремя принять в райский вертоград отмучившуюся душу...
Кто поймет ту крайнюю тоску и муку новоземельского ушкуйника, что угасает от скорбута, когда в его гнойную ветхую постель то и дело приваливается русальная жонка и томит, и жжет своим огненным телом, и целует иссохшие губы, пятная черными язвами и изымая изо рта последние зубы; когда слеза, скатившаяся в сголовьице, не высыхает, но замревает в морозные алмазы. Мир и покой праху твоему, извечный добровольный скиталец Гандвика, морской паломник и помытчик. Воистину, кто в море не бывал, тот и Богу не маливался. Так не диво ли, не праздник ли помереть под присмотром сына, родной кровинки; он закроет глаза и отвезет в родные домы печальную весть.
Дверь вдруг захлопнулась с потягом и отворилась вновь, и Созонт вздрогнул. Видимо, полуночник повернул на север. Вместе с морянином, невесть откуда, может, сын занес на одежонке, оказался в становье малярийный комар; он меланхолично пробирался по столешне, ковыляя на длинных нескладных ножонках. Верная примета – холоду быть; вот и нагрелись полярным солнцем, пора шубой укрываться. Созонта ознобило, и оленное одеяло, душное от пота, постоянно сорящее грубой шерстью, он подтянул под горло, не забыв выпростать и уложить поверх окутки разномастную бороду. Охотник поднес руку к лицу и, разглядывая ее, как чужую, подивился ее легкости, худости, кривым тонким пальцам с набухшими шишками суставов.
И неуж этой рукою брал он лесового медведку на рогатину, ломал ему шею в объятьях, не пугаясь ярого, зверного вонького духа? Воистину царь лесов – человек, а над ним, однако, девка Маруха с косою, что всех подстригает и гонит прочь с земли. Ах ты, Господи, прости и помилуй. Сронила лихоманка-трясавица. Была бы сейчас трава, имя ей «елкий», что сыскал я по государеву указу под Якутском, положил бы то семя в скляницу, налил доброго горячего вина или ренского, да настоял бы, да попил с неделю, не едчи, чарки по две, так и сняло бы нутряную застойную болезнь, что корчит меня.
А ежели вспомнить, много в тот год я там коренья особенного сыскал и семян, и водки из тех трав сидел, и все в росписи государю описал; а уведомил я, что родятся там на все годы бронец черно-красный, воронец, изгоны, измодень, жабные и многие иные. И государь за те советы поднес через воеводу портище настрофилю да соболя на шапку. Милостиво солнышко наше... Но здесь-то нету той травы, что живет по Лене, и на Собачьей реке, и о край Сибирского моря. И морошка еще не дошлая, рохлая почти, и брусеница едва завязалась, да и как сидеть болотный лист, ежли горячих вин в промысле не водится, нет той манеры, чтобы водку в птичьи ухожья волокчи на себе. Сиху-ягоду толок, брусеничный лист томил в пару – вроде бы и гонит трава воду, а опять же черева не примают зелья, тоскнут. Совсем, однако, пропал. А сын уж кой день отравой потчует: бальзам, говорит...
Тут вернулся Любим, поставил на столешенку медный кашник с кулешом, из хлёбова торчала гусячья гузка в прожилках желтого жира. Прочная еда, нажористая – ложка стоит. Заметил на столе малярийного комара, сажной тряпицей принял его, осторожно стряхнул в запечье: пусть живет. Отец подглядывал, понимал: материны повадки, это она, просвирщица, по себе слепила парней. Уже двое в монахах, но этот мой, этого не отдам в келейники. Созонт нарочито вогнал себя в злость, зажесточился неведомо на кого, но с Любима не спускал глаз. Парень все делал на быстрых шагах, словно бы на пожар спешил. В молодости и Созонт эким был: все рысью да бегом.
Любим добыл из-за голенища ложку, вытер о порты, провернул варево, подошел к отцовой постели, чтоб к естве собрать. Тот воззрился слепо, бельмасто, выставил истомленные руки, но в здоровом глазу что-то живое вдруг сверкнуло: и неуж пар ествяной ударил мужику в ноздри, сворохнул утробу из темной печали? Еще намедни от еды выкручивало нутро.
«На, испей, не упрямься. – Любим снова налил из фляжки, оплетенной берестом, запашистого, как деготь, пойла. – На десяти травах стоена, мертвого подымет. Ты хвалишься: де, травник. А я пуще тебя знахарь и не хвалюся. Испей, батя, и воскреснешь. Не сам ли научал: уступишь на пядень, потянут на сажень. А ты совсем сварился». – «Не сварился, сынок, а свалился. – Созонт послушно отпил из капового ковша: ему милы были сыновьи повадки. – Эка касть. Чую, что чага на водке сажена, и дятлевина, и плешивец. Мне бы ись захотеть». Сказалось жалобно. Созонт призатенил глаза, прочел молитву, выудил с груди костяной крестик, поцеловал. Любим следом шевелил губами, не сводя взгляда с гусиной гузки; изнутри маял голод. Уже не чинясь с отцом, усадил его на примосте, обложил оленьей одевальницей, чтоб не поддувало, гребнем расчесал заиндевевшие волосы с гуменцом на макушке. Эх, батя-батя, кудреватая твоя голова: и коренника годы с ног валят. Годы тела умаляют, зато ума прибавляют. Тешься теперь запоздалой мудростью, де, с нынешним бы умом, дак веком бы не полез с медведкой братися... Любим вложил в отцову ладонь деревянную ложку; до чего исшаял мужик, что и черена не удержать.
«Отец, не томи. Давай зачину, волоки мяса, а иначе с голоду помру», – Любим нарочито прикрикнул на отца. Тот не заотказывался, но потянулся к выти, страшась ествы, подцепил скобочку каши, нехотя прожевал, и вдруг проглонулось само собою, скатилось в утробу и не срыгнуло. Не чудо ли? Созонт прислушался к себе и, не поверя, с недоверием снова потянулся к котлу. Да и то, что за неведомая хворь навестила? все кабыть снутри и снаружи здраво, а сердцу все обрыдло, ничто не радует, как старый гриб зачервивел, обтек на одну сторону. Бывало с иными: конский волос заведется в черевах, сам едва глазу виден, столь тощой, но такой живоед: и богатыря с ног сронит, в короткий срок выточит. Не с водой ли болотной подцепил, попил с жару из болотной бочажины. Вот и пятки-то выворачивает, и блевками изошел.
«Ну, что тебе говорил? Сниму с тебя запуку, забегаешь, как таракан запешный».
«Смейся, гались над батькой... Э-э, сынок, был конь, да езжен. Уже, знать, не бегивать».
«Побежишь, да вприскочку. Это Петруха Дружинин на тебя наслал прикос по ветру. Как на промысел идти, Аникуша артельный шаманил, ворожил удачи, а Петруха с братом своим меньшим на то время плевался и хвалился: де, никогда боле Созонту Ванюкову кречета не добыть. Не вру, сам слышал. Пропасть мне на этом месте. – Любим перекрестился на крохотный образок Николы Поморского, стоявший на тябле в углу; под ним кротко мерцала лампадка. – Это он, Петруха, из зависти наслал на тебя стень. Вот и таешь...»
«Пустое, сынок, пустое мелешь. Петруха в нашей артели, с одного котла живем, царя ради».
«А почто с нами помытчиком не пошел, а на другой кочмаре на Матку пошел? Вернуся, из него, дьяволенка, сыворотку выжму. Ишь, расповадились, черти, забывши Христа, колдовство чудских арбуев перенимать. Зря ты им веры даешь...»
Созонту тяжело говорить, язык остамел, окровавился от больных десен, да и пересилишь разве молодого, речистого, ежели он в прю ударился и совсем отца не слышит. Кормщик осторожно повалился в постелю, как после тяжкой работы, но по вялой плоти вдруг стронулось давно жданное тепло, и жаркая роса высыпала на челе. Он промокнул лоб ширинкой, вышитой женой Улитою, и благодарно вспомянулась благоверная. Сын-то про кудесников баял: вот и жена над кутьею, и над свещами, и над богоявленской водою почасту волхвует, и над просфорами, как из печи вынуть, постоянно бормочет чужие слова. И неуж последнего сына отымет? Нет-нет, не дамся: ведь умру – источится родова.
«Сынок, – позвал утомленно, – сядь подле. Видеть хочу».
Любим поразился отцовым словам, еще не знавал его, обычно суровистого, таким жальливым. Парень унялся от еды, отвалил от кашника, переведя дух, оскреб закрайки в котле, прикрыл еству доскою от нечистого духа, подсел к отцу и взял его влажную руку.
«Не грызись, сынок, на чужие коби, – дрожащим голосом сказал Созонт. – Всяк по своему талану живет, Богом намеченный. Соколиные ухожья любят людей верных, ровных и приимчивых, ибо всегда со смертью обручены. Ерестливый скоро спотыкнется. Вот взял Господь себе в кутейники двух твоих братовьев, и я не перечил. А ты последыш, все мое перейми. Не зри в себя, а зри вокруг...» – кормщик замолчал, переводя дух.
Любим испугался исповедальных слов, загрубился:
«Чего разнылся? Я не поп, да и ты не покойник».
Созонт оставил сыновий лай без внимания, продолжил:
«... И многое тебе откроется, что заповедано истинному поморянину-ушкуйнику, который от усердного пригляда научается мудрости. Он видит солнце и признает присносущий свет; видит небеса, разумевает творчую славу; землю рассматривает, внимает владычному величеству; море видит, познает силу владеющего; примечая доброчинное изменение времен, чудится лепоте строящего мир; смотря звездное течение и ликоучение, возносится к доброте сочетающего то; смотря на луну, удивляется сиянию положившего ее. Вот видишь, сынок: зри очми прилежно, не суетяся, не рассыпаясь в чувствах, как перегоревший камень-дресва, и тебе небо и земля согласно явят Господа. Твои братовья через усердную молитву и внутренние очи торят дорогу к нему, удалились они от батьки и от дома своего, а ты, жадобый, правь путик через прилежный земной труд. Не стыдися его, не чурайся послушания и отцовых наук и не заметишь, как жизнь протечет в радости...»
2
Уже четырнадцатое лето инок Феодор в монашестве, и казалось бы, до гробовой доски алкая волшебного пития премудрой книги, не смог бы усомниться золотому слову ее: «Церковь бо есть небо, церковь – духу святому жилище». Но вот с прошлой весны туда ни ногою. Лонись и случилась с ним эта перемена. В полночь отправился отпевать торгового человека Исачку Дружинина и только ступил в трапезу Вознесенской церкви, где гроб стоял с усопшим, вдруг видит, как отпахнулась крышка домовины и саван на покойнике торчком встал, устрашая служку. Перекрестился инок, прошел в алтарь за Псалтырью, а там стихари и ризы летают, то бесы устроили хоровод в православном храме близ жальника. Феодор же, помолясь, поцеловал престол, и дискос, и Спасителев образ, рукою ризы пощупал, ан все облаченье висит на прежних спичках, будто примстилось все монаху.
Вернулся Феодор в трапезу, а там гроб ходуном; очертился вкруг себя свещою и, помолясь, наставив душу к подвигу, боролся за душу усопшего до третьих петухов, пока солнце не пробрызнуло, тогда лишь и отступили, расточились вражьи полчища. Понес Феодор требник обратно в алтарную, а книга та просвечивает сквозь телячьи покрышки, как прельстительный камень-алмаз, и, будто в зеркальце, проступили во множестве брадатые козлиные рожи. И наугад, борясь с бесами, открыл монах тую новую Псалтырю, присланную в приход патриархом Никоном, и сам собою пал его взгляд на великопостную молитву Ефрема Сирина, впитанную с младых ногтей.
И что за касть, не зреть бы этой проказы своими очами; не иначе как переписана книга сатанинским наущением, ибо на месте духоподъемных завещательных слов: «Дух уныния и небрежения, сребролюбия и празднословия отжени от мене», коим поклонялась Русь с заповедных времен, какой-то еретической лукавой рукою начертано вовсе чужебесное: «... дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми». Какая же тут глухота словесная, какими покровцами надо было завесить ушесы, чтобы золото слов заменить ржавью.
Что же это за Спаситель и Заступник наш, ежли он дурной огонь может возжечь в грешных душах наших? А куда же подевался светильник православной жизни, этот святой урок, коий исполняло невсклонно всякое христолюбивое сердце: «Богатым сребро дарует Бог нищих ради». Дескать, не мечтай и не уповай на сокровища, ибо пред смертными вратами всякое злато превратится в остывшее угодье и глиняные черепки...
Вот они, козлища-то, и глянули со страниц требника своими кобями. Гневно размахнулся монах и кинул Псалтырю в алтарную; восшумело в церкви, застонало, и грай бесовский долго истаивал за погостом, а книга та поначалу налилась кровью, а потом почернела, как головня.
Бедный Исачко, торговый человек, ты и под крест-то угодил еретический; на древе лиственничном рукою плотника Ондреяна впервые на Мезени было вырублено долотом: «I H Ц I». Тьфу-тьфу, вслух и произнесть мерзко: «Иисус Назарянин Царь Иудейский». Откуль, с каких берегов нахлынула на Русь сия скверна? Он же наш Спаситель: Царь Славы Исус Христос Сын Божий... Сын Божий, а не царь Иудейский. Каково-то лежать Исачке; наверное, не раз повернулся в гробу, да и согнулся в корчужку, чтоб не видеть пред собою подобной кощуны...
Так разве церковь нынешняя духу святому жилище? Да полноте, изгильники и прихильники, обавники и чародеи, выставляться над Божиим храмом: испакостили, опийцы и блудодеицы, превратили в вертеп и гнездовье отступникам истинной веры; да я лучше небу, озлащенному солнцем, поклонюся земно, но не стану молитися вашим скверным иконам, обмирщенным чужебесной рукою бродячего фрыги. И сюда, на древлюю христианскую землю, нашла смута, о коей уж подзабывать стали с польских дел и казачьего разора. И ишь ты, что замыслили, извернувшись колачиком: не удалось мечом испроколоть, так решили душу испроказить, прополоскать ядовитым щелоком злоумышленных словес...
Намедни мати-просвирница пекла просфоры; ествяный сладкий дух полонил хоромы; так сладко поначалу молилось Феодору в его боковушке, уставленной иконами старинного письма, так сытно смешался дух этот с елейной пеленою лампад и свещным лазоревым туманцем, что от этой сердечной радости в канун Петровок в исступленных поклонах желанно было бы и скончатися. И вдруг что-то смутило инока, он даже носом потянул, отвлекшись от молитвы, и уловил неясную горечь, проступившую сквозь пол из избы; нет, то не горелым запахло по материной забывчивости, когда, иной раз, почасту отлучаясь от печи, она позабывала о просфорах; этот же запах был душной, хлевной, так разит от старого козлища.
Обеспокоясь, Феодор спустился из боковушки вниз, а мать Улита о ту пору как раз снимала с листа церковные хлебы из белого теста, эти святые куличики; заподозрив неладное, взял монах еще горячую просфору, а на ней вместо восьмиконечного креста выдавлен латинский крыж. Вот те и плоть Христова. Ох, горе нам, ох, горе! – всплеснул руками Феодор, кинул просфорку на пол и стоптал ее ногами. «Грешница! Ты что сблудодеила? Мати, кощунница, ты душу спровадила бесу!» – вскричал Феодор. И обычно такой кроткий, уважливый, почитающий родителей своих, как Свет Горний, он вдруг сбелел лицом, и разум его затмила бешенина. Улита запричитала, напугавшись за сына: Господи, родимый, хоть бы кликать не стал. Взмолилась: «Сынушка, меня-то почто коришь? Ты отца Мисаила брани. Это он запретил просвирки те по-старому пекчи». Улита боязливо перекрестилась на белые, слегка изрумяненные просфоры. Феодор же схватил церковные хлебцы и выпружил в скотинью лохань, а после поволок мать в передний угол под образа и, не дав опомниться, поставил на колени. Тут и сам рядом пал, стеная, и оба они возрыдали, всяк о своем.
В ужну мать боршала, скрипела, наливая сыну тюри: «Сколько добра понапрасну перевел, изверг. Деньги ведь трачены. Знать, помстилось что на дурную голову? Принудил мати заново печь топить да тесто затеивать. Прослышит отец-настоятель, не сносить мне головы за твои проказы, неслух». – «Эх, мать, мать, волхвуй больше, – осекал Феодор матушку, жалея ее, как неразумную дочь. – Накличешь бесов на свою голову, истолкут в муку». Он поискал взглядом стряпню – и не нашел: успела просвирница спрятать. И почуял чернец, что и родной-то дом становится для него вражьим станом. Даже от стен родимых наносило проказой и соблазном. Вон где Москва-то-о, а по ветру живо ересь накатила.
В соборной церкви зазвонили от всенощной.
И Феодор встал от молитвы, задул свечи. Прислушался. Тихо было в избе. Мать еще не воротилась со службы, отец с Любимом в Канской земле сыскивают соколов для государя. Нынче и спать не ложился монах, а сна ни в одном глазу. Но на сердце толока какая-то, вроде бы торопят чернеца на послушание. Посторонне обвел взглядом душную от лампадного масла келеицу – узкую камору с лавкой у стены, на которой и спал во все дни; овчинный тулуп брошен вместо постели, в изголовье изношенные валенки, на стулке под образами Евангелие – подарок брата Феоктиста с Соловков. Опустился на лавку, приоткинулся к стене, смежил отяжелевший взгляд, а лествица будто сама течет меж пальцев, соступающих по кожаным зубцам, и в лад им нескончаемой небесной музыкой струится Исусова молитва, пожирающая сердце.
Третьи петухи возвестили: окончено ночное сражение с бесами. Отступили рати. Инок отдернул волочильную доску, посунул голову в оконце. Омылся влажным воздухом, протирая заскорбевшее от бессонья лицо, подслеповато сощурился от сиянья, стекающего с млечного неба, пронизанного брусеничными волотями разгорающейся зари. Со второго жила, как со сторожевого крепостного гляденя, далеко видать и поскотины, лоснящиеся от густой росы, и червчатые горы со щетью ельников по другую сторону реки, и легкий парящий туманец над протокою, сейчас всклень налитой рыжей прибылой водою. Все так знакомо сызмала, так сладко ворошит слезливую душу, и так ново, будто только что народился на свет.
Сутулый, худенький, с прямыми костлявыми плечами, так и не заматеревшими, Феодор готов был, как птаха Божия, взмыть из проруба встречь ярилу. На передызье вымахнула нынче высокая куртинка иван-чая: в алых цветах таилась дремучая тень, из этой чащинки исходил зябкий приманчивый страх. Может, высота заманивала? Инок завороженно пробирался взглядом сквозь травяной клин, все ниже вываливаясь из оконца, чуя, как каменеют икры, а спиною, туго обтянутой белым подрясником, напряженно прослушивал избу, сейчас затихшую, не хотящую принимать праздника. Он понял вдруг свою тревогу: служба закончилась, сейчас явится мать, примется разговляться кутьею, потянет за трапезу сына; а ему не хотелось видеть изменщицу, что приволокла в дом ересь и корысть. «Ах, распута, ну и распута, – горько прошептал Феодор, и само собою вдруг запелось: – ...Укрой меня, мать-пустыня, в темные те ночи, научи меня, мать-пустыня, как Божью волю творити...»
Инок задул свечи, торопливо вышел на поветь, а тут забылся и застыл, без нужды проглядывая вековечное мужицкое имение: вороха прошлогоднего сена, розвальни, легкие расписные санки с медвежьей полостью, лошажья упряжь, ловецкий старинный скарб – поплави и сети на вешалах с гроздьями берестяных наплавов, сейчас с тихим шорохом колеблемых сквозняком, кокоры нового карбаса и гнутое санное полозье с янтарными пролысинами от берестяной мездры, коробье, и кадцы, и бочки-сельдянки, и палагухи с ествою, и лари житенные, и точила, вырубленные в Зимних горах, и домашняя меленка для крупяной каши – обильный простецкий нажиток, основа крестьянского побыта, без которого край поморянину.
А если проверить подволоку, да подклети, да кладовые, да вонные амбары с ествою и платьем, без чего сиротой мужик, то никакими ефимками не измерить этой укрепы, того окладного, на чем стоит род кречатьего головщика, царского потешника. Да и то верно: Бог ведает и человеку постановил опасатися нежити и лени, ибо ворог наш израстает из телесной немочи и душевного томления; мужик стоит на вековечной работе, как монах на послушании. Все заповедано и размыслено стариками на собственных страстях, отсюда и наука по памяти и по лишениям. Ведь как задует ветер-морянин, понесет по воле снежные мухи, закидает забоями и заулок, и избу по верхнее жило, когда ни пеши, ни верхи, ни саньми нет ходу – тут, в мезенском подворье, как в осадной крепости, можно переждать любую непогодь, нескончаемую гнетущую завируху. И скот под боком, и всякая кладь, и прожиток; хоть семидневку из избы ни ногою. И тогда невольно возблагодаришь родителя за науку и скопленный приклад. У многа – не у нету, есть что взять...
Вдруг вздох задумчивый, утробный прошелся по повети, застукотало в подклети во хлеву: то Чернавка-кормилица дала о себе знать, стосковалась по обряжухе и травяным угодьям. Скоро вскричит берестяная пастушья труба. В проруб на полу скинул инок корове беремце сена: пусть не тоскует. Оказывается, руки-то чесались, томились по заделью. Монах в дому – даровой прилежный работник: проеди на алтын, а прибытку в полтину.
Так чего же остоялся без нужды, чего заискал в избе? коли собрался куда – иди, с Божьего соизволения. Иль чего захотел схитить? иль утаить в безвременье, без догляду, пока мати-просвирница молит Господа о чадах своих? Вдруг пался на глаза Феодору маленький детский саадак с резным витым рогом лука и щетинкою оперенных стрел с костяными копейцами, приторкнутыми оленьими жилами. Его дитячья забава и радость, первый охотничий успех; когда-то сам ладил и лук, и кроил из нерпичьей кожи налучие. Сколько тому времени будет? Не вечность ли? Сказал же святой угодник: работай – и жизнь твоя протечет незаметно.
В тот год с Соловков попадали, с богомолья, когда путину пресек внезапный шторм и воочию увиделась смерть; хлебнув соленого морского рассола, разглядев костлявую Маруху возле своего плеча и расчуяв ее тошнотное дыхание, взмолился, отчаявшись, отрок: «Господи, ежели спасемся, юродивым стану!» И расслышал Спаситель его детский глас. И неуж забылось обещанное? Как мог он, чернец Феодор, запамятовать обет свой, ведь через него и ниспослал Всевышний на тебя благодать Свою.
Феодор достал из саадака лук, выделил березовой стрелкой сердечко, вырезанное в поветных воротах. Повыше сердечка размашистый осьмиконечный крест, написанный дегтем, а в эту прорезь струит с улицы на сумеречную поветь утренний искрящийся луч, уже окрашенный желтым, и от него на полу растеклась дрожащая теплая лужица. Как заманчиво и благостно встать на нес босыми ступнями... Это по-за тундрами, не давши себе отдыху, выпрастывалось из постелей благословенное солнце. Куда метишь-то, инок? иль забыл о монашеском звании, вдруг почуяв себя прежним отроком-мирянином? не в свое ли ерестливое сердце метишь, чтобы отсечь пути назад? Все вершится в тайных небесных приказах, где нет крючкотвора-подьячего с его непременным магарычом, но есть лишь промысел, по-земному называемый судьбою. Опомнись, Феодор: вдруг мати Улита войдет в сию минуту, и пронзишь ты, забавы ради, ее болящее сердце. Но выпустил инок стрелу, и она закачала перьевым хвостом в лиственничном полотне, в желтом натеке серы.
И тут сразу опросталась душа и уже верно знала, как себя повести...
На извозе послышались шаркающие материны шаги, ее тонкий певучий голос возвестил: «Во имя Отца и Сына...» Сбренчало кованое с насечкой кольцо, поднялась деревянная щеколда в проушине. Инок бесшумно спустился лестницей в повалушу, холодную горенку, где почивала семья летами, через сени прошел в подклет, где хранилась всякая печеная и вареная ества, и оттащил за скобу толстую плаху. На чернца дохнуло из подполья разворошенной преющей землею. Феодор высек огня, запалил жирничек в медной братине, светя под ноги, спустился в подкоп. Вот где его послушание со Светлого Воскресения.
Невелико подземелье – сажень на сажень, – но истрачено изрядно трудов: хорошо гора, высокое место и ярый песок, а то бы давно залился водою. Осталось с неделю работы: зашить стены тесом, набрать из колотья полы – и готова скрытая. В печуру поставил жирничек, стал заглубляться, нарыл в бадейку породы; понюхал из щепоти, заслезился. «Господи, – воскликнул, не сдержавшись, – сколь ты привязчива и неотымчива, мать – сыра земля! Все из тебя, да и все течет в обрат. Сколь ты духмяна, нареченная невеста. И чего пугаются тебя, ис-томяся плотью? Воспой хвалу Господу, перейди аидовы теснины, и откроются тебе врата неизреченные. Знать, то и боятся, что душу неверную имеют. – И опершись на лопату, задумчиво запел: – Укрой меня, мать-пустыня, в темные те ночи...»
Тут сбрякало на дворе, Феодор затих, затаился. Мать приноровилась доить и сейчас ласково уговаривала Чернавку, чтоб не баловала корова. И помрачнел чернец, надулся, как мышь на крупу, и столь желанная скрытня показалась застенком. И чего возрадовался под боком у греха? Еретик Мисаил отравился от Никона и неведающих той проказой потчует. Царь Славы вдруг стал царем Иудейским! И здесь пасут бесы, и мать им первая потатчица.
С отвращением ждал Феодор, пока подоит мать и выгонит скотину на улицу, где, гремя боталами, уже собиралось под пастушью трубу мезенское стадо, чтобы, влажно, раскатисто мыча, отмахиваясь хвостами от надоедного гнуса, важно спуститься в подугорье, в жирные калтусины... Но вот дверь в избе зашаталася туда-сюда, мать принялась за обрядню, растопила печь, и горьковатый дым заструился по подворью, забиваясь в каждый закут; вот и в подкопе потянуло горелым. Опамятовался Феодор, вылез из схорона, поволок бадейку на зады избы, на капустища, озираясь, чтобы через огорожу случаем не высмотрел кто. Узрит сотский, начнет пытать: де, что измыслил?
Через упряг, когда солнце встало выше коньей головы на охлупне, притомился чернец, и вместе с потом утекли прочь все печали, сердце умирилось от работного жара; и уже любил чернец мать свою, как сестру духовную, как монастырскую келейщицу. Но живет в душе неловкость какая-то, словно бы вести грозной быть. От поста, поди, грызь утробная, решил Феодор, споласкивая ноги в кадце, подернутой зеленой ряской. Дождя давно не было и вода затухла. И подивился чернец: в земле убивался, а на платье белом ни одного пятнышка, как бы морозом прокалено. В кладовой выпил, торопясь, кринку кислого молока, решил все-таки мать Улиту построжить и потомить, чтобы покаялась без подсказки. А из избы снедью потянуло, во-ложными житными колобами на коровьем масле, да саламатой рыбьей, да кашей ячней со шкварками и яишней молошной; вот она, природа-то, сколько ни постись, а плоть ворошится. Вошел, на мать остудливо глянул, протопал в горенку, но дверь за собою нарочито не затворил, встал на утреню под образа, еще мстительно, с угасающим чувством подумал: казнись, еретница, помучайся, как Христос мучился, – и прозреешь. Господь наш сколько на кресте страдал за-ради нас, грешных, а мы его за алтын медный продали.
Мать урядливо, дотошно возилась нынче со стряпнёю, кулебяк с сигами вешнего улова напекла гору; такой пирог в страду долго не клекнет и не гусеет. Впереди сеностав, много понадобится телесной крепости, чтобы навить на зиму для скотины зароды сена. И неуж казака нанимать иль бобылей из Лампожни? Сам хозяин с младшеньким таскается по тундрам, и все пожни нынче на Улите и Феодоре. Хорошо хоть сын не кобенится: монасе из жил вытянется, изведется на сенах, но будет ломить, как лошадь, без кручины, не запросит отдоху; да какой из него метальщик, ежли на огурце и редьке, почитай, всю зиму высидел. Мать думала о сыне с жалостию, а тот и за-ради престольного праздника не сжаливался над Улитой, каменно стоял на коленях под образами; а матери так хотелось опуститься рядом в кроткой молитве. И чего восстал, уставщик? по бабьему ли уму его придирки? Хотела к трапезе звать, а язык к нёбу прильнул: страшно, как бы не загрубился...
Феодор поднялся, снял с фитилька елейницы нагар, из отцова стола, где был писчий приклад, достал полдести бумаги, черниленку и зачиненные перья. Не казенный человек Созонт, не начетчик, но любил почитать Священное Писание, посидеть над памятным списком, куда заносил из лета в лето все поморские вести. Он свивал записку в трубу, подклеивая листы, и длина ее была уже в пять саженей. Нарядно, весело было в отцовом месте под образами, да тут же в обе стены косящатые цветные оконницы; немецкие стеколки привез Созонт, похваляясь достатком, с Архангельского города, с ярманки. И чернец сел за письмо к брату Феоктисту, будильщику соловецкому; днями сосед Иван Семенович Личютин собирался на богомолье на монастырские острова и девку свою младшую Олисаву вез на послушание. Вот и спутье.
«Премного почтенному доброму пастырю Христова стада братцу моему Феоктисту поклоняюся честным стопам ног ваших я, многогрешный инок Феодор. Уведомляю, что мы все слава Богу живем, еще живы и здоровы. – Тут чернец задумался. Обряжуха гремела хлебной лопатой, волочила из русской печи раскаленные караваи, сбрызгивала их водою, раскатывала по столу и покрывала полотеничком. – Мать иногда прихварывает, но домашнюю работу справляет. Отец-родитель здоров, и с братом Любимом убрались на Канин за птицею. Пока вестей никаких. Дай Бог, чтобы все слава Богу. Я же все время в подполье роюся, хочу устроить жилое помещение, стены опоясываю и землю выбрасываю. После сеностава примусь ладить заборку в сенях, так же и в подполье нужно будет сруб опустить из плах. Мне хотелось подрядить Козьму да Ивана Семеновича Личютина, да он был нездоров. Если осенью не возьмется обшивать моленную, то приедешь домой и сами обошьем. Отец в зимусь опять собирается ехать на Канин по наваги, но я бы не желал ему рядить.
Он стал стар, и ему нужна спокойная жизнь, да к тому же он еще ногой не здоров. А я склоняюсь к домашней жизни: хотя потруднее, но зато спокойнее. Это хорошо было прежде, когда были истинные монастыри, где жила христианская любовь и нестяжание. А нынче такое общежительство, окромя Соловков, навряд ли сыщешь, ибо многие живут лишь для того, чтобы поднажиться. Ересь плодится, яко черви, и все зачервивело. От Никона, наустителя, проказа, как лишаи, расползлася по Руси. – Перо споткнулось, монах хотел о матери поведать, как она во грехи ударилась вместе с приходским попом Мисаилом, но раздумал. Зачем смущать братца, у них, поди-тка, на островах мир и благодать. Вот где райский вертоград, и всякой смуте предстоят на пути непреодолимые пали. – Если и дальше так все будет упадать во гноище, и сарданапалы, как слепых котят, скинут нас во ад, так закоим и на белый свет рожаться, и переведется род людской, чтобы не множить грех. И то слава Богу.
Я прежде, братец, был сосылан на Москву на епитимью и прожил в Чюдове, как ты знаешь, шесть недель и мало там видел истинной христианской любви. Приковали меня в малой темничке на хлеб-воду и били ежедень палками на трое раз. Нет уж, лучше жить дома, чем в людях и быть другим в тягость. У нас можно и дома жить. Келья будет устроена хорошая, и на хлеб покудова еще хватает. Но трудно быть иноком в миру, дорогой братец, ибо соблазны обступают ежедень, и гордоусы правят паствою, нимало не думая о будущей жизни. И позабыта заповедь блаженного Августина: кто плачет о грехах своих, тот в слезах своих приносит Богу, как благоприятную жертву, пот своего сердца и кровь своей души...»
Гусиный костыш споткнулся, на самом кончике пера бумажная заусеница; слизнул языком кисловатую чернильную волоть. И вдруг вздрогнул инок, от вздоха ли жаркого за плечом иль тонявого заунывного голосишки, и понял, как глубоко блуждал по призрачным, приманчивым мыслям. Аж вспотел от испуга. Оглянулся: мать у простенка глядится в крохотное хрустальное зеркальце в киндячной синей опушке и, крепко обжимая ладонями голову, укладывает тощие косички крендельком, чтобы покрыть их цветным праздничным повойником. Улите всегда жарко: она с весны по зазимки босая; а тут в кожаных со шнурками выступках, широкая, присадистая, в лазоревой бархатной коротене и алом сарафане с бейками. Из сундука добыла слежавшийся за зиму бабий наряд. Убрала скотину, наварила-напекла, на стол направила еству, а сейчас прихорашивалась в лопатину, как себя вспоминала юную, давно позабытую, когда с молодцем хороводилась. И неуж молодая была, приглядистая, не одному парню сердце спалила? Толклась Улита, пристукивая высокими каблуками по натертому воском полу, и припевала: «Ай да уж ты будь, кафтан, не долог, не широк. Ах да по подолику раструбистый. Да по плечикам будь охватистый. Да молодцу князю прилюбистый... Да чтоб легохонько ему на конюшке сидеть. Да хоробренько на коничке скакать...»
– Слышь... Ты откажись еретику просвирки пекчи, – нарушил материну песню Феодор. Скорехонько приблизился и трижды хлестко ударил четками по плечам и спине. Мать вздрогнула и осипше, озябшим голосом согласилась покорливо:
– Прости, батюшко. Сделаю, как велишь. – И добавила, не сдержавшись, пряча лицо: – Минеюшко, не бей мамку...
Вспомнила Улита нареченное сыновье имя, о коем и сам Феодор позабывать стал, и как ожгло чернца. И всполошился Феодор, напугался неистраченного чувства.
– Ты позабыла? Монах я... Феодор, – сказал твердо, и в широко поставленных, иззелена-голубых глазах сына Улита не нашла уступки. – Нету того Минейки, весь выжит.
– Как нету?
– Был да сплыл...
– Ну и ладно, коли нету. И слава Богу, – торопливо согласилась Улита. – Я тебе не мати, ты мне не сын. Благослови, святой отечь, трапезу. Дозволь разговеться апостолу Петру в радость.
Но бес-то бабу тормошил, задорил: де, ты спроси монаха, и неуж пуповина у него не ноет? Но осеклась Улита: строг инок не по летам, не попускает слабины в вере, воистину Христов воин.
В избе волоковое оконце открыто на волю. Под тяблом язычок лампадки загибает набок. Инок сидел в переднем углу, как Христов ученик, прямой, словно свеча, прозрачная льняная борода вехотьком на груди, во впалых щеках ни кровинки. Легкий ветер с реки, западая в избу, пушил долгие, с седым отливом волосы, редеющие на маковице. Если и живут на Руси пророки, изгоняя с ее блуд и срам, то они всенепременно такие, ходячие свечи православной церкви, сожигающие себя за чужие грехи. И в детстве-то эким был букою, вспомнила вдруг Улита, до слез прижаливая дитя: ребят сторонился, никогда в игру не вступит, все тишком да молчком. И сейчас благословил еству, отчитал канон – и больше ни слова, ни полслова.
– Скоро в луга заежать, сена ставить, – нарушила Улита молчание. Сын поднял отсутствующий взор. – Монах в дому, что Господь в углу, – пытала сына мать.
Феодор молча кислой рыбки печеной помакал, повозил хлебушком в ладке, запил сытенной водой, вот и вся ества. Долго утирал ширинкой, не сводил взгляда с двери, будто ждал кого. И от стола не подымался, сидел задумчивый, разглядывая залубеневшие от воды и ветра, разношенные послушанием костлявые руки. А что в них выглядишь, какой науки? Тут из сумерек сеней вошла соседка Иустенья Личютина, покрытая в белый плат, как кокушица-горюшица. Поклонилась низко образам, не перейдя воронца: «Господи помилуй».
– Хозяевам дай Бог здоровья. – Голос у гостьи гарчавый, нарочито веселый, а глаза тусклые, в тоске. – Можно одолжиться огоньком?
– Присаживайся, соседушка, с нами хлеб-соли ись, – пригласила Улита. Гостья шибко не чинилась, размотала плат: лицо сорочье, усажено конопельками. – День, за полдень, а ты печь топить укоренилась. Нынь праздник, а ты в кручине, как изба в дыму.
– Дак как не кручиниться, Улита Егоровна? – зажалобилась Иустенья и готовно пролила слезу: бабья душа всклень налита влаги. – Горе не пряник. Нужда да горе заставят сквозь слезы шутки глотать. В ином дому из злата в серебро, а в нашем из худа на худо.
– Ты ешь, не горюнься. Все одно испортится. Вареному-печеному не долог век. – Улита подложила под руку соседке кулебяку с сигом, да крупяную шаньгу, да колобков воложных. – Чего не съешь, с собой унесешь гостинцем.
Но Иустенья навряд ли чего слышала, жила в своем горе, отламывала от рыбника, не раскушивая.
– Слышь-ка, мне дочь-то даве... Матушка, говорит, хочу рыбки кислой помакать. Господи, я ей-то, бери какая на тебя глядит: полон шкал рыбы, на неделю стряпано. А она мне: батюшко Кирилл хочет той, какая не печена. Вот и подгадай. Одному икотику рыбки кислой, а другой возжелает медку. Умири попробуй. Ты-то, отец Феодор, что посоветуешь?
Гостья воззрилась на инока, как на последнюю надежду. И Феодор ответил, зажегшись взглядом:
– Все бы падает какая-то печаль, а под конец печаль ту покрывает радость. – Феодор ласково положил ладонь гостье на плечо, то ли благословил, то ли утешил, вставая; Иустенья поймала его руку, жарко поцеловала. Инок смутился, покраснел, вырвал ладонь и удалился в горенку дописывать вестку в Соловки, но дверь за собою не затворил и навострил слух. Бабы же принялись вести досужие нескончаемые разговоры, мотая на веретенца пережитое.
Иустенья плакалась соседке, не утишая пригрубого голоса, будто нарочито для иноческих ушей:
– За что на меня Господь-то ополчился? За чужую иголку не запнулась, веком со своих ногтей живу. Иль ты меня не знаешь? А тут такая беда.
– Ой-ой... И подумать-то – холодом окует.
– То мальчонку самоядь схитил, а нынче вот девку спортил Кирюшка Салмин, обесил, наслал порчу. Обесил, да и похваляется.
– Пробовали вязать сатану, так его и вязки не держат, проказу. – Голос у матери жалостливый, тонявый, с перехватом, как бы горло пережимает искреннее сопечалование: знает просвирница, как поддержать страдальницу. – Сказывают, в Верхнеконьи много он икоты насадил на всякой кочке вместях с братом Ефимом. Не ведаешь, где и подхватишь.
– Знать бы, дак верстою миновал, локтем бы перекрестился. Ехал, гад, с навагою, а девка моя зазевалась, вишь ли, заступила коню дорогу. Кирюшка-то заругался с саней и обрызгал слюною. И почала Олисава с той поры икать.
Из избы послышались тяжкие вздохи. Всяк закручинился о своем житье-бытье. Где-то в Канских землях бродит с Любимом ее старик. Кабы худа не случилось. Улита перекрестилась. Послышалось, как загремела у печи заслоном, наверное, скрывая слезы, доставала на шесток горшки с ествою. А инок не сразу понял странные в себе перемены: то ли жалость почуял, то ли радость, что случилась с девкою страшенная хвороба. И этой радости не испугался он и не повинился пред Господом. Позабыв про писемко, улыбаясь в одиночестве, он уставился в столешню, как в зеркальце; и нарисовалась Олисава, ее смоляные в нитку брови, черничины удивленных глазенок и бледный высокий лоб, словно бы густо изукрашенный белилами. Только что в хваленки подросла Олисава, самое время для невестиных смотрин и супрядок: на Иван день впервые достала из сундука материн столбовой наряд и примерила, чтоб встать не впоследних в большой праздничный хоровод. Да не пришлось девице красоваться перед подружками, выступывать в зеленом во лужку; с утра не запонравилось домашнее печенье грудному икотику, и долго мучил «батюшка Салмин свою уловленную дочь».
Ввечеру случайно подглядел инок Олисаву в заречье у приглубого омутка, обметанного ивняком и луговой пахучей дудкой-падреницей, только что выкинувшей цвет. Вышатился инок к ручью, чтобы посидеть на бережинке в предзакатный час, и вдруг расслышал волхвование над водою: «Матушка вода! Обмываешь ты круты берега, желты пески, бел горючь камень своей быстрой и золотой струей; обмойка ты с рабы Божией Олисавы все хитки и притки, уроки и призеры, щипоты и ломоты, злу худобу. Будьте мои слова крепки и лепки». Тут всплеснуло в ручье, будто метнулась рыба семга, инок украдчиво раздвинул ивовую розвесь и увидал Олисаву в холщовой исподнице, тесно облепившей девичий стан. По-детски, закупоривши нос и уши пальцами, страдалица с оханьем погружалась в студеный омуток и причитывала вещие слова, подгадывая здоровье. Стараясь не выдать себя, Феодор отступил в калтусину, хмыкая смущенно, а из памяти долго не выпадало это облитое рубахою девичье тельце с бодучими рожками вызревающих грудей. Возвратившись в келью, инок до изнуренья молился, вытравливал из себя бесовское виденье. Ах ты, Господи, прости и помилуй!
А в избе меж тем тянулся неторопливый разговор, и всё вокруг кликуш, вспоминали напеременку слободские предания, кои принесли ходоки из дальних мест, и Иустенье становилось куда легче, когда узнавала она, что не одна лишь ее дочи уловлена немочью. Вот и сын Федула Наумова шел онамедни с торга, поднял дорогою платок, в который был завернут калачик, и в это время поселился в него злой дух. Опять же Федосья, жена Петра Михайловича, шла по воду, увидала платок завязан, толкнула его ногою, но не подняла, а в доме напала на нее тоска вельми люта. И вспомнила Улита Егоровна про дочь ерогодского священника Соломонию, как отдали ее замуж за крестьянина, пастуха скотского Матфея. И в первую же ночь, пока вышел муж на двор телесныя ради нужды, вселился в молодуху дьявол, и тут напала на нее лихорадка и озноб, и почало бабу трясти, а в третий день ощутила у себя в утробе демона люта. С девятого дня демоны стали навещать ее ночами, кроме великих праздников, раз по пять и шесть в виде прекрасных юношей, и жили с ней блудно.
Муж отвез жену обратно к отцу в дом, но демоны и тут не отступились, а уносили ее к себе в воду, и живала Соломония под бесом дня по три, пока совсем ее не унесли и отдали жившей у них девке-ярославке. Соломония от демонов зачала и носила полтора года. Когда пришло время родить, она выслала отца своего из дому вон, сказав, что хочет родить чертей и что они могут убить батюшку. И родила она их шесть, видом они были сини, и взяла их к себе бабка, присланная демоном. Отец же стал в алтаре проклинать демонов, потом появилась Соломонии святая Феодора и велела ей жить в Устюге и к отцу никогда не возвращатися. Стали икотницу водить по церквам, и демоны начали утробу ее рвати, бросали на помост церковный, яко свинью визжащую. Одиннадцать лет выболела Соломония, потом угодники Божий Христа ради юродивые Прокопий и Иоанн разрезали ей утробу и вытащили оттуда бесов и поубивали их кочергами на церковном помосте...
Инок закончил писать вестку, скрутил ее в свиток, перевязал пряденой ниткой и боковой дверью, минуя избу, вышел в слободку. Играло в небе солнце, пахло наспевшей травою и близкими болотинами, и смольем, и костровым дымом с бережин, и ествяным праздничным духом. У кружала гремели варганы и дудки, там питухи обмывали святого Петра. Лучше бы Феодору и не глядеть в ту сторону; знать бы, чего сулит ближняя дорога к храму, локтем бы перекрестился. Но церковь, предавшаяся бесам, манила монаха не только звонами, малиново подгудывающими завеселевшей толпе, но и тем нестройным ором, той разноголосицей, разбавленной тягучими псалмами, что доносились из собора.
Там пропадали, сходили в вертеп ближние его насельщики, кого надобно было вернуть в истинный разум. Феодор сунул писемко в нерпичью кису, висящую на поясе, перекрестился, как бы идучи на рать, и, туже надвинув колпак, спустился со взвоза. Но в соседском дому Личютиных у ворот стоял пристав-батожок, значит, и хозяин за-ради храмового праздника убрел в слободу, не дождавшись Секлетеньи; и монах промежком меж репищами прямиком вышел на съезжую, где в общем-то и вершилась вся людская жизнь Окладниковой слободки, где торговали и рядили, и казнили, и миловали, и собирали подати, и отправляли на бои, крестили и венчали. С одной стороны прогона высился деревянный Богоявленский храм, окруженный погостом, келеицами для богаделенных нищих и монахов и избами для церковного причта, а напротив, через просторный выгон, как ад супротив рая, нынче, в канун сеностава, вольно хозяиновал питейный двор. И у кружала тоже двери нараспах и, словно мухи, застойно и пока лениво гундят мужики, с утра хвативши спотыкача; здесь все нынче братовья и сродники до первой кровавой юшки и кулачной спотычки: и земский ярыжка, и подьячий, и наезжий стрелецкий десятник, и таможенный целовальник, и зверолов, вернувшийся с путины, и кормщик, прибывший с меховым ясаком из дальней меркнущей Мангазеи, и губной староста, и сыщик. Всякому хочется разговеться винцом и ублажить сердечко.
Феодор притулился за углом конской избы, не решаясь сразу пересечь площадь; он выглядывал Оську Рогачева, постоянного своего нудителя и преследователя, что неотступно, лишь завидев инока, брел следом, на потеху ребятне, и зудел: «Монах, покажи порты». Феодор не боялся Оськи, но страшился его проклясть: вовсе тогда пропадет человек и не будет ему спасения. Вражина себя не выказывал, лишь от кружала сновали мужики с осьмухами в трапезную церкви; видно, там и загуляли. Бедный отец Мисаил, опять тебе битва с паствою, минутно пожалел настоятеля монах и тут же возрадовался: ага-а, это тебе отмщение, бесы за измену платят.
Храм, рубленный из необхватных лиственничных кряжей, был невысоконек и грудаст, с крепеньким шатром, крытым осиновым серебристым лемехом, и по своим статям удачно походил на угловую Спасскую башню детинца. По мостам и обломам города, под тесовыми навесами, зевая с ночи, стояли любопытные стрельцы из сторожи, дожидаясь смены. На шеломе башни сидел коршун и пас слободскую домашнюю птицу. С угора послышался девичий смех, взыграла сопелка, вознесся, пробуя высоту, молоденький песенный голос. Феодор заткнул колпак за кожаную опояску и торопливо, сбивая поршнями топтун-траву, пересек выгон. Что-то, какая-то неясная нужда позывала его к храму, опоясанному галдареей. Тут на паперти совершилась суматоха, кого-то вынесли силком, распластанного, вроде бы белую лебедуху с алым подпорьем. Эта толкотня, переполох совершались для монаха, они призывали в помощь, и от немолчного гласа, требующего к себе, Феодор не мог отказаться. Это не любопытство влекло, но зов, который молил его к себе. Убыстряя шаг, Феодор взлетел на крыльцо церкви, где не бывал уже лето. На паперти, невдали от распахнутой настежь двери, лежала Олисава в белой рубахе с багряными камышниками и цветными вошвами; синий из крашенины сарафан высоко сбился, выказывая ослепительной белизны ноги. Девушку корчило, выгибало, она что-то несвязно бормотала, то стеная, то всхлипывая жалобно.
Возле дочери на коленях сутулился бровастый, с бельмом на левом глазу отец и беспомощно плакал, поддерживая голову, чтобы не захлебнулась болезная. Хмельные мужики толпились в притворе: кто-то скалил зубы, иной нарочито возбуждал хворую, дыша винным духом, сбоку зверовато бычился смуглый, заросший по глаза бородою Кирюшка Салмин, порчельник Олисавы. Днями его вязали мужики веревками, чтобы спровадить супостата в Архангельский город, а он, вот, освободился от уз и стоит здесь, не таясь, всем напоказ.
И все боялись его охапить и отвесть в тюрьму, но заискивали и поддакивали. Кирюшка напряженно, с глубоким любопытством глядел в пустые глаза икотницы, в эти черные ружейные дульца, будто хотел пролезть, мышкою протянуться в самую утробу ее, где бородатым, угрюмым мучителем неистребимо заселился его окаянный дух. Пустое треплют в Окладниковой слободе, будто диавол напускает порчу червяками, испуская их изо рта по ветру, и будто те червяки входят в распустих, что из двора шастают, не помолясь Богу и не проговоря Исусовой молитвы. Он, Кирюшка Салмин, не демон и не чародей, он обесил девку не запукою иль знахарским наговором, он не держит креста в сапоге под пятою, приговаривая: «Отрекаюсь от Бога и животворящего креста, отдаю себя в руки дьяволов». Но загрыз он девкино сердце своею лютой завистью и страстью, что вот цветет на миру, как купальница на лугу, такая краса, но не ему этот цвет заломать. Так пусть иссохнет. Не достанется Кирюшке, так не бывать над нею и Любимке-помытчику. И свою неутешную тоску впустил Кирюшка в девичью душу: пусть корчит юницу, как страдает он.
Кирюшка мельком поднял волглый взгляд на инока и сбледнел, словно засиверком его обдуло, разжаревшего на солнце, и торопливо уставился в разметавшуюся девку, стараясь не замечать ее обнаженных лядвий, но тут же мысленно греша с нею. Пришел вражина, как бы кто за руку привел, подумал Кирюшка о монахе, презирая и боясь его. Феодор ловко принагнулся и как бы ненароком расправил девичий сарафан. Потом погладил утешно Ивана Семеновича по редеющей голове и сказал: «Небо отверзто для родименькой, и ангел держит для нее золотой венец».
Олисава, как бы расслышав чернца, перевела взгляд на Феодора и утробою, не размыкая побелевших, туго сцепленных губ, сказала: «Кирюшка проклятый... Кирюшка проклятый. Закроются светлые врата и поглотит черная вода». Салмин затравленно, исподлобья поогляделся, но остался на паперти. Тут Олисаву закорчило, она выгнулась рыбкою и заикала вновь. Инок замахнулся на болезную четками, она закричала еще громче. Тогда инок ударил ее четками по плечам, по голове и по груди, приговаривая: «Изыди, нечистый дух, изыди!» Олисава затихла, бледность разлилась в ее лице, углы губ посинели. С облегчающим вздохом она смежила веки, немного полежала, приходя в себя, потом с виноватою смутной полуулыбкой, не глядя не печищан, поднялась и вяло побрела через площадь, загребая ногами.
Из-под ее праздничных сафьянных выступок вспархивали облачки цветочной пудры и бабочки-крапивницы. На паперти незаметно стеклось много народу, и в трапезной как-то призатихли гулебщики, и тогда явственно просочился в слободу тенорок ребятишек-клырошан. Инок представил, какие у них сейчас безмятежные чистые лица и ласковые внутренние взгляды, с какими они всматриваются в распятого Исуса, парящего над ними. Когда-то и сам в отроческих годах он любил стаивать на клыросе и подгуживать уже ломающимся баском, впитывая ноздрями пряный запах елея и сизоватый дым кадильницы, когда батюшка Иеремия, подойдя тучным животом вплотную, размахивал кадильницей и гремел цепями... Феодор на миг лишь позабыл о греховности церкви, попустившей бесу, ему захотелось войти в притвор и постоять в молитвенном народе, наполняясь его духом.
Ивану Семеновичу гулебщики поднесли чару, и за-ради праздника он не отказался, из-под густых нависших бровей прицельно зазрил всех, проверяя, не насмехается ли кто, и, благословясь крестом, коротко опрокинул вино в рот. И тоже побрел вослед за дочерью к дому, и каждый в эту минуту, наверное, пожалел мужика. На Салмина же никто не глядел, и застолье в трапезной продлилось. Только Феодор остался не у дел, смутно чинясь, он медлил возвращаться домой; в трапезной бесились еретики, и надобно было их лечить. Салмин достал кисет, набил в ноздри табаку и чихнул, не отворотясь от инока, словно бы проверял его стойкость. Ему хотелось, чтобы Феодор заерестился и спустить его с паперти. Но тут вдруг из трапезной явился Оська Рогачев, изрядно захмеленный, кривоносый, с рыжей плешивой головою; он завидел инока и взовопил: «Монах в ватных штанах». И полез целоваться, облапив инока. Оська явился в церковь в бахилах, свежо пропитанных ворванью. От ярыги дурно пахло, но Феодор не отворачивался, терпел наказание и не пытался сбросить с плеча тяжелую и вялую, как плеть, Оськину руку. Инок растерялся, не смог достойно встретить вражину и, повинуясь ярыге, покорно вошел в трапезную...
Ежели возжелаешь понять вавилон и сонмище блудодейское, то побудь в трапезной уездной церковки в день престола. Вольный ор, разноголосица и размолвица, всеобщий кураж окутали монаха, как саваном, и он оглох и ослеп поначалу. На столах стояли лагуны с брагою, и братины, и осьмухи, и чарки, и крюки с зельем; в лужах питья валялись рыбьи головы и костье; всяк, взъярившись, говорил свое, доказывал, тянулся в передний угол, где сидел дородный кружечный целовальник с ведомостью; возле него притулились кабацкий ярыжка, подьячий, пристав и стрелец; они сыскали самое гульливое время, когда вольно душе и черт за брата, чтобы вернуть со слобожан напойменные деньги. Оттого и царило смятение за столом, что кабацкий голова застал врасплох, уловил в неподходящую для питуха минуту. Кто-то уже рвался к целовальнику, чтобы оттаскать его за чуб и наломать шею, кто-то грозился пустить огоньку на кружечный двор, но все это насылалось для острастки лишь, ибо в душе-то всякий внутренне был спокоен и не мыслил даже убежать, словчить от пусть и треклятого, но долга. Инок обозрел застолье, увидал заснувшего иконника Илюшку Юдина и решил смиренно: если этот богомаз пишет доски, то дойдет ли истинный Христос до мирских людей, что молятся образам? Грех истекает из греха, как смолчуга из дерева, и всех втягивает в чаруса скверны. Эх-эх, бедные вы мои. Инок по-отечески пожалел заблудших, позабывших о вечной жизни. Вот сидят кабыть в церкви, но дальше от нее, чем язычник, роняющий кровь агнца на своем капище.
Тут священник, выведенный из терпения, отправил в трапезную дьякона, чтобы тот утишил слобожан. Но спосыланному не дали и рта открыть: де, поди, братец, откуда пришел, не тебе нас учить, наш каравай кусаешь да нашим же квасом и запиваешь. И еще закричали вослед, в открытые двери: «Поп Мисаил, ты забыл древнее отеческое правило! Выли прежде попы полутче тебя, но нами не брезговали и трапезовать не запрещали, а сами с нами потчевались и нас благословляли! А будешь гнушатися, то мигом погоним прочь с места! Церковь наша, мир строил, как хотим, так и играем!»
Хоть и не боится священник гнева людского и правило Спасово строго блюдет, но и перечить не стал, ибо лошадь поперед саней не ставят; просясь на сие место, сам давал прихожанам собственноручную запись: «Призвали они меня, попа Мисаила, полюбовно и челобитную за руками архиерею о мне подали, и мне, попу, служить из церковного дохода, мирского подаяния, да мне ж, попу, послушну быть ко всякой духовной требе и в церковь Божию; я за церковное место никаких денег не дал и церковного места не купил, и служа мне в той церкви, строения церковного и всякой утвари своим не называть и до церковных свеч, и до огарков, и до церковного денежного сбору дела нет, и того церковного места мне, попу, не продать и не заложить, и на свое имя не справить, и ни в какой крепости не укрепить, и по умертвии моем жене моей и детям, и роду моему, и племени до того церковного места дела нет. А буде я в чем против записи не устою и им, прихожанам, мне от церкви отказать».
Вот и остережешься иной раз правду-матку метать и куражиться; неровен час, сронят шапку с поповской головы; накидают тумаков, не рядясь, и сгонят с места. Да не так дорого место сие, как страшно кинуть бесчинников наедине со грехом. Есть два угодных Господу человека в миру: нищий и священник, оба кусошники, милостынщики, и ежели первый стоит за подаянием на паперти с протянутой рукою, то второй – на амвоне.
И потому гужевались слобожане в матери-церкви, не ведая страху. Да и в иные дни почасту бывает, когда поют вечерню, иль заутреню, иль молебны и часы, и святую литургию, и в то время в трапезе сидят за столом слободские власти и денежные целовальники с дьячками и собирают всякие государевы доходы, дань и оброк; а земские выборщики порою тут и суды вершат, и всякие советы мирские дают, а приставы на правеже держат крестьян, наказание чинят и в цепи садят, и в колоду, устроенные тут же у двери; и вроде бы губная изба невдали, за городской стеною, а до земской избы и вовсе рукой подать, вон виднеется у питейного двора, рядом с таможнею; но вот поди ж ты, именно в Божьем святом месте запонадобилось устраивать сходки, куражиться и творить власть. Но кто знает? быть может, церковь-то и напоминала постоянно о совести, чтобы начальники не продали душу свою, от правды не уклонились, не засуживали несчастного понапрасну, не зарывались, помнили о гневе Спасителя нашего.
– Отец святой навестил нас в кои-то веки! Не погнушалси! – возгласил Оська Рогачев тенористо и отбил нарочитый низкий поклон, перебил шум и голку в трапезной, привлек к новому гостю внимание. – Милости просим в дом Божий, – пел парень, и изжелта-белое, старообразное лицо его влажно лоснилось. – Напрасно бегали нас...
– В вертеп, – коротко поправил монах. Он достал из-за пояса войлочную скуфейку и туго напялил на уши, презирая эту церковь. – В вертеп вошел, вас ради.
Тут из лужи вина поднял голову богомаз и сквозь туман увидал Феодора, как ангела в распахе двери, и счастливо вскричал:
– Божий человек! Ангел наш! Родимицу Олисаву с полу поднял. Сказал: встань! Она встала и пошла.
Феодор оставил восторг богомаза без внимания, да навряд ли и расслышал его. Он вдруг увидел в хмельном чаду трапезной невесть откуда взявшийся восьмисоставный крест, сияющий, золотой, окутанный прозрачной плащаницей.
– Окаянные, падшие во гресех! – Обличение полилось само собою, как бы отворился гремучий студенец со святой водой. Да и то сказать, ради научения, ради правды и явился в вертеп. – Знайте же, идет последнее время, и учинились вы через собственное жестокосердие слугами антихристовыми и не сможете получить себе прощения ни за какое покаяние...
Гуденье призатихло, губной староста в дальнем конце стола поднялся, пошатнувшись, призвал властным взмахом руки к вниманию. Богомаз не сдержался и вновь всхлипнул:
– Научи нас, отечь милостивый, научи!
Оська Рогачев склонился в полупоклоне с издевкою на лице; однако что-то измыслил, дьяволенок, вот и залучил инока в трапезную.
Сквозь плащаницу явственно проступил Спас Грозное Око; и как странно, что никто не замечал его. Иначе бы пали ниц, пораженные.
– Наступает антихристово время, и ничего чистого не будет на земле, а потому ныне не токмо все люди, скоты и звери, но и самые стихии пришествием антихристовым уже заражены. Нет рек, источников и кладезей, которые прикосновением антихристовых слуг не были осквернены, моря и озера, словом, нет воды, в которой можно бы окреститься вновь, ибо прежнее наше крещение еретическое.
Последнее пришло на ум лишь сейчас: словно бы свыше озарило инока и он въяве разглядел беду, что уже явилась на землю. Феодор вдруг заплакал, жалея всех, а гулебщики рассмеялись, не вникая в проповедь. Что за бессмыслицу несет чернец? иль дома хватил медовухи, а сейчас, потерявши ум, плетет вздор? Но ведь доподлинно верно, что чернец не бирывал вина в рот. Оська же Рогачев с серьезной миною вопросил монаха, смиренным голосом заискивая перед ним:
– Мы бы поверили тебе, святой отец. Но чем-то выкажи себя...
– И выкажу...
– Ведомо, что апостолы при проповеди своей знамения и чудеса многие сотворили. Болящих исцеляли, прокаженных очищали, мертвых воскрешали. А ты хоть жука оживи. – Тут Оська не сдержался и пакостно рассмеялся.
– Хочешь, дьяволенок, аще и смертное что изопью и не повреждуся...
– Али муху оживотвори во уверение наше, – заспорил Оська.
– Дайте мне, – засердился Феодор, – дайте мне самого злейшего яду, каково сыскать можете. Я изопью его и цел остануся.
Кто-то в трапезной придумал дать склянку купоросу, второй – сушеного мухомора, третий – муравьиного масла; богомаз, жалеючи, присоветовал ворвани. Феодор слушал бесстрастно, его тонкое прозрачное лицо вроде бы обдувал светлый ветер, отчего волосы облаком взнялись над головою, готовые отлететь в распахнутую дверь.
– На вот, испей купоросного масла. Коли жив будешь, не подохнешь, за тебя, как за Господа, веема заступим, – угрюмый навадник Салмин поднес оловянную кружку, с краями наполненную голубоватым ядом. Феодор, не ведая, что пьет кабацкое вино, не дрогнул лицом, медленно выцедил кружку отравы. Его всего вдруг омыло слезливым жаром, ему стало легко, благостно и захотелось лететь. Он тут же решительно простил гулебщиков за прю и возлюбил их. И он весело воскликнул:
– Вот видите, окаянные, что отрава ваша недействительна! Полно ли вам упорствовать против меня? Послушаете ли ныне моих слов? Давайте еще, когда хотите, того же выпью яду и останусь жив.
Оська поднес еще чарку и назидательно сказал:
– Монах, будет твоя вера права, то останешься цел и невредим, и мы будем твои. А когда не права, то будешь не стоять, но лежать.
Инок, не колеблясь, вновь выпил чару, его оглушило, выбило из ума; он медленно, хватая воздух пересохшими губами, опустился в углу на пол и потерял чувство.
– Врешь все, монах в сс... портах. Наша вера права, а ты крив, – расслышал Феодор последние злые слова, как сквозь глухую вату, и впал в беспамятство.
Очнулся Феодор в юзах, на цепи у кружечного двора, где обычно примыкали на всеобщую позору пропившихся ярыжек, а к ночи вязали собаку. Во рту у Феодора торчал деревянный кляп. Монах решил, что черти схитили его из церкви за святую правду и оттащили прямо в ад, а сейчас приуготовлялись мучить; близко пахло закипевшей смолою и костровым дымом. Феодор, полный решимости, приподнялся с земли и увидел вдруг знакомую городскую бревенчатую стену, уходящую в небеса, сторожа с топором у въездных башенных ворот и невольно взвыл от унижения, тоски и ужаса.
Скоро явился стрелецкий полуголова; бранясь на слобожан за проказы, он снял с монаха огибные железы и ошейник.
Той же ночью собрал Феодор небольшую кладь и, не сказавшись матери, презирая ее за сговор и измену, на своей утлой лодчонке подался из Окладниковой слободки неведомо куда. Он запехивался шестом вверх по воде близ травяных бережин с упрямой решимостью никогда более не вертаться в родные домы. Прогоняя из сердца тесноту и обиду, инок пел нескончаемое моление:
...Укрой меня, мать-пустыня, В темные те ночи, Научи меня, мать-пустыня, Как Божью волю творити. Ешь гнилую колоду: Гнилая колода Лучше царского яства; Испивать болотную водицу Лучше царского пойла... Отрошу я свои власы По могучие плечи, Отпущу свою бороду По белые груди, Я не дам своим очам От тебя далече зрети, Я не дам своим ушам От себя далече слышать...3
Любим придремал и прискучал, а Бог все не насылал удачи, а причеты и запуки мезенских шептунов не помогали; вот и ватажка помытчиков запропастилась неведомо где, хоть бы худа не случилось. Хорошо отцу отпустило, а то бы и вовсе край. Любим приглядел одинокое тундровое озерцо и опромет перетащил поближе к нему, насторожил сеть; а в длину та вода сажен двадцать, не более. Но много сселилось сюда и свиязи, и кряквы, и шилохвости, и чирят, и так-то беззавистливо и ладно жили они мирным невздорным кочевьем. Любим состряпал себе укрытье из болотной еры, выстелил гнездо летошной осотой, и в этом схороне сам походил на одинокого угрюмого сыча. И осталась ему одна забава выглядывать за суматошливым пернатым становьем, после линьки поднявшимся на крыло.
...Откуда вдруг случился белый сокол? он вроде бы вытаял из ненастной небесной бездны, вылепился из серой тягучей мороси, взаправдошний четвертной кречет. Сорокопут запоздало заверещал, спрыгнул в свою нору. Любим ослабил пеньковый шнур, подернул подсадного голубя, позывая того на взлет; голубь резко прянул вверх к желанной свободе, позабыв о вязке, но кречет оставил без внимания подневольную птицу, не клюнул на обманку. Да и зачем ему привада, этот одинокий тюремный голубь, коли озерная кулижка кишит дичью. Утки забеспокоились, встали на крыло, взбулгачили тишину. Кречет без примерки сделал ставку, осадил шилохвость, да и не слез, без особых затей мякнул по загривку, так что утка перекинулась и запоздало ушла в воду, после выскочила смертно на берег, волоча кишки. Тут сокол и сел на нее; в прямом властном поставе тела была гордость и красота редкостной ловчей птицы. Кречет наполнил зоб свежатиной и полетел не к скалистым кручам ближнего птичьего базара о край моря, но в сторону Шехоходских гор. Он летел так упруго, что, казалось бы, оставлял в мглистой мороке белесый видимый след.
...Еще дважды навещал кречет приглянувшееся взгодье и брал с него дань, словно бы соблазнял, приманивал сокольника в рисковый ход. В третий день Любим уже верно знал, что ударится в охоту, и собрал с собою нехитрый пожиток, что и плеч шибко не оттянет, но и без него, при нужде, беда. Отец варил выть, но до сына не домогался: коли есть в том нужда – сам скажется. Приглядист, сметчив парень, много ли с отцом хаживал в путины, но всю науку воспринял и вот собрался в дорогу без наущений: ходовой припас на трое ден, охотничий приклад, топоришко за кушак, кабат холщовый, кожаный шлык с оплечьями и плетуха на птицу.
И то, что Любимко брал ивовую плетуху, подсказывало: далеко решился парень ноги топтать. Потрапезовали, встал сын на колени пред иконкою Николы Поморского, отмолился молчком, потом поцеловал кожаную ладанку с богородской травой, еще потомился на примосте, соображая, чего не упустил ли? После-то промашка смертью выйдет. Отец не донимал, на воле у поварни оттирал от костровой сажи котел-кашник. Вышел сын за порог, огляделся во все края земли, помолился на восток, откуда вставала заспавшаяся балда, как бы умылся утренним влажным солнечным паром, и объявил: де, собрался к Шехоходским горам. Созонт не удивился, лишь пожал плечами: собрался, дак поди, никто и не держит. «Сказывают, есть старинный путик и той тропой хаживал еще Исачко Дружинин лет двадцать тому?» – спросил сын. «И я хаживал, – ответил отец и, не дожидаясь просьбы, начертил ножом на куске бересты скрадчивый путик, особенно предательский в чарусах меж двух озерин. – На шостый день вертайся, сынок, к вечерней выти. Ждать буду», – прикинул время Созонт и напутствовал Любима крестным знамением.
Подумал: спаси тя Бог... Буди милостив к хожаку, дай ему спутья. Хоть бы враг не поманул, не соблазнил парня под видом сокола. Заведет Христовенького в провалище, да и зальет болотиной, надсмехаясь. Средина лета, все соколы на гнездовьях близ моря, у птичьих базаров рядом с поедью. А сына, вот, запоманывало вдруг в матерую землю. Не девка ли златоволоска скинулась кречетом, чтобы окрутить парня с Невеей? «Охте мне! вдруг подберет мою надежу», – смутно вздохнул Созонт, провожая взглядом Любима, но не окрикнул сокольник, не приневолил молодца вернуться в становье, не остерег от напрасной ходы. Тут ведь как: ежели убережешь от сглазу, но, неровен час, подсечешь судьбу.
...Любимка прибрел в становье в седьмое утро, обгорелый до спутья, с обломанными ногтями, опаршивленный весь, в прирванном кабате с рыжими болотными разводами. Взглянул Созонт на подорожника и без слов понял его усталость. А когда сливал из корчика на плечи сыну, чтобы смыть живой водой дорожную мороку, то зажалел парня и возрадовался его крепости: спина и плечи подсокольника были изрядно поизодраны, знать, не спасли от когтей кречета ни кожаный шлык из нерпичьей шкуры, ни плотная холщовая рубаха поверх зипуна. Любимко, не евши, пал в оленную постелю и забылся мертвецким сном. В лузане у каменицы вдруг завозилось, заверещало; вытащил Созонт из мешка плетуху с соколом-гнездарем, младенчески белоснежным, с голубыми ногами: в бурых глазах голодная тоска. Знать, мамку звал, а ее, видишь ли, нет; и потому птенец осоловело водил глазами по зимовейке, ища соколиху. Вызволил Созонт птенца из клетки, дал свежатины. Хороша будет птица, дар Божий; откуда-то из полымени выхватил Любимко голоручьем, не ожегшись. Ну и прохват! вот возрадуется батюшка наш Алексей Михайлович белому кречету. Надел на лапу гнездарю кожаный опутенок, привязал у избенки, чтобы не скинулся детеныш по глупости в ближние хвощи...
А тем временем Любимко уж в который раз со смертным вздрогом проваливался внезапно в обманчивые гиблые павны, притрушенные сверху веселой зеленой ряской с редкими волосатыми колтунами, и грудь его тесно обнимала чавкающая, смрадно пахнущая трясина. Последний вздох, прощальный взгляд наливающихся кровью глаз, взведенных горе; но тут беспощадно вытаивалась откуда-то птица-нетопырь с раскинутыми лапами в пуховых штанах, с отточенными острогами железных когтей и без примерки падала камнем на беззащитную голову, чтобы заразить несчастного в темя и выклюнуть очи. Ба-тя! – прощально кричит Любимко, захлебываясь тухлой жижею; провалище смыкается над ним, и могильная стужа заполняет жилы. И легко так сразу, и несутся отовсюду ангельские хоры, и по райскому лугу до самого окоема разлилась голубень васильков... Но вот Любимко убегает по отрогу каменистой осыпи, по древясному, ускользающему из-под пят лезвию ее, в кровь раня плюсны, не глядя в бездонные щелья, что обступают, норовят полонить охотника; но тут и крутогорье куда-то подевалось, и очутился Любимко посередке ветхой тесинки, перекинутой через пропасть, обнимаемый адовым пламенем, а неотступная карающая птица вновь настигает сокольника, делает ставку над ним и камнем падает вниз, чтобы мякнуть в зашеек. Парень обреченно заслоняет руками выю, чтобы уберечься от боевой раны, и вдруг слышит, как и сам-то скоро обрастает шелковистым снежным пером, а тело его снизу подпирает воздух, позывая взлететь...
«Эй, полно тебе блажить-то! Очнись, сынок! Совсем заспался», – в последнюю минуту будит погибающего отец, и сын очумело распахивает глаза, упираясь взглядом в низкие дряхловатые пепелесые потолочины, набранные из тонкомера. Тело гудит, и нестерпимо ноют ступни, будто и въявь убегал Любимко от кречета босым по скальному ножевому перевалу.
«Я уж про тебя худо, однако, подумал, – не отступается Созонт. – Экий, думаю, похвалебщик растет: еще не застрелил, а уж отеребил. Помчался невесть куда сломя голову. Теперь открылося: мое семя, воистину Медвежья Смерть».
Любимке же смурно, одиноко и грустно, не отзывается его душа на неслыханную прежде отцову похвалу. Никак не может он вынырнуть из сна. Ему желанно оборотиться назад, где за плечом смрадно, с надсадою и грудным клекотом дышат в загривок, отчего корни волос выстуживает морозом. Любимко знает верно, что там Маруха, она выследила его еще в Шехоходских горах, когда отчаянно взлезал охотник по отвесной скале к кречатьему гнезду и чуть не сверзился, потом гналась следом до становья, постоянно окликая под свист соколиных крыл, а отныне заселилась за левым плечом и будет скрадывать нить его жизни до крайней минуты, чтобы после обсечь беспощадным взмахом. Значит, и я не вечен? – отрешенно думал Любимко, облизывая опаршивленные губы.
Любимке страшно, но и желанно обернуться и встретить взглядом свою Смерть. Он медлит, спирая дыхание, и худо слушает, что проборматывает скороговоркою отец. И устоял, не сробел, стряхнул наваждение и в одну минуту переменился, повзрослел. Ну и слава Богу, сынок, что пересилил себя! К завтрему пропадет эта внезапная смута и надолго забудется. Созонт поймал солнечный просверк в медвежеватых глазах сына, возвеселился, и прирванная лесным батькою пергаментная щека его густо закрасела.
«Ты знаешь, чем так душно разит от хозяина, когда он на лапы вызнялся? – вдруг спросил Созонт и сам себе ответил: – От него пахнет бедой. А ты бейся не бейся, без року смерти не будет».
...Нескончаема досюльная наука.
«Сынок, пролежни на боках будут. А ну вставай! Кто на дело ленив, тот и в душе не подвинется».
Созонта потянуло на пережитое; плоть просит хлеба, а душа... воспоминаний. Только с сыном какие речи? велик парень местом, а поговорить не с кем. Любимко молча поднялся, разламываясь, закряхтел, со смутной ухмылкой долго разглядывал поршни, съеденные тундрой, закинул обувку обратно под лежанку. А руки пустоты не терпят, требуют, чем бы занять; достал из укладки пластину рыбьего зуба, принялся просекать гребень. Для лебедушки старался, для Олисавы, еще не ведая о девичьей кручине...
Размяк кречатий помытчик, глядючи на сына, и себя былого, ухватистого, рискового признал и потому, противу натуры, вдруг потек сердцем, стал мягше талого воску, и из здорового выцветшего глаза, будто случайно, коряво выскреб соринку. Эх, бедовый человек, коли прижала кручина, значит, старость одолела. А слезинка ходока-поморянина станет, пожалуй, подороже скатного жемчуга. Не тужи, сынок: что нынче в диковинку, то будет в обычай. Не от горя, но от отцовой гордости неожиданно раскис Созонт. Он-то изжился, ничто не взволнует его с прежней глубиною, и ко всякому сгаду и догаду есть нынче у помытчика верная мерка: было – видели, что будет – увидим. Ниже земли не упадешь, дальше смерти не уедешь...
Замолчали. Любимко, отворотясь, упорно глядел в паюсное оконце; сквозь мутный рыбий пузырь серел травянистый окраек бережины, а далее, смыкаясь с небом, уходя в самые Господние вышины, мерно, накатисто дышало море. Лопатки у Любимки, как две наковальни, зябко шевелились под исподней рубахой. По медной шее стекали кудрявые ручейки темно-сизой шерсти. Кочан витой головы, спина гранитной плитою, словно бы вытесана из придонной лещади, грузные припокатые плечи. И этот детина, коему впору ватажить, и есть его, Созонта, сын? ...Как странно все...
Живешь будто долго, аж надоест. И смерть не раз вспомянешь, призывая. А оглянешься – будто все в одном дне, еще и не жил. Давно ли с Матюхой Коткиным таскался в Мангазею, в Обскую землю, и тогда дивно приперли в обласе мягкой рухляди для государевой казны: не двенадцать ли сороков пупков собольих, да пятьдесят соболей, да тридцать пластин собольих, да два свясла лоскутья собольего. Нынь закрыт туда ход царевым указом и мало сыщется отчаянных охотников, торивших дорогу. Ну, двое-трое на Окладникову слободку, да и те обветшали, обезножели, а прочие, что помоложе, отчаюги, те отшатнулись от родины Семейкой Дежневым в коче и не вем где болтаются; ни Меркурьева Елфимки не слыхать, ни Фомы Андреевича Семенова, ни Романа Иванова. Лишь у Созонта путик в Мангазею не только в памяти, но и в точности записан в свитке и запечатан тесной облаткой, и укрыт в самый надежный схорон на тябле за образами, куда дурному глазу досмотр заказан. И вдруг захолонул кормщик от внезапной мысли: а кабы днями-то помер ненароком и навовсе замкнул путик в Святую Страну?
Нет хуже алчбы и зависти; алкающему человеку черти в аду кладут на язык раскаленные каменья... Мне-то, проклятущему, завещано в грехах измозгнуть, яко последней пропадине, и лютое покаяние не сымет скверну, хоть ползи ужом до самой престольной. Но сына-то, сына на что попускаю? в какую блазнь и хворь вторгаю? Чтобы он до дряхлых лет не сыпал мягко и не кушивал сладко, а вот, как я, прозябал в кушной зимовейке, трача глаза дымом, иль под еловой выскетью, как медведь-шатун? Ой, не зря же прильнуло ко мне прозвище Медвежья Смерть; всю жизнь со зверем ратился, да и сдохну где ли в его объятиях. Нет ничего отравительней и обольстительней неведомого пути, и куда хмельнее он заморских питий.
...Воистину бездна бездну призывает. Кто в море не бывал, тот горя не знавал и Богу не маливался.
Вздорили в сокольнике душа с плотию, и душа по смерти желала воли и пути, а плоть томилась по теплому гнездовью, сытному хлебову и бабьему сряду.
Кабацкий ярыжка и поморянин, оба что лагун дырявый: одного вином не заполнить, другого – волею. И потому молвилось сокольнику иное, ибо сына-то по себе стряпал и, кажется, добрый испекся каравашек.
«Много чудного на земле, сынок, – задумчиво протянул сокольник, продлевая радость душевную; сам из болезни выплыл и сына из дела вживе дождался. Всегда, мил человек, улучивай подобную светлую минуту и умасливайся ею, как святым миром, ибо в это время нисходит на тебя Божье благоволение. – И так дивно, сынок, что глаза на лоб. И так хмельно, будто опился нечуй-ветром».
«То и видно», – буркнул Любимко, незряче отвлекаясь от паюсного оконца и снова примаясь за заделье. Подумал: выпугал палач утопшего плахою; да я нынче сам смерть зрел в очию, и ничем не удивишь меня, тата... Но слух, однако, навострил. На мгновение в пустыньке обжилась такая покойная тишина, что комариное непрестанное нытье показалось громовым гуденьем иерихонских труб. Сказывают: в эти минуты где-то человек родился.
«Всяк топчет, дитятко, чужие следы, кои заросли забвением. Как ступишь в дорогу, не поленись вспомянуть: здесь татко мой бывал. Вспомнишь, а я отзовуся...»
«Опять запричитал. Я не поп, да и ты не покойник...»
Созонт печально засмеялся. В прогале распахнутой двери косо ложились по ветру тощие хвощи да осоты, иссиня разбавленные медуницею... Вот и вся четвертушка земли, что остается старику пред смертию, а после и она обсечется до запечного угла и коника возле порога, куда с клюшкою подпиральной едва доплетешься, оплывешь на лавице, а подняться другой раз без подмоги – и не решишься... Что ж я-то разнюнился? ведь не пень-колода лежачая и не валежина трухлявая, обнизанная моховыми пролежнями, и не трупище окаянное, коего карачун приспел... Из серенькой кулижки света в распахе двери вдруг потянуло на Созонта непонятной тревогою, и сердце его екнуло, будто бы из дому донесло худую весть.
«Давай улыскайся над батькою, – мирно упрекнул Созонт, с трудом извлекаясь из дремотной плывучей грусти. – Вот и я где только не бывал, а все по чужим следам топтался. А думалось, что вно-ве-е... Вот трава ежели. Издаля она, как шерсть медвежья. А пади на колена – всяк цветок наособицу. Так и люди на свете, всяк на свое лицо.
...Сказывают, до крепости Грустин, что в Лукоморье на горах за Обью-рекою, приходят с торговлей черные люди от Китайского озера. Глаза желтые, серпом, а обличьем – головешки. Так те, как лягушки, в ноябре в день святого Георгия помрут, а в апреле всякий раз оживут, чудное дело. Как помереть, они складывают товары в назначенном по сговору месте для обмена. А весной, ежли найдут, что грустинцы надули с ценою, то свои товары назад просят. Говорят: отдай! И опробуй не вернуть, тотчас войною... Ниже по Оби взять, там каламы живут, поклоняются Золотой старухе. Стоит та баба у Обдора на берегу и держит на коленях сына, а из брюха уже внук, значит, мальчонка лезет. Золотую старуху те каламы почитают, как мы Господа своего, и то место запечатано для всякого чуженина. А по реке Тахнин обитают люди-звери: у иных все тело обросло шерстью, у других – собачьи головы, иные без шеи. Вместо головы – грудь, а руки до земли и ног нет...»
«Сам-то хоть видел? Иль во снях наснилось? Тебе набаяли, а ты мне басню. Как это без головы?»
«С грустинцами знался, ну, как с тобою. А до черных людей не дошел. С того Китайского озера Обь выпадает, – сознался Созонт. – От крепости Грустин сквозь горы будет три месяца пути с лишком».
«Что, жила тонка?» – поддразнил отца Любимко.
«Да не-е... По дому заскучал».
Созонт не докончил рассказа. В плетухе, принакрытой рогожею, вдруг забеспокоился гнездарь, всхлопотал, жалобно заверещал. И как бы на этот зов вдруг в распахе двери появился белый кречет; шел он неловко, с раскачкою, неуклюже подпрыгивал по набитому земляному полу, помогая себе крыльями. И словно бы занял собою всю зимовейку, столь показался великим. Птенец заверещал пуще, видно, расчуял мамку, забился в плетухе. Точно грозой ударило мужиков, молоньей сразило, в такой они впали столбняк. Добивались кречета всей ватажкой, скитались по Канской земле, а он, вот, явился сам, как небесный вестник. «Чур меня, чур... чур», – кстился Созонт, сбелев лицом. Не смерть ли, часом, явилась за ним? А Любимко, тот сразу признал своего сокола: от него ныли, гноились по плечам рваные язвы и кровенели борозды на спине, словно бы увязил кречет когти в мяса, да и оставил там. Это он гнался по пятам от Шехоходских гор, расставив ухватом соломенно-желтые ноги.
Посреди становья кречет остоялся, восшумел крылами, будто захотел поразить Любимку в самое сердце, каждая махалка в аршин, почти белоснежная, с редкими черно-бурыми каплями, похожими на копейцы стрел. Да, это был не слеток и не молодик, но редкостных размеров дико мыт, непокорный властитель северных небес. Седые пуховые штаны, низко нависающие над лапами, желтовато-голубой, круто загнутый клюв и бурые пронзительные глаза в зеленоватых ободьях выдавали птицу боевого, властного покроя. Птица срыгнула шумно, щелкнула клювом; у Любимки и оторопь пропала. Господи, сама удача в руки, только не зевай. Экая досада – ни помчей, ни сетки возле. Зашарил по постели руками, потянул украдчиво одевальницу, чтоб спеленать кречета. Но куда там: кречет сразу отскочил, зорко сторожа немигающим взглядом охотников.
«Батько, давай опромет. Эх, ну что ты», – свистяще прошептал Любимко: он был юн, и предчувствия еще не томили его, а недавний сон уже источился, выпал из памяти.
«Да ну его, лешего, к дьяволу. Не видишь, рожки у него», – отмахнулся Созонт. Кречет подпрыгнул к плетухе, клювом потянул рогожку. Тут Любимко не сдержался и кинул на пришлеца кафтан. Да разве вольную птицу спеленаешь одежонкой? Нырнул кречет в дверь, прощально визгливо закеркав, – и только знали его. Любимко выскочил из становья, пошарил взглядом по небесам, но не нашел кречета в серой низкой мороке, едва сочащей влагу. Отец вышел следом, натужно дыша, левая половина лица нелепо испроедена, сквозь прозрачный пергамент мертвеющей кожи проступал череп; вывернутый глаз, обметанный червчатой бахромою, тускнел от слезы.
«Не зырься, парень, на дармовщинку, – остерег Созонт, расслышав тайные сыновьи мысли. – Чужое-то не удержишь, меж пальцей протечет. – Он взмахнул пястью в чужедальнюю сторону, куда, по его мнению, отлетел сокол, и с внезапным восторгом добавил: – Любовь – она сильнее медведя».
«Да ну тебя... Любовь, любовь. Возле же был. Расселся, как блин гретый... Ему руку протянуть лень», – осердясь, огрызнулся Любимко и скрылся в зимовейке. Да что толку досадовать на оплошку? Сам, раздевулье, тоже хорош: ему ложку с хлёбовом в пасть суют, а он зубы сцепил.
Любимко раскрыл клетку, собираясь кормить птенца свежиною. Гнездарь забился в угол, опал на гузку, нахохлясь, призакрыв голубыми пленками глаза, и словно бы запомирал.
«Эх ты, курячий сын», – Любимко жальливо погладил детеныша по взгорбку, и сердце его ворохнулось: под мягким, еще не загрубевшим пуховым пером косточки были тонки, беззащитные, как у цыплака.
...На следующий день кречет появился снова. Он подскочил к гнездарю, сидящему у варницы на вязке, и накормил его, срыгнув из зоба. Сокольники не мешали, сидели в затайке за дверью.
В третий день Любимко расставил помчи, приторочил гнездаря к вешке и стал ждать гостя. Кречет вытаился из небес на склоне дня, когда воздух сиренево замглился. Презирая опасность, он неловко подпрыгнул к гнездарю. Любимко дернул за шнур и накрыл птицу сетью. Воистину без снасти и вши не убить.
«Спустил бы дикомыта. Зря намучаешься, – посоветовал старый вожатай. – Видит Бог, не окротить его».
4
...Незагасимо, незаходимо северное солнце в короткую меженную летнюю пору, и всяк неусыпный норовит напиться его живородящим теплом. И брусеничный след солнца, похожий на оброненное перо жар-птицы, не успевает отгореть, вышаять до золы, как уже новая заря зацветает в малиновых постелях, поет хвалу ярилу, увенчанному золотой короною: гляди, бажоный, вон за ближнею горою, над припудренной мглою тайболой уже морошечно вспыхнула царева маковица, и сразу слюдяной влажный воздух, до той поры призрачно мреющий, как бы принакрытый кисейным пологом, вдруг зазвенел яро и рассыпался в поречные бережины, на пожни и хлебные навины пригоршнями окатного жемчугу, одарил щедротами всякую малую тварь, свернулся серебристой ягодой в каждом алчущем зеве дремлющего цветка; лишь окуни в пониклые травы замлевшую от трудов ладонь, и просыплется во вспухшую пясть студеная благодатная роса, омывая сбитые в кровь руки. Вот он, щедрый дар Господа нашего, изливаемый из целебных уст Его...
Но Феодору не до красот. Душа его нахудо испроточена дурной маетою, и никакой наговорной святой водою до конца дней не оживить ее. От бесчестья бежал монах и, вспоминая недавний позор, сгорал от стыда. О чем вознепщевал, раб окаянный! Вынянчил гордыню в сердце, как змею в трухлой колоде, пригрел дьявола за пазухой, почитая его за ангела. Господи, Господи, помилуй мя грешного! – всплакивал монах и начинал еще пуще пехаться шестом меж разводий лопушистой куги супротив коричневой быстрой воды вдоль бережин. И когда вспотевал, изнурялся особенно, тогда и грех недавний позабывался накоротко. И воспевал Феодор: «Укрой меня, мать-пустыня, в темные те ночи...» и еще пуще работал шестом, забираясь в глухую укромину, словно бы мечтал забиться в такое затулье, в такую скрытню, где бы веком не сыскать его чужому глазу. Монах убегал подалее от дома с такою яростью, будто на каторге выгостился. Река Пыя была петлиста, увертлива, иногда затяжные заводи прерывались мелкими перекатами, запруженными древесным трупьем: порою открывалась веселая цветущая бережинка с густым морковником и дудкой-падреницей, залитая солнцем, с гудящими шмелями. Феодор приценивался к луговинке, к темному коричневому крежу, под которым таилась тревожная глыбь, и вдруг пугался зазывной открытости кулижки, слишком радостно цветущей, куда невольно приманит к огнищу костра и мытарь для походного котла...
Порою лес надвигался к самой реке, морщиноватые от древности лиственницы, истекая вязкой серой, кренились обреченно над водою, выискивая ту особенную родниковую струю, куда вольно опрокинуться и спокойно, смертно изопреть в ее глубине, обрастая ряской и придонным рачком. На этих обмысках трава скрывала с головою. На таком носу он однажды и вышел, закодолил обласок, как ерестливую лошадь, ее сразу отнесло на вязке по струе на середину реки. Он ступил на берег, как в меховую шубу, с макушкой утонул в метельнике, роняющем черные собачьи репьи, сразу обнизавшие его холщовый зипунишко и пестрядинные портки; палые едины замовели, отрухлявели, походили на подушки для лесового зверья, на усыпальницы и ковчежцы для всякой твари, в этих дуплах, выскетях, валежинах и колодцах легко было укрыться всякой таежной животинке, но только не сумеречному одинокому человеку.
Феодор заглубился в тайболу, в лешачиное место, заросшее так дико, неурядливо и шально, что только северный охотник и смог бы прозябать здесь ночами у костра, не ведая страха. И неожиданно монах выбрел на случайное крохотное озерцо с табунком уток, поросшее лягушатником, с голубым зрачком чистой воды, где плескалась рыба. По южной стороне оказался прогал, поросший фиолетовыми пукалками и мышиным горошком, по краю обметанный вызревающей кислицей. От смородины над поляною висел густой терпкий дух, словно бы полили поженку медовым узваром. «Вот здесь-то я и заселюсь, – вдруг решил инок, – заведу борти, кину в озерцо мережку и стану келейничать... Научи меня, мать-пустыня, как Божью волю творити...»
Он вытаскал нехитрую кладь, тот скромный пожиток, что не дает помереть сразу, но и особо не усладит черева. Ну разве позабудешь в северном засторонке наодинку, когда медведко тебе за ближнего сродника, келейное правило: «Как рабыню, должно томить плоть алчбою, и жаждою, и бдением». Пудовичок мучицы, да пудовичок ржаной заспы для крупяной каши, да оленья постель, да портяной мешочек сущика на первую уху – вот и весь монаший живот. А ежели захвораешь? иль окалечишься? иль зверь заломает? Где искать подмоги? кому кричать с нуждою? о кого опереться? Но и то: сгоряча бежал из дому, в сердцах взвился, как пламя из костра, как огненная птица на пожаре, когда нет никакого удержу сердечной страсти. Бесследно канул из слободки, а сейчас, поди, хватились и ищут...
И пока бродил от реки к стану, да обсматривался, благодаря Господа за немерклый свет длинного дня, да пока притерпевался к новому месту, то с каждым часом обновлялся нутром, словно молодильной водою окатил истомленную плоть свою и понудил к долгому земному быванью. Омылся в реке, в тягучем рыжем омуте, держась за торфяной клоч, ощущая ступнею студеную бездну и невольно замирая сердцем от преисподней стужи. Как лягушонок, всполз в дурман-траву и давай валяться, будто конь-стригунок, обдирая бледную шкуру о травяной сухой испод. Феодор бессмысленно таращил осоловелые глаза в предвечернее небо и вопил оглашенно: «Научи меня, мать-пусты-ня-а!..» Потом кинул под себя зипунишко и заморенно заснул, растелешанный, не чуя лесового гнуса, сплошь покрывшего шевелящейся серой рядниной. Празднуй, празднуй, нечисть, пока почивает христовенький: столько тебе и сласти. Ах ты, Господи, прости и помилуй страдальца.
...Спал ли он сколько? но вроде бы над ухом в било ударили колотушкой, де, вставай, инок, на ночное правило. От солнца за рудяной горою, что на супротивном берегу, остался один желтый оследыш, и вся тайга таинственно зацвела сиреневым, над папартами и хвощами выстелились туманные зыбкие холсты. Зябко, мозгло... Брр-р! И тайбола вдруг зловеще сгрудилась, растопырила жадную пятерню над одиноким поклонником, чтобы сгорстать его и задушить. Вот тут-то, инок, и не дай себе посладки, вспомни древние научения пустынников, устреми плоть к послушанию, а душу к молитве. Претерпевая озноб, Феодор неторопливо стряхнул с себя комарье, не спеша оболокся, высек на трут искру, раздул костерок. Запахло дымом, приютом. Земно поклонился огню: здравствуй, Дом! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! – сотворил поклоны во все концы света, затем прислонил к бородатому окомелку иконку святого Пантелеймона-целителя: тот протягивал страждущему лжицу со снадобьем. Воспрянь, сыне, из скорби и изгони из сердца тугу, вдруг расслышал инок неокрепший отроческий голос; образ растворился, из старой доски выступил мальчик и протянул Феодору лжицу с травяным отваром, и почувствовал молельник во рту пряный вкус святого причастия. Феодор спохватился, хотел поцеловать жалостливую руку, но наткнулся пястью о закаменелый сук, торчащий из окомелка, – и очнулся. Долго он молился на коленях, благодарил Бога за благословение, пока новые сполохи не заиграли на встоке. И тогда принялся за послушание, ибо час упустишь, днем не наверстаешь.
Бережинка о край озерца оказалась сухой, податливой, из ярого рудо-желтого песка. Вырыл схорон, наподобие рыбацкого бугра, разломал лодку и набоями покрыл крышу, из березового вершинника набрал примост, лапником выстелил пол, из дощатого поддона выкроил столешню и прибил на укосину, из речных голышей слепил каменицу и обмазал придонным илом. Нора ли получилась из трудов праведных? иль лабаз? келеица? скрытая? Но ведь с боков не поддувает, и дождь не прохватит, и темень отступит перед лазом в зимовейку, и бесам преграда, и зверю лесовому препона. И не велика беда, что лишь ползком попадешь в избицу, и плечам не разогнуться в пустыньке, но зато свой дом и свой устав. Так воспой же, монах, хвалу случайному приюту, и пусть покажется он тебе краше царственных чертогов, ибо к такому житью чаще всего и подступается Христос...
Надрал инок осоты на постелю, застелил холщовым буйном, пахнущим сальным зверем, – вот и лежбище; вместо подушки положил березовый чурачок, на таком сголовьице шибко не заспишься. Почивай, Феодор, распрями унылые натруженные кости, да пусть безгрешные виденья навестят тебя, и полночные ангелы-охранители, защитники твои, не отступятся, бороня от врагов. И лег Феодор, примерился тщедушным телом, чуя спиною всякий березовый сучок, приминая осоту, приноравливаясь каждым мосоликом к иноческому ложу.
Глаза сомкнул, вздохнул глубоко, на полную грудь, как-то истомно потворствуя плоти, и сразу услышал растревоженную мать-землю, вспотевшую под укрытием, и густой запах еще живой мятой травы, и прелый озерный дух, и прерывистый мышиный писк, и комариный нуд, и мерный перебор речного переката, и гуд невмолчного леса, и треск утиных крыл из камышей. Задрал глаза под притолоку, из продуха нанесло в лицо иссиня-черной водяной пылью; и вдруг всхлопало дверью, зашерстило свитки бересты на слегах стропилин, и тут с громом пал на келеицу проливень. Слава Господи, что плоть бренная укрыта от лихой поры, и теперь время спасать душу: то дождь напомнил о пригасшей нескончаемой заботе. Бог, сидя на облацех, Один истинно чист остался, и Своими сладкими слезами кропит и крестит все, созданное на земле в дни творения, и той благодатью всякий раз поновляет плачевную жизнь.
Всякий урок от Господа будет в науку, если воспримешь его доброчестно и благолепно, ежели ты не ханжа и не гордоус. Ну, было, было, возомнил по бесовскому наущению слишком высоко о себе, вот и выпал из седла прилюдно, похвалебщик, напыщился, как лягух посередь лужи, вот, де, сколь я велик, да и лопнул от своекорыстия, и оказался под кабацким порогом с кляпом в глотке. И поделом тебе, варнак, поделом, не честись перед народом!
Вспомнил Феодор недавнюю выходку в церкви и пожух от стыда, закорчился на постели, как бересто в огне. Ой-ой-ой! Но и то верно, что тогда в трапезной вдруг очистился дух, и прозрел инок всеобщий русийный грех и ту зловонную яму, в коей прозябает православный народишко, и открылась Феодору истинная дорога во Христе. Как образ Господев испакощен донельзя пьяной десницей богомаза-харчевника, так и источилась на человеке прежняя спасительная благодать, и не явится вновь, пока не очистишься от прежних корост новым крещением. Но где взять хоть горстку святой воды, чтобы смыть прах и гнусь скверны, коли грянуло антихристово время, и нет ничего чистого на земле: и реки, и озера, и родники, и кладези – все опечатано злодейцем, и не сыскать гремучей струи, в кою можно бы погрузиться, и только из облака, пожалуй, где восседает великий Господин, и можно принять крестильную купель.
Феодор обрадовался этой мысли и, позабыв о сне, торопливо содрал с себя одежонку, на коленях, ушибаясь о коренья, выскребся из норы и давай скакать в вязких от сырости папартах, меж слинников, нагребая на себя пригоршнями парной июльский дождь. Что за лешачья пляска, что за бесово игрище? – вдруг спохватился чернец, опомнясь, смутился от шпынских забав, и из-за каждого куста и дремучего выскоря почудился ему мерцающий взгляд похотливого козлища.
Вернулся инок в хижу, съежился на лежбище в комок и горько, навзрыд заплакал: хотел душу спасти, а опять упал в грех.
Наутро инок уже знал твердо, что делать. Нарезал ивовых прутьев, связал плетушку, обмазал глиной, смешанной с лиственничной серой, прокалил на малом огне; эту своедельную кадку подставил под потоку в углу зимовейки, и скоро посудина от частых дождей наполнилась небесной влагой. Облачился инок в длинную до пят холщовую смертную рубаху и с пением молитв взошел в кадку и трижды погрузился в купель с головою.
И стало ему кротко, и спала с души хмара.
В молитвах и послушании в диком лесном усторонье скоро текли дни; вот уже и небо засвинцовело, заугрюмели и забеременели мраком предосенние ночи. Казалось, потерялся инок и никто уже и никогда не хватится пропащего. И на душу Феодора снизошел спокой, коего он не знавывал даже в келье Сийского монастыря.
...Но однажды утром новокрещенец, спустившись к реке, нашел на берегу коробейку со снедью, покрытую материным полотенчиком.
5
«Эй ты... Спусти дикомыта... Зря маешься. Следующим летом слетыша от него примем», – настаивал Созонт. Любимко чуял правоту отца, но ерестился: жалко было расставаться с птицей.
«Как это спусти? Сама судьба в руки», – бросал на отца неуступчивый горячий взгляд.
«В копнах не сено и в долгах не деньги... Иль не видишь, у кречета брылья-то и загривок, как снег? Седатая, поди, столетняя матка-то. Нарожалась... Только намучаешься: ни молока, ни сливок».
На воле канючил дождь, уныла, выморочна тундра после Ильина дня, когда олень в воду копытом ступил. Давно ли полыхала, горела от жаркого ератика, любовным стоном полнилась от тьмы тем жарких сердец, и той истоме, что проливалась меж тундровых озерин и по скальным морским кручам, казалось, не будет конца. И вот всякая живулинка повыросла за белые ночи, обметалась пером да шерстью, отточила когти и зубы и стала сбиваться в стаи, смывая дождями надоедных нажористых блох.
С ночи да во все утро опять сыпал ситничек, и от этой мороси в становье было мозгло, сыро, разбередились истомленные долгими путинами кости. Надо бы каменицу протопить, чтобы не поддаться лиху, давно ли хворь точила Созонта, давно ли костлявая Невея дозорила у сголовьица. Любимке-то жарко, он не чует стылости, он третий день бессонно бродит по зимовейке, крутится на двух саженях пола, как закодоленная лошадь, от дверей да к заплаканному паюсному оконцу, не сымая с десницы кожаной рукавицы с раструбом, на которой восседает нахохленный непокорный кречет.
Крепко держит помытчик сокола за ременные путы, исклобучивая птицу; рука его, согнутая в локте, уже давно занемела от должика, закоченела и вымертвилась, стала чужою. Иногда загарчит кречет, как коршак, злобно щелкнет рубцеватым коротким клювом и давай заполошно махать пред лицом помытчика опахалами свистящих крыльев, от которых ветер шумит по хиже, словно бы норовит выстегнуть охотнику очи. Да и то правда: дерзкое и многотрудное дело – клобучеченье дикомыта. Иной сокол к клобучку смирен, день лишь подерзит, выказывая норов, а уж к другому утру, устав от кожаного колпачка, надернутого на голову, и наголодавшись, смирится и покорно берет с кулака помытчика поедь. Иная же птица к клобучку жестока, нет ей ничего милее родимой воли, пространного неба и скалистых круч: в плену она скорбит, плачет и засыхает от голода, сронив голову на грудь. И лучше всего, поймав непокорливый характер сокола, отпустить его обратно в родные Палестины; пускай ярится, гуляет он над землею, дозорит и пасет всякую тундровую тварь.
Третью ночь Любимко не спит, его шатает от устали, но он крепится из последних сил, стараясь не выказать слабости. Трещит сальница в медной плошке у порога, едва жидит темь, топчется Любимко по избушке, стараясь не натолкнуться о каменицу; он норовит шагать по-кошачьи мягко, чтобы не разбудить отца; взглянет порою просительно в его запрокинутое, едва сереющее лицо с ломтем седатой бороды, выпущенной из одеяльницы на грудь, в его темные, почти черные обочья, в дольные глубокие борозды морщин, где скопилась вековечная усталость, и до тоски становится жаль батьки. Так и подмывает пожалиться и попросить прощения за свою строптивость. Но и досада нет-нет и ворохнется: разлежался в постелях-то, дрыхнет, нет бы сыну подмогнуть. А и не надо, не на... Надернув клобучок на голову кречета, Любимко примащивает птицу на можжевеловое кольцо и качает сокола, чтобы тот не заснул, не задремал, не набрался сил. Но у самого от байканья смыкаются оловянные веки, в озеночки будто песка сыпанули щепоть: воистину нет ничего в мире слаже сна. Птица сердится, скоркает лапами, сдирая обносцы – суконные онучки, к которым привязаны сильца с кольцами. Сокол скоблит обножки по желтой роговице до скрюченной когтистой пясти и срыгивает погадку. В ответ у порога в коробейке жалобно верещит птенец, уже вставший на крыло.
Любимко встрепенется от испуга, дернет за должик, притороченный к кожаной рукавице, и задней мыслью понимает вдруг, что уже всхрапнул; он оборачивается на смутный лик отца, и ему чудится, что здоровый глаз ватажного старосты ехидно подмигивает: «Ну что, скопытился? В боярский-то двор ворота широки, да из двора узки». – «Вот и не дам слабины, – строптиво шепчет в ответ Любимко, вновь круто раскачивает птицу; та шипит, скоркает лапами. – Квелому да рохлому нет пути».
Кинуть бы дикомыта на волю, как отец советовал, да сейчас отступиться гордыня не велит: пущенная стрела просит цели. Для клобучеченья в государевых московских дворах приставлены особые сокольники, поседевшие на кречатне. Они любого сокола выструнят, сымут кислую шерсть. Но этого дикомыта нужно сейчас взять в науку, прибрать к рукам; тут вовсе годить нельзя, иначе подохнет птица с голоду иль черевной черной немочи.
«Чего кобенишься, тварюга? – тоскливо спрашивает Любимко у сокола. – Приноровись лишь, так государевы ребята разоденут тебя в шолка да бархаты». Любимко откидывает цевку клобучка – крохотный кожаный запон, закрывающий глаза, чтобы разглядеть взгляд птицы, да не дремлет ли; кречет разводит клюв, будто зевает, мертвея, выметывает тонкий алый язык, наверное, силится высказать свое презрение. Любимко подносит гордеца к сальной плошке, висящей у порога, к жиденькому огоньку, терпким зверным духом обдает изголодавшуюся птицу, но бурые глаза ее с черными порошинами зрачков жестки и сурово неприступны. Всем видом говорит птица: де, сдохну, варнак, но не поддамся тебе.
«И подыхай... карачун бы забрал. Задушу, тварюга, и дело с концом», – мелькает шально в голове. Любимко вспыхивает и оглядывается воровато на отца, будто тот может подслушать его подлую задумку.
...Но на пятое утро, к концу семика, помытчик по-прежнему таскался по становью с птицей, сам измученный вконец, приневоливал ее к еде, немилосердно пехал в упрямо стиснутый клюв жидкое тельце чайки, только что убитой отцом. Сокол отворачивался брезгливо и устало, он уже позабыл бывалую горделивую стойку, вяло опал на гузку, примяв хвост, и как-то одряб, полысел, что ли, потерял упругость крыл, и перо, утратившее вощатый блеск, взъерешилось. В сердцах Любимко кинул поедь на пол, а сокол вдруг свалился с кулака помытчика, резко подхватил дичину, на длинном ременном должике пролетел к плетухе, где сидел скулящий детеныш, и стал торопливо проталкивать корм меж прутьев в загородку.
«Любовь сильнее медведя», – тут вспомнилось любимое отцово присловье. Любимко торопливо перехватил у сокола поедь, снова подсадил кречета на кулак и сунул чайку на прикормку. Приказал птице: «Сама жори да не кобенься!» И кречет вдруг сдался, раздразнившись кровью, налипшей к зубцу клюва, он рванул чайку из руки помытчика и принялся рвать мясо жадно, роняя перо, набивая зоб свежиною. Воистину голод – не тетка и медведя с ног валит.
Любимко погодил, пока насытится кречет, потом поселил его в отдельный короб, обитый изнутри овчиной, закрыл крышку. От долгой пытки птица изнурилась: она смирилась, прошла первую науку и тут же, обессилев, впала в забытье. «Ну, Любимко, ну и прохват, – восславил Любимко сам себя. – Исклобучечил тещу, ой да испроворил дело. Завтра вабить примусь. Отныне ты от меня не отвяжешься». И с этой мыслью помытчик, не имея сил раздеться, присел на постель, чтобы дождаться отца и похвалиться ему славной победой. Он только смежил веки, чтобы унять резь в глазах, и тут же провалился в сладкую темь. И довольная улыбка во весь сон не истиралась с его толстых, по-детски набрякших губ...
6
...Нет, не спрятаться, не затаиться монаху ни в самом густом чапыжнике, ни в скрытне посреди чарусов, куда нет броду. Вот она, коробейка с материным гостинцем, будто выпала из неба; под холстинкою колобки житные воложные, какие может стряпать лишь Улита Егоровна, мезенская просвирница, да кулебяки с вешним пахучим сигом; а вместе с ествою переслала матуха и дух избяной, и устав неписаный с его заповедями. Вгляделся монах в утреннюю чамру, в низко, лохмато плывущий по-над перекатом волглый туманец, в розвесь ближнего, уже пожухлого с исподу лопушника и падреницы, чтобы из морока выудить взглядом мать-беспокойницу, изменщицу-еретницу, что, блудом блудя по тайболе, все же выволоклась к тайной хиже сына своего и тут, играя, укрылась в западинке: де, найди-ка, сынок, меня... Вот сыщу сейчас и крепко-накрепко выругаю, приведу в чувство... еще погодил монах, остывая, поокрикивал: эй, кто тутока? скажися, бес иль человек? Но мать поопасался позвать, вдруг ошибся? вдруг блазнит? Но никто не отозвался на вскрик, но странно, что и душа не успокоилась, а стоскнула вдруг горько – так захотелось видеть матушку родимую.
Текучая вода следов не оставляет; и так решил инок, что слободской случайный охотник, попадая в верховья реки, оставил от Улиты приветный гостинец. Вкусил инок воложного колобка в скрытне своей, глядя в глубинную мать-землю, уже коченеющую, пронизанную волосатым древесным кореньем, по которому суетливо стремилось куда-то всякое мелкое живье; видно, искало зимнего пристанища. И тут захотелось Феодору слова молвить и самому послушать чужих мыслей, и вкусить иного страдающего чувства, чтобы уловить в Божий сети заблудшую душу и наставить ее на путь истинный. В миру так испоганилось все, антихрист, празднуя победу, засевает погибель и смуту, а он, исповедник и пастырь, Христов ученик, сбежал с поля битвы, как бы предал и продал сородичей сатанинскому воинству. Ах ты, грех! ой, какой грех! – всхлопал себя монах по коленям, и сладкий воложный материн рассыпчатый колобок показался горьким... Ах ты, мати родимая, ах ты, проказница, уловила сыновье сердце в частую мережку, опутала натуго и повлекла назад в домы. И куда спокой келейный подевался? и тайга, прежде столь ласковая, вдруг угрюмо воззрилась, окружила темью и страшными звуками, и досель бегучие волки-шатуны нынче сбились в стаю и привыкли похаживать о край озерца, подавая тоскливый с потягом голос.
И стал Феодор с нетерпением ждать людей, чтобы перемолвиться словом, и каждый рыбак из Окладниковой слободки иль из соседних выселок, спускающийся вниз по реке, казался ему кровником. И однажды три мужика, поддавшись чарам Феодора, решили обновиться, и монах перекрестил их в своедельной кадце. Из купели они вышли обновленными и понесли по Мезени-реке и далее в Поморие грозное Феодорово вразумление: «Послушайте, православные христиане! Ныне у нас преставление света скоро будет! Государь загнал весь народ в Москву и погубит его. Будет пятнать их, и станут они в его веровать, отринувши Христа. Бойтесь этих печатей, бегите, скройтесь куда-нибудь! Последнее время, антихрист пришел».
...Истины являются к нам из уединений, размышлений и сновидений. Велика ли полынья неба по-над вершинами замшелых лиственниц, но этот голубой зрак, почасту затеняемый дождливой наволочью, есть заповеданный, незарастаемый путик к Господу для всякого вещего сердца. Каких теснот и налоги вроде бы знавывал по монашеской жизни Феодор, проживая в Окладниковой слободке? часто ли до него домогались власти? какими препонами обуздывали? Да жил ведь, как Божья птаха, собирая Христа ради милостыньку на построение храма, матери пособлял, не видя принуды, но все одно – душевные очи как бы замутнялись темной водою суетной жизни, и вся та скверна, весь неиссякаемый грех, что изливались каждоденно от мирян, липко льнули и к монаху, уловляя его в невидимые тенета, а тут-то, средь дикой тайболы, в окружении зверья и вещих птиц, какая благолепная широта сердцу, какой простор вольному духу, не знающему узилищ. Бог привел за руку. Бог привел, – почасту шептал Феодор, вылезши из зимовейки; он притирался спиной к седеющему травяному клочу, смеживал глаза, и то ли в тонкий сон впадал иль в короткое забытье, когда вроде бы и чуялось все, дышащее, растущее и умирающее вокруг, но и было куда-то западающим, как бы за особую черту, за грань яви. В такую вот минуту однажды узрел Феодор некоего старца, ликом чудного, стоящего невдали, и рек тот старец: «Ты же, Феодорушко, обещался стать юродом... так не томи душу свою и не потрафляй плоти... нарушивший обет свой похож на того лихоимца, что мздоимством ослепляет очи себе...»
Очнулся инок и, словно надоевшие лосиные камуса, стянул с ног сапожонки, с наслаждением потянул изопревшие, истомившиеся плюсны в прохладную, уже загрубевшую осеннюю траву. И как снизошло: решил более не носить обувки. Снял суконную скуфейку – и дал слово никогда не покрывать головы. Инок осмотрел рукава обремкавшегося холщового просторного кабата, заголил впалую грудь, отодвинул оловянный крестик, как бы примеряя место для вериг, но не успел ничего утвердить; всхлопал на озерце утиный выводок, и на противном берегу из-за острой стеблистой осоты послышалась певучая молитва: «Во имя Отца и Сына...» Инок вздрогнул, окстился. Откуда баба в тайге? Но тут вынырнул черный плат кокулем и исчез; из-за сухостойны показалась женщина в сером понитке с красным кушаком и с узелком в руке, который несла наосторонь, напрягшись, будто боялась что разбить. Она появилась столь обыденно, словно бы направлялась на делянку к отцу из деревни, что вон за тем мыском. Инок узнал соседскую хваленку.
– Ты откуда взялась, Олисава? – спросил оторопевший монах.
– Мы с татушкой вторую неделю на озерах стоим... Девка уже по колена вытаилась из чапыжника, калтусина вязала ноги, путалась за сермягу, и чудилось, что гостья выпрастывалась из гибельных болотистых палестин. Марея, Маруха, полуденная баба-замануха, гибельный искус, лешачиха-водяница; тьфу-тьфу на тебя! Хотел сплюнуть и устыдился. Знакомые до боли влажные страдальческие, напряженные черничины глаз, чуть сплюснутые к вискам, носик сапожком, взопревший, в бисеринах пота, назревшие, готовые излиться брусеничным соком губы и белые, как холстинка, щеки. И какое-то белесоватое, изжелта, свеченье над головою, кое принял поначалу Феодор за столб лесового гнуса. И было пожалел незваную гостью: изведут комаришки христарадницу. Сам-то притерпелся, а ее, ягоду-малину, изъедят сквозь. Феодор приподнялся, намереваясь благословить девку, но что-то в ее облике насторожило монаха: может, помертвелость лица и потухлость затравленного взора, устремленного внутрь; как бы в опойном сне брела девица тайгою, ничего не видя, иль была наглухо запечатана слободским чаровником.
– Ты не с неба пала, дочи моя? Смотрю, в кустах шеворится кто. Зверь иль навадник? Ан тебя Господь спослал. – Феодор заговорил ласково, стосковавшись по беседе, и вдруг смутился от того перемененья, что накатило на девку. Она зазывно вспыхнула лицом, будто явилась на свидание с милым, и на скулах расцвели малиновые зори. Тревога ударила в сердце скитника, и он ужаснулся, видя, как стремительно упадает в смердящую пропасть, окруженный вранами. Он вдруг вспомнил Олисаву в одной холстинной исподнице, мокро облепившей худенькое томливое тельце с назревшими бодучими рожками.
– Отче, благослови, – шепотом попросила совратительница и уже потянулась к мужицкой руке напрягшимися от желанья губами. И очнулся скитник и возопил:
– Нет-нет!.. Сгинь, нечестивая, и рассыпься! Феодор проворным ужом скользнул в свою нору, укромище свое, в скудельницу, в тот ковчег, где собирался доживать до последнего дня, и с бьющимся сердцем запер дверку на засов. И тут же у порожка свернулся на земле, привалившись боком к студеной каменушке. Он почти потерял память, так выпугался бесовского напущения. Слаб, как слаб человече! Феодор, ты в мнихах подвижаешься, уж сколькое лето, ты обрел готовность к страданию во имя Христово и всеобщее спасение, и вдруг, как труха, пропал пред красавушкой. «Ой-ой-ой!» – с тоскою вскричал Феодор, моля смерти, и прислушался. Тишина стояла, И тут в дверку зацарапались, просочился шепот, как из-под земли, глухой, тревожный, но и сладкий, как грушевый узвар на меду:
– Отец святой, выслушай меня, не гнушайся... Кручина скрутилась во мне, как змея в колоде, и ест-то она меня поедом, и пьет без устали мою кровушку, затяжелела я тоскою, как баба на сносях, и так тяжко мне, так невмочно, будто каменную гору-вараку содвинули на грудь, и холод могильный течет по жилам, будто в ямку положили, запечатали на живом дыхании бедную голубку. – Олисавин голос, до того раздумчиво-кроткий, вдруг ускорил бег, зачастил, набирая силу. – Братец мой бого-дан-ный... разлепи мне очи, соскреби черный вар...
На воле по-звериному рыкнуло вдруг, простонало с протягом на высоком вскрике: так плачея у родной могилки переводит дух пред новым причетом, и в эту минуту даже железное сердце возрыдает и невольно протечет слезою. И показалось иноку, что сейчас, перехватив воздуху, с новой силой вскричит вопуха: «Ой, да на кого ты нас спо-ки-и-и-нул», оплакивая его, Феодора, вдали от родного жальника, как опойцу, удавленника иль утопленника.
Но причет оборвался, за стеною подозрительно стихло. Вновь заперепадывал осенний дождь-ситничек, заколотил по крыше. Феодор, запруживая дыхание, прижался лицом к пазьям меж березового тонкомера, забранного без мха и черты, и в щель увидел Олисаву совсем рядом. Она стояла на четвереньках перед дверкой, отчаянно зевая, расширенные, бессмысленные глаза ее, казалось, готовы были вылиться из обочий и дрожали слезою. Вдруг девушка икнула раз-другой, обмирая сердцем и багровея, резко опрокинулась на спину, сгорстывая к подбородку и зипунишко, и крашенинный сарафан, и тонкого полотна исподницу, бесстыдно заголяя лядвии; потом выгнулась рыбкою, и живот ее, грудь безмерно вздулись, как бы начались в утробе смертные борения икотиков, засланных навадником Салминым. Ничего не видела сейчас Олисава, ибо безумный вихрь объял ее от земли и унес в небеса. Феодору бы отвернуться, а он, вот, с темным любопытством надзирал в просвет, как в зрительную трубку, Олисавины муки, словно бы упиваясь хмельной брагою.
И тут разглядел монах родинку в девичьем паху, и кудряво опушенный невинный зев, зазывный и безгрешный, от коего невмочно было отвесть горячечного взгляда. Ой, стыд-то какой! И какая странная, досель не изведанная мука. Ну и что? ну и что?! – оправдывал Феодор себя, шепча пересохшими губами; они вдруг покрылись жаркими струпьями. Все в человеке чисто и свято, ежели не осквернено блудодейством. Из этих врат, святым духом зачатый, вочеловечившись, сам Исус Христос изошел... Но гиль поднялась в душе, великая смута, и в этом искусе ангелы бессильно попятились от демонов, стали отступать, ропща и негодуя. И тогда опомнился монах, ибо невинное и безгрешное увиделось зазорным, и своего сердечного мрака тут устыдился монах. Он зло сплюнул, в гневе ополчаясь на весь мир, что не спосылает уединения.
Наконец решившись, Феодор открыл дверцу и выполз. Шел ровный дождь. Монах запрокинул лицо и остудил небесной влагой. Олисава хрипло, тяжело дышала, то лаяла по-собачьи, то хохотала; и вдруг, не открывая рта, глухо провещала: «Минеюшко... любимый. Жених ты мой во Христе. Гос-по-ди-и!» Феодор затравленно оглянулся; показалось, что во всех концах света узнали о признании. Ровно шумела тайга, по вершинам елинника перекатывались лохматые, с проредью, тучи; они чередою наплывали из-за рек бураками, похожие на клубы печного дыма, и частили дождем; меж ними просвечивало внезапно голубым, осенним, студеным. И всякая небесная иорданка меж серыми клочьями мыслилась Господним подглядывающим зраком. Де, ну-ка, мних, как ты выкажешь себя во ските, без ревнивого догляда? устоишь ли пред бесовским воинством?
Олисаву снова начало трясти. Ах ты, безгрешница, лежишь, немолчная, на сырой осенней землице; как бы не натянуло в утробушку твою горячки. Тут и укатает лихоманка, упасет в свои Палестины...
Девушка намокла вся, пониток пожух от дождя, плат скомкался на плечи, и темные волосы обвалялись в рыжем прахе и палой иглице, а лицо у болезной стало сизым, как голубиный горбышек. Эк мучает, грызет сердешную; поди, сердечко-то вытомилось, спеклось от черноты, как березовая губка. Дьявол-то неотступно добивается власти, мечется в утробе: и морить – не заморит, и жить не дает; его бы кадилом окурить, он не переносит ладану и живо бы побежал прочь, нечистый. Вот ведь заведется червь окаянный в христовенькой, проточит ангельские ограды, не вем где сыскав слабину, и пирует себе под самой душою у православной...
Олисаву опять завыгибало, и так мучительно вдруг она вскричала на все дикое северное усторонье, что и монашье сердце от этого вопа перевернулось и он сам был готов разрыдаться. «И ох-те-мне-чуш-ки-и, горю-то вся полымем. Подпалил, ирод, пятки, жжет меня. Минеюшко, роди-ма-ий, залей огонь!» ...Вот и здесь демоны-то приманивают, искушают инока в скрытно его, приступают к стенам, сыскивают лазы-перелазы. А я не поддамся на чары и коби и святым крестом да молитвою загражусь от всякой чертовщины...
Но, однако, монах принагнулся, убрав глаза, оправил на страдальницс сарафан и невольно заглянул искоса, с каким-то любопытным страхом в закаченные под лоб очи, в голубые озеночки, подернутые кровавой мутью, и поразился той боли, что скопилась в несчастной, как смутная дегтярная вода, на которую упала предвечерняя заря. А дождь-косохлест загудел внезапно тугой стеною, ветровой шквал содвинул тайгу, елинник прогнулся, выстелился, как трава под грозою, и рядом с кельей с хряском повалилась сухостойна, раздевшись от берестяных рубашек. Осколками дряблой болони обрызгало монаха. И он будто только и дожидался этой погудки, Божьего соизвола, подхватил Олисаву и потянул ее в схорон, в иноческую скрытню, обдираясь локтями об иссохший вековой прах.
Феодор возложил болезную на иноческую худую постелю и взмолился пред иконкой Пантелеймона-целителя, протягивающего с неизменным состраданием лжицу со снадобьем: «Милостивый господине, нетленный Христов лекарь и заступленник, как излечиваешь ты душу мою чудотворным елеем, так пособи мне в неотложном деле и прости мне, упадающему во гресех, ибо поступаюся я нынче церковным обычаем за-ради спасения никудышного живота девки Олисавы, что из Окладниковой слободы, соседа моего Ивана Семеновича Личютина дочи. И ее такожде прости и помилуй...»
Много опознал Феодор от старика-грамотея и обавника Кокоши Бажена и ту знахарскую силу таил впрок, боясь ее, как отравы. А тут грянул срок, прижало страстотерпца и запонадобилось церковную молитву усилить старопрежними кобями. Монах очертил вкруг себя углем, чтобы за эту черту не прошел нечистый, и начал отчитывать болезную Олисаву, пристегивая ее четками по груди, животу и бедрам со всей силы: «На Алионской горе и на Абраминской горе Пречистая Владычица Мать Богородица как породила Христа единого Господа – при этом деле не было ни колдуна, ни сретицы, ни с мужеского полу, ни с ребячьего полу и ни с девичьего – не испортить и не сглазить ни чернцу, ни ченцу, ни попу, ни дьячку, ни великому грамотнику. Огради ее, Господи, силою честного креста, рожденную, молитвенную, крещеную, исповеданную, причащенную, рабу Божию Олисаву...»
Девушка протяжно вздохнула, омякла вся, потеряла напрягу и явственно молвила: «Кирюшка Салмин, проклятый мучитель мой, изыди вон». И с этими словами изо рта Олисавы вышел пар. И уснула несчастная ровно, безмятежно, как бы под крылом у отца-матери, ровно бы сам Никола – поморский угодник охранял ее покой. А Феодору-то куда деваться? Он не решится перешагнуть очерченный круг, чтобы не подпасть в полон не наших. Нейдет из памяти воп болезной: «Минеюшко, любимый. Жених ты мой во Христе!» Пусть чары, коби, дешева заманка в беспамятных словах, но ведь и всеми молитвами мира не выскресть в сию минуту этого признания, не выжечь и каленой кочергою, коей черти в аду мешают для нечистых кипящую смолу.
«Вставай, прокудница, – воззвал инок из круга. – Ишь омокла до нитки. Простынешь сквозь, кому сгодишься? – А голос пересыхал, тончел и с томленьем, никогда не знаемым прежде, едва вынимался из нутра. – Разумей, чадо детородное. Блудная пища, питие да ума недостаток рождают в человеке похотение. Ишь выскочила, как из Потьмы, да в середку леса на пир. Откуль расповадилась, такие похмычки взяла, чтобы без венца да к мужику, к иноку на приваду и на посмех. Восстань и поди, откуль явилась...»
А незваная гостья лежит, голубея лицом, омертвела пластом и не вем – дышит, нет? Господь, сурово и праведно испытываешь ты меня, скрутил в жмень сердце мое, а оно не каменная варака, не камень-баклыш, пока живое и шеволится, как вода на перекате. Охте мне, – перекрестился Феодор, – сгинет девочонка ни за понюшку, Ивану Семеновичу великие слезы. Ведь и не знает, поди, мил человек, что ко мне сбегла, проказа. А кабыть девка-то и слышит меня да волынит, прокуда, дует в свою трубу? Ну-ко, ну-ко?
И невольно выступил из круга, приклонил ухо, но услыхал лишь слабое, умирающее дыхание.
«Эй-эй, слышь, злыдня? Пришла в себя иль нет?»
И снова не дождался ответа, а помолясь, стал раздевать, растелешивать Олисаву; стянул пониток, набрякший от воды, и сарафан, и рубаху, и две нижние набойные юбки, да исподницу холщовую. Раздевал сгруба, но и с тем неожиданным проворством, к коему приневоливает нужда. И приговаривал, успокаивая себя: «И откуль в тебе такое бесстудство к Богу, презорство и бесстрашие? Кабыть и не пьяна, а яко кошка котов ищешь, смерть забывше. И что Любим про то скажет, когда узнает? Я хоть видом и смирен, но до Бога силен, и не тебе меня блазнить». Инок разоболок Олисаву, окинул заневестившсе тело сторонним взглядом, безо всякой приценки натянул ветхую одеяльницу, второпях прихваченную из дому (шерсть-то оленная давно повылезла), и вдруг случайно споткнулся ладонью о наспевший пшеничный каравашек тонкого помола; и не сдержался, восхитился беззащитной белизной груди с назревшей клюквиной соска и нежно огладил, задержал в горсти, как живого цыплака. И почуял Феодор сквозь упругую мякоть титьки трепетный зов чужого податливого сердца. И потерявши себя, как бы в забытьи, коснулся монах девичьих, вроде бы каменных губ, и губы готовно отозвались, раскрылись, как бархатные лепестки. Ах ты, обманщица, ах ты, суторщица! Вымостила, коварная, себе дорогу в самую монашью душу и выстелила там нору... И устрашился Феодор, что пал так низко и нынче очутился у края незамолимого греха, а может, укатился и в самую геенну огненную. Ведь мысленно согрешить – это похуже явного блуда. Столько лет суровил себя, все плотское изжил, изгнал прочь, вытончел и иссушился костьми, как ивовый прут на юру, как изветренный ягнячий мосол. И на тебе! Яро поддался бесу и вознепщевал при первом же случае самого Бога предати.
«Эй-эй, вставай, разорительница, блядка сатанина! – вскричал монах в гневе. – Не иначе сам дьявол тебя наслал. Жена год проживет – рог наживет; два года проживет – второй рог наживет; а на третий год мужа бодать будет. А ты, юница, до свадьбы уже с двумя рогами!»
Феодор выполз из хижи и бросился в лес. И три дня не навещал своего скита, ночуя под еловым выворотнем. Он немилосердно вымерз весь и в стылости своей, остамелости, запаршивленности вдруг сыскал усладу. И решился инок умереть голодной смертью, чтобы немилосердной мукой искупить грех...
В четвертое утро, измозгший и бессильный, инок вернулся к келье. Возле лаза его ждала коробейка с хлебами, покрытая холщовой ширинкой, расшитой девичьей рукою. Но Феодор не притронулся к милостыньке. Он запер дверцу на засов и возлег на свою позабытую постелю, на которой уже заселились лесные мураши, как на смертный одр. И слава Богу, слава Богу, мурашам надолго хватит поеди, умильно подумал Феодор о себе, как о покойнике; и не взялась его плоть тоскою от черствой мысли. Давно сам попросился на подвиг, все волынил, а тут подвинуло. Иль взаболь было струсил, как каженик под секирою палача? Блудни ты, блудня, куда хуже египетской девки... Феодор поставил иконку Пантелеймона-целителя себе на грудь, запел псалмы и так забылся, уже не гадая проснуться.
...Не вечность ли прошла? Он отворял глаза и видел смоляную темь, пронизанную мерцающими оранжевыми кругами; иногда светился в продухе шелестящий ровный снег; он падал с кружением, как хлопчатая бумага, коей набивают тюфаки; в иное время с-под крыши наискось падал солнечный луч, обнаруживал убогое житье и усыпающего печальника. Оказывается, умирать было хорошо, плоть стерпелась; и без того не балованная прелестями, иссохлая, как пустой бараний рог, она сейчас будто гудела вся от небесной музыки, заполнившей всякую жилку и мосолик. Инок стал навроде скрыпки с туго натянутыми волосяными струнами...
Порой кто-то пехался в дверку, иной день стучались, пытались сорвать запор, просили откликнуться. Но Феодор затворил уста, ибо всякое слово стало лишним. Грозились приставом, епитимьей; де, самому налагать на себя руки – непростимый грех, даже по-человечески не зароют, а сволокут за слободку к Инькову ручью и закопают у болота, как падаль. Однажды, это уже далеко после Покрова, по зимнему первопутку с провожатыми прибрела Улита; она скреблась у дверки, плакала и умоляла пустить к постели одного словечушки ради, просила простить, коли нагрешила в чем беспути, рыдала: «Ой, на муки я тебя, сыночек, родила. Проклятая твоя мати. Богом заклянутая». Но Феодор не отозвался и на ее зовы. Он, наверное, уже умер, ибо материн голос с родимой земли подымался по солнечному лучу. Но никто из слобожан так и не решился взломать запоры в келье и взять грех на себя; к тому склонились сообща, уговорив и Улиту, что днями Созонт вернется с промысла и сам приберет упокойника. И пошли прочь, помолившись перед келейкой затворника.
...А когда душа решила расстаться с телом, монаху Феодору привиделось, как утопает он в тягучей болотине за Иньковым ручьем, куда сволакивают зарывать опившихся и утоплых: коричневая торфяная каша уже полезла в глотку, забивая гортань, и тут явился не вем откуда высокий монах в черном клобуке и в мантии, с серебряной струйчатой бородою, в темно-синем зипуне, подпоясанный широким ремнем; ступая по бездонным чарусам, яко по суху, он приблизился к погибающему и выдернул из тряса за долгое волосье безо всякой натуги, как белорыбицу из мережки; и еще не опомнился Феодор, как по воздусям отстранился монах на сухое веретье, на взгорбышек, поросший можжевелом, а в руках у него оказалось дитя, запеленатое в меховой кошуль. И приподнявши ребенка над головою, неведомый спаситель воскликнул: «Погоди помирать, Феодор! Не настало еще твое время! Сам Господь дал тебе сына!»
Что за вещий сон? что за ангела обнимал неведомый монасе саженного роста в вязаной скуфье с воскрыльями и в мантии со скрижалями? И воскликнул тот старец, вздымая ребенка: «Феодор, это твой сын!» Что это: дух мой воплощенный, не успев воспарить к Господину моему, уже нашел пристанище? Иль учение мое облеклось в плоть, чтобы пойти на Русь? Но возглашено свыше: не пришло, Феодор, время твое умирать. И разлепил очи инок, разодрал уже склеившиеся вежды, напряг студенистые, уже покрытые могильным мраком зеницы и облобызал иконку Пантелеймона-целителя. Хотел ноги в коленках согнуть, чтобы подняться, и не мог совладать с мощами. Но с лежака свалился на землю и долго приходил в себя. И только через ломоту в костях понял наконец, что жив. Два дня разламывался, пока-то вылез на волю, сварил ушного и похлебал горячей юшки. Казанская уже стояла на дворе, снег выпал по щиколотку, и первые годящие морозы запечатали землю. Вокруг келейки все выброжено диким зверем: знать, поджидали монашьей смерти; лиса оследилась у самой дверки в хижу.
Поначалу ознобно было бродить босым: плюсны заколеют, стучат, как деревянные баклуши, от стыни аж сердце щемит до судорог, и всякий ледяной катых иль мерзлый сук язвят ступни больнее каленого железа. Заползет Феодор в зимовейку, унимая озноб, и давай возле каменицы жамкать посиневшие ноги, пока-то отойдут, зальются краской, и тягучее нытье всползет выше голеней и шулняток, до самой груди и там свернется ужом. Всполошится Феодор, примется казнить себя: для чего наобещался Господу, червь земляной? И помереть не могу, и в юроды не гожуся. Раздевулье, а не человек, масть пропащая. Заплачет инок, воспоет псалм Господу сквозь слезы – и отмякнет тоскующая плоть. Скоро ступни почернели, кожа полезла лафтаками, потом зароговела. Ко всему может притерпеться смиренный русский человек. В Дмитриеву субботу понял инок, что пора покидать келью. Сам Христос позвал его идти из лесу прочь, нести слово. Вот и дитя выказал...
Сунул за пазуху иконку святого Пантелеймона, в карман – горсть сухарей и отправился через тайболу прямиком к деревне Николе, чтоб оттуда свернуть на Окладникову слободу. Когда невтерпеж становилось, то выл по-звериному, умягчая надсаду; иль кинет зипунишко под ноги, потопчется, потискает ступни – и дальше в путь. В потемни постучался в крайнюю избу, попросился на ночлег. Впустили. Но дальше сеней не пошел: лег на студеный пол, подложил под голову сосновое полено. В волоковое оконце светил месяц-молодник, трещали, садились углы хором, из-под дверных соломенных обвязок, обметанных куржаком, сочился из избы остывающий ествяный дух. Корочки бы хлебной позобать, – подумал инок и привздремнул на какой-то час до куроглашения, чтобы после встать на молитву.
...С рассветом вместо родной слободы Феодор вдруг повернул на деревню Кимжу, где у тамошних кузнецов заказал себе вериги и медный складенек.
7
Помытчики всей артелью правили запоздалый стол. Хозяйка трехведерный лагун браги наварила, да с кружечного двора по воеводскому указу притащили две четверти выкуренного вина. Да и как не загулять с радостного случая, ежели ладом, до ледостава приплавились в позабытые домы живы-здоровы и не с пустыми руками, а добыли десять соколов красных, да дюжину кречатьих челигов крапчатых и серых, да ястребов и кобцов. Будет великому государю утеха.
Ожила изба артельного старосты Ванюкова, до сей поры унывная. Поначалу осоловела с первой чарки, потом зашумела от говори, загомозилась, запокрякивала, а после и полетела с высокой рудяной горы по-над Мезенью-рекой вместе с песнею, ибо у русской песни крыла не видимы бысть; столь мощны они и по-соколиному размашисто споры, что не токмо хоромы вознесут в заоблачные выси, но, почитай, и весь поморский засторонок с его избами и церквами, сторожевым детинцем и воеводской службою, с таможенной вахтой и кабаком, не зная удержу, оторвется в небеса с матерой горы:
...Не пыль то в поле запылилася, Не туман то с моря подымается! Подымались гуси-лебеди, утки серые. Не сами собой они подымалися. Ясного сокола они испужалися...Лишь Созонт Ванюков не пел, кручинился, темнел лицом и сурово взглядывал на бабу, терзал молчанием. Но в подклети улучил минуту, поймал за плечо: «Ты что, просвирница, парня-то на смерть кинула? И неуж рожалка не болит? Ведь своя кровь». – «Отец, ты что баешь? – с обидою, сквозь близкую слезу удивилась Улита. – Ведь напраслину клеплешь». – «Напраслину тебе... напраслину... До Канина слух: де, святой Феодор-отшельник в кельях запомирал. Что за Феодор, думаю? на сына-то никак не прикину... Мутовка старая, сглазила мне и второго сына, дак тут-то от материного не отступай, хоть бы глаза закрыта». – «Ой, Созонт, обижаешь. Ты ль не знаешь, какой он сутырливый да упрямчивый с младых ногтей. Пришла, пробой у кельи поцеловала. Сынок богоданный, говорю через дверку, дай мати благословения. Святый отче, не прогоняй родименькую. А он кабатом завесил дверь, ничего не видать. Только слышно: тьфу да тьфу. Плюется, значит. Мол, подите-тка прочь, каженики да отступники, де, самого Господа продали.
И ломать было вздумали, да соседушко наш Иван Семенович кстати остановил: де, в святое место пехаемся, скит рушим, значит, Бога не наследуем. Он девку мою вылечил, а мы как нехристи. И отступились. Со мной-то, отечь, паморока случилась, едва отвадили. Я было и выла, и причитывать принялась, думаю, вдруг отзовется. Сын ведь. А он, как каменная корга под водою, затаился в зимовушке. Ухом-то прислонюся – слышу, что живой. Пригрубо дышит – хр да хр-р. Не то грудь застудил, а? Отец, сыновья из твоих жил свиты да из моей крови. Ты вот на меня клепаешь, де, родильное место не болит! Да оно невмочь стонет, душу насквозь пронимает. Ты где-то в море; а мне, кукушице, каково? Одни пересужают: ангела родила, другие – сатаненка. Выплачусь втай, да и снова жить примусь. Ой, тато, тато, хоть ты не казни, прости меня. Ведь по любви сходилися, а не по горю». – «Ну, будет, будет, – смягчаясь, ответил Созонт, пряча взгляд, и вдруг заторопился: – Гостей-то позабыли, вино мерзнет, привечать надо... Не реви, явится скоро. Весть была...»
И только Созонт поднялся по лестнице к гостям, как через боковое волоковое оконце из-под клети, раздернутое для продуха, донеслось вместе со скрипом снега сладкоголосое тончавое причитание: «Ангелы-ти Божий осиротели, зазябли под родимым оконцем, и никто их не прижалеет. Ишь ли, они милостыньку просят под своими-то окнами. Нету им заступы от чертей окаянных, что владают в чужих хоромах, хозяинуют да опиваются!»
Улита сразу опознала сыновий голос и поначалу обмерла, как бы уличили ее. Не блазнит ли ей? Втай-то давно уж спровадила кровиночку на небеса, а он, как гость незваный, явился вдруг. И торопливо смахнув слезу, поспешила на заулок, откинула щеколду, распахнула нижние ворота, чтобы с радостью принять инока. И всплеснула руками: Мати, Царица Небесная, что за чужой пришлец на их двор? В придранном рубище, в ремках весь, словно псы драли, голова заиндевелая, седая борода косым неряшливым вехтем, в руке суковатая черемховая ключка. Ноги синие, чугунные, в черных язвах, как озерные щуки, выныривают из снега, спинывают мерзлые коньи катыхи. Андели-андели, не самого ли Христа из Сионских пустынь спосылал на север Бог-Отец? Обомлела просвирница, не веря глазам своим. Да нет, тот чернявый, глаза медовые, а у этого глаза сыновьи, лазоревые, под куцыми льняными бровками, и нос тонкий, пережимистый – егов же. А тогда пошто босой-то в плящий мороз? Я лишь выскочила без шубняка, а уж ожгло. Видать, идет судить наши вины, сулит наказаньем.
Подскочила к сыну, кургузенькая, и растерялась: под благословенье подойти? иль обнять, как мать блудного сына, прижать к груди бедную головушку? Для кого-то он монах, отшельник Христа ради, а для нее – родименький. Пока соображала, Феодор прошел мимо и сразу поднялся в верхнюю избу к гостям.
«Ну что, пировники? Не чуете дня судного? Ублажаете неублажимое, душу забывши! С бесами расселись за одним столом, хлеб делите, а ангелов-защитников прочь погнали! – сурово возгласил инок, переступив порог родного дома. Отыскал глазами образа, отбил поклон. – Господи, помилуй заблудших, ибо не ведают, что творят».
Дверь инок нарочито забыл распахнутой, и с моста клубами повалил морозный пар. Гостебщики оборвали песню, с хмельного азарта худо соображали, что за наваждение навестило их, да мало того – и корит. И никто из помытчиков-артельщиков не признал хозяйского сына. Лишь Любим подхватился искренно из-за стола, вскричал: «Брателко, ой, да это брателко мой! Ты не с волками ли ратился в лесу?» Но Созонт попридержал младшенького за рукав, пошел навстречу Феодору, осоловелый с вина, с долгого похода, с трапезованья. Помешкав, широко раскинул руки, а потом жарко сгорстал монаха: «Ты не кори нас, Минеюшко, не брани, святой отец. Ты уж прости нас, грешных, не суди сурово. И то слава твоим молитвам, что живы все». – «Не говорю – не пейте, но говорю – не упивайтеся», – признал Феодор привальный пир, троекратно, по-русски поцеловал отца, на миг оттаивая сердцем. «Ты совсем от нас собрался?» – увидя впереди сыновью дорогу, спросил Созонт. И вдруг всхлипнул отважный поморец, что не однажды медведя брал на рогатину и не робел.
«Отец, я же обет давал юродивым стати. Иль позабыл?»
«Лучше бы не знать мне того дня, сынок... Я был Медвежья Смерть, но ты меня, однако, пересилил».
Феодор не ответил, подошел к разоренному столу, выпил квасу корчик да соленого огурца горбушку положил сверху на ломоть ситного каравашка – и тем заел голод. Отвлек отца в сторону, еще спросил: «Келейку-то уряживал? Ах, да... Знай же, я мимоходом. Отведи мне место спать-ночевать, достойное чину. Я долго не задержуся... Я мимоходом». Избяное тепло размаривало чернца, его схватил озноб, нестерпимо заныли ноги. Хотел на повети в сене заночевать, да вот сломался нынь. В запечье, где прежде бабушка жила, повалился на ее лавку, зарылся в старые лопатины и забылся. И не слышал, как плакала мать, растелешивала да уряжала сына, смазывала обмороженное тело гусиным жиром...
«... А едучи ему, Елезару, дорогою, самому берегчись от пьянства накрепко и служилым людям, и помытчикам пьяного питья и табаку пить, и зернью играть, и никаким воровством воровать отнюдь не давать, от всякого пьяного питья и табаку, и от зерни, и от всякого воровства, и от блядни унимать большим твердым подкреплением, чтоб их служилых людей и помытчиков нерадением и пьянством, и от нечистых скаредных людей над птицами великого государя, над кречетами никакое дурно не учинилось, и от пьяных и нечистых людей кречеты б не померли...»
Такой наказ получил царский сокольник Елезар Гаврилов, что отправился из Москвы за уловленными птицами в Холмогоры и на Мезень. Еще вручили ему государеву подорожную грамоту за красными печатями, чтоб с помытчиков на внутренних таможнях налогу не брали, воеводы отпускали корм и подводы давали безотлагательно. Белено было Елезару скакать без помешки, чтоб соколов не истомить в подворьях помытчиков, да и большие протори и проеди терпели земские от потешной кречатни: ежедень лишь на корм каждой птице отпускал воевода по две деньги. Но долго попадал нарочный в Окладникову слободу: дороги держали. Вот уж и Введение на дворе, а реки не стали. К Николе поджидали на Мезени нарочного. Тем временем ящики колотили, обивали изнутри войлоком и рогожами для покоя птице, чтоб не захворали в долгом пути и не поломали перьев; те кречатьи ухороны устанавливали на возки да спеленывали веревками потуже, проверяли полозья и копылье, и обвязки, и упряжь, чтоб дорогою не распоясались возы, ибо большой грозы можно натерпеться не только от царева спосыланного, но и от самого государя по ябеде сокольника. Береженого Бог бережет...
Любимко пытался Олисаву перехватить, а та в своем дому таилась, и подружки на посидки не могут выманить. Через заулок избы, одним сугробом разделены, а как за крепостной стеною: да и то верно – родное печище будет ненадежней острога. Только у зальделой портомойной проруби в подугорье иль у колодезного срубца, когда девица с ведрами шла по воду, и улучивал Любимко минуту, но, как назло, при материном крепком пригляде: попробуй тут перекинуться горячим искренним словом иль угаснуть в затишек, в затулье за банькой, когда дозоры и каждый шаг схвачен чужим любопытным взглядом. И потому Любимке надерзить лишь хочется Олисаве, что-то выкрикнуть хваткое, глупое, сгруба, чтобы закрасела от смущения девичья щека.
...А сердце-то, оно об ином поет, оно от любви задыхается. Ой, Олисава, голубеюшка, не слушай ты моего поганого языка, сплюнь за левое плечо все мои завирухи; то не я токую, а чертячий сын, что ведет меня с росстани на худую дорогу. Ты обвейся ласковой зверушкою вокруг меня, прислони ухо и услышишь, как жарко в груди моей куют кузнецы, невмолчно гремит наковальня и пылает горн: это сердце мое тужится полететь из теснин, так неурядливо, одиноко ему в юзах, так тоскнет оно в неведомом полоне. Красавушка, не гляди на меня исподлобья, не сутырься, не прячь остуженных печалью глаз: не невольник я тебе, не навадник, не Кирюшка Салмин, что, бают, насадил в тебя икоту. Пустое все, пустое... Дай-ка поцелую и губами затушу самую горькую трясавицу. Аль не веришь? Дай-ка изукрашу твою темную шелковую головушку костяным гребнем, коий сам испросекал в подарок и с верными надеждами негасимыми во все светлое нашенское лето...
После Введения зима укрепилась, земля разом принакрылась снегами, от стылой белизны в солнечный морозный день щемило глаза. С дня на день по убитой дороге ждали царева сокольника, а там и в путь сряжаться кречатьему старосте Созонту Ванюкову с малой ватажкой для ухода за птицею: считай, что последняя дорога в престольную для Медвежьей Смерти. Уже и подорожные кормовые деньги получены у воеводы Цехановецкого и лежат в подголовнике. Но все чаще подумывал Созонт: а не спровадить ли до Москвы заместо себя сына с белым кречетом, что достал Любимко по своей охоте, вернее – послала сама судьба. Пусть поднесет лично государю. Не дай Бог, задурует парень в слободе без присмотру и попадет к воеводе на правеж. И к Олисаве ежедень тянется, мыслит в жены, а какая баба из хворой девки? Не нужна мужику больная жена да бедная сестра. Собою-то видный удался Любимко, в сажень вымахал, такой окомелок, любому салазки загнет, в калачик вымнет. Может, и глянется государю и подношением, и статью своею, а там... Эх, кабы не подрал тогда медведко Созонта, быть бы ему нынче в стремянных, а то и в подсокольничьих. Любит государь отважных людей и сам труса не празднует. Только боится государь Самого Господа Бога да Сына Евонного Исуса Христа...
По санному пути привезли Феодору вериги: пятифунтовый кованый восьмиконечный крест на цепи с кожаными оплечьями. Тяжеловаты для сухомясого, изнуренного постами человека. Инок примерил Христовы доспехи и остался доволен: изрядно постарались кимженские мастера. Теперь инок постоянно ходил сугорбым, глядел в землю внешними очами, но зато внутренние постоянно внимали небесам.
С Воздвиженья, хочешь не хочешь, а шубу с зипуном сдвуряживай. Феодор же мало-помалу приобтерпелся, вошел телом в постоянную нужду, не так кол ел костьми и страдал. Но чувствовал на себе постоянный ревнивый догляд слободских церковных нищих и монаха-уставщика, что жил в земляной кельице при соборе. Помнили те и постоянно раздували молву, как лжемонах Феодор сидел у кабака на цепи с кляпом во рту.
...Ну, ревнивцы, запирайте дороги, ставьте предо мною чеснок выше облаков, но вам не заградить прямой, как солнечный луч, путик мой ко Христову седалищу. Приидет день, и будете плакать по мне, как по невинно убиенному агнцу, коего заклали по своей завистливой гордыне, упиваясь жертвенной кровью. И святая малакса не спасет от судилища за изветы и напраслину, коей тешите себя постоянно...
Феодор выходил в слободу босым, выбирая для того солнечный морозный день, обходил детинец, благословляя приворотных стрельцов, и соборное кладбище, тропил вокруг келейки церковного монаха Пакулева, пел псалмы и стучал батожком, развевая полами просторной хламиды. Слободские бабы возлюбили инока, дети кидались коньими кальками, а парни кричали вослед блаженному всякие блядки.
Феодор выкроил из некрашеного портища и сметал через край суровой ниткой подобие охабня, но безо всякого подклада, и теперь так и ходил всюду в исподниках и долгом покровце, туго стянутом под шеей ворворками, чтобы никто не подглядел его вериг. Но чаще монах хлопотал возле схорона, уряживал в подклети келейку, хотя твердо решил удариться в бега. Рубил обло углы, тесал изнутри срубец, пазил, подгонял на воле клеть, опускал бревна в подполье, но мысленно уже давно мерил дорогу обратно к отцу Александру Голубовскому на Выг: оттуда пришли слухи, что возле старца объявились истинные скрытники, подвиг коих славен аж до черкасских земель.
Чтобы отец шибко не тужил и мать понапрасну не изводилась, монах уноровил себя и на уличное послушание возле дома обувал на босу ногу толстые валяные калишки, всякий раз восклицая Исусову молитву. В канун Николина дня вдруг решил Феодор пока погодить и еще посидеть на Мезени, доправить до ума келеицу, чтобы было где при нужде душу спасать. С обозом же кречатников отправит он к старцу Александру вестку, а сам двинется в дорогу после Пасхи. И засел Феодор за письмо: «Отче честный Александр, я, многогрешный, видя вашу глубокую святость, прибегаю к вам за наставлением. Вы есть мой пастырь и учитель, и наставник ко спасенному пути. Я оставил родителей и дом в далеком отрочестве и к тебе прибег, отче честный. Ты благословил меня на пустынное житие, тобою я, грешный, сподобился ангельский чин восприять.
Ты благословил меня на пастырство, сие иго тяжко мне, отче честный. Ты знаешь мое намерение в жизни. Бога ради не оставь меня без научения, я всеусердно прибегаю к вам за научением и объясняю вам свои желания. Первое: желаю быть в юродстве, как обещался в клятве своей. Второе: желание быть в затворе и для чего выкопал себе место в земле. Третье: выйти на обличение безбожных, дабы пострадать. А как быть, рассудите. Вериги я уже достал, облачился и такую благодать несказанную приял, что и не описать. Бога ради прошу тебя, отче, не оставь меня в сиротстве, и токмо тобою надеюся приведену быти ко спасению. Бога ради благослови и помолися за меня, многогрешного. Теперь я ожидаю быть отставлену от иночества через врагов моих, которые с первых дней моего приятия благословения от вас грозили, что долго я здесь не наживу.
Теперь, когда постриглась от меня Дарья Кузьминишна, то за мое дерзновение Пакулев говорит, что скоро собор будет, приедут в Окладникову слободу старцы и меня отставят. Я есть пришлец на этой земле, не имеющий, где главы приклонить. А они, мои гонители, слепо вперлись в новый служебник, присланный с Холмогор, будто он не от Никона переложение, сатанина угодника, а небесного Правителя. Я сердечно каплющие слезы проливаю и родимую страну оставляю, пусть Пакулев живет и управляет, и никто ему не мешает. Но теперешнее время идти по миру шататься – время опасное.
И я, быть может, как бродяга иль преступник, от пули паду в неведомой стране иль буду замучен. Прости Христа ради, отче, если трудно покажется мне бродяжничать, тогда лутче решиться идти на обличение. Там многого терзания смерти предадут, быть может, тем не погрешу. Господь видит все, чего ради и кого ради сие позволяю. Того ради подумаю и изберу из двух одно, странствие или страдание; и странствие не может быть без страданий. Я все время очень жалею, зачем я остался, когда вы меня оставили. Когда я на родину пошел два года назад, то не думал быть духовным правителем, так же и постригался не того ради, но здесь невольно принудили благословение принять. И потом начали изгонять. Отче честный, помолитесь Господу за мя окаяннейшего, да милостив буди Господь в день судный за наши святые молитвы, а вместо епитимьи кровь моя прольется за грехи. Бог даст, и после Паски думаю свидеться с вами и облобызать ваши ступни отца моего...».
И все же уловил Любимко красавушку Олисаву, залучил в тенета в тот самый день, когда прибыли в Окладникову слободу и остановились на дворе кречатьего старосты Созонта Ванюкова государев сокольник Елезар Гаврилов и московский служивый Семейко Дежнев; тот, бродня, охочий до странствий человек, дерзкий до ходы, вознамерился в очередной раз спытать судьбу; летом он отправлялся за Камень сыскивать государю новых земель и неведомых ясачных, а теперь вот подбирал в поморскую артель рисковых людей, кто знавывал Обь, Мангазею и Енисей не понаслышке.
Пока в избе пили братчину да хвалились бывалостью своею, на угоре столпился кой-какой праздный мезенский народишко, охочий до досужих сплетен и новых лиц; тут-то и выскочила на крыльцо на чуток, да и остоялась голоручь, в одном шубняке, накинутом на плечи, Олисава Личютина. Любимко споро, по-ястребиному приметил соседушку, из-за взвоза вынырнул, по-за сугробами прокрался к суженой и вдруг шепотом, врастяг взмолился: «Оли-сава-а, слыш-ко... не бежи меня, не очурывайся. – Он заторопился, зачастил, а губы отчего-то коченели, и потому гугнил, запинался за слова. – Пойдем, Олисава, к нам в лабазню, белого кречета покажу. Такая ли чудная птица. Богом мне насулена. Отец нынче в Москву с ним спроваживает».
Олисава вздрогнула, боязливо запахнулась в шубняк, схватилась за дверное кольцо, чтоб бежать прочь от навадника, но что-то в голосе Любимки, жалобное, смиренное и покорливое, понудило остаться.
...Но ты-то, бой-парень, не теряйся, распуши кудри; ты же не кисель молочный, не дижинная шаньга, растекшаяся на противне, не молошная яишня, что жидко маслит губы? оправь крыла, да и бей лебедуху в зашеек, волоки в гнездовье. Зажми сердце в горсти, не отдавай его в полон трясовице. Эвон как тебя всего ознобило, аж с лица истаял и глаза уплыли. Ведь востер на язык и в делах хват, средь слободской поровенки известный ухорез и первый кулачный боец; а вот велика ли Олисава, вся в твоей горсти ухоронится, но так повела себя, так закрутила голову, что ты, молодец, вроде весеннего шмеля-медуницы сам уместишься в Олисавиной щепоти.
И этой своей внезапной малости был особенно рад Любимко и сейчас ластился взглядом к молчащей девице, как напроказивший щенок. Прежде-то он постоянно выхаживался перед Олисавой, ходил гоголем, посмешки строил, притискивал к углам прилюдно, рукам воли давал, на вечерницах дразнился: «Ой-лиса-ва патрикеевна к нам из лесей пришла кур щипать». А тут свечой истаял и обволок талым воском стылое девичье сердце. Воистину: любовь – она сильнее медведя, ежли сронила на коленки первого слободского подсокольника, к коему сызмала перешло отцово прозванье Медвежья Смерть...
И поддалась Олисава призыву, и ничто не екнуло с болезненным стоном в груди: слава те. Господи, умолкли икотики. Но не ведала Олисава, что отныне взамен заселилась в ней присуха. Соскочила Олисава с крыльца, чуть ли не в охапку Любиму, и поспешила заулком на подворье Ванюковых, смущенно выглядывая, не зазрел ли кто из местных колокольщиков-переводников. Живо по слободе отольют байку, де, дочи Ивана Семеновича за соседа замуж собралась, та самая, порченая, своеносая и сутырная, что лонись угодила на запуки навадника Кирюшки Салмина. И когда у дверей кречатни расписные валенки опахивала от снега цветной рукавичкой, то искоса высматривала, не промелькнет ли где лицо инока Феодора, будто с ним нынче столковалась удариться в бега.
Только вошли в сушило, где в чуланчиках на колодках сидели соколы, Любимко и оглядеться не дал, охапил девушку, притиснул к углу и сомлел вдруг весь, столь желанна была Олисава. И куда-то сила в руках подевалась? Но Олисава и не противилась, не ратилась, да и где ей совладать с парнем, что в оленьей малице да в меховом куколе, из-под которого выбивалась на распаренный лоб темно-русая прядка волос, воистину походил на великаньего таежного зверя, что мог привидеться лишь во сне. Тут не кобенься, не ширься особо, не задорь понапрасну на худое, а замри и стой. Голова девушки была где-то по мышкой у Любима.
– Ну что, котораться будем, кто кого оборет? – Олисава подняла лицо, в просвет приоткрытой двери пробивал морозный солнечный луч; в этом свете лицо девушки, казалось, было высечено из моржовой кости, а в крохотные продавлинки на щеках пролито брусничной воды, а губы рдяные – назревшее вишенье, а глаза круглые, иссмугла-синие, с просверком насмешки. Иль так почудилось? Но они-то и держат Любимкин напор, всю отвагу порастерял он. В этот ровный взгляд натыкается Любимко и робеет. – Звал-теребил, чего-то сулился показать, а сейчас воды в рот набрал. Чего дрожишь-то? Как на борону сел. Где-то он порато смелой, а тут языком своим подавился.
...И-эх, ведь самые обидные слова откапывает Олисава. Она вроде бы настежь перед парнем, смиренна и податлива, свернулась клубочком, но решись-ка понахалке толконуться в распахнутую дверь, а там – капкан. Живо расчешет лицо ногтями, наставит печатей, чтобы вся слобода дивовалась. Знает Любимко своенравную соседку и, сбивая внутреннее кипение неясным путаным бормотанием, пугается уноровить в западню: ибо немилость и гнев девичий можно пересилить терпением, а насмешку и долотом не выдолбить, если угодит она прямо в гордое сердце. А черт за плечом нашептывает: вали девку на копешку да юбку на голову... Сама к венцу побежит.
– Отступился бы ты от меня, Любим. Зря маешься. – Взглянула в открытую, прямо в глаза парню, а сама разом пожухла отчего-то, и губы увяли... Ой, девонька, опомнись, державу свою рубишь. Такими женихами пробросаешься. Такие женихи на дороге не валяются. О таком женихе любая хваленка в Окладниковой слободке локти кусает и подушку уливает слезьми.
– Олисава, я чего хочу сказать... Я ведь в Москву днями. Кто знает, когда обратно. Судьба не застава, не минуешь стороной...
– Руки убери... Заговорил. Наш немтыря рот открыл. И поезжай. Скатертью дорога. Пусть Дуська Иглина по тебе страдает.
– Она-то здесь с какого краю?
– С ближнего. Сама видела, как у Аниськи Шмаковой на вечерке тискал. А та, телка, лишь ржет, бесстыдуха.
– Это понарошке. А я тебе все лето гребень испротачивал. Гли-ко, поди, в самый раз? Не гребень – корона, – Любимко достал из-за пазухи ширинку, размотал, добыл подарок. – Дай примерю. – И потянулся к шапочке-столбунцу. Олисава отмахнулась, гребень отлетел в сено.
– Ах, ты так, да? – шутошно вскипел Любимко и пошел приступом.
– Только тронь... Катыни-то выдеру с корнем. – И вдруг, чего не ожидал Любимко, приникла лицом к груди и заплакала горько. – Отступись, прошу честью. Испрокажена я, иль не слыхал? Набедуешься со мною, как с худой кобылой. На что тебе порченая? Ни сряду, ни ладу...
– Олисава, я тебя в боярони уряжу. Вернуся из Москвы, сватов нашлю. – Шептал жарко, наискивал прячущиеся девичьи губы и никак не мог сладить: упрямилась Олисава. – Ах ты, заботушка моя, печальница, горюшница. Не бойся, я тебя из рук не выроню.
И такой сладкой мукой занялось Любимкино сердце; костерцом заполыхало оно.
И вдруг, на их беду, раздался во дворе материн голос:
– Опять забыли дверь на сушило запереть. Бродят туда-сюда. Все тепло на улицу, – боршала Улита, с кряхтеньем обметая валенки на ступеньке. – Они выстудят, а я топи...
Вспыхнула, опомнилась Олисава, выскользнула из Любимкиных рук и опрометью кинулась на улицу, едва не сшибла с ног просвирню...
А через три дня собрался обоз. Из сушила с особым бережением поместили соколов в кречатьи ящики: каждую птицу вабили мужики на кожаную рукавицу и, держа за опутенки, несли к возкам с той гордоватой осанкою, что выказывается в русском человеке в особые редкие минуты, порою и раз в жизни. Народ толпился на угоре и, не смея войти на подворье Ванюковых, глядел через заворы с восхищением и нескрываемой завистью. Пред сами царские очи могли предстать их печищане и дождаться незабываемой милости. Всяк мечтает хоть однажды узреть великого государя, пасть пред ним ниц, но редко кому выпадает такое счастие.
За старшего от мезенских помытчиков на сей раз выбран был Кирилл Мясников. Помолились промышленники в соборной церкви, да и благословясь отправились в неближний путь: а дороги той, ежли неторопкой ездою, то, почитай, месяца с два. На Лампожню, оттуда на Карьепольскую пустошку, на Кулойский посад, Пинегу и далее от яма до яма на сменных лошадях. Волосяным арканом вьется по снежной целине набитая корытцем дорога, развешанная на бережинах, где часты заносы; низкорослые мохнатые мезенские лошаденки, мерно кивая мордами, машистой ступью тянут сани; в каждых розвальнях по мужику, всяк в совике оленьем да в катанках пришивны голяшки до самых рассох; тепло обознику, и, как из гайна, из беличьей норы, зорко выглядывает его обветренное лицо с выпростанной наружу бородою, скоро покрывшей куржаком... Попадайте, христовенькие, и пусть не покинет вас удача, не подкосит хворь на чужом постоялом дворе, не зашибется иль в опрометчивости не улетит бесследно государева птица, да пусть на всякой дорожной росстани поджидает вас свой ангел.
Лишь Любимко Ванюков все не надвинет меховой куколь на голову, он не может оторвать взгляда с родного посада, с родимой горы с красными проплешинами, на которой стоит его дом, с серой маковки собора у пристенка острога; уже мелки-мелки люди, торчат на угоре, как репьишки в снегу, а он, Любимко, вроде бы видит каждое родное лицо, но нет среди них самого близкого. И оттого горько парню, и от неублажимой тоски разрывается сердце. Соскочить бы с саней и броситься целиком в слободу, увязая в забоях, ворваться в избу соседа Ивана Семеновича, у коего есть дочь Олисава, а там... Любим со вздохом отворачивается от слободки и с тупым взором упирается в остекленелый крестный путь, а перед его опустелыми глазами сонно мелькают коньи ноги. Как тошно скрипят санные полозья: уши бы заткнуть...
Олисава же одиноко стоит в сенях и, отдернув с волокового окна доску, тайно смотрит вослед исчезающему обозу и ничего не видит сквозь влажную пелену.
...А после Пасхи, когда кусты ивняка уже принакрыло сиреневым облаком, но в затишках зернистый снег еще высоко зыбился, как кулойская вываренная соль, из своего дому, истиха, пред самым рассветом отправился инок Феодор. Он был в просторном холщовом кабате, простоволос, с берестяным пестерем за спиною, где кроме иконки Пантелеймона-целителя лежали три соленых огурца и мешочек сухарей. Он ступил босыми стопами на хрустящий примороженный утренником сугробец, покряхтел, стерпелся и, светлея лицом, встал на колени, истово помолился соборной главе; на чешуйчатом шатерке уже мазнуло зоревой краской. Инок рад был, что уходит незамеченным, и мать с отцом не хватились и не возрыдают по сыну. Феодор поднялся, деловито отряхнул колени от снежной пыли, оправил оплечья пестеря и только вознамерился спуститься тропинкою в подугорье, как сзади робко окликнули его: «Святой отче, благослови меня. И буду я тебе посестрия».
Феодор оглянулся, за спиною стояла Олисава, вся в черном, как монашена, черный же плат косячком низко надвинут по самые брови. И вдруг инок, как бы нашло на него озарение, торопливо развязал ворворки у горла, достал из-под рубахи верижный кованый крест. Олисава поцеловала все восемь концов креста, а Феодор коснулся сухими губами ее бровей и прошептал: «Прощай, Олисава, моя посестрия...»
Словарь редких и старинных русских слов
Арешник — мелкий слоистый камень розового цвета.
Агаряне — потомки рабыни Агари и патриарха Авраама.
Агарянский шелк — ткань с Востока.
Арбуй — человек татарского иль турецкого племени.
Адамант — алмаз.
Амбары вонные — амбары, стоящие во дворе избы, на задах хором, где хранился скарб, носильные вещи, меха и платно.
Аспид — темный камень, злодей, бес.
Алгимей — алхимик.
Аргиш — обоз, санный поезд.
Баклан — одиночный крупный подводный камень,осыхающий на отливе.
Байбарак — плотная шелковая и парчевая ткань.
Баять — говорить, рассказывать сказки.
Баюнок — говорливый, многознатный мужик, который пользовался большой славой на промыслах.
Британ — английская охотничья собака для травли медведей.
Бирючь — глашатай.
Брашно — еда, кушанья.
Балан — толстый обрубок бревна.
Баженый — божий, родной, дорогой ребенок.
Базлуки — плетеные широкие лыжи.
Базанить — шуметь.
Балаган — походная брезентовая палатка, полог.
Бахилы — сапоги с длинными голяшками, плоскостопые.
Бусый — пепельносерый.
Бейки — цветная кайма по подолу.
Барака — крутое возвышение, гора.
Взаболь — взаправду.
Вознепщевать — возникнуть, возвыситься.
Векша — белка.
Велегласный — говорящий возвышенно.
Веретье — возвышенное место в лесу, поросшее вереском (можжевелом).
Воронец — широкая полка от стены до стены, вывешенная поперек избы.
Ворворка — шнурок, тесемка у рубахи.
Взвоз — покатый въезд в крытый двор избы (поветь), срубленный из бревен.
Вельми — весьма.
Вентерь — рыбацкая ловушка.
Воп — крик, плач.
Вощага — толстая палка, дубина с утолщением.
Вешница — ледоход.
Вервь непроторженная (церк.выраж.) — нить, соединяющая души, согласие.
Волоть — мясное волокно.
Власяница — рубаха, связанная из коньего волоса.
Выскеть — буреломное дерево, вырванное с корнем.
Ганзейская трубочка — курительная трубка из Ганзы.
Голомень – открытое море
Глядень — высокий берег около реки иль моря, с которого далеко все видать.
Галить, галиться — издеваться, шалить, баловать, надоедать.
Гиль — смута, волнение.
Гуляфная вока — вода, перегнанная на лепестках розы, шиповника.
Головщик — кормщик, старший в артели.
Гобина — имение, имущество.
Груздочки тяпаные — резаные грузди.
Драгоман — переводчик.
Дрын — кол.
Дуван — военная иль воровская добыча.
Дикомыт — дикий сокол, ястреб.
Жупел — горючая сера, горящая смола, жар и смрад.
Жамка — пряник.
Зепь — внутренний пришивной карман в кафтане, шубе.
Забой — снежный сугроб.
Заразить — поранить, попасть в цель.
Зажоры — весенние проталины, ямины на дороге.
Завируха — снег с резкими порывами ветра.
Залучить — поймать.
Заветерье, затулье — место, где не достает ветер.
Злоимец — злой человек.
Зелияница — овощи.
Заушатель — доносчик.
Заход — туалет.
Запон — фартук.
Ендова — чаша для кваса, вина, медовухи и т.д.
Ера — тундровой кустарник стланик.
Ереститься — противиться, возражать.
Ефимок — русский серебряный рубль в семнадцатом веке.
Еломка — монашья шапочка, шапочка вроде скуфьи.
Иордан — прорубь.
Истопник — младший чин при Дворе.
Извраститель — искажающий смысл дела.
Каженик — еретик, человек, исказивший православную веру и обычаи.
Камень яспис — яшма.
Коби — колдовство, чары, колдовская наука.
Коршак — ворон.
Клюшник — старшой над погребами, заведовавший ключами и весами.
Клосные странники — убогие, хворые прошаки-милостынщики.
Кром — кремль, крепость.
Колтун — свалявшийся от грязи ком волос на голове.
Крошни — заплечная берестяная котомка.
Коза — заплечные носилки чернорабочего.
Камка — узорная шелковая ткань.
Крин — цветок.
Каптан, каптана — выездные боярские сани с избушкой.
Коротенька — широкая кофта с рукавами, парчевая, шелковая с шитьем, носили поверх сарафана.
Корга — каменистая отмель
Киса — дорожный мешок из нерпичьей кожи.
Креж — крутой берег, уходящий в воду.
Киндяк — красный кумач, кафтан особого покроя.
Кречатий помытчик — ловец соколов, царский сокольник.
Кушная зимовейка — избенка охотничья, топившаяся по-черному. Дым шел по избе в дверь.
Костельник — католик.
Кат — палач.
Карась житний — хлеб.
Капуста гретая — тушеная капуста.
Кляпыш — затычка, заглушка.
Клусничать — оговаривать.
Ксень — икра.
Котораться — перепираться.
Курья — слепой рукав реки.
Крюк — кабацкая питейная чарка.
Крестец — скрещение улиц.
Котыга — рубаха.
Кромешник — дьявол.
Костомаха — кость скотская с лохмотьями мяса.
Кабат, кабатуха — широкая и длинная холщевая рубаха.
Коник — лавка в переднем углу.
Копорюга — деревянная соха.
Кокот — багор.
Котляна — поморская дружина, артель промысловая.
Кощейный мужик — бедный крестьянин.
Козанки — суставы на пальцах.
Кошуля — походный мешок.
Коня холить — ухаживать за животным бережно, с любовью.
Лонись — прошлогодний, в минувшем году.
Лайды — низкое сырое место близ моря, поросшее осотой.
Ловыга — плут, ловкий человек.
Логофет — ученый.
Ломоть однорушный — толстый ломоть хлеба, который можно держать в руке.
Лапотина — бабий наряд, одежда, платье.
Лайно — навоз.
Лядвии — женские бедра.
Манатья, мантия — верхняя одежда монаха, длинная, без рукавов, накидка с застежкой только на вороте и спускающаяся до земли.
Мурмолка — шапка с отворотами.
Малица — одежда из оленьих шкур, сшитая мехом внутрь.
Майна — прорубь.
Мотыло — кал.
Место — постель, мешок, набитый соломой, шерстью или пером.
Миткалевая опона — занавес из бумажной ткани.
Навадник — клеветник, подстрекатель.
Насад — речное судно с набоями на бортах.
Наволок — пойменный луг у реки.
Нард — индийское пахучее растение.
Наймит — работник по найму, трудник.
Наделок — имение.
Находальник — непутевый человек.
Нужа — нужда.
Наклестки — отводы у саней-розвальней.
Нудить — понуждать, заставлять, ныть.
Наустить — донести, сьябедничать.
Напыщился — надулся.
Орация — письмо, депеша, донесение.
Опреснок (маца) — тонкая сухая лепешка из пресного теста.
Огневица — горячка.
Осн — пика посоха.
Осорья — сорока.
Оприкосить — сглазить, навести порчу, оприкос.
Окоростовел — зачерствел душою.
Обавник — обманщик, чародей, колдун.
Обремкаться — оборваться, превратить платье в ремки.
Остербля — окрепла.
Огорлие — ожерелье.
Охабень — долгая верхняя одежда с прорехами под рукавами и с откидным воротом.
Охичивать — убирать грязь.
Опутенки — кожаные ремешки, которыми опутывают ноги сокола.
Остамелые ноги — натруженные, одеревяневшие, напухшие от усталости.
Паюс — рыбий пузырь, который в старину вставляли в окна.
Поскотина — луговые кормные места для выпаса скота.
Папарты — крылья.
Падера — дождь со снегом, ненастье.
Павна — топкое гиблое болото.
Поприще — мера длины (вероятно суточный переход), жизнь человека, место борьбы.
Путвицы — пуговицы.
Переклад — мосток, переход через водянину, ручей.
Перепеча — сдобный крендель.
Подговорщик — соблазнитель.
Полти — части скотской туши.
Повапленная скудельница — раскрашенный гроб.
Повапленный — украшенный.
Папошник — булка.
Помчи — снасть для ловли соколов.
Привада — приманка для птицы и зверя.
Плюсны — ступни.
Паморока — обморок.
Поносуха — низовой ветер со снегом.
Палестина — ровное место, родные места.
Подголовник — деревянный ларец, обитый полосами железа с покатой крышкой.
Позобать — поесть, набить зоб (живот).
Поддатень — помощник сокольника.
Приклепывать — наговаривать.
Протори — убытки..
Полуночник — ветер с северо-востока.
Пыщется — величается, возгоржается, излишне мнит о себе.
Помытчик — работник, нанятый в промысловую ватагу.
Пятник — продушина в стене избы.
Пря — спор, раздор.
Прелести — соблазны.
Прикодолил — привязал к колу.
Потока — струя дождя с крыши.
Раздевулье — не мужик, не баба.
Рамена — плечи.
Ратовище — рукоять косы, вил, копья и т.д.
Родостам — французская душистая вода.
Руда — кровь.
Размужичье — женщина с мужицкими ухватками.
Распетушье — гермафродит.
Рюжа — рыбацкая снасть, сплетенная из ивовых прутьев.
Романея — французское церковное вино.
Саадачное лубье — саадак, влагалище для лука, кобура.
Сакрамент — причастие.
Саламата — рыба выжаренная на свином сале
Совсельник — союзник.
Срачица — женская сорочка.
Сувой — снежная заструга, занос на дороге.
Сулой — толчея воды от встречи в море двух противоположных течений.
Смарагд — камень изумруд.
Свей — швед.
Спира воинская — отряд стражи.
Саама — вода меж островов.
Скудельница — место для убогих и нищих.
Совик — зимняя одежда из оленьих шкур, сшитая мехом наружу.
Собинный — близкий сердцу, дорогой.
Скимен — лев.
Скрыня — укладка, сундук, коробейка, ларец.
Столбовой наряд — праздничное девичье платье с лентами и украсами.
Стогна, стогны — городская площадь.
Сулица — боевое оружие, копье, рогатина.
Сикер — слабый хмельной броженый напиток, но не вино.
Свей, деги, албанасы, фрыги — название европейских народов в семнадцатом веке.
Студень — стужа, мороз, охлаждение, остылость в вере.
Сутырщик — спорщик, супротивник.
Таибник — смутитель, враг веры.
Тайбола — северная тайга.
Татебник — вор, разбойник.
Тябло — полка с иконами в красном углу..
Туга — печаль, лишения, невзгоды.
Турка — припечное бревно в избе, куда часто вешался рукомойник.
Туфак — тюфяк, набитый овечьей шерстью.
Тягло — подати, налоги.
Фусточка — носовой платок.
Улыскнулся — ухмыльнулся.
Ферезея, ферязь — мужское долгое платье с длинными рукавами, без воротника и перехвата; праздничный сарафан.
Царева стулка — престол, царское кресло.
Ценинная печь — из муравленых, расписных изразцов.
Чаруса — болотные окна, провалища.
Чучалка — чучело для охоты на птицу.
Чаровник — кудесник.
Челиг — небольшая птица ястребиной породы.
Червчатый бархат — багровый или ярко-малиновый .
Чекмень — суконный полукафтан в талию со сборками позади.
Чищенка, чищеница — пожня в лесу после корчевания или гарей.
Шняка — беспалубная промысловая поморская лодка с одной мачтой и с прямым парусом.
Шаф — бельевой шкаф.
Шелешпер — рыба.
Шушунишко — бабий зипун из сермяги.
Шугай — короткая девичья кофта с рукавами из сукна, ситца иль парчи.
Шаньги дижинные — шаньги, политые жидкой крупою иль жидким сметанным тестом.
Шестопер — палица, булава, кистень.
Шендан — подсвешник.
Шишига — толстая тяжелая палка, которую использовали поморы на звериных промыслах.
Шпынь — насмешник, балагур, дерзкий человек, не боящийся Бога.






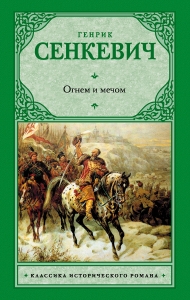



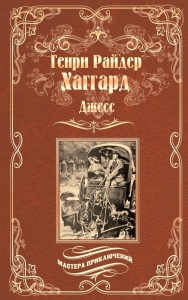
Комментарии к книге «Венчание на царство», Владимир Владимирович Личутин
Всего 0 комментариев