Евгений Андреевич Салиас Крутоярская царевна Историческая повесть
I
На высоком и крутом берегу небольшой, но быстрой речки раскинулась богатая помещичья усадьба, хорошо известная не только в ближайшем губернском городе Самаре, но и далеко за пределами губернии.
Огромные каменные палаты, стоящие венцом на высоком холму, были окружены десятком надворных строений, а впереди барских палат тянулись два обширных густых сада: нижний – уступами спускавшийся к реке, и верхний – примыкавший к селу, разбитый на правильные аллеи с оранжереями, грунтовыми сараями и питомниками.
В противоположной стороне от верхнего сада, среди молоденькой березовой рощи, высился красивый каменный храм. Большое село с тысячью душ обоего пола далеко раскинулось по равнине.
Вотчина эта, по имени Крутоярская, или, как привыкли звать ее, просто – Крутоярск, была известна на сотни верст кругом, во-первых, потому, что она была богатой и красивой усадьбой, во-вторых, потому, что личность, которой Крутоярск принадлежал, была в совершенно исключительном положении.
Вотчина принадлежала не какому-либо богатому и почтенному помещику, пожилому и семейному, а принадлежала юной помещице, которую давно прозвали «царевной».
Владетельнице богатой усадьбы и многих других имений в других губерниях было всего шестнадцать лет, и к тому же она была круглой сиротой. Немудрено, что молоденькая и хорошенькая сирота, богатейшая невеста, интересовала многие и многие помещичьи семьи как Самарской, так и соседних с ней губерний.
Во всякой помещичьей усадьбе, где был налицо сын, молодой малый, родители денно и нощно мечтали женить его на крутоярской царевне. Самарская молодежь и все неженатые от двадцати и до сорока лет включительно, даже самые не корыстолюбивые и не думавшие вовсе о деньгах и приданом, мечтали удостоиться руки владелицы Крутоярска.
Иначе и не могло быть… Молоденькая девушка была таковою, какие только описываются в сказках, потому что, помимо огромного состояния, она была очень красива собой, умна, кротка и чрезвычайно добра. Сиротство ее, казалось, прибавляло ей еще более прелести.
Прозвище царевны как нельзя более шло к ней. Действительное имя богатой сироты-невесты было Неонила Аркадьевна Кошевая. Предки ее были малороссы.
Прадед крутоярской помещицы поневоле покинул когда-то Украину и поселился в Приволжском крае. В те дни, когда знаменитый Мазепа изменил первому императору, Кошевой остался верен русскому царю, но, нажив своими действиями много врагов на родине, должен был покинуть Украину вместе с многочисленной родней.
За несколько десятков лет прошло три поколения Кошевых, но никого не осталось в живых из многочисленной семьи; теперь единственной представительницей малорусского казачьего рода была богатая сирота. Последний помещик Крутоярска, Аркадий Петрович Кошевой, погиб в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими.[1] Молодая вдова не долго пережила страстно любимого мужа, и после нее на свете осталось двое сирот: мальчик и девочка, пяти и трех лет. Но еще через два года мальчик, хилый, почти немой, тихо и незаметно угас. Представительницей рода Кошевых оставалась одна девочка-малютка, которую звали уменьшительным именем, данным ей еще покойным отцом, – Нилочкой.
Будь близкие родственники у Нилочки люди, заинтересованные тем, чтобы захватить в свои руки большое состояние, то, быть может, благодаря времени и нравам, коварные люди сумели бы извести и отправить на тот свет малютку. Но таких родственников или наследников не было ни единого. Если бы крошка Нилочка вдруг умерла, то все состояние оказалось бы выморочным.[2]
Наоборот, нашлись люди, которым было выгодно, чтобы малютка была жива и здорова. Люди эти были назначенные к ней опекуны.
Едва только умерли Кошевые – отец и мать, как к обеим детям был назначен опекун, дальний родственник покойной Кошевой. Это был человек пожилой, добрый и беспечный, лейтенант в отставке Зверев. Он взял на себя управление всеми имениями и воспитание детей почти против воли. Опекунство это продолжалось, однако, очень недолго.
Тотчас после того как умер мальчик, который за все свое недолгое существование был еле живой, в Петербург посыпались на лейтенанта со всех сторон безыменные доносы в том, что он уморил одного из сирот и собирается уморить и девочку, чтобы, в качестве дальнего родственника покойной Кошевой, хлопотать о наследстве.
Все это было вымыслом и клеветой. Тем не менее вскоре был прислан из Петербурга гвардейский офицер – по высочайшему повелению расследовал все касающееся до сироты Кошевой и ее состояния.
Судьбой малютки, оказалось, заинтересовался в качестве соотчича сам гетман Кирилл Григорьевич Разумовский.[3] Присланный офицер был его дальний свойственник. Последствием возбужденного дела было только удаление лейтенанта Зверева от опекунства.
Над малюткой была назначена опека прямо из Петербурга, и опекуны обязывались обо всем постоянно докладывать самому гетману. С этого дня существование маленькой Нилочки изменилось.
В Крутоярск явились два опекуна: артиллерийский полковник Мрацкий с женой и большой семьей, состоящей из шести человек детей и многих родственников, а за ним вслед Преображенский прапорщик в отставке – Жданов. Последний, холостяк лет сорока, явился с одним мальчиком, которого выдавал он за приемыша, но который был, в сущности, его побочным сыном от крымской татарки.
Оба опекуна на первых порах разделили все вотчины опекаемой ими малютки на две части, ради управления. Каждый делал, что хотел, в своем уделе, и только раз в год оба вместе составляли один общий доклад обо всем на имя гетмана. Вскоре, однако, все управление незаметно перешло в руки одного Мрацкого, а Жданов не вмешивался ни во что. Вместе с тем большие палаты были разделены тогда же на три части. В левом крыле поселился со своей семьей и домочадцами Мрацкий. В правом крыле поместился Жданов, но вместе с ним и канцелярия опекунского управления, т. е. человек двадцать всяких наемных подьячих и писарей. В центральной части дома, где были большие парадные комнаты, две огромные залы, называемые: зимняя и летняя, несколько гостиных: желтая, анненская и итальянская, – жила в четырех небольших горницах крошка владелица. К ней тотчас был приставлен целый штат нянек и горничных, а впоследствии явились и гувернантки: француженка, немка и третья совершенно сомнительного происхождения, которой вменялось в обязанность обучать девочку танцам и малеванью.
Разумеется, крошка сирота в огромном доме, окруженная кучей пришлых, чужих людей, взиравших на нее если не вполне неприязненно, то холодно и безучастно, могла бы, конечно, сгинуть, известись. По ее бледному, худому личику и большим кротким глазам всякий бы увидал и догадался, что извести, напугать Нилочку было бы далеко не мудрено.
Конечно, оно бы так и случилось. По всей вероятности, девочка не достигла бы и десятилетнего возраста, окруженная не людьми, а штатом, – живой, холодной стеной, закрывавшей ей со всех сторон свет и весь мир божий. Но судьба поставила около ребенка верным стражем – няню.
Твердо и незыблемо, как какой-нибудь каменный исполин, а отчасти и каменный сфинкс, стояла около Нилочки эта няня.
II
С первых дней существования малютки бедная дворянка из захудалого рода, Марьяна Игнатьевна Щепина, была взята в старшие надзирательницы над многими няньками новорожденной. Через несколько месяцев все няньки были ею оттеснены и Марьяна Игнатьевна взяла на свое полное попечение девочку-малютку, поселилась с нею вместе в небольшой горнице и не отходила от нее ни на шаг ни днем, ни ночью.
Однако, помимо питомицы, у этой женщины была своя забота, свой ребенок-мальчик, одних лет с Нилочкой.
Так как Щепина поступила в низкую, для ее дворянского происхождения, должность, то согласилась на это только под условием, чтобы ее ребенок жил около нее. Покойные родители Нилочки охотно согласились на это, и маленькому Борису была даже отведена отдельная горница и дана отдельная нянька.
При жизни покойных Кошевых Марьяна Игнатьевна имела уже некоторое значение в доме, но едва только дети остались сиротами, Щепина получила еще большее значение. Она прославилась на всю Самарскую губернию своими невольными похождениями на берегах Невы. В эти роковые для нее дни Марьяна Игнатьевна показала свету белому, что она за человек.
Когда умер мальчик, до которого Щепина не касалась – так как он имел свою няню, – и когда вслед за тем явился следователь из столицы, Марьяна Игнатьевна разделила участь опекуна Зверева. Ее отставили, изгнали из Крутоярска, советуя благодарить бога, что она не отдана под суд.
Опекун Зверев, негодуя и грустя на клевету, спокойно удалился в свое небольшое имение. Марьяне Игнатьевне приходилось вместе с мальчиком своим точно так же удалиться в Самару.
Она это и сделала, но через несколько дней, оставив мальчика на попечение дальней родственницы, Марьяна Игнатьевна была уже в пути. Через полтора месяца она была уже в Петербурге.
Целую зиму обивала она пороги домов и палат и вельмож, и простых чиновников, подавая всюду одно и то же прошение. Щепина требовала, чтобы, в исполнение воли покойной матери ее питомицы, она была снова приставлена к малютке Кошевой. Время, в которое она попала в столицу, было самое неблагоприятное. При ней началось новое царствование, вступил на престол император Петр Феодорович.[4] За это время Щепина прошла столько мытарств, что никогда, впоследствии, не хотела и поминать в разговорах все, что пережила и перечувствовала. Руководила ею горячая привязанность к малютке, а не корыстолюбие, иначе она бросила бы хлопоты.
Много раз грозились Щепиной сильные люди, что она будет выслана из столицы, а то и сослана в какую-нибудь трущобу, но Марьяна Игнатьевна не устрашалась и не унывала. Наконец, уже в конце великого поста, она была принята графом Алексеем Григорьевичем Разумовским и выслушана им. Затем с собственным лакеем любимца покойной императрицы она была отправлена им к брату – гетману. И в тот же час гетман принял Щепину. Несколько месяцев добивалась она и тщетно старалась проникнуть в палаты Кириллы Григорьевича, а теперь это оказалось возможным сразу.
Беседа Щепиной с графом-гетманом привела к полному успеху.
В мае месяце Марьяна Игнатьевна уже снова вернулась в Крутоярск, чтобы стать вновь главной нянькой маленькой Нилочки. Но на этот раз все обыватели Крутоярска, оба опекуна, весь штат, вся дворня, все до последнего человека, встретили Марьяну Игнатьевну так, как если бы она была сама владетельницей вотчины.
И немудрено. Марьяна Игнатьевна привезла с собой строжайшее предписание графа-гетмана, чтобы во всем, что будет касаться до ухода за девочкой, не вступаться никому.
Вместе с тем Щепиной препоручалось хозяйство в доме, заведование всем штатом маленькой Кошевой и приказывалось, точно так же, как и опекунам, посылать годичный рапорт на имя гетмана о здоровье и благополучии опекаемой малютки.
С этого дня далеко за пределами Самарской губернии Марьяна Игнатьевна Щепина стала лицом столь же известным, как и сама сирота Кошевая.
С тех пор прошло более десяти лет, а Марьяна Игнатьевна все еще пользовалась тем же значением и тем же почетом, как и в первый день своего прибытия из столицы.
Про нее все отзывались, кто смеючись, а кто и со злобой, что она «баба, железом шитая».
И вот благодаря этой женщине, «железом шитой», малютка Кошевая, как бы за надежным щитом, выросла, расцвела и стала красивой девицей-невестой. Щепина вполне заменила девочке родную мать, и даже более того. Живи на свете Кошевые – родители Нилочки, – она, быть может, была бы менее счастлива и была бы хуже воспитана.
Дворянка захудалого рода пошла в простые няньки ради куска хлеба и пристанища, а главным образом ради средств для воспитания единственного сына, которого обожала, но вскоре оказалось, что ее положение почти настоящей опекунши было ей по плечу.
Опекуну Мрацкому с первых же дней пришлось бороться с Щепиной и наконец уступить во многом, что касалось до ухода и воспитания богачки девочки. Мрацкий скоро догадался, что Марьяна Игнатьевна – женщина недюжинная, с умом и с волей.
– Нашла коса на камень! – говорили про опекуна и про главную нянюшку все обитатели Крутоярска – и нахлебники, и крепостные.
Более десяти лет прошили Мрацкий и Щепина под одной кровлей и ни единого разу не повздорили и не поссорились, а между тем ненавидели друг друга всеми силами души и разума. За все это время Марьяна Игнатьевна «без шума» добивалась своей цели и достигла ее. Цель эта заключалась в том, чтобы Нилочка любила ее и слепо повиновалась ей, а чтобы ее собственный сын Борис был воспитан «по-дворянски» и вышел в люди. У Бориса Щепина были те же учительницы, что и у «царевны», а так как он был мальчик способный, то воспользовался ученьем вполне. Будучи четырнадцати лет, он уже озадачивал своими познаниями малограмотную среду.
Теперь Борис был уже в Петербурге, в гвардии, и его жизнь начиналась так, как если бы он был сыном богатых помещиков, а не простой нянюшки.
Марьяна Игнатьевна была вполне счастлива, глядя на карьеру сына, и мечты ее о счастии ее Бориньки шли дальше, выше… Но в чем они заключались, никто не знал, даже обожаемая ею Нилочка.
Между пестуньей и питомицей не было, конечно, тайн; они жили душа в душу, как бы родные мать и дочь. Но о том, что мечтается Щепиной относительно Бориса, она не могла искренно поведать Нилочке.
Богатая сирота «царевна» не могла бы и догадаться, о чем помышляет Марьяна Игнатьевна, настолько эти тайные помыслы няни были далеки от ее личных помыслов относительно того же Бориса.
А Нилочка вообще любила помечтать, и чем более подрастала, тем более воображение ее работало.
Теперь она все чаще и все упорнее мечтала о том, что сделает, когда выйдет из-под опеки. Об иных своих планах она тоже не говорила няне. Между прочим, Марьяна Игнатьевна не знала, что Нилочка собирается подарить Борису богатую вотчину в Казанской губернии.
Равно не знала няня, что ее питомица мечтает о том дне, когда она никому повиноваться не будет, и притом ждет его так же, как алчущий ждет утолить свою жажду. С мучительным нетерпением, с тоской…
Немудрено было няне не знать этого, так как вообще мудрено было знать Нилочку. Худенькая, тихая, белокурая девушка, с красивыми голубыми глазами, темными, задумчивыми и глубокими, была своего рода загадкой. Ее никто таковою не считал, никто не старался разгадывать, полагая, что она вся «на ладони»; но зато никто ее и не знал, все на ее счет ошибались.
Марьяна Игнатьевна думала, что Нилочка «чудна» только на словах, а на деле – самое простое существо.
«На словах собирается век города брать, – думала Марьяна Игнатьевна, – а как дойдет дело до поступления, то струсит и послушается моего совета. Так завсегда было, так и впредь будет».
И в этом суждении было доказательство того, что и сама няня, ближайшая к Нилочке личность, не знала девушки.
Крутоярская царевна, всячески опекаемая чужими людьми и окруженная холодной толпой нахлебников, уподоблялась птичке в клетке.
Птичка, прыгая по двум жердочкам клетки, смотрит все вверх в синце небеса и чует, знает, чувствует, что может взмахнуть крылышками и унестись туда в один миг…
Но кто же ей – умеющей пока только прыгать по клетке – поверит?!
III
Усадебный дом в Крутоярске, его обстановка, обыденная жизнь всех его обитателей представляли собой странное явление. Едва ли бы можно было найти другой богатый усадебный дом, в котором жилось бы так же странно.
Прошло более десяти лет, что в доме явились два опекуна. Как в первые дни их появления, так и теперь, большие палаты вмещали в себя несколько враждебных между собой лагерей. Тут, казалось, никто не жил дружно.
Шестнадцатилетняя владелица занимала центральную часть дома, огромную по размерам, но где жилых комнат было всего четыре небольших. Остальные были залы и гостиные, вечно пустые, унылые и молчаливые.
Нилочка с своей воспитательницей Марьяной Игнатьевной, которую она обожала, и с несколькими женщинами из штата жила особой жизнью, замкнутой и тихой. У нее, конечно, была своя отдельная прислуга, отдельный стол, за который только в большие праздники приглашались, в качестве гостей, опекуны и их домочадцы.
Правое крыло дома, где жили опекуны Петр Иванович Жданов с приемышем Никифором, было одним лагерем, враждебным остальному дому. Левое крыло дома, где помещался опекун Сергей Сергеевич Мрацкий с большой семьей и собственными своими нахлебниками, было другим враждебным всему остальному лагерем.
Верхний этаж над парадными апартаментами был разделен на десятки мелких комнат, где помещался штат владелицы и нахлебники обоего пола, бог весть зачем согнанные отовсюду. Весь этот люд, праздный, сытый, от дарового корма бесившийся с жиру, притворно обожал «царевну» и Марьяну Игнатьевну и раболепствовал пред обеими всячески. В действительности весь этот люд разделялся на два лагеря. Одни были приспешниками Жданова, другие – Мрацкого.
Замечательнее всего было то, что два опекуна жили довольно дружно, почти никогда не ссорились, так как Жданов постоянно уступал Мрацкому и в мелочах, и в серьезных вещах.
Что касается до их приверженцев среди нахлебников, дворни и даже крестьян, то эти партизаны не жили просто, а постоянно воевали между собой. Если бы не всеобщая боязнь двух лиц в доме, то, быть может, когда-нибудь в крутоярском доме дошло бы дело и до смертоубийства. Только два лица сдерживали всех нравственным влиянием: Марьяна Игнатьевна и опекун Мрацкий. Это были единственные два лица в доме, которые обуздывали разношерстную толпу обитателей Крутоярска.
Вместе с тем Мрацкий и Марьяна Игнатьевна были издавна, с первых дней общего сожительства, злейшими врагами. И опекун, и пестунья жили рядом более десяти лет, как стоят две враждебные армии одна против другой – стоят, зная, что придет час битвы, и трепетно, с боязнью ждут часа сразиться.
Теперь в крутоярском доме все жили с одной мыслью, скоро ли и за кого выйдет замуж крутоярская царевна. Все зависело от этого… Жизнь каждого в отдельности и будущность его была в прямой зависимости от замужества владелицы.
«Кто будет завтра супругом царевны, барином в Крутоярске?» – вот о чем думали все.
Все были уверены, что не пройдет году, как крутоярская юная помещица будет уже выдана замуж. Не сама выберет себе мужа, а будет выдана почти насильственно. Но за кого? Кто возьмет верх, кто победит?
Праздная толпа нахлебников насчитывала теперь четырех искателей руки помещицы. Первый и главный из них был двадцатипятилетний сын Мрацкого – Илья. Его звание – претендента на руку богатой невесты, опекаемой его отцом, – не было тайной ни для кого.
Сергей Сергеевич Мрацкий прямо и открыто не говорил, но все, однако, знали, что он лучше даст себя прирезать или сжечь живым, нежели упустить такую невесту. Он думал и был глубоко убежден сам, что опекаемая им девушка должна выйти замуж за его сына из благодарности за все его, опекуна, благодеяния.
Он заявлял, что принял в опеку имение Кошевой в самом плачевном виде и за десять лет привел все дела в порядок. Это было верно только отчасти.
Действительно, Мрацкий усердно занимался делами, пока Жданов ничего не делал, но зато опекун, явившись в Крутоярск с большой семьей, не имел почти никакого состояния, а теперь уже владел сам тремя имениями в других губерниях, купленными за время опекунства.
В губернском городе Мрацкого иначе не называли в шутку, как крутоярский «упекун», который может со временем упечь и все состояние Кошевой. В действительности Мрацкий наживался осторожно и отчасти благоразумно. За время своего опекунства он мог бы присвоить себе вдвое более.
Главный претендент на руку владелицы крутоярской был капралом в отставке. Когда-то Мрацкий снарядил сына в Петербург в один из столичных полков, но затем, по прошествии трех лет, снова выписал его обратно. Ему хотелось, чтобы его Илья был постоянно в Крутоярске и приучил к себе Нилочку.
Молодой человек, к большому прискорбию отца, был крайне неподходящ для роли претендента. Это был здоровый, плотный, рыжеватый малый с пухлым лицом и простоватым, почти бессмысленным выражением в глазах. Он был то, что народ называет «лупоглазым».
Несмотря на молодые годы, он был какой-то медведь, ленивый, грузный, неповоротливый, не способный ни на что. Даже молодые девушки семейств нахлебников говорили про Илью Сергеевича Мрацкого, что он – ни мужик, ни баба.
Единственное качество молодого человека заключалось в том, что он был крайне добродушен и готов услужить всякому. Глядя на сына, Мрацкий в иные минуты сам отчаивался в возможности женить его на Нилочке.
Будь у него другой сын-жених, он бы давно бросил эту мечту, но, на его горе, после Ильи были взрослые, тоже некрасивые дочери, а второму сыну было всего только пятнадцать лет. Надеяться на то, что Нилочка засидится в девушках и даст время второму сыну, Сергею, подрасти, было трудно.
Вторым претендентом на руку Нилочки считался родственник губернатора, князь Николай Николаевич Льгов, красивый и умный молодой человек, бывший офицер и состоявший теперь на службе в Самаре. У него не было никаких средств, но зато был титул. Князь Николай Николаевич был самым видным и завидным женихом для крутоярской помещицы, которой недоставало только титула, чтобы иметь все, что судьба может дать любимице.
Князь изредка бывал в Крутоярске в гостях, но визиты эти были очень странные. Молодого князя принимали поневоле, боясь губернского начальства. Никто в Крутоярске не желал его видеть. Для всех он был бельмом на глазу.
За последнее время князя стали принимать еще более холодно все до единого обитателя, от опекунов и пестуньи и до последнего нахлебника. Причиной этого было то, что многие заметили, как стала относиться к князю юная помещица. Молодой человек, по-видимому, нравился ей немного.
IV
Третий претендент на руку царевны был несколько сомнительный. Это был приемыш опекуна Жданова, Никифор Неплюев. Несмотря на свое побочное происхождение от простой караимки, у приемыша Жданова бумаги были в порядке и он числился недорослем из дворян.
Многим было хорошо известно в Крутоярске, что документы приемыша купленные, что никакого Неплюева-отца у него никогда не бывало, – но доказать ничего было нельзя.
Никифор Неплюев, двадцатитрехлетний малый, был красивый брюнет с оригинальным лицом, очень смуглый, с большими черными глазами, с такими бровями, каких не было на всю Самарскую губернию.
Брови эти, как бы углем намазанные, шли от висков и почти срослись на переносице, но это не безобразило его. Резкие, но характерные черты лица, замечательно выразительные глаза, черные как смоль курчавые волосы – все делало его красивым.
Вдобавок он был чрезвычайно статен, очень ловок и, в противоположность Илье Мрацкому, мастер на все руки. Он лихо ездил верхом и любил объезжать самых бешеных коней из табунов, отлично стрелял, будучи страстным охотником, как и его отец, был главным сердцеедом и победителем женского персонала в Крутоярске и во всем уезде.
Он безусловно нравился всем женщинам: от помещиц и горничных до крестьянских молодух на селе. Никифор был не столько умен, сколько хитер, но при этом и дерзок, предприимчив и в особенности быстр во всем, что он делал. Он, казалось, успевал во всем только потому, что брал каждого человека врасплох. Даже с самим опекуном Мрацким – врагом его названого отца – он умел справиться.
Мрацкий ненавидел Никифора уже за одно то, что он был противоположностью его собственного сына, был около Ильи молодец молодцом. Тем не менее Никифор умел часто заставить Мрацкого что-нибудь сделать в свою пользу исключительно тем, что наступал неожиданно, дерзко и быстро.
Прозвища, которые были у Никифора, данные ему в Крутоярске, обрисовывали его. Его звали «Никишка-головорез». Потом одно время звали «Стенькой Разиным». Теперь звали «Сибирным», предрекая, что за некоторые дерзкие выходки в своих любовных похождениях он может угодить в Сибирь.
Все в Крутоярске опасались Никишки, так как он в карман за словом не лазил и, по выражению обитателей, «за ножом тоже в карман не полезет». Это мнение было не преувеличенным, так как, будучи еще пятнадцати лет, Никишка однажды в ссоре хватил ножом сына одного из нахлебников.
Все относились к Неплюеву осторожно, просто боялись его, но в доказательство того, что бывают на свете необъяснимые странности, была в Крутоярске одна личность, которая не боялась Никишки и которой он даже, казалось, нравился.
А личность эта была именно сама царевна. Кто бы что ни говорил про головореза и сибирного Неплюева, Нилочка горячо защищала его, находила его и умным, и красивым, и добрым. Последнее было совершенно неверным, даже неприложимым к Неплюеву. Достаточно было взглянуть ему повнимательнее в лицо, чтобы убедиться, что красивый караим по матери был малый злой и бессердечный. Многие случаи из его жизни доказывали это.
Как будто назло Мрацкому и к большой досаде Марьяны Игнатьевны, Нилочка благосклонно относилась к ненавидимому и презираемому ими Никишке. Она находила удовольствие разговаривать с ним, охотно выслушивала россказни дворни про разные его похождения и подвиги, хотя эти подвиги бывали иногда очень бесчеловечны.
Однажды, не справившись с дикой лошадью, которую Неплюев взялся объезжать, он настолько разбесился, что привязал коня к дереву и ременной татарской плетью «снял кожу» с животного, как говорили все нахлебники, т. е. истязал животное, а затем на месте застрелил из ружья.
Иногда, узнав про какой-либо подобный подвиг Неплюева, Нилочка приходила в ужас, порицала молодого человека, затем требовала у него объяснения его поступка. Головорез Никишка умел каждый раз представить все дело в таком виде на благоусмотрение крутоярской царевны, что она выговаривала ему, брала с него слово никогда более не злыдничать и, отпуская от себя, снова приветливо улыбалась ему.
Подобные случаи все более убеждали крутоярских обитателей, что у головореза есть какой-то приворот на женщин. Даже сама царевна и та, пожалуй, кончит тем, что влюбится в сибирного. Представить себе этого Никишку барином крутоярским и распорядителем судьбами всех его обитателей было, конечно, ужасным.
Насчет четвертого претендента на руку царевны мнения в Крутоярске разделились. Одни были вполне убеждены, что Нилочка не только рано или поздно, но даже и вскоре выйдет за него замуж непременно. Другие же считали дело совершенно невозможным.
Этот четвертый претендент, бывший теперь в Петербурге, в рядах Семеновского полка, вскоре ожидался в Крутоярске. Это был единственный сын самой Марьяны Игнатьевны, Борис Щепин.
Будь пестунья Нилочки не дворянского происхождения, то, конечно, ее сын не мог бы мечтать ни о том, чтобы быть в гвардии, ни еще менее о том, чтобы жениться на Кошевой. Марьяна Игнатьевна, пошедшая когда-то в простые няньки, кичилась своим дворянским происхождением и постоянно твердила обожаемому сыну Борису, что у него все есть, кроме состояния.
Понятно, что для Нилочки сын второй матери был почти родным. Вместе росли они, были дружны и любили друг друга как брат и сестра. И так прошло несколько лет.
Марьяна Игнатьевна всем и каждому заявляла, что надеется со временем хорошо женить сына на какой-нибудь самарской девице. Когда же ей говорили и намекали на возможность брака между ее сыном и Нилочкой, то Марьяна Игнатьевна приходила в негодование, говоря, что ее сын – Нилочке не пара.
Она богачка, ей, по прозвищу «царевна», следует выходить замуж тоже за какого-нибудь царевича, а не за бедного офицера, хотя и дворянского, хорошего рода.
Многие верили Марьяне Игнатьевне на слово, многие двусмысленно ухмылялись. В действительности можно было опасаться одной помехи для подобного брака. И помеха эта была в самой Нилочке. Она слишком просто была привязана к Борису Щепину. Он был для нее братом, человеком, с которым она прожила душа в душу все свое детство.
Если бы самой Нилочке назвали когда-нибудь Бориса женихом, то она бы рассмеялась. Это казалось чем-то несообразным.
За последние два года, что Борис был в Петербурге, Нилочка много думала о нем, интересовалась его судьбой, нетерпеливо ждала вестей о нем и постоянно тосковала о «Бориньке» с Марьяной Игнатьевной. Одним словом, для Нилочки Борис был совершенно родным братом.
Борис Андреевич был вообще любимцем всех прихлебателей, а равно и дворни в Крутоярске. Он был слишком добрый и сердечный малый, чтобы не быть любимым всеми. Он постоянно, еще ребенком, оказывал всякого рода услуги, иногда устраивал и важные дела для крутоярцев. Многое зависело от его матери, а Марьяна Игнатьевна никогда не могла ни в чем отказать своему Бориньке. Понятно, что всякий ради успеха своего дела упрашивал заступиться «мамушкиного барчука» и подсылал его к неприступной и нелюбимой в усадьбе Щепиной.
Когда в начале осени пришло в Крутоярск известие, что Борис Андреевич уже не рядовой, а получил чин капрала, почти все в усадьбе, кроме семьи Мрацких, обрадовались, и искренно, от души бросились поздравлять «железом шитую бабу».
V
В 1773 году, после жаркого лета, сразу наступила холодная и ненастная осень.
В угрюмый октябрьский день, несмотря на сильный ветер, низко и быстро летящие серые облака, грозящие ежеминутно частым мелким дождем, крутоярская владелица, в сопровождении мамушки Марьяны Игнатьевны, тихо и молча гуляла взад и вперед по главной липовой аллее верхнего сада.
Обе двигались то к дому, то от дома, будто нехотя или «по заказу», поневоле, без всякого желания гулять.
Нилочка глядела бесстрастно и скучающими глазами на пустынную аллею или по бокам на оголенную чащу дерев и кустов. Щепина озабоченно думала о чем-то, и лицо ее было сумрачно.
Всякий день, за исключением дней полного ненастья, Нилочка гуляла часа по два в этом верхнем саду и знала каждый камешек и каждую ветку наизусть. По этой аллее бегала она когда-то и пяти лет от роду с куклой на руке, и потом десяти и более с детскими мечтами.
Наконец тут же гуляет она почти 17-летней девушкой и думает… думает о совершенно ином.
А этот сад все тот же пустынный, безответный. Осенью и зимой сквозь голую чащу виднеется чрез его каменную ограду направо селенье, налево надворные постройки, а за ними высокая колокольня храма, за ним поля и леса… Все это от палат и храма и до последней березки – ее собственность и вместе с тем все это как чуждо. Надо всем этим не она повелевает, над всем будто нависла грозой власть почти страшного для нее человека, злого, лукавого и коварного.
Она у себя дома, под родным кровом, и в то же время она будто в гостях и даже хуже: на хлебах из милости у ненавистных ей благодетелей. Говорят, будет конец такому житью, но она почти перестала верить этому.
Когда она будет совершеннолетняя, опека уничтожится, все эти чужие люди выедут из Крутоярска поневоле, но ведь до тех пор еще ждать более четырех лет.
Мало ли что может еще случиться, что они, эти неприязненные ей люди, могут наделать?
Один из них страшен ей, но страшен равно всем. Сергей Сергеевич Мрацкий так поговаривает, что, кажется, никогда не покинет Крутоярска. Он сумеет так все подвести, что вековечно будет властвовать и над Крутоярском, и над сиротой.
И, думая об этом, Нилочка всякий раз кончала одной и той же мечтой.
Ах, если бы явился избавитель. Он! Тот желанный и неведомый, который не устрашился бы Мрацкого, полюбил бы ее и стал бы властным над всем, над всем и, пожалуй, над ней самой.
На этот раз, благодаря осени, серому дню, озабоченности Марьяны Игнатьевны, молодая девушка была еще тоскливее настроена, чем когда-либо. Ей казалось сегодня еще яснее, чем бывало прежде, что она – самое несчастное существо на свете. Сиротство и одиночество сказывалось еще ярче, ощутительнее… Бывало, она все свои думы или тревоги сердца поверяла своей второй матери, мамушке, теперь вот уже третий год она перестала это делать.
Марьяна ли Игнатьевна изменилась по отношению к ней? Или она переменилась, и ей самой стали приходить такие мысли, которые не следовало иметь? Ее дорогая «Маяня», как звала она мамушку, еще в детстве картаво переделав ее имя, все чаще журила свою питомицу, когда девушка исповедовалась в своих мечтах и грезах. И кончилось тем, что теперь самое дорогое на сердце оставалось скрытым, тайным не только для всего Крутоярска, но и для этой «Маяни».
Услужливая из раболепства дворня, сенные девушки в особенности, часто передавали барышне кой-какие вести, касающиеся до Крутоярска. Сегодня утром Нилочка узнала, что будто на днях к ним собирается из Самары гость, человек, к которому девушка относилась как-то странно, непонятно ей самой. Чужой вполне человек, мало знакомый даже, был ей будто близок, будто гораздо ближе многих своих крутоярских.
И об этом думалось ей теперь. А сказать об этом Марьяне Игнатьевне можно, но не хочется…
Молчаливо погуляв более часу, Нилочка позвала Щепину домой.
– Может быть, и разгонный уж приехал, – заметила она. – Может, письмо есть.
Марьяна Игнатьевна вздохнула.
– Пора бы. Пора… – выговорила она глухо. – Всякий день – вот неделю томит он нас. И что могло задержать? Боринька мой не зряшный какой о семи пятницах в неделю.
– Вот я и думаю, Маяня… сегодня письмо есть. Чует мое сердце, что есть… увидишь.
– Ах, полно ты… только смущаешь меня, – нетерпеливо вымолвила Щепина.
Обе женщины двинулись к дому и скоро входили уже на большое крыльцо, поднялись во второй этаж и вступили в парадные комнаты, так как достигнуть им своих четырех сравнительно маленьких комнат нельзя было иначе, как чрез грязный ход для прислуги или чрез обе большие залы и три гостиные. Первая зала, белая под мрамор, с лепными позолоченными украшениями, была велика, в два света, всегда холодна зимой, пустынна круглый год.
В ней с рожденья на свет Нилочки никогда ничего не бывало, но в прежние времена при ее деде бывали пиры и балы.
Вторая зала была несколько менее, темнее, к ней примыкала большая крытая терраса, выходившая в сад. Здесь бывали обеды, более или менее парадные, четыре раза в году, в Светлое воскресенье, в Рождество и затем в день рождения и именин владелицы, приходившихся на январь и октябрь.
Затем следовали три гостиные, из которых анненская в два колера – пунцовый и желтый – была самой красивой. Но последняя итальянская с круглыми окнами, со светло-голубой позолоченной мебелью стиля Лудовика XIV была любимой гостиной юной владелицы. Здесь она принимала за последние годы своих редких гостей, зато часто Мрацких и Жданова, которых не любила допускать в свои горницы. Нилочка называла три уютные комнатки «мои» в отличие от всех других в доме.
Да, все эти парадные и другие горницы действительно были для сироты под опекой – вполне как бы чужими.
Три ее комнаты делились на гостиную, где почтя никогда не бывало гостей, на рабочую, где девушка сиживала весь день, и на спальню.
Около второй была горница Марьяны Игнатьевны, с тех пор, как ее питомица перестала спать вместе с мамушкой.
В рабочей комнате было самое простое убранство, но было двое пялец и большой стол, на котором девушка рисовала. Рисованье было ее любимым занятием, и она уже собиралась от карандаша и пастелей перейти к малеванию, т. е. к масляным краскам.
Теперь хотя и была в доме учительница малевания, взятая опекунами, но эта женщина, скрывавшая свое происхождение с какого-то юга, долго тоже скрывала свое незнание живописи. А Нилочка, чтобы не обижать женщины, все отлагала просить опекунов нанять другую учительницу малевания.
Едва только молодая девушка и мамушка вошли к себе, как старшая горничная, уже пожилая женщина, встретила их словами:
– Разгонный из города привез вам, барышня, ящик, а вам письмо почтовое.
Марьяна Игнатьевна оторопела. Кроме сына, никто ей не писал.
Чрез минуту письмо было уже в руках и прочтено… Марьяна Игнатьевна просияла и бросилась целовать Нилочку, стоявшую около нее в нетерпении.
– Едет! Едет! – воскликнула Щепина и стерла слезы на глазах…
– Когда? – выговорила Нилочка, зарумянившись от радости.
– Пишет: чрез неделю после письма ждать и писателя его.
Нилочка подсела к Марьяне Игнатьевне на диван, и они обе начали снова читать письмо Бориса Щепина. Окончив, они снова перечли его. И так раз до десяти… Это бывало всегда.
VI
В тот же ненастный угрюмый день, в сумерки, во двор крутоярских палат въехал верхом солдат и передал людям большой пакет, – это был посланный с письмом от самарского губернатора к опекуну Мрацкому. Солдат заявил, что ему указано дождаться ответа.
Сергей Сергеевич Мрацкий сидел у себя в рабочей горнице за письменным столом, когда ему подали письмо губернатора. Это был человек очень маленького роста и очень худой, следовательно, очень невзрачный и неказистый, именно то, что называет народ «заморышем».
Однако было в нем нечто, что не позволяло считать его заморышем. Это был взгляд маленьких серых глаз. В них было что-то особенное, невольно обращавшее на себя внимание каждого. В них было столько силы загадочной, недоброй, как бы каждому опасной, что всякий невольно относился к Мрацкому любезно и приветливо, а иногда и подобострастно, как бы ради одной самозащиты.
Сам Мрацкий не любил своих глаз.
– Треклятые! – говорил он сам себе, стоя иногда перед зеркалом. – Выдают поневоле! С этими гляделками не пройдешь за скромного и тихого человека. Очки, что ли, синие завести?
И Мрацкий серьезно думал об очках и собирался носить их, но никогда не собрался. Давнишнее желание Мрацкого было странное, редко встречаемое на свете. Ему всегда желалось, а в особенности с тех пор, что он был опекуном крутоярской царевны, слыть за человека самого простого, безучастного ко всему, смирного и, пожалуй, даже ограниченного.
Цель была простая. Ему хотелось быть волком в овечьей шкуре. Разумеется, этого никогда не удавалось. Мрацкого за всю его жизнь никто не любил и все боялись, даже и те, на судьбу которых он не мог ничем повлиять.
С юношества, с первого капральского чина и до отставки уже в чине полковника, Мрацкий был среди товарищей отрезанным ломтем. Если он оставался со всеми в приличных отношениях, то благодаря исключительно всеобщей боязни заводить с ним какую-либо ссору.
Репутация его в Петербурге была нехороша и, бог весть, каким образом втерся он в дом гетмана Разумовского и совершенно неведомо, почему и как был избран честным и прямодушным графом Кириллом Григорьевичем в опекуны малютки Кошевой.
Семья – жена и дети и более полудюжины родственников – относились к Сергею Сергеевичу на особый лад. Анна Павловна Мрацкая любила мужа потому только, что «муж есть глава жены, яко Христос – глава церкви». Дети любили отца тоже на основании пятой заповеди. Родственники и домочадцы любили Сергея Сергеевича потому, что он был «наш кормилец и поилец».
Впрочем, Мрацкий ни к кому из близких несправедлив никогда не бывал. Он был только тяжел. Это был семейный камень, придавивший всех, от жены и детей до последнего дальнего родственника – глухонемого Пучкова.
Чрез несколько минут после появления верхового на дворе в горницу к Мрацкому вошла высокая и полная женщина. Рост и тучность в ней были таковы, что из нее легко бы можно было выкроить четырех Сергей Сергеевичей.
Муж и жена были противоположностями во всем, как физически, так и нравственно. Анна Павловна была добрейшее и тишайшее существо, потому что была ленивейшая и сонливейшая женщина на свете.
Существование ее проявилось и проявлялось только тем, что она родила двенадцать человек детей, из коих только шесть были в живых, и теперь ожидала седьмого или тринадцатого по счету.
Анна Павловна принесла сама письмо, так как в маленькую угловую горницу, в которой сидел теперь Мрацкий, почти никто не допускался. Только старик лакей Герасим имел право входить рано утром и обметать пыль со столов, где лежали кипами всякого рода бумаги.
Помимо опекунского управления у Мрацкого были и другие дела, о которых ходили в Крутоярске только смутные слухи. Знали наверное только одно, что Мрацкий один из второстепенных членов соляного откупа.
– Сергей Сергеевич! – выговорила женщина, входя в горницу своей особой походкой мелкими шажками и переваливаясь с боку на бок.
– Чего еще? – отозвался Мрацкий не оборачиваясь.
– Гонец из Самары от губернатора. Вот!.. – И Анна Павловна протянула мужу большой пакет с восковой печатью.
Глаза Мрацкого блеснули сильнее. Он взял пакет, повертел его в руках, затем, не распечатывая, бросил перед собой на стол, вскинул маленькие серые глаза на жену и выговорил:
– Начинается!
Анна Павловна с трудом уместилась на маленьком стуле, стоявшем неподалеку, и, уподобляясь большому забору на подпорке, глупыми глазами смотрела на мужа. Противоположность во всем со своим мужем, она и взглядом отличалась от него тем, что была, по русскому выражению, «лупоглаза…». Те же глаза передала она и старшему сыну Илье.
– Да, сударыня, – ехидно выговорил Мрацкий, – начинается!
– Что же такое-с?
– А то, что всякому понятно, кроме тебя, дуры.
– Это, Сергей Сергеевич, конечно. А вы скажите…
– Начинается, сударыня моя, давно мною ожидаемая война, вроде вот той, что прозывают семилетней с немцами. Вот и у нас в Крутоярске начинается война и долго ли продолжится – неведомо. Может, четыре года, может, и больше, может, до совершеннолетия Нилочки и вступления во все ее права. А может, война возгорится и в несколько месяцев окончится, а кто победит – неизвестно. Надо надеяться, что Сергей Сергеевич Мрацкий! А потому, думаю, он победит, что от пушки и до перочинного ножа включительно всякое при нем оружие будет. Во всеоружии воевать будет, как сказывается!..
Все это Мрацкий проговорил, глядя в окно, где бушевало ненастье, мелкий дождь, ветер и холодная сырость.
– Да вы, Сергей Сергеевич, опять так все рассказали, что я, по моему малоумию, ничего не поняла. С кем же война-то? С туркой, что ли?
Мрацкий качнул головой.
– Что же, пожалуй, что и с туркой тоже будет, коли не с самим туркой, то с татарином… с Никишкой! Он ведь тоже полутурка. Да и неужто же ты, моя оглашенная, – мягче и почти нежно выговорил Мрацкий, глядя на жену, – неужто ты совсем не догадываешься, что это за письмо из Самары. Вот, не читая, тебе прочту. Слушай, вот что тут написано!
И Сергей Сергеевич, положив руку на пакет, начал говорить:
– Дорогой и достоуважаемый приятель и сосед Сергей Сергеевич! пишу вам со скорым, чтобы поведать важное дело, с коим я на сих днях буду иметь великое удовольствие побывать в Крутоярске. А приеду я к вам, чтобы совать нос туда, куда меня не спрашивают, привезу с собой своего родственника – нищего князька, которого я, ни к черту не годный губернатор, хочу пристроить, женивши на опекаемой вами богачке. Вот ты это знай заранее, обдумай и придумай какие-либо средства меня заставить отъехать «несолоно хлебавши», потому что виды у тебя у самого на царевну другие – свои собственные. Денежки Нилочки и тебе тоже нравятся, как и мне. У меня князек – дальний родственник, а у тебя Илья – родной тебе сын. Понятное дело, что ты меня примешь, как козла в огород.
Мрацкий замолчал, а Анна Павловна, давно сидевшая с удивленным лицом, вымолвила:
– Неужто же это он все пишет? Ведь тут и благоприличия нет никакого. Зачем же он ругается?
Мрацкий, не отвечая, разорвал пакет, вынул письмо, прочел его и затем обернулся к жене.
– Ну, вот, оглашенная моя, как я сказал, так и есть. Приедет он на сих днях со своим князьком сватать его. Вот и прав я, говоря, что начинается война.
Наступило молчание, после которого Анна Павловна тем же своим добродушно-глупым голосом спросила:
– Как же нам быть-то, Сергей Сергеевич?
– А что?
– Да Илья-то…
– Ну, так что ж?
– Да как же, говорю, быть-то? Ведь за двух замуж не выйдешь! Коли она пойдет за этого князя, Илья-то наш при чем же останется?
– С носом останется, голубушка!
– А вы не допущайте, все в вашей воле.
– Вот я и буду не допущать. Оттого война и будет. Но мне бы хотелось, чтобы Нилочка действовала, сама отказала, а не то, что мне ее пугать да против нее идти. Это своим чередом после будет, когда навернется другой какой… А их теперь, женихов, посмотри, тьма будет! Так один за другим и посыпятся! Всяк знает, что ей скоро семнадцать лет.
Мрацкий помолчал, подумал и наконец выговорил:
– Ты, Анна Павловна, теперь чаще ходи к этому дьяволу Марьяшке и сиди с ней, и в любви изъясняйся. Говори ей, что не ныне завтра наш Илья отправится на вторичную службу в Петербург.
– Зачем же ему ехать?! – ахнула женщина.
– Ох, оглашенная, да никуда Илья не поедет, а ты ей-то сказывай это. Если она заговорит что-нибудь насчет наших видов на Нилочку, так ты говори, что это давно оставлено. Поняла?
– Поняла-с…
– Ну, а потом будь добра и приветлива с Никишкой и так ему обиняком сказывай, что коли у него денег мало, коли понадобятся когда, да отец не дает, то чтобы у тебя попросил. А ты тогда приди ко мне да возьми. Сколько бы Стенька Разин ни попросил, я ему всегда дам. Спешить надо, а то он все вертится, вертится, а все еще не свертелся! Надо ему помочь шею себе свернуть. Ну, постой, еще что? Да… Где Аксютка, буфетчикова внучка, красавица-то ваша крутоярская?
– Ее, Сергей Сергеевич, на огороды послали за что-то, картофель рыть, а кончит – на скотный двор пошлют.
– За что же это?
– А уж не знаю…
– Кто же это распорядился?
– Да вы же, Сергей Сергеевич.
– Полно врать! Я-то – я, да я этого не знал и не знаю… Кто-нибудь из холопов подвел. Прикажи тотчас ее в дом опять взять, да выряди ее и никакой работы ей не давай, слышишь? Будь ты на что-нибудь годна, полно спать-то! – вдруг возвысил голос Мрацкий. – Ведь нельзя век свой храпеть! Теперь времена, видишь, какие подошли… Встряхнись, будь хозяйкой! Поняла?
– Поняла-с…
– Поняла-с, поняла-с! А сама сидишь – спишь! Приодень Аксютку, чтобы была совсем франтиха, и балуй на все лады. А как только приедет сынок Марьяшкин, так сейчас отрядить Аксютку к нему в услужение по части белья, что ли, чтобы она так при нем и состояла. Ну, вот, это пока все. Первое расположение войск перед цитаделью. Только не напутай, помни! Первое – с Марьяшкой любезничай и уверяй ее, как бы хорошо было Нилочке выйти замуж за князя, а второе – Илье пора уезжать на службу… Третье – Никишке деньги обещай и приходи за ними ко мне. Четвертое – Аксютку к Борьке, когда приедет, приставь… Не спутаешь?
– Зачем, Сергей Сергеевич?
– А затем, что ты – дура! – вдруг воскликнул Мрацкий, – Ну, ступай! Пришли через полчаса за ответом губернатору. Ну, а завтра я с Ждановым и с Марьяшкой буду совет семейный держать насчет князька. Да, думал я, а не ожидал, что так скоро будет начало военных действий. Думал, еще годик пройдет, ан вон оно сразу!.. И князек паршивый полез, и Борька из Питера не ныне завтра явится, да и Никишка, черт, вот уж месяц не буянит и трезвый ходит… Все напасти! Черт бы их всех драл! А тут еще двести возов соли пропало в пути! Ведь при этаких обстоятельствах голову-то бы надо иметь саженную, чтобы в ней все уместилось, а она у меня вон она… крошечная!
– Зато она у вас, Сергей Сергеевич, о семи пядей во лбу.
– Это ты откуда же выудила? Не сама же придумала?
– Все так сказывают, что вы – умнеющий человек.
– Да, около них, дураков, пожалуй, что и умен, а вот для самого себя кажусь иногда чистый дурак… Ну, уходи! – кончил Мрацкий, махнув на жену рукой.
VII
В тот же день во всем доме было всем уже известно, что губернатор с родственником князем собираются в Крутоярск со сватовством. Известие почти никого не удивило, так как князя Льгова давно уже считали почти самым лучшим претендентом на руку царевны.
Но, однако, все чуяли, что дело просто не обойдется. Может быть, Нилочка сразу изъявит свое согласие, но ей, по несовершеннолетию, рассуждать не дадут, решат за нее ее судьбу. Покорится она – и все обойдется мирно и тихо, а не покорится – будет дым коромыслом в Крутоярске. Война, о которой говорил Мрацкий, чуялась всем.
В тот же вечер Мрацкий послал сказать своему товарищу по опекунскому управлению, а затем и главной нянюшке Марьяне Игнатьевне, что просит обоих пожаловать к нему утром для совещания.
Мрацкий всегда поступал так и сносился со всеми, как если бы жил не в одном и том же доме, а в другом городе. Иногда случалось ему даже писать Жданову из левого крыла дома в правый и просить письменного ответа.
Жданов заставлял писать ответ какого-нибудь писаря и только подписывался длинною подписью: «прапорщик лейб-гвардии Ее Императорского Величества Петр Иванов, сын Жданов». Иногда подпись эта бывала длиннее коротенького ответа: «Беспременно буду» или: «Как пожелаете».
Посланный Мрацкого принес ответ, что Петр Иванович – на охоте за зайцами вместе с Никифором Петровичем, а Марьяна Игнатьевна обещалась быть.
– Когда же будут обратно с поля? – спросил Мрацкий.
– Ночью или на заре, сказывают, велели себя ждать.
– Хорошо, если приедет трезвый, – пробурчал Мрацкий, – а то отлагай дело, пока не проспится!
Петр Иванович Жданов, второй опекун, но не в действительности, а только ради формальности, был очень удобным товарищем по опекунству для Мрацкого.
Петр Иванович не вмешивался буквально ни во что уже много лет и только давал свою длинную подпись на самых важных бумагах. Он не пользовался никаким значением, не пользовался даже и видимым уважением обитателей Крутоярска.
С ним обращались все запанибрата, даже писаря опекунской канцелярии грубили ему, и иногда Жданов принужден был жаловаться на них Мрацкому.
Произошло это потому, что Жданов был чрезвычайно добродушный и беспечный человек. При этом у него было две страсти: охота и вино. Большую часть времени он был навеселе: никогда не пьян совершенно, но редко и в нормальном состоянии.
Будучи страстным охотником, он иногда отлучался из Крутоярска на неделю и более в дальние болота. При нем был целый штат охотников – всякого рода разношерстный народ. Тут были и нахлебники, и писаря канцелярии, и дворовые, и крестьяне, и настоящие пройдохи, являвшиеся в Крутоярск к барину Жданову с коротким объяснением:
– Я тоже охотник! Дозвольте быть при вас.
Однажды один из самозваных гостей даже обокралЖданова: свел отличную собаку и стащил пару дорогих пистолетов. Насколько Мрацкий был занят разного рода делами, жил с постоянными планами и проектами, один другого хитрее, настолько Жданов был вечно свободен, праздный и веселый, но при этом постоянно витавший мыслями в поднебесье.
Жданов был, сам того не зная, поэт и музыкант в душе. Он страстно любил слушать и петь народные песни и бренчать на балалайке и немножко на гитаре. Тайком от всех Жданов сочинял сам песни и певал их на привалах во время охоты своим соратникам, т. е. своей шайке прихлебателей-охотников.
Ни разу никому не пришло на ум, что песни, петые Ждановым, – его собственного сочинения.
Все удивлялись только, откуда Жданов достает их. Иным совершенно искренно казалось, что они эту песню уже слышали где-то, когда-то, готовы были поклясться, что они песню знали, да забыли.
И этим наивно подтверждалось то обстоятельство, что песни Жданова были чистые, неподдельные народные песни. И Жданов сам не знал, что, может быть, лет сто спустя после него, будет петься на Руси его песнь и про нее скажут, что ее «сложил русский народ».
Одно странное, непостижимое обстоятельство было загадкой. Все песни сочинения веселого и беспечного холостяка были грустны и тоскливы. Иногда в иной выражалась глубокая скорбь обо всем в мире. Одна песня, звавшаяся «Ох, неволя, неволюшка!», в которой повествовалось о жизни и приключениях крепостного парня, заеденнего помещиком и миром, часто вызывала слезы на глазах его товарищей по болотам и лесам.
Разумеется, сочинитель этой песни за всю свою жизнь пальцем не тронул ни одного из крепостных холопов. Он понимал отлично и оправдывал, как кругом него порют и бьют, и в солдаты сдают, и в Сибирь ссылают разных рабов, но сам ни разу в жизни не сделал никого несчастным.
И вот именно невидимая музыка в душе пожилого холостяка заставляла его так относиться к последнему писарю, к последнему дворовому, если он только был его товарищем по охоте, что все в Крутоярске относились к нему как к равному и, следовательно, часто грубили ему.
Жданов всю жизнь избегал женщин и смотрел на брак так же, как другой смотрит на поступление в монастырь. Жениться значило для него – заживо похоронить себя. Однако раз в жизни холостяк отдал сердечную дань.
Будучи по делам в маленьком городке почти на границе крымского ханства, он из жалости купил на базаре девчонку-караимку, болезненную и некрасивую, продававшуюся «на побегушки», т. е. как прислуга. Девчонке было всего 14 лет. Жданов купил ее с целью перепродать или подарить, но с тем, чтобы она попала к добрым людям. Таких долго не находилось, и, не зная, куда девать свою покупку, он оставил ее на время у себя в доме в помощь своей стряпухе… А затем как бы забыл о ней…
Прошло года три, и Жданов, как-то однажды вернувшись с охоты, вдруг заметил, что караимка[5] оправилась и стала очень недурна собой. В этот день на 17-летней девушке было новое красное платье и она бросилась ему в глаза поневоле.
Не будь красного платья, Жданов, может быть, еще долго не заметил бы преображения некрасивой девчонки в красивую девушку.
И он стал замечать ее чаще… т. е. обращать на нее внимание. Караимка оказалась скромной и очень не глупой, затем оказалась доброй, затем привязчивой, чувствительной ко всякой ласке.
Как-то вдруг однажды к вечеру Жданов, болтавший с девушкой о пустяках, заметил, что она «чудно» смотрит на него. Он испугался ее глаз… Он именно от таких женских взглядов всегда бегал еще смолоду. Жданов решил скорее продать караимку, чтобы сбыть с рук от «греха».
Но когда наступил час, условленный с соседом для продажи, случилось целое происшествие.
Караимка собралась топиться, предпочитая смерть разлуке с своим добрым и ласковым барином…
Разумеется, она осталась в доме и перестала быть на кухне.
Чрез два года у нее родился ребенок, названный по дню рождения Никифором, но еще чрез год после вторых родов и мать, и мертворожденная девочка были похоронены вместе.
После потери единственного любившего его существа Жданов снова по-старому избегал всех женщин на свете.
VIII
На следующий день уже после полудня Мрацкий ожидал в маленькой гостиной своего товарища-опекуна и главную мамушку. Он вышел из своей рабочей горницы, так как в ней никогда никого не принимал.
Расхаживая тихими шагами по гостиной, в ожидании приглашенных им на совещание, Мрацкий раздумывал, очевидно, о чем-то веселом или забавном, так как изредка ухмылялся, то самодовольно, то презрительно. Наконец он подошел к окну, остановился и начал шептать вслух:
– Три мышеловки самые настоящие! На каждую мышку по одной! И в каждой мышеловочке по кусочку говядинки… Вся сила в том, хорошо ли наложены крючочки, хлопнут ли дверки, когда мои мышата глупые будут дергать говядину. Да, будет ли удача? Сомнение берет. Ну, да это хорошее дело. Как меня возьмет раздумье, сомнение, опасение за свой разум и за свою ловкость, так всегда удача пущая бывает. Относительно головореза Никишки бояться нечего. Он за сто рублей миллион продаст и после только разочтет, что потерял. Опасаться надо князька и Борьки. А уж для Никишки третья мышеловка так про всякий случай заготовлена. Господи помилуй, когда подумаешь, что все дело в этой тощей выдре Марьяне! Околей она за это время, была бы Нилочка одна на свете, приставил бы я к ней другую мамку, и были бы обе у меня в кармане. И был бы мой Илья крутоярским помещиком. За все эти одиннадцать или двенадцать лет не было ни одного случая Марьяну похерить! Вот, сказывают, теперь в Оренбурге бунтуют разная татарва и казаки, какой-то беглый каторжник выдает себя за покойного императора Петра Федоровича. На руку бывает это умным людям в их делах. Недаром пословица сказывает: «В мутной воде легче рыбу поймать». Да, кабы замутилось тут вокруг нас все, я бы в этой мути Нилочку как раз бы в невестки выудил себе.
Мечтания и шепот Мрацкого были прерваны скрипом отворяемой двери. Он обернулся. В горницу вошла Марьяна Игнатьевна.
Несмотря на жизнь под одной кровлей, Мрацкий и Щепина виделись изредка. Теперь уже дней десять не видели они друг друга. Дня три или четыре назад Мрацкий видел Марьяну Игнатьевну только из окна, когда она гуляла по дорожкам сада со своей питомицей.
– Здравствуйте! Как поживаете? – любезно выговорил Мрацкий.
– Ничего, слава богу! – отозвалась Щепина.
– Присядьте, Петр Иванович сейчас, вероятно, придет. Надо нам, Марьяна Игнатьевна, побеседовать о важном деле. Вы ведь тоже, так сказать, третий опекун.
Они сели к столу. Мрацкий вздохнул притворно и выговорил:
– Да, обуза немалая – чужого ребенка опекать! Что ни сделаешь в его пользу, люди переиначут, добро злом сочтут, участие – корыстолюбием, строгость – притеснением. Да, тяжелое дело! А то еще и вором чужого имущества поставят. Вот как меня теперь! Опять стали говорить, что я – грабитель, разоряю Кошевую, а сам наживаюсь. Я чай, слышали, что с неделю назад в Самаре на бале предводителя про меня было сказано.
– Слышала, Сергей Сергеевич. Что вы покупаете новую вотчину в Рязани, что ли, в Пензе.
– Ну, да-с.
– Так ведь это же правда! – вымолвила сухо Марьяна Игнатьевна.
– Правда, матушка, я не скрываю, но извольте узнать – на какие деньги! Соль мне дает эти деньги, откуп дает, а не доходы крутоярские.
– Это, Сергей Сергеевич, никому не известно, какие деньги идут в ваш карман. Они не меченые. Кабы на каждом рубле стояла надпись «Нилочкин», тогда бы можно было разобраться. А то ведь рубль-то – все рубль. Что заработанный, что уворованный – он все один и тот же светляк целковый.
Мрацкий ничего не ответил. Подобные разговоры изредка, раза два в году, бывали между ним и Щепиной. Никогда эта женщина, наподобие других, не избегала прямых ответов, не скрывала своей мысли.
Она сама никогда не говорила людям, которых не любила, прямо и резко своего невыгодного для них мнения, но, когда ее вызывали на разговор вопросом, она отвечала прямо, что думала.
Мрацкий понял, что если он начнет оправдываться, то Щепина прямо скажет ему: «Уверена я, что все рубли – Нилочкины».
– Когда ждете к себе дорогого сынка, Бориса Андреевича? – произнес Мрацкий приветливо, чтобы переменить разговор.
– Вскорости жду.
– Не надолго?
– Уж не знаю, право… Желалось бы мне подольше его поглядеть, а там – как начальство.
– Полагаю я, что и Нилочка теперь с вами радуется – ждет не дождется Бориса Андреевича?
– Да, радуется…
– Ведь она его любит, обожает не меньше вас. Он ей, так сказать, брат родной.
И при этом Мрацкий ехидно глянул своими проницательными и злыми глазами в строго-хододное лицо Щепиной.
– Да, конечно, – отозвалась Марьяна Игнатьевна. – Вместе росли, что брат с сестрой – как же не любить!
– Да, да… Именно братнина и сестрина любовь. Душа в душу ведь они жили, вместе игрывали, дрались, мирились, целовались… Борис Андреевич для Нилочки – самый близкий человек… Думаю, приглянись кто ей, первому вашему сынку поведает свою тайну… Прежде вас ему поведает, что сестра брату.
В словах Мрацкого, по-видимому, не было ничего, кроме приятного для главной мамушки, а между тем Щепина, несмотря на умение сдерживать себя, умение составлять выражение лица, какое ей хотелось, все-таки теперь не сдержалась, – брови ее сдвинулись, в глазах виднелся гнев. И это заставило Мрацкого подумать про себя: «Умная баба, а в этом дура! Думает, никому не ведомо! Чисто как тетерька, сунула голову в траву, а сама вся наружи и думает, что коли сама ничего не видит, так и ее не видно».
Мрацкий снова собрался заговорить что-то ехидное, судя по новому выражению, которое появилось на его лице, но в эту минуту дверь отворилась и вошел довольно высокий, плотный человек с сильной сединой в коротко остриженных волосах. Полное лицо было красновато, большие, добродушные, серые глаза смотрели сонно или были опухши. На нем было русское платье, кафтан, шальвары и высокие сапоги.
Это был Жданов, вернувшийся поздно с охоты, только что проснувшийся и поспешивший на приглашение товарища по опекунству. Он поздоровался с Мрацким и Щепиной, потом торопливо сел тоже к столу и, поглядев на них, начал улыбаться. Лицо его говорило:
«Ну, вот и я! Звали, беседуйте, я сейчас подмахну, если не рукой, так разумом. Что ни предложите, я сейчас готов с большим удовольствием».
И в эту минуту Жданов думал:
«Эх, остынет там все! Разогретое потом ешь!»
– С хорошим полем поздравить можно? – спросил Мрацкий.
– Да-с, да-с! – оживился Жданов. – Некуда девать! Две дюжины зайцев отправил в Самару, в подарок куму, две дюжины к вам, на кухню доставили, да еще две или три распределили по дому. Нынче к вечеру во всяком-то крутоярском жителе в животе кусочек зайца будет!
– Нехорошо это, Петр Иванович! – усмехнулея Мрацкий. – Сказывают, заячье мясо есть не надо.
– Почему так?
– Сказывают, много его есть не надо. Трусливость в человеке от заячьего мяса распространяется. Сказывают, ешь человек всякий день зайца, то к концу года будет совсем ледащий… Трус, хуже малого ребенка.
– И, что вы! Полноте! – серьезно отозвался Жданов. – И сколько же я зайцев в год-то съем. Мое любимое блюдо! А ведь вот, кажется, не трус.
Мрацкий усмехнулся и подумал: «Хорош пример выискал!»
IX
После паузы Мрацкий, переменив голос, невколько важно произнес, оглядывая гостей:
– Вот-с, просил я вас, Петр Иванович, и вас, Марьяна Игнатьевна, на совещание опекунское первейшей важности. Распространяться не буду, сами сейчас уразумеете, в чем дело. Позвольте вам прочесть письмо, иолученное мною вчера от губернатора.
Мрацкий достал из бокового кармана бумагу и прочел ее вслух медленно и внятно. Затем он сложил листок, положил его в карман и вопросительно взглянул сначала на мамушку, а потом на опекуна.
И тот и другая молчали.
– Ну-с, что ж скажете?
– Да, что же-с… ничего-с! – весело отозвался Жданов.
Мрацкий перевел глаза на Щепину.
– И я тоже, Сергей Сергеевич, ничего сказать не могу… Послушаю прежде, что вы скажете.
– Извольте! Мое мнение будет такое-с, что князь Льгов жених завидный для всякой девицы, и, как бы Нилочка ни была богата, все-таки для нее это пара. Будет она княгиня Льгова, а ей при ее богатстве и при ее красоте только титулования не хватает. Князь – человек доброго нрава, тихий, любезный и неглупый, хорошим хозяином тоже будет. Чего же лучше желать?..
Говоря это, Мрацкий не спускал глаз с Щепиной, и, несмотря на старание той не выдать себя, он все-таки заметил в лице ее полное изумление и внутренно улыбнулся.
– Стало быть, Сергей Сергеевич, если Нилочка скажет, что князь ей по сердцу, то и вы согласны будете? – спросила Щепина.
– Конечно-с, а вы разве не будете согласны?
– Что ж мне! Мне счастие моей Нилочки всего дороже. Коли ее счастие в замужестве с князем, так и господь благослови! Только мало я этого князя знаю… какой он такой, совсем не знаю… может, злой!..
– Что вы! – воскликнул Мрацкий. – Добрейшей души человек!
– Сказывали тоже – сильно зашибал он, кутил, безобразничал в столицах, а теперь в Самаре тихоней прикинулся.
– Вздор все! Пустое, Марьяна Игнатьевна. И какой же молодой человек живет монахом? Женится – остепенится!
Щепина ничего не ответила и с озабоченным лицом наклонилась над столом.
– Ну, а вы, Петр Иванович, как скажете? – обратился Мрацкий к товарищу.
– Я что же-с… Я ничего-с… Только, позвольте доложить, ведь если Нилочка выйдет замуж, то мы-то с вами сейчас, стало быть, отсюда вон? Нас сейчас, опекунов-то, побоку?
– Понятное дело, Петр Иванович! Да ведь не век же нам девицу опекать! Все равно – будет совершеннолетняя, мы должны подобру-поздорову убираться. Двумя, тремя годами раньше или позже, – не все ли равно.
Жданов ничего не ответил и протяжно вздохнул. Веселое и оживленное лицо его стало сразу печально.
– Не нравится вам это, Петр Иванович?
– Как же, помилуйте, нравится? – вдруг упавшим голосом выговорил добродушный холостяк. – Как же это будет нравиться? У вас, Сергей Сергеевич, состояние большущее! Вы вон все вотчины покупаете, а я-то ведь, извините, месяц тому назад даже дедовы золотые часы в Самару послал продавать. Выйду я из опекунов, что же мне делать? К иному богатому барину в доезжачие, что ли, наниматься?
– Кто же виноват, Петр Иванович? Сами вы состояние протрубили на охоте. Не вы одни! Сколько на Руси дворян в таком положении. Ездил в поле с собаками, трубил, трубил, да все и протрубил.
– Нечего было, Сергей Сергеевич, протрубливать, извините. Я сюда прибыл, – у меня, почитай, ничего не было, как и у вас. А вот теперь, извольте видеть, через каких-нибудь одиннадцать с лишком годочков, вы-то – богач, а я-то – нищий! Вы поездом целым, цугом, с обозом и с поклажей выедете отсюда прямо к себе в какую вотчину не хуже крутоярской. А я-то суму за плечи, лапти на ноги – и по миру. Будь у меня еще сын на службе, а то у меня приемыш, да и тот служит только утробе.
– Позвольте, Петр Иванович, – строго выговорил Мрацкий. – Из ваших слов выходит все та же клевета, ходящая в губернии, насчет моего грабительства. Позвольте, вы такой же опекун, как и я, все бумаги подписываете. Кто другой может на меня напраслину взводить, а вы – уж извините! Коли я воровал, так и вы воровали. Только я сберегал и сберег, а вы финтили и все профинтили. Коли вы себя почитаете вором, – ну, так я промолчу.
– Я, Сергей Сергеевич, – глухо выговорил Жданов, сильнее покраснев в лице, – чужой полушки никогда не присвоил и на том свете господу богу в этом смело ответ дам.
– Господь бог, Петр Иванович, в денежные расчеты людские входить не станет. Но все это не к делу. Я вас прошу выразить ваше мнение насчет сватовства князя и знать наперед, что вы ответите.
– Что же мне отвечать? Что я ни ответь, все равно мои слова ни значения, ни пользы иметь не будут. Вы желаете, чтобы Нилочка была княгиней Льговой? Кажется мне это очень сомнительным и необъяснимым; но это ваше дело. А вот Марьяна Игнатьевна и совсем молчит, ничего не сказывает.
– Мне нечего сказать, – вдруг выпрямляясь, вымолвила Щепина. – Я, признаюсь, тоже удивляюсь. Не думала я, что Сергей Сергеевич согласится Нилочку так рано замуж выдавать, да еще за первого посватавшегося за нее молодца. Подумаешь, князей-то больше и нет на свете! Не он – так другой через год-два навернется получше. Я в этом деле, скажу прямо, действовать не стану ни против князя, ни за него. И Нилочке тоже ничего советовать не буду, – как она хочет.
– Так-таки ни слова и не скажете? – спросил Мрацкий.
Щепина молчала.
– Нехорошо это, Марьяна Игнатьевна! Вы для Неонилы Кошевой все одно что родная мать. Вы отвечаете перед богом за ее счастие. Вы должны теперь этого князя разобрать по ниточкам и, в случае какая ниточка окажется вам сомнительной, сейчас нам скажите и питомице скажите. И если ниточка эта грозит будущему счастию вашей питомицы, то вы не должны соглашаться, должны упорствовать.
– Из всего этого выходит, Сергей Сергеевич, что вы желаете со своих плеч свалить дело на мои плечи, желаете, чтобы отказ произошел от меня или от Нилочки с моих слов и советов. А иначе и понять ничего невозможно!
– И так, и не так, Марьяна Игнатьевна! Я ничего особенного против князя Льгова не имею и готов дать свое согласие, бросить управление опекунское и уезжать из Крутоярска. Но если вы найдете князя женихом неподходящим, то я тоже настаивать не стану и соглашусь с вами. И мы будем ждать другого жениха.
– И всего бы лучше ждать! – жалостливо выговорил Жданов. – Право, лучше… Неужто уж другого-то и нету? Ведь вот и вы, Сергей Сергеевич, и вы, Марьяна Игнатьевна, знаете, что есть другие женихи… Знаете тоже, и про кого я сказываю…
– Это все, любезный товарищ, крутоярские пересуды бабьи. Уж если есть, так один жених, а не два!..
И Мрацкий вскинул ехидные глаза на Щепину.
– Уж если есть жених, так действительно один… настоящий, – выговорила Щепина, – но не самый подходящий, не самый вероятный, потому что Нилочка за него не пойдет… Она лучше в монастырь пойдет!
Мрацкий, умевший сдерживать себя, вдруг задвигался на месте, лицо его на мгновение исказилось от прилива гнева, и он выговорил, слегка поперхнувшись:
– Все девицы монастырями стращают, а их скрути, прихлопни да хоть за козла выдавай!
– Это, это не про Нилочку сказать! Таковое с ней приключиться не может, – глухо проговорила Щепина. – У Нилочки – я! А пока я жива, царапинки на ее пальчике никто не причинит, а не только что прихлопывать да крутить.
– Да и никто и не собирается, Марьяна Игнатьевна, успокойтесь! – рассмеялся Мрацкий ехидно. – Полагать надо так, что у Нилочки столько женихов, что в конце концов ни одного не останется! Перегрызутся все вокруг нее, друг друга пожрут – и останется она одна-одинехонька.
Наступило молчание. Очевидно, все было сказано – и прямо, и намеками, и более не о чем было рассуждать.
Первый прервал молчание Жданов.
– Так как же-с, чем порешили?
– Да, собственно говоря, ничем. Будет губернатор с князем через три-четыре дня, будут свататься. Я буду свое согласие выражать. Вот Марьяна Игнатьевна свое несогласие по одной причине, а вы, Петр Иванович, свое несогласие – по другой причине. И причины эти, коим подобной у меня нету, совершенно законные: вам жаль опекунского места и деваться некуда, а у Марьяны Игнатьевны, может быть, другой какой жених на примете. Так ли, иначе ли, а вы двое будете против меня одного, ну, стало быть, князь и отъедет восвояси с арбузом в руках.
X
Вскоре яблоко раздора упало среди Крутоярска. Борьба началась. Через четыре дня после опекунского совещания во всей усадьбе было волнение и почти смятение среди всех ее обитателей. Обыденная жизнь Крутоярска, как и во всякой глуши провинции, шла настолько тихо, что малейшая новость или какое-либо маленькое приключение поднимали на ноги всех. А теперь в усадьбе было целое событие.
В доме, в комнатах, предназначаемых для приезжих гостей, остановились: отставной лейтенант корабельного флота Зверев и губернаторский родственник князь Льгов.
Появление Зверева было нечаянностью. Прежний опекун, когда-то отставленный благодаря клеветническому доносу, никогда не бывал с тех пор в Крутоярске. Теперь он явился в тот же дом, где когда-то был в продолжение двух лет главным лицом и полным хозяином.
Оказалось, что губернатор, интересовавшийся судьбой своего родственника, предпочел вместо себя послать своего хорошего приятеля – местного помещика.
Добродушный человек, уже старый, коварно удаленный когда-то от опекунства, и не думал мстить новым опекунам. Но теперь, когда молодой человек, князь Льгов, собрался предложить руку и сердце крутоярской царевне, Зверев, зная хорошо, что за человек Мрацкий, с удовольствием взял на себя роль свата и покровителя молодого князя.
И Зверев, и князь явились в качестве простых гостей, заявив, что они заехали по дороге на один день. Так требовали приличия. Все знали цель прибытия их, но прямо высказывать это не считалось возможным.
Переодевшись с дороги, оба гостя отправились с посещением в левое крыло дома, к самому главному опекуну, и, просидев у него с четверть часа, беседовали обо всем на свете, кроме самой сути дела, по которому приехали.
Затем они посетили Жданова и у него просидели несколько больше, благодаря тому, что Жданов и Зверев были, пожалуй, одного поля ягоды: один во время оно, другой теперь – страстные охотники и оба – люди прямодушные и добрые.
Затем гости, спустя час, направились посетить помещицу крутоярскую.
Прием гостей был совершенно официальный. Нилочка, одетая в парадное платье, вышла в итальянскую гостиную с ее оригинальными окнами, с золотисто-голубой мебелью, и села под большой портрет во весь рост покойной императрицы Елизаветы. Вместе с Нилочкой в темном, тоже парадном платье вышла Марьяна Игнатьевна. За нею пять прежних наставниц, а ныне именовавшихся штатными барынями.
Нилочка села на большой диван почти по его средине. Марьяна Игнатьевна поместилась на кресле около дивана. За нею на простых стульях сели штатные барыни. Все были по левую руку от барышни-помещицы. Направо несколько больших кресел остались свободными. Женщины довольно долго молча сидели в ожидании опекунов и гостей. Наконец, после почти двадцати минут ожидания, всем им стало очевидно, что нечто должно было совершиться и задержать визит приезжих.
Нилочка переглянулась уже несколько раз с своей старшей мамушкой, как бы спрашивая ее, что значит замедление. Наконец раздался вдали, в большой зале, звук шагов, затем снова все стихло и снова наступило гробовое молчание.
– Что ж это, Маяня? – вымолвила Нилочка.
– Непонятно, да и неблагоприлично! – отозвалась сухо Марьяна Игнатьевна. И, обернувшись к одной из штатных барынь, она прибавила: – Лукерья Ивановна, пойди, голубушка, скажи Сергею Сергеевичу – ждать нам или раздеваться?
Но едва только самая старая из всех штатных барынь двинулась с своего стула, как в зале раздался звук шагов нескольких человек, а через несколько мгновений в дверях из анненской гостиной в итальянскую показался Зверев и князь Льгов, а за ними – оба опекуна.
Марьяна Игнатьевна зорко и быстро окинула пытливым взглядом все четыре лица и подумала:
«Поспорили, должно, чуть не до драки!»
Действительно, все лица, за исключением лишь Жданова, были как-то странно оживлены. Зверев смотрел строго, но как добрый негодующий человек. Молодой князь имел несколько озадаченный вид. Мрацкий, вошедший с опущенными глазами, был бы любопытнее всех для всякого человека, увидавшего его в первый раз.
В иные минуты Мрацкий был именно любопытен тем, что лицо его не имело буквально никакого выражения. Оно ничего не говорило. Оно представлялось как бы под занавеской или под густым вуалем. И только одни крутоярские обитатели знали по опыту, что когда у Сергея Сергеевича лицо «деревянное» или «мертвецкое», то в эти-то минуты его и опасайся.
Гости раскланялись и сели по правую руку от хозяйки, а около них поместились и оба опекуна.
Зверев заговорил первый, что заехал в гости вместе со своим юным другом по дороге в Сызрань. Затем Зверев напомнил Нилочке, что давно, когда она была еще крошкой, он был ее опекуном.
– Я знаю, почти, могу сказать, помню, – отозвалась Нилочка.
– Ну, помнить-то вряд вы можете, вам было тогда очень немного… годка четыре. А вот Марьяна Игнатьевна, конечно, меня не забыла.
Щепина улыбнулась и, не глядя ни на кого, ответила:
– Еще бы не помнить! Мы с вами, Фома Фомич, дружно жили.
– Дружно, дружно, – быстро отозвался Зверев и прибавил: – Спасибо вам за то, что вы мое имя и отчество не забыли.
И Зверев заговорил с Щепиной, спрашивая про разных лиц из крепостных людей, которые в те времена были в Крутоярске. Оказалось, что многих из стариков уже не было на свете.
В ту же самую минуту князь заговорил с Нилочкой, спросив, давно ли она последний раз ездила за грибами в лес. При первом же вопросе своем молодой князь таким проницательным и в то же время влюбленным взором посмотрел на Нилочку, что девушка закраснелась немного при первом же своем ответе.
Князь, высокий и стройный молодой человек, был не столько красив собой, сколько пригож. Большие, добрые, карие глаза, небольшой, как-то добродушно вздернутый нос, красивые губы с мягкой ласковой улыбкой и наконец приветливый вкрадчивый голос. Несмотря на свою гражданскую службу, князь носил мундир Измайловского полка, который, конечно, красил его.
И Нилочка, и князь оживленно разговорились о грибах, о том, что за лето было как-то особенно много мухоморов, о том, что опенки – грибы хорошие, но скоро прискучивают, оскомину набивают.
На основании этого разговора молодые люди пришли к убеждению, вполне несомненному и ясно выраженному с обеих сторон, что они сильно нравятся друг другу и, конечно, оба готовы венчаться хоть сейчас же.
Нилочка, видевшая князя уже не в первый раз, давно, в долгие скучные вечера, мечтала о князе, иногда видела его во сне. Это был единственный человек в настоящее время, за которого крутоярская царевна пошла бы замуж, как говорится, с руками и с ногами.
Князь, первый раз явившийся когда-то в Крутоярске, приехал познакомиться с богатой невестой, так как искал приданое, чтобы пристроиться. Но с первого же раза девушка настолько понравилась ему, что он был бы способен жениться на ней, если бы у ней было и самое маленькое состояние.
Побывав несколько раз после того в Крутоярске, он не каждый раз мог видеть Нилочку. Опекуны принимали его неприязненно, в особенности, конечно, Мрацкий. Однако за каждое свое посещение князь уезжал из Крутоярска под впечатлением, что он нравится Кошевой.
Теперь в один миг, благодаря беседе о мухоморах и опенках, он вдруг как-то особенно ясно увидал, что он не только нравится, а пожалуй, и любим девушкой.
Лицо князя Льгова сразу оживилось, стало еще приветливее и красивее. Он начал красно говорить о Петербурге, куда недавно ездил, и стал доказывать Нилочке, что ей бы следовало тоже побывать на берегах Невы и даже в качестве крупной русской помещицы-дворянки представиться монархине.
Князь вдруг обернулся к обоим опекунам и прибавил:
– Вот вам, господа опекатели и воспитатели, следовало бы свозить Неонилу Аркадьевну в обе столицы. Путешествие было бы и высокоприятное, и назидательное.
– На ум как-то не приходило! – выпалил наивно Жданов и при этом даже рот разинул, как бы сам себе удивляясь.
– Юной девице-сироте не полагается по свету мыкаться зря! – сухо выговорил Мрацкий.
– Ради любопытства и самопросвещения, – начал было князь, но Мрацкий перебил его:
– Мы, опекуны, заведуем управлением всех вотчин, а что касается до воспитания Неонилы Аркадьевны, в этом ответственное лицо Марьяна Игнатьевна.
– Точно так-с! – отозвалась Щепина. – Я много раз последние годы предлагала побывку и в Москву, и в Петербург, но Сергей Сергеевич не нашел сего возможным, ссылаясь на большие расходы и недостаток казны в Крутоярске.
И тотчас же между Марьяной Игнатьевной и Мрацким завязался разговор, состоящий из коротеньких фраз, и каждая из них была шпилькой для другого.
– Выйдет Неонила Аркадьевна замуж и поедет куда ей заблагорассудится! – сказал наконец Мрацкий, чтобы кончить пререкания. И он прибавил, улыбаясь и обращаясь к Нилочке: – Так ли я сказываю?
– Совершенно так, Сергей Сергеевич! – ответила девушка, причем лицо ее из веселого и приветливого стало сразу холодно и неприязненно.
Зверев поднялся, за ним тотчас же князь, и оба стали раскланиваться.
– Вы сегодня у нас откушаете? – спросила девушка.
– Как же-с… если позволите… мы предполагали… – выговорил Зверев.
– Прошу сделать мне эту честь и прошу погостить в Крутоярске денька три-четыре.
После этих слов Нилочки наступило сразу гробовое молчание в гостиной. Все до единого человека, мужчины и женщины, были поражены этими словами. В первый раз опекаемая сирота выразила желание или свою волю, не спросясь ни у кого, не предупредив тоже никого.
От опекунов и мамушки до штатной барыни Лукерьи Ивановны – все вытаращили глаза и устремили их на царевну.
А царевна сидела спокойно, с весело улыбающимся лицом, хотя с легким румянцем, заигравшим вдруг на щеках. И, глядя в лицо молодого князя, она как бы ждала прямого ответа.
– Если позволите… мы, конечно… Если на то ваше желание… – начал путать князь, почему-то тоже смутившийся, быть может, от мелькнувшей ярко надежды.
– Сделаете нам великое одолжение, – вымолвила Нилочка. – Мы тут живем так тихо, что рады гостям. А вы, Фома Фомич, и князь – тоже, хотя и незваные гости, а самые для нас дорогие… Позвольте мне просить вас пробыть в Крутоярске дня три-четыре и кушать ежедневно не у господ опекунов моих, а у меня.
Зверев и князь Льгов поблагодарили, поклонились и двинулись из гостиной. Вслед за ними двинулись и опекуны. И Жданов на ходу нагнулся к маленькому Мрацкому и шепнул ему на ухо:
– Вот так блин!
Мрацкий ничего не ответил и бровью не двинул.
– А за блином-то сейчас чистый понедельник! – снова шепнул Жданов и начал смеяться.
XI
Когда гости вышли, Нилочка чинно поднялась с большого дивана, как бы с какого трона, и тихо двинулась, в сопровождении мамушки и штатных барынь, в свои горницы. Однако у дверей первой же ее горницы придворные дамы крутоярской царевны откланялись и отправились к себе.
Нилочка осталась у себя глаз на глаз с мамушкой и, веселая, все еще румяная, бросилась вдруг на шею к Щепиной и начала ее целовать.
Лицо Марьяны Игнатьевны, уже несколько мрачное еще в гостиной, стало теперь темнее ночи.
– Что ж ты, Маяня? Что ты такая?! – воскликнула девушка.
– Ничего, золото мое…
– Как ничего? Посмотри лицо-то свое!.. Ты будто гневаешься, что я вдруг так распорядилась по-хозяйски… стала приглашать гостей.
– Нету… Что ты?..
– Как – нету? Вижу… рассердилась… А за что же? Оба мои опекателя молчат, видно, что хотят выжить поскорей из дому и прежнего опекуна, и молодого князя. Да и ты молчишь… Нельзя же так… Невежество!..
– А знаешь ли ты, Нилочка, зачем они приехали? Я тебе об этом не сказывала…
– Точно, Маяня, не сказывала, но я знаю…
– Как?! Каким путем?! – воскликнула Щепина. – Кто посмел тебе мимо меня нашептывать?
Нилочка подпрыгнула раза два как ребенок, потом отбежала, села в свое кресло около угольного окна, выходившего в сад, – ее любимое местопребывание, – и вскрикнула смеясь:
– Садись, Маяня, садись вот сюда!..
Щепина с тревожным лицом быстро подошла, опустилась на стул и пытливо впилась глазами в лицо девушки. Она приняла ее на руки через несколько дней после ее рождения, знала почти семнадцать лет и теперь не находила… Ее Нилочка исчезла!.. Перед ней сидела какая-то другая девушка, которая и смотрит, и говорит совершенно иначе.
– Что с тобой? Христос с тобой! – выговорила Марьяна Игнатьевна, глядя на питомицу и совершенно пораженная превращением, совершившимся на ее глазах в несколько мгновений.
– Ничего со мной, Маяня… Рада я…
– Чему?
– А тому, что князь приехал, и тому, что свататься будет нынче или завтра… Фома Фомич за него говорить будет, а Сергей Сергеевич отказывать будет, а Петр Иванович охать и жалиться будет, но тоже петь в голос Сергею Сергеевичу. А ты опасаться будешь, что и человек-то князь, может, нехороший, и буян, и столичный головорез. Ну, и всякое такое…
– Ну, ну, ну?.. – нетерпеливо и с тревогой в голосе выговорила Щепина.
– Ну, что ж… ничего!.. Всякий-то свое будет выводить…
– А ты-то, ты-то… сама что же?..
– Я-то?.. Я под опекой… Я ничего не могу!.. Как он мне ни приглянулся, как ни будь по душе, – что же я сделать могу?.. Да… одно я сделать могу…
Нилочка протянула руку, положила на пяльцы, стоявшие около ее кресла, точь-в-точь так, как императрица Елизавета на своем портрете держит руку над скипетром, и выговорила, отделяя паузой слово от слова:
– Я… одно… могу… говорить… Нет… нет и нет!.. И… никогда… ни за кого… против воли… замуж не пойду… Годов князю немного, мне и того меньше. Хоть и четыре года подождем до моего совершеннолетия…
– Как ты смеешь так рассуждать? – вдруг вскрикнула Марьяна Игнатьевна, изменяясь в лице.
Нилочка вздрогнула. Взгляд ее сразу стал тревожным. Она откинулась на спинку кресла и широко раскрытыми, почти испуганными глазами смотрела, не сморгнув, в искаженное неведомым ей чувством лицо своей второй матери.
– С каких пор?.. Когда?.. Ничего не понимаю!.. – выговорила Щепина, как бы сама себе. – Никишка-головорез тебя испортил, что ли? Когда ты так рассуждала? Опомнись!
Нилочка молчала мгновение, потом, не спуская глаз с мамушки, вымолвила взволнованно и недоумевая:
– Ничего и я не понимаю… Отчего ты так рассердилась? Что же я такое сказала? Разве прежде не ты во всем мое желание исполняла? Ты всегда спрашивала, как я хочу. А теперь вдруг…
– Да ведь это в пустяках было: ехать ли кататься, шить ли розовое или какое платье, приставить или отставить какую новую барыньку в штат… А теперь о чем ты языком болтаешь? Всю свою жизнь махом сама решаешь!..
– Да, всю жизнь! Так ведь это важнее грибов и катанья…
Марьяна Игнатьевна хотела что-то сказать, даже крикнуть, но слова замерли на губах ее. Она опустила глаза, потупилась и, очевидно, собиралась с мыслями. Она была положительно поражена всем происшедшим.
Нилочка стала смотреть в окно и тоже глубоко задумалась. И вдруг она заговорила вслух, как бы не помня себя и не зная, что высказывает громко свою тайную мысль:
– Потому что там что-то деется… Там загорелось… И в голове горит… Да, везде, везде!.. Я вся горю!.. Страшно всего, страшно всех… А вот он пришел, будто стал около, а я будто за него спряталась… И из-за него никто вы мне не страшны!.. Он мой приказчик и – что прикажет, то я и сделаю. Чудно это, диковинно… Ничего, ничего нету… никого нету… никого не боюсь!.. Да и чего бояться?.. Ну, убьют!.. А быть живу, да без него, это… еще хуже смерти!..
– Как ты смеешь?! – хрипливо выговорила Щепина и разбудила девушку от какого-то очарованного бреда.
Нилочка снова вздрогнула, обернулась на свою мамку и испугалась… За шестнадцать с лишком лет она не видела у своей второй матери такого лица. Марьяна Игнатьевна была мертво бледна, губы ее дрожали. Она хотела что-то выговорить и не могла.
– Маяня! Маяия! – воскликнула девушка, вскочила и бросилась на шею к мамушке.
Но Марьяна Игнатьевна схватила обе худенькие ручки, ее обхватившие, и грубо стащила их со своих плеч. И Нилочка легко вскрикнула. Мамушка сделала ей больно.
И прежде чем девушка опомнилась, Марьяна Игнатьевна, быстро поднявшись с места, вышла из горницы. Она не владела собой, выдавала себя с головою благодаря тому, что забушевало в груди ее. Ей единственное было спасение – скрыться с глаз питомицы.
Нилочка не побежала за мамушкой, как бывало всегда с раннего ее детства. Когда ее Маяня сердилась за что, за какую проказу, шалость или каприз, Нилочка кидалась за ней, ловила ее за подол, хватала за руки и просила прощения, иногда со слезами, и отставала только тогда, когда добивалась примирения и ласки.
Теперь же ей и на ум не пришло бежать и схватиться за юбку мамушки. Ей будто кто-то сказал на ухо: «Оставь, ты не виновата!»
И Нилочке вдруг примерещилось, что будто у того, кто говорит, голос князя Льгова. Она тихо прошлась по комнате, потом приблизилась к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу, и слезы показались у нее на глазах.
Почему она заплакала, девушка сама не знала… Ей хотелось плакать. Слезы эти были ей приятны, доставляли ей наслаждение. Но о мамушке в это мгновение она и не помышляла.
Усевшись снова через мгновение в свое кресло, Нилочка глубоко задумалась, понурилась и далеко умчалась горячими мыслями.
Скоро она была в каком-то удивительном месте, которое называлось столицею – Петербургом. Но она была не одна… Около нее, не покидая ее ни на миг, был князь Льгов…
И в этом удивительном городе, в золотом дворце, высокая, чуть не исполин, женщина в короне и порфире величественным голосом говорит Нилочке:
– Коли ты этого хочешь, дитя мое, то я приказываю тебя венчать. А Мрацкого и Жданова прикажу сослать в Сибирь!
XII
Между тем в эти же самые минуты в левом крыле крутоярских палат, в гостиной Мрацкого, шло почти такое же бурное объяснение между опекуном и гостем-сватом. Объяснение это было почти продолжением той неприятной беседы, которую они имели перед тем, как явиться с визитом к помещице. Собираясь идти в итальянскую гостиную, Зверев намекнул обоим опекунам о цели своего посещения вместе с князем Льговым. Мрацкий резко ответил, что Неонила Аркадьевна Кошевая пока еще не невеста, замуж не собирается, а если бы и собиралась, то ее не выдадут по малолетству.
Зверев в присутствии князя заявил, что Мрацкий не все послания к нему графа Разумовского помнит и что не мешало бы ему снова все предписания гетмана разыскать и прочесть.
Мрацкий сильно изменился в лице при этом замечании Зверева, но не ответил прямо, и несколько минут между ними шел резкий разговор о том, что опекаемая им помещица слишком молода, чтобы думать о замужестве.
На этом стычка прекратилась на время, отсрочилась.
Теперь же лейтенант в отставке, старый, добродушный, но вдруг оказавшийся упрямым и стойким, явился продолжать с Мрацким ту же самую беседу, но уже прямее. Он кратко и ясно объяснил опекуну, что приехал с князем Льговым, чтобы сватать его.
При этом Зверев счел долгом объяснить, что князь – завидный жених для всякой девицы, и, как бы Кошевая ни была богата, все-таки князь Льгов ей пара. И более пара, чем кто-либо другой в пределах Самарской губернии.
– Если и ходит молва о том, – заговорил Зверев холодно, – что есть у Неонилы Аркадьевны женихи, то должен вам заявить, Сергей Сергеевич, что эти женихи – срамота! Это шутовство одно!
Мрацкий, знавший отлично, что Зверев намекает отчасти и на его собственного сына, не только вспылил, но даже остервенел. Всякий раз, что это случалось, Мрацкий, привыкший владеть собой, терялся. Его собственные силы, его умственное всеоружие покидало его.
Ему чудилось самому в эти минуты, что он становится даже глуп. И он давал себе время успокоиться, чтобы начать бороться и искусно парировать удары врага.
Так случилось и теперь. Остервенелый Мрацкий молчал несколько минут, но за эти минуты не мог успокоиться, так как Зверев просто, отчасти добродушно, но твердо объяснил Мрацкому, что никогда граф-гетман, интересующийся судьбой малороссиянки Кошевой, не допустит выдать ее замуж за неподходящего жениха, если бы даже она и сама того пожелала.
Молву, ходящую давно по Самарской губернии, что богачку Кошевую хотят почти насильно выдать замуж, действуя так из-за корыстолюбивых целей, он – Зверев – якобы считает праздной болтовней. Главный жених, измышленный для Кошевой, – «гороховое чучело».
Эти два слова были произнесены Зверевым отчетливо, с расстановкой, и при этом он глядел в глаза Мрацкому. Глаза говорили: «Гороховое чучело твой сын Илья!»
Мрацкий, успокоившийся было, снова остервенел и снова начал молчать и только тяжело пыхтел. Его оскорбляла главным образом смелость Зверева.
Отставленный, оклеветанный когда-то опекун мирно и тихо, не возражая, удалился в свое маленькое именьишко и считался и Мрацким, и многими другими за какую-то овцу, почти за дурака. И вдруг этот же Зверев явился в Крутоярск сватом князя Льгова и говорит прямо в глаза такие вещи, как если бы в упор стрелял из пушки.
Наконец Мрацкий, овладев собой, выговорил слегка все-таки дрожащим от гнева голосом:
– Очень вам мы благодарны за честь, но никогда Неонила Аркадьевна за князя не пойдет, а если бы она сама и пожелала, то я этого не допущу.
– Ну, вот-с, очень вам благодарны за сие последнее объяснение! – отозвался Зверев, улыбаясь. – Благодаря вашему выражению этому, мы можем объясниться короче и с полной ясностью. Тому назад с час я имел честь объяснить вам, что вы не все указания в письмах графа Кирилла Григорьевича помните… Если же вы позабыли иные указания, то позвольте вам напомнить… Есть у вас письмо от графа, полученное года с два назад. Сказываю это на основании слов губернатора, коему все известно. В письме этом гетман пишет вам, что насильственно выдать Кошевую ни за кого он не дозволит, а если Неонила Аркадьевна соберется замуж сама за какого-либо дворянина, то вам, опекателям ее, ничего не предпринимать, не только препятствовать, а немедленно его сиятельству отписать. Запамятовали вы это письмо гетмана?
– Никогда такого не было! – отозвался Мрацкий глухо. – В Самаре его болтуны вилами на воде писали…
– Изволите ошибаться, Сергей Сергеевич… Такое письмо было! Впрочем, ваше запамятование не важно. Губернатор может тотчас отписать обо всем графу по поводу сватовства князя Льгова, и все дело разъяснится.
– Ну, так и извольте действовать, как вам угодно! – выговорил Мрацкий, поднимаясь с места. – А пока позвольте вас, в качестве неприятного гостя, просить вместе с князем сделать нам честь или удовольствие уезжать из Крутоярска до стола.
– И этого не могу, почтеннейший Сергей Сергеевич! Нас пригласила помещица крутоярская, хозяйка в доме. Если она не имеет прав распоряжаться своими вотчинами, то имеет право приглашать к своему столу, и это до ее опекунов не касается. Пригласила нас Неонила Аркадьевна с князем откушать у нее, и мы, хотя бы из одного благоприличия, обязаны.
– Но позвольте. Я вас… – выговорил Мрацкий, и хотя запнулся и не кончил, но было ясно, что он хотел сказать: «выгоню вон».
– Никогда! – отозвался добродушно Зверев, хотя лицо его изменилось. – Вы слишком умный и осторожный человек, чтобы заводить срамоту. Вы одумаетесь и поймете, как посмотрит на этакие ваши действия граф-гетман. Ну-с, вот и все! Честь имею снова просить вас пересмотреть все письма лица, власть имеющего и занятого сердечно судьбою Неонилы Аркадьевны.
– Повторяю вам, такого письма гетмана никогда не бывало и нет!
– А я повторяю вам, что такое есть. Честь имею кланяться.
Зверев спокойно вышел от озлобленного опекуна и, пройдя в верхний этаж, где были горницы для гостей, застал князя Льгова в волнении.
– Ну, что? – вскочил этот к нему навстречу.
– Объяснился и сказал все…
– Озлился небось? – спросил князь.
– Вестимо. Да нам-то что же… Мы уедем, но прежде все-таки свое дело обделаем. Сейчас за работу…
Зверев сел к столу и, очинив себе новое перо, стал писать большое письмо, скрипя по бумаге.
Князь сел в глубине горницы и задумался.
Он опасался еще вчера неудачи в своем предложении, не зная, как относится крутоярская царевна к нему лично. Сегодня в один миг он сердцем почуял, что сирота девушка очень благосклонна к нему. Стало быть, помеха только в опекунах, не желающих выпускать из рук: один – теплого местечка, а другой – и более того, всего состояния опекаемой, которую прочит за своего остолопа-сына.
За князя Льгова была его изящная внешность, его имя и титул, наконец его родственник – местный губернатор. Все удачи были на его стороне. Против него была дерзость Мрацкого и его предприимчивость, не разбирающая средств, а затем робкая природа запуганной сироты.
– Но робка ли она настолько, чтобы поддаться им? Запугана ли она ими совсем? – спрашивал себя князь.
И, вспоминая ее взгляд, когда она беседовала с ним, он невольно решал:
– Темна! Бог ее знает… А ведь все в ней. Скажи слово – и я могу похитить ее, обвенчаться в Самаре… А там не развенчают никакие опекуны.
XIII
В три часа, несколько позже обыкновенного, опекуны и гости появились снова в парадных апартаментах. В одной из двух больших зал был накрыт стол.
Разумеется, к обеду были приглашены и другие лица: две штатные барыни, двое нахлебников из дворян, Анна Павловна Мрацкая, ее сын Илья и две старшие дочери. Из всех главных обитателей Крутоярска отсутствовал только Никифор Неплюев, вдруг отлучившийся в Самару.
Обед прошел угрюмо. Беседа не клеилась. Все были возбуждены и враждебно настроены. Казалось, что за столом сидели не только два, а несколько враждебных лагерей.
И действительно, в желаниях и интересах присутствующих была полная разногласица. Если бы не молодой князь, весь обед разговаривавший поочередно со всеми и много рассказывавший о столицах, то обед мог пройти при полном молчании.
Не только Мрацкий, но и Щепина не давали даже себе труда скрывать свое неудовольствие и равно открыто неприязненно смотрели на двух незваных гостей.
После стола все перешли в соседнюю анненскую гостиную, прозванную так вследствие того, что в ней мебель и шпалеры были под цвет орденской ленты св. Анны. Приглашенные занялись поданными сластями, вареньем, смоквами и наливками.
Зверев подсел к Нилочке и стал тотчас же просить ее показать свои работы, рукоделия и затем, сказав, что он много слышал об ее способностях к рисованию, стал просить показать ему и князю все ее рисунки карандашом и пастелью.
Нилочка долго отказывалась, но на помощь к Звереву явился князь и стал настолько убедительно и настойчиво просить Нилочку показать рисунки, что девушка решилась и велела их принести. Их оказался целый большой портфель. Рисунков хороших было довольно мало, но гости, конечно, расхвалили все до небес.
Нилочка сначала не поняла, зачем, собственно, и Зверев и князь так настойчиво пристали со своей просьбой, но затем, когда Зверев снова стал складывать все рисунки в портфель на глазах у Нилочки, она сразу поняла все и вспыхнула.
Зверев украдкой ото всех присутствующих ловко вынул из бокового кармана сложенный лист бумаги и, многозначительно глядя ей в глаза, вложил его среди рисунков. Завязав и передавая все девушке, он тихо выговорил:
– Прочтите… Важно!..
Зверев сделал все настолько искусно, что никто ничего не заметил. Даже Марьяна Игнатьевна, не спускавшая глаз ни с князя, ни с прежнего опекуна, не заметила ни вложенной бумаги, ни роковых двух слов.
Просидев часа два, несмотря на то, что беседа тоже не клеилась, гости стали откланиваться. Зверев заявил от себя и от имени князя Льгова, что, несмотря на любезное приглашение хозяйки, они должны в тот же вечер выезжать из Крутоярска, так как дела, не терпящие отлагательств, ждут их в Сызрани. Нилочка насупилась и не ответила ничего, но затем взглянула на князя. И взгляд ее сказал слишком многое не только молодому человеку, но и всем присутствующим. Этот быстрый взгляд девушки как будто говорил:
«Что ж? Все равно!.. Все-таки никакой перемены не будет. Мы нечто знаем, и все в наших руках».
После этого молчаливого, но красноречивого ответа и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна, одинаково пораженные, стали заметно смущены.
Через час после этого в трех разных горницах большого крутоярского дома происходило нечто особенное, чего никогда не бывало. Нилочка чуть не в первый раз в жизни заперлась у себя в спальне на ключ и, когда кто-то постучался в дверь, ответила кратко:
– Нельзя!
И даже не спросила, кто стучит.
Она сидела с письмом Зверева на четырех страницах. Бывший опекун подробно объяснил молодой девушке, что он приехал с молодым князем сватать его, что князь давно любит ее и просит ее руки. Ожидая отпора со стороны Мрацкого, он нисколько им не удивлен, но считает долгом объяснить молодой девушке то, что, конечно, ей совершенно неизвестно.
И Зверев повторил тут то же, что сказал самому Мрацкому, – доводил до сведения Нилочки, что она, на основании приказания графа Разумовского, может вполне располагать своей рукой и, в случае упорства опекунов или кого-либо другого, может прямо написать гетману нечто вроде жалобы. Доставить письмо в Петербург в собственные руки графа Кирилла Григорьевича брался, конечно, сам князь Льгов.
Молодая девушка была настолько поражена письмом Зверева, что долго не могла вполне прийти в себя. Ей казалось, что тяжелый гнет сразу свалился с ее плеч…
В те же самые минуты в кабинете Мрацкого, куда он никогда никого не допускал, кроме жены и старшего камердинера для уборки горниц, сидела не кто иная, как злейший враг его – Марьяна Игнатьевна.
Более десяти лет прожили они вместе в крутоярском доме и ненавидели друг друга и никогда не поверили бы, что придет день – и они сойдутся так, как теперь, и будут беседовать так, как беседуют теперь. Они глазам не верили, что сидят друг против друга и говорят такие вещи, что готовы не верить собственным ушам.
Общая опасность сразу, как по мановению жезла волшебника, сблизила двух врагов. Когда сни сидели за столом, то думали одну думу:
«Надо избавиться от князя, а там дальше видно будет…»
Марьяна Игнатьевна никогда не боялась замужества Нилочки за Илью Мрацкого, так как знала, что некрасивый и глупый Илья почти противен девушке; поэтому и не боялась всех ухищрений его отца. И вдруг теперь явился гораздо более опасный претендент. Но это бы еще ничего.
Главное, что поразило Щепину, было нечто вдруг проснувшееся в ее питомице. Марьяна Игнатьевна как умная женщина поняла сразу, в чем дело. Нилочка полюбила в первый раз в жизни, и вместе с любовью возникла в ней или проснулась где-то таившаяся воля.
Марьяна Игнатьевна, после краткой и бурной сцены со своей питомицей, почти потеряла голову. Она была в таком положении, как если бы Нилочка одевалась уже под венец и собиралась венчаться с князем Льговым.
Поискав мысленно исхода и спасения, Марьяна Игнатьевна ничего не нашла. Только одно было под рукой: идти, бежать к заклятому врагу Мрацкому, протянуть ему руку и начать борьбу вместе с ним против общего врага.
И, сидя за столом, Щепина решилась в тот же день безотлагательно объясниться с опекуном. Мрацкий, сидя за тем же столом, думал почти то же.
Он был глубоко уверен, что Марьяна Игнатьевна имеет громадное влияние на Нилочку.
Он не мог и предположить возможности того разговора, который был в этот день между мамушкой и питомицей, следовательно, спасение было в той власти, которую сумела захватить мамушка над своей питомицей.
«Надобно вместе отделаться от князя Льгова, а потом видно будет!» – думал и решил Мрацкий.
Когда Марьяна Игнатьевна послала сказать Мрацкому, что желает тотчас же быть у него, опекун несказанно обрадовался. Едва только женщина вошла к нему, как они уселись, и оба, кисло-сладко ухмыляясь, заговорили прямо, приступили к делу без обиняков.
Однако после нескольких же сказанных слов ясно стало, что помирившиеся враги ошиблись друг в друге. Марьяна Игнатьевна пришла просить помощи опекуна, а опекун находил только одно средство спасения в том влиянии, которое мамушка имеет над питомицей.
– Вы можете как опекун прямо воспротивиться и не дозволить ей и помышлять об этом князе, – заявила Марьяна Игнатьевна.
– Нет-с, не могу…
– Стало быть, не хотите?!
– Нет-с, очень хочу, но не могу! Никакого не имею права препятствовать, если за кого-либо соберется Нилочка замуж.
И когда Марьяна Игнатьевна заявила, что даже не понимает, что хочет сказать Мрацкий, то он раздражительно и озлобленно объяснил, что имеет прямое приказание графа-гетмана не препятствовать ни в чем молодой девушке при выборе супруга, а только доложить об этом тотчас же.
Марьяна Игнатьевна была поражена открытием. Она, конечно, и не подозревала никогда о таком распоряжении графа Разумовского.
– Следовательно, Марьяна Игнатьевна, вся сила в вас! Вы видите, что я ничего не могу сделать. Вы одна, пользуясь дочерней любовью и уважением Нилочки, можете все сделать. Вы можете, любя, остановить ее, не допустить подобного брака. Я же ничего не могу…
Марьяна Игнатьевна хотела сознаться в том, что в нынешний же роковой день она сделала невероятное открытие, но не решилась и промолчала.
– Поймите, – продолжал Мрацкий, – что если мы избавимся от этого князька, то у Нилочки останется два жениха и из них-то двух она и выберет кого-нибудь: мой сын и ваш сын. По всем вероятиям, она предпочтет вашего Бориса, так как мой Илья, на беду мою, остолоп.
Последнее слово Мрацкий выговорил с горечью и отчаянием. Ничего подобного никогда никто от него не слыхал. Марьяна Игнатьевна удивленно взглянула на него.
– Да, не удивляйтесь… В такую минуту подошло! Да, прямо бухнул… Остолоп! Дикобраз! Тюфяк! Уродись он в меня, – иное бы дело было. А где же ему с его рылом спорить с вашим Борисом? Стало быть, Марьяна Игнатьевна, нам судьба велит подружиться после долгого враждования, и я вам здесь же, сейчас же даю мое дворянское слово во всем вам помогать. Приедет вот ваш сынок, соберется за него замуж Нилочка, – я не только делом, но и словом препятствовать не стану, а сейчас же отпишу графу Кириллу Григорьевичу о том, на кого пал выбор опекаемой мною девицы. Разумеется, Марьяна Игнатьевна, за это я попрошу с вас маленькое вознаграждение и теперь же его скажу. Вы дадите мне подписку и божбу, что после венчания, когда я удалюсь отсюда от всех опекунских дел, то мой Илья получит в подарок от вашей питомицы какую-нибудь вотчину. При ее состоянии одна вотчина – плевое дело. Идет ли у нас такой уговор?
Марьяна Игнатьевна, сильно волнуясь, собралась что-то сказать и не могла. Наконец она пересилила себя.
– Я, право, Сергей Сергеевич, никогда так не думала. Мой Боринька с детства был с Нилочкой… Он ей брат родной, а не жених.
– Знаем, знаем! Все это я часто вам сказывал и этим вам досаждал, шпильки подпускал этим родным братом! Знаю… Бросимте все это… Не до того теперь! Никакого тут родного брата нету, никаких родственных чувств таких, чтобы помешали браку, нету. Захотите вы, живо все повернется по вашему желанию. Знала она вашего Бориса мальчуганом, а ведь теперь приедет капрал, молодец, в мундире. Да и подучить вы его можете, да и наконец… эх, Марьяна Игнатьевна, будь я – вы, так у меня бы Нилочка через две недели была супругою Бориса Щепина.
И Мрацкий так странно глянул своими крошечными и лукаво злыми глазами в глаза Щепиной, что пожилая женщина вспыхнула и зарумянилась, как молодая девушка.
– Да-с! Да-с! Всякие средства есть для умных людей! Будь я мамушка Нилочки, да будь у меня сын такой, я бы их против воли женил. Так бы дело повел, что в этом бы все спасение было.
После этого объяснения наступила пауза. Обоим прежним врагам, которые теперь примирились, продолжая, конечно, ненавидеть друг друга, показалось, что они зашли слишком далеко, хватили через край, слишком высказались и дали каждый, в свою очередь, слишком опасное для себя оружие в руки другого.
Они расстались молча, ничего не обещая друг другу и как бы говоря своими угрюмыми лицами:
«Увидим – подумаем! Что будет – неведомо… Что-нибудь решим!»
XIV
В эти же минуты в правом крыле, в небольшой горнице, сидел и быстро, спеша, обедал только что приехавший из Самары приемыш опекуна Жданова.
Молодой человек, двадцати с чем-то лет, на вид, казалось, был гораздо старше. Ему можно было дать и все тридцать. Смуглое угрюмо-красивое лицо носило следы какой-то усталости. Казалось, что жизнь этого человека прошла в постоянных серьезных заботах, но выражение это было обманом.
Никифор Неплюев, напротив, провел свою жизнь в постоянных буянствах, кутежах и всяких диких затеях. Неплюев по фамилии, благодаря просто противозаконно купленным документам, был настоящий породистый крымский татарин.
Лицо отличалось резкими чертами, было крайне переменчиво, часто бывало чрезвычайно красивым и часто бывало крайне неказистым. Большие черные глаза с густыми черными бровями и длинными ресницами красили его, но несколько большой нос с горбом и как бы вечно поджатые губы портили лицо.
Когда Никифор весело болтал, рассказывал что-нибудь, вообще оживляясь, лицо его казалось иногда добродушно-веселым. В минуты молчания и задумчивости оно становилось почти злое.
В действительности молодой человек был загадкой и себе, и другим. В душе он был не злой малый, а часто с увлечением доходил до крайне дурных поступков. Из него мог понемножку выйти то, что называется «лиходей».
Иногда и на словах, и на деле Никифор был добродушен, мягок и сердечен, но случалось это – и то, и другое – как-то зря. Он не раскаивался в совершенном злом деле и часто презрительно относился к совершенному им доброму делу.
Вдобавок у молодого малого было в душе больное место. Он тяготился и был подчас даже несчастлив тем, что он не русский дворянин, а татарин по матери, что всякий может этим упрекнуть его.
Никифор только что вернулся из Самары, куда его посылал названый отец – Жданов. Поручение, ему данное, касалось того же ожидавшегося сватовства князя.
Никифор должен был разузнать в Самаре все, что только было возможно о князе, его образе жизни, а затем выискать такое лицо, хотя бы чиновника, подьячего, через которое Жданов мог бы войти в тайное соглашение с молодым князем ради личной выгоды.
Жданов хотел заручиться; ему пришло на ум, что он мог бы, помогая теперь жениху Кошевой, со временем сделаться другом князя Льгова и его жены и удержать за собой даровое существование в Крутоярске, разумеется, не в качестве опекуна, а в качестве простого нахлебника.
Никифор съездил в Самару, кое-что узнал и даже приискал подьячего, через которого его отец мог войти в переговоры с князем. Тотчас по возвращении Никифор сделал свой доклад Петру Ивановичу, а затем, усевшись обедать, послал мальчишку, прислуживавшего ему, попросить к себе в гости приятеля Илью Мрацкого.
Никифор и Илья вместе росли более десяти лет в крутоярском доме и называли друг друга приятелями, но в действительности никогда никакой приязни между ними не было и быть не могло.
Это были два молодых человека почти одних лет, но совершенно разного поля ягоды. Насколько Никифор был смышлен, если не умен, лукав и дерзок, – настолько Илья Мрацкий простоват, глупо прямодушен и робок.
Никифор жил и воспитывался на полной свободе, которую давал ему человек, любивший его. Илья, напротив, всю жизнь прожил под гнетом тяжелой руки отца. Многие дурные задатки в Никифоре развились благодаря поблажке отца. Многие хорошие стороны характера Ильи были заглушены вечной боязнью и вечным опасением наказания.
Если бы такие двое людей познакомились между собой в городе, то, вероятно, тотчас бы прекратили знакомство. Илья побоялся бы иметь такого приятеля, как Неплюев, а Никифор, со своей стороны, отнесся бы с презрением к такому лупоглазому тюфяку, каким был Мрацкий-сын.
Детство и юношество, проведенные в одном доме, сблизили их, но на особый лад. Никифор покровительственно относился к Илье, а Илья, боясь отца и не доверяя глупой матери, нес все свои задушевные мысли к приятелю Никифору и перед ним исповедовался в своих заурядных и мелких тайнах и мечтах.
Прождав теперь с полчаса Мрацкого, Никифор нетерпеливо поднялся, крикнул снова мальчугана Алешку и снова послал за Ильей.
– Скажи Илье Сергеевичу, чтобы он шел сию минуту! Слышишь, чтобы сию минуту на рысях сюда был!
И Никифор нетерпеливо топнул ногой.
Через несколько минут в горнице действительно чуть не на рысях появился плотный и толстолицый Илья.
– Что ты?.. Что!.. – почти пугливо произнес он. – Аль случилось что?!
– Какого черта случилось! А тебя, черта, не добьешься… Где ты застрял?
– С матушкой объяснение имел…
– О чем еще?
– Да вот, о князе… Ведь сватается!
– Знаю… Да вам-то двоим – тебе, дураку, и ей, дуре, о чем было толковать?.. Предоставьте Сергею Сергеевичу ведать все, а то, вишь ты, два болвана сошлись вместе, туда же – толкуют!
– Матушка мне, Никиша, сказывала все. Она мне наказывала, как мне себя теперь вести… насчет то есть Нилочки… Все это подробно мне разъясняла. Во-первых, говорит, я должен…
– Ах, скажи на милость! Он еще будет мне свою дичь выкладывать! Замолчи, чертова перечница! Стану я слушать, что тебе Анна Павловна наказывала!.. Ты лучше послушай, что я тебе скажу… Боишься ты очень своего тятеньки? Ну, отвечай же. Да встряхнись! – прибавил Никифор, подражая Мрацкому, так как часто слыхал, как тот при посторонних лицах говорил это слово жене. – Ну, очень боишься?..
– Вестимо, боюсь!
– Пойдешь ты говорить с батькой о важнеющем деле… так очертя голову, перекрестившись, была не была?.. Пойдешь, что ли?
– Не знаю…
– Ну, слушай… Как ты хочешь, хоть помирай от страху, а ступай ты к батьке своему и скажи ему так… Да ты не развешивай уши! Слушай! В одно глухое ухо впускай, а другое заткни пальцем, чтобы у тебя, что я скажу, в пустой голове хоть до завтрого бы пробыло. Ступай к батьке и скажи: Никифор, мол, говорит, напрасно вы им пренебрегаете… Взяли бы вы его к себе, на всякое он дело человек способный. Никифор говорит, что возьмется хлопотать и действовать… И так ли, сяк ли, а Неонила Аркадьевна выйдет добровольно замуж за дурака Илью Мрацкого. Запомнишь?
Илья глупо рассмеялся, широко раскрыв рот.
– Полно! Закрой глотку-то! Понял ли ты?
– Понял, Никита. Что ж, этакое я не боюсь идти говорить…
– Ну, и слава тебе, господи!.. Что же ты скажешь, повтори!
– А пойду скажу: так и так, Никифор берется Нилочку за меня замуж выдать…
– Ну, что ж, пожалуй, хоть и так! Да чего ты, дурак, не скажешь, то твой отец сам поймет. Вот голова, не чета этой!..
И Никифор стал стучать Илью пальцем по лбу.
– Ты скажи, Никифор сказывает, такое надумал удивительное приключение, такую выискал веревочку, какою никакой черт никогда никого не перепутывал. Такая веревочка ахтительная, так я всех ею перепутаю по ногам, что ли, что все у меня кувыркаться начнут! А пока все будут кувыркаться, дело Илюшки Мрацкого наладится: кто подохнет, кто без вести пропадет, кто ума решится. А тем временем Илюшка Мрацкий с Неонилкой Кошевой обвенчается. А достопочтеннейший Сергей Сергеевич все состояние крутоярской царевны в руки заберет, потому, собственно, что, надо полагать, он своего Илью и женатого вместе с невесткой будет кнутом стегать до последнего своего издыхания и так, гляди, все дела устроит, что сам у собственного своего сына или у внучат единственным прямым наследником всего состояния окажется… Так понял ты, что я говорю?
– Понял, понял!.. Да как же это ты, Никита, сделаешь?
– Вот дурак-то! Вообразил, что я ему сейчас все объяснять стану! Да если бы я и стал объяснять, так ты не поймешь ничего, оловянная голова!.. Ну, когда же ты к отцу пойдешь?
– Когда желаешь.
– Ну, завтра рано утром ступай. Сегодня, как я смекаю, у него и на душе, и в разуме все перетолчено… Уж очень, говорят, нонешний день крут вышел! Ну, вот завтра утром и ступай. Коли что заспишь, приходи рано утром, я тебе опять повторю, да прямо от себя свежеиспеченного и направлю к Сергею Сергеевичу. Да, впрочем, немудрено. Затверди одно: Никифор берется меня, дурака, на Нилочке женить, если вы только его к себе приблизите и с ним в совет и в уговор пойдете. Ну, вот теперь ступай! А я утомился от батькиных поручений в Самаре – спать лягу.
Илья с глупым недоумением на лице ушел от приятеля, а Никифор, дождавшись, пока шаги приятеля замолкли в соседних горницах, надел шапку, открыл окно, которое было аршина на четыре от земли, и огляделся в полумраке. Прямо под стенами левого флигеля начиналась чаща кустов сирени и акации.
Никифор прошел в соседнюю горницу, крикнул Алешку и приказал:
– Кто ни спросит, – батюшка или кто другой, – скажи, уморился, спать лег и ни за что себя будить не приказал. Разбудят – драться учну! И так до завтрашнего утра не смей ты тут шуметь, а всего лучше уходи куда!
– Слушаю-с! – пискливо ответил мальчуган, привыкший ежедневно получать здоровые колотушки от молодого барина.
Никифор вернулся в свою горницу и заперся на ключ, а затем снова отворил окно, перемахнул через подоконник и привычным ловким прыжком очутился на земле среди кустов сирени.
Здесь достал он длинный шест и им притворил рамы окна. Затем он припустился скорым шагом, а то и рысцой к селу. Миновав две, три избы, он приблизился к околице, перелез плетень и, пройдя двор, вошел в избу.
– Степан! – крикнул он громко.
Чей-то голос отозвался, и крестьянин низенького роста отворил дверь.
– Аксютка? – выговорил Никифор.
– Нету…
– Как нету?! – вскрикнул Никифор.
– Ее взяли.
– Куда?
– Обратно во двор.
– Что ты врешь?
– Ей-богу, взяли! И больше на огородах ставить не приказано… И мало что говорят! Диковина какая-то! Приходил мой мальчугашка, сказывает, прямо к Анне Павловне провели. Сказывали что-то такое удивительное, да я не понял… Платья, что ли, ей новые шить будут – ну, наряжать, стало быть…
– Что-о?! – протянул Никифор.
И он вдруг, совершенно бессознательно, ухватил крестьянина за ворот кафтана.
– Чур, барин! Я-то при чем же? Что вы! – ахнул крестьянин.
Никифор выпустил из руки ворот мужика и стоял перед ним несколько мгновений, молча и тяжело сопя.
– Чьи же это турусы? – выговорил он наконец. – Кто же это? Тот же Сережка Мрацкий! Больше никто! И вот уж хоть тресни, а ничего не разберешь! Ведь ее на скотный двор собирались поставить?
– Так точно! Так сказывали… А теперь вон наряжать хотят… Что ж, слава богу! Девка сердобольная, жалостливая… Слава богу!
– Тебе, черт, слава богу, а мне-то совсем не за что славословить.
Никифор повернулся и медленно пошел из избы, но вдруг остановился, обернулся и выговорил грозно:
– Да ты, может, врешь все?!
– Что вы! Господь с вами! Зачем мне врать! Да вы идите в палаты-то да и справьтесь.
– Это я и без тебя знаю…
Через четверть часа Никифор был в доме, на втором этаже центрального корпуса, где жили все штатные барыни и все нахлебники, и сидел в гостях у Лукерьи Ивановны.
То, что было нужно ему, он узнал сразу. Дворовая девка – первая красавица в Крутоярске, посланная в наказание на огороды с угрозой быть затем поставленной на скотный двор, была возвращена во двор, прощена, назначена в штат к самой барышне. И вдобавок Анна Павловна обласкала ее и приказала ей сшить два новых сарафана: красный и синий.
– Что ж это все значит? – два раза уже спросил Никифор у штатной барыни, старшей над всеми.
– Ничего, голубчик, понять нельзя! И все сказывают, что не это одно, а много чего будет диковинного. Сказывают, что такие деньки в Крутоярск пришли, что такое будет, такое… что у-у, господи!.. Никогда не бывало!.. Ну, просто тебе светопреставление.
XV
На другой день Жданов, вернувшись с охоты, послал за побочным сыном, чтобы снова переговорить о важном предприятии. Жданов окончательно решился перейти тайно на сторону князя. Сведения, собранные сыном, все были в пользу Льгова, да, кроме того, Никифор узнал, что губернатор собирается деятельно хлопотать ради дела своего родственника.
В Самаре даже ходил слух, что если опекуны будут очень противиться и принимать какие-либо противозаконные меры по отношению к опекаемой ими Кошевой, то губернатор сам поедет в Петербург, официально снесется с графом Разумовским и будет сватать князя Льгова.
– Я слышал, – объяснил Никифор, – что губернатор нисколько не сомневается в успехе, уверен, что одновременно и Мрацкий будет удален из Крутоярска, и свадьба Нилочки отпразднуется.
– А мы в дураках будем? Мне ты какого-то стрекулиста выискал.
– Сделал, что мог, батюшка. Дальше ничего не поделаешь.
– Пойми ты. Нам-то куда же?! Мы-то что же?! – воскликнул Жданов. – Главная сила в том, как мне загодя на сторону князя перемахнуть и в его благоприятелях оказаться. А ты какого-то подьячего выискал и, собственно, ничего не сделал и сам не узнал…
– Узнавал, батюшка, – возразил Никифор равнодушно, – и полагаю, что просто ни с какой стороны подойти нельзя. Если вы даже поедете к самому губернатору и будете предлагать всяческую ему помощь, то он вам ответит, что в нас не нуждается. – Никифор помолчал и прибавил, как бы нехотя: – Есть одно средство: мне с князем в дружбу войти. Да опять-таки не ради того, чтобы ему помогать в женитьбе… Ему на меня – наплевать тоже! А так, просто сдружиться. Это бы дело легкое, я сумею. Да другая тут помеха будет. Деньги нужны. А у нас их нету.
– На что деньги? – удивился Жданов.
– Как на что? Поехать в Самару, жить там, веселиться вместе с князем. В дружбу к нему влезть можно только со всякими затеями. Будь у нас деньги, я бы сказал – самому князю этому взаймы дать… Женится он на Нилочке – вдвое отдаст.
– Это все болтовня! – воскликнул Жданов. – Что вздор толковать! Какие же у меня деньги? Я хотел объявиться прямо его помощником. Ради того, стало быть, что якобы желаю его брака всем сердцем.
– Ну, а это ваше желание, – резко отозвался Никифор, – ему ни на что не нужно. Говорю, скажут вам все они, что и без вас обойдутся.
На этом беседа Жданова с приемышем окончилась. Петр Иванович задумался печально, и Никифор, с легкой усмешкой поглядев на отца, собрался уходить.
– Куда же ты? – очнулся Жданов.
– Дело у меня. Что же сидеть-то…
И он пошел из горницы.
– Как же, Никифор, так, стало быть, все и бросать? – остановил его Жданов.
– Что же делать? – отозвался молодой человек. – Надумайте вот, как деньги достать. Я поеду в Самару, сдружусь с князем… Там видно будет. А больше ничего не придумаешь.
И Никифор, не дожидаясь ответа, вышел от отца и быстрыми шагами отправился через весь дом, миновал две пустые парадные залы и длинный коридор и, наконец, очутился в противоположном левом крыле дома. Здесь он прямо прошел в горницу Ильи Мрацкого.
Илья вскочил навстречу к приятелю и выговорил многозначительно:
– Я к тебе шел… был у отца… все сказал… Не знаю, как у меня храбрости хватило.
– Ну… ну?.. Что же?
– Батюшка приказал тебе к нему сегодня же зайти, когда хочешь.
– Что же он тебе говорил? – улыбнулся самодовольно, но лукаво Неплюев.
– Ничего. Я говорил, а он молчал. Да и я недолго говорил… Стал было пояснять, батюшка сказал: «Полно турусы разводить! Я – не ты, дурак, сразу понял все. Скажи Никифору – приходить ко мне. С ним я и перетолкую. А с тобой мне не о чем толковать…» Ну вот и ступай к нему.
– Так я сейчас пойду.
– Ступай!
Никифор двинулся к горницам Мрацкого. Лицо его стало тотчас же несколько сумрачнее и как бы боязливо. Он приостановился перед дверями первой горницы, постоял немного, будто соображая, как войдет и что скажет.
– Иуда! С ним не свой брат! – пробурчал он себе под нос.
Через минуту старик Герасим уже доложил Сергею Сергеевичу о Никифоре. Мрацкий вышел из своей рабочей комнаты в гостиную.
– Здравствуй! – встретил он Никифора. – Садись и поясняй, что нужно. Мой Илья недорого возьмет все переврать. Что тебе нужно от меня?
Никифор сел против Мрацкого и, несколько смущаясь, что бывало с ним крайне редко, не знал, с чего начать.
– Вам Илья говорил. Стало быть, вам известно.
– Ничего мне не известно… – сухо отозвался Мрацкий, – был ли Илья, не был ли, – считай, что не был, и начинай сам сызнова: что тебе нужно? Да ты не увертывайся и не робей, говори прямо. Что красной девкой прикинулся! Тебе это и не к лицу. Махай все прямо, начистоту. Коли что покажется мне неподходящим, прямо так и откажу и никто ничего знать не будет.
– Вы не осерчайте, Сергей Сергеевич. Я из желания быть вам приятным… – начал Никифор.
– Знаю, знаю!.. Ты малый смышленый, с тобою дело иметь можно. Сказывай, говорю, прямо, не вертись, как бес перед заутреней. Сказывай коротко и толково.
Никифор, несколько путаясь и запинаясь, передал Мрацкому, что готов ему верой и правдой служить в важном деле.
– В каком деле? Говори начистоту или уходи!
– Желаете вы, Сергей Сергеевич, конечно, чтобы ваш Илья женился на Неониле Аркадьевне?
– Желаю! – коротко отозвался Мрацкий, не сморгнув.
И по лицу его Никифор не мог никак догадаться, что в эту минуту на уме хитреца.
– Вам известно, что у Неонилы Аркадьевны два жениха, как сказывают в Крутоярске: князь Льгов и Борис Андреевич. Она может предпочесть их Илье.
– Есть еще и третий, любезнейший, – прибавил Мрацкий. – Кто третий, я чаю, знаешь?
– Никак нет-с…
– Ты!
– Полноте шутить, Сергей Сергеевич.
– Зачем шутить? Во всем Крутоярске известно, что всех женихов четверо.
– Я об этом и помышлять не могу сметь. Я – безродный… Всем это ведомо.
– Ты из молодых, да ранний… Скороспелка! Тебе палец в рот не клади! Будешь ты мне здесь клясться и божиться и распинаться, что никогда не думал о том, чтобы тоже закидывать глаза на Нилочку, – и я тебе не поверю. Ну, сказывай дальше, что у тебя на уме?
– На уме у меня, Сергей Сергеевич, каким путем Неониле Аркадьевне выйти замуж за Илью вашего. Как избавиться от князя и Щепина.
– Ну, как же?
– Я вот за это возьмусь, ответствуя головой.
– Что?! – удивился Мрацкий. – Ты возьмешься?
– Точно так-с…
– Да что же ты сделаешь?
– Да уж это, извините, мое дело! Это вам не должно быть известно… чтобы вам быть в стороне в случае какой незадачи. Я берусь, и в самом скором времени из трех женихов останется у барышни Кошевой, именуемой царевной, один…
– Что же, ты убьешь, что ли, обоих?
– Если бы этакое и приключилось, Сергей Сергеевич, то не ваше это дело… Я на убийство, вестимо, не пойду…
– Наймешь, что ли, каких головорезов, похерить их. Так я на этакое дело не пойду. Я думал, ты умен, а ты – дурак! Убить иного человека бывает, правда… дело не глупое. А вот собираться убивать самое глупое дело…
Неплюев не понял, и на его вопросительный взгляд Мрацкий выговорил:
– Попадешься ты, попадусь и я – и все пойдет к черту? Срамота да еще и суд. Я думал, ты, Никифор, умнее.
– Никого я, Сергей Сергеевич, нанимать убивать не стану! Так все обойдется, что и я останусь в стороне, только глядеть буду. А верно вам сказываю – из двух женихов ни единого не останется… Останется один… Коли угодно вам, я ваш слуга; не угодно – не надо!
– Поясни, и я, пожалуй… – нерешительно выговорил Мрацкий и запнулся.
– Ничего, Сергей Сергеевич, пояснять я не стану! Вы – человек умнеющий, я тоже не дурак, – зачем лишние слова тратить? Я вам предложение делаю и отвечаю, что не обману, а как и что… увольте рассказывать.
Наступила пауза, после которой Мрацкий вымолвил тихо:
– Ладно! Ну, сказывай второе. Ведь ты не все сказал! Второго-то еще не говорил.
– Чего второго?
– Ломайся… Второе-то!.. Что тебе за это будет пообещано. Ведь не даром же ты стряпать будешь? Небось ведь попросишь что-нибудь! И по всей вероятности, попросишь денег.
– Точно так-с… И не мало денег!
– Ну, ладно, когда все сделаешь, тогда и приходи.
– Нет, Сергей Сергеевич, в том-то вся и сила, что деньги нужны теперь.
– Ну, это, брат, опять скажу: я думал ты умнее! Ты, стало быть, думаешь – можно посулами выманить у меня деньги зря, как у старой барыни какой.
– Нет, Сергей Сергеевич, первые же сто рублей, какие вы дадите, вы увидите, как я истрачу, и вторые – дадите еще охотнее. А третью, четвертую, пятую сотню – еще охотнее. И при этом увидите, что деньги не остаются у меня в кармане, а все идут на ваше дело.
– Что же ты, черт, на них делать будешь? – вскрикнул Мрацкий.
– Я на них, Сергей Сергеевич, буду первый приятель Бориса Щепина и первый приятель князя. И они оба будут моими первыми приятелями. И вместе мы втроем начнем чудеса в решете показывать всей Самарской губернии. От этих чудес дым коромыслом пойдет! Неонила Аркадьевна первая чувств лишится от омерзения. Марьяна Игнатьевна повесится на каком гвозде со зла. Сказать просто, на ваши деньги я заверчу и Бориса и князя и в такую трясину с ними увязну, что лишь бы самому уцелеть… Себя не пожалею! Коли себя жалеть, то и другому никогда ущерба не сделаешь… Надо махать вот как… Надо…
Никифор запнулся и замолчал. Мрацкий тоже долго раздумывал и не отвечал ни слова.
– Сколько же ты у меня денег переберешь? – выговорил он наконец.
– Не знаю, Сергей Сергеевич… Может, до тысячи рублей дойдет. Но ведь вы прежде-то дадите сто или два ста и увидите сразу, стоит ли мне еще-то давать. Стало быть, потеряете-то вы немного. А я так полагаю: с первой же подачки вы увидите, что моя затея денег стоит. Сами посудите – похерить двух женихов у Неонилы Аркадьевны, чтобы один остался… Ведь это, воля ваша, подороже тысячи стоит!
Мрацкий усмехнулся какой-то странной улыбкой, встал и выговорил тихо:
– Обожди.
Он вышел в свою рабочую горницу, а Никифор, поднявшись, тоже подошел к зеркалу и, взглянув на себя, самодовольно улыбнулся.
Не прошло двух минут, как Мрацкий вошел снова и передал Никифору небольшой мешочек из серой парусины, круто перевязанный веревочкой. На мешочке виднелась черная цифра: 100.
– Вот! – выговорил он. – Не оловянные! Начинай. Обманешь – черт с тобой.
Никифор взял тяжелый мешочек с серебряными рублями и спрятал их на груди в боковой карман кафтана. Через мгновение он уже быстрыми шагами двигался по дому с совершенно счастливым лицом.
«Если и ничего не выйдет, – думалось Мрацкому, – то все-таки деньги мои не пропащие! На них сам молодец свертится, и все-таки одним женихом меньше будет… Но надо полагать, что польза будет. Уж очень хитер и злюч этот головорез. Недаром от полтурки уродился».
XVI
Через два дня праздно-скучная жизнь в Крутоярске была прервана неожиданной новостью, почти целым событием для всех обитателей. Около десяти часов утра влетела во двор взмыленная тройка ямских лошадей, и из небольшого тарантаса вышел на главный подъезд никому не знакомый гость, в не виданном еще мундире.
Люди, находившиеся в передней, не могли сразу узнать прибывшего, но вскоре затем некоторые весело выскочили на двор вынимать вещи из экипажа, другие же стремглав пустились во все края дома вестниками радостного происшествия. Прибывший был всеми любимый Борис Андреевич. Трое из людей бросились наперегонки, смеясь и задерживая друг друга, чтобы известить прежде всего Марьяну Игнатьевну, так как Щепина давно обещала целковый тому, кто первый объявит ей о приезде ее Бориньки.
Люди, ворвавшиеся вместе в горницы главной мамушки, застали Марьяну Игнатьевну в сердечной и тихой беседе с барышней.
– Борис Андреевич! – вскрикнули они в один голос.
Марьяна Игнатьевна вскочила, слегка изменилась в лице и быстро двинулась, а затем уже почти побежала на главную парадную лестницу. Вслед за ней полетела и Нилочка.
Навстречу обеим по лестнице поднимался стройный молодой человек в красивом мундире. Марьяна Игнатьевна вскрикнула, всплеснула руками и со слезами стала обнимать бросившегося к ней сына.
Через несколько мгновений она отстранила его от себя, присмотрелась к нему и расплакалась еще сильнее. Если бы Щепина не была предупреждена, то она положительно не узнала бы родного сына, которого не видала немного более двух лет, – настолько изменился молодой человек.
Стоявшая за своей мамушкой Нилочка тоже удивленно смотрела на молодого капрала и не верила глазам: это ли тот Боринька, с которым она провела все детство.
Наконец семеновский капрал, снова расцеловавшись с матерью, вскрикнул:
– Нилочка!
И он кинулся обнять и расцеловаться с подругой детства, но девушка, смущаясь и закрасневшись, как-то сухо поздоровалась с ним.
Через несколько минут Борис сидел, однако, в горницах, занимаемых Нилочкой, как если бы был в действительности ее родной брат. И мать, и подруга детства забрасывали его вопросами о столице, службе и о всех мелочах полковой жизни. Борис отвечал, рассказывал, рассуждал… И обе женщины, любившие его, все более удивлялись, насколько может перемениться человек за такой сравнительно все-таки короткий срок времени. Давно ли – казалось, только несколько недель назад, по милости однообразной жизни Крутоярска, – проводили они по дороге в Самару скромного и отчасти робкого юношу, который горько плакал, отправляясь в Петербург, представлявшийся ему хуже Сибири. Юноша, воспитанный под крылышком любящей матери, около не менее любящей его полусестры, – теперь был совсем молодчина капрал. Он вырос, вошел в тело, казался плечистее и мужественнее, а лицо слегка будто похудело: юношеская опухлость или кругловатость щек и скул исчезла, и оно стало более сухо и более осмысленно. Вместе с тем и голос, и ухватки Бориса были другие. Он выражался резче и громче. Изредка отвечая матери, он как бы отчасти лукаво усмехался. Он чувствовал, что и ему теперь заметна и забавна перемена, происшедшая в нем. Но он впервые увидел или заметил это только теперь здесь, в Крутоярске. В Петербурге это и на ум не приходило.
– Как ты переменилась, Нилочка, – вымолвил он, ласково глядя на девушку.
– А ты-то… ты! – отозвалась Нилочка. – Узнать нельзя.
– Ты похорошела… Совсем барышня, не девочка.
– И ты тоже… Тоже…
Но Нилочка не знала, как выразить свою мысль. Борис Щепин казался ей именно мужественным, более мужчиной, нежели когда поехал на службу.
– Ты, Боринька, совсем офицер, а не мальчуган, – сказала мать.
– Ну, до офицерского-то чина еще далеко, – ответил Борис. – Ну, что у вас, как… Что Мрацкие, Жданов, Никифор?..
И Щепин, в свою очередь, расспросил все обо всех обитателях Крутоярска, но получил от матери и Кошевой один и тот же ответ: «Все по-старому!»…
– Одна только новость у нас, – странно выговорила Марьяна Игнатьевна. – Князь один самарский за Нилочку сватается. Очень ему ее поместья и вотчины по душе пришлись.
Девушка слегка смутилась, но не покраснела, а лицо ее стало серьезнее, и она с упреком взглянула на мамушку.
– Что же, давай бог… Пора ей замуж, – воскликнул Борис. – Скорей опеку долой!
Но, присмотревшись к лицу матери, Борис прибавил:
– Неподходящ? Дурной разве человек?
– Напротив… Очень хороший… – вымолвила сухо Нилочка.
– Что же мы знаем о нем? На девичьи глаза хорош, потому что хват и речист, – раздражительно произнесла Щепина. – А больше мы ничего не знаем.
– Ну, что же? Узнайте… Я вам все разузнаю… Коли дурная слава о нем в Самаре – в один день узнается. А если человек хороший, то надо Нилочке за него. Княгиней будет. Как его фамилия?
– Князь Льгов, – вымолвила девушка.
– Льгов! – воскликнул Борис.
– А ты его знаешь? – удивилась Нилочка.
– Нет… Но… Нет…
И Борис замялся.
– Ты этого князя Льгова знаешь, – сухо произнесла Щепина. – Почему же ты заикаешься… Что-нибудь худое знаешь о нем, чего сказать не хочешь… или ты не можешь сказать при Нилочке? Так после мне скажешь…
– Князь Льгов, матушка, про коего я думаю, очень хороший человек. Такой добрый малый, каких на свете мало водится. Но тот ли это? Моего зовут Николаем, и он офицер Измайловского полка.
Щепина насупилась, а Нилочка улыбнулась и выговорила весело:
– Этот самый и есть. Этого зовут Николай Николаевич, и он этого полка, как ты говоришь.
– Отличный малый. Давай бог тебе за него замуж выйти, – воскликнул Борис. – Да он совсем-таки взаправду сватается или это одни ваши деревенские толки? У вас тут…
– Ах, полно, пожалуйста! – прервала Щепина. – Не успел приехать и уж меня сердишь. Ты, выходит, лицом только стал мужчина, а разумом-то все еще малолеток. По чему такому этот князь диво дивное? Скажи. Докажи. Что он дивного сделал в Питере? Ведь зря болтаешь…
– Его все хвалят, матушка, в Измайловском полку. Товарищи жалеют, что он ушел…
– Не с кем им, что ли, безобразничать теперь? Коновода нет?
Борис удивленно взглянул на мать.
– Да вы-то что худого об нем знаете? – спросил он наконец.
– Ничего, Боря. Ничего! – холодно ответила Нилочка. – Это наши крутоярские переплеты… Вот поживешь – увидишь, но ничего не узнаешь и не поймешь. Почему Маяня не хочет, чтобы я выходила за князя замуж, – она не говорит. А все только сказывает, что князь худой человек. Сказать же про него худого ничего не имеет. И выходят это – крутоярские переплеты… И чем все это кончится – я уж не знаю! – грустно добавила Нилочка.
Наступило молчанье.
Марьяна Игнатьевна сидела сумрачная и опустив глаза. Борис смотрел на мать с недоумением. Наконец Щепина поднялась и вымолвила, вздохнув:
– Ну, там видно будет… что и как… А пока, Боринь-ка, пойдем в твои горницы… Уберешься с дороги, поди к Сергею Сергеевичу и к Петру Ивановичу.
– Да. Надо сейчас же… Обидятся… Я только переоденусь…
И молодой человек поднялся и пошел вслед за матерью, но у дверей он обернулся, поглядел на Нилочку и радостно улыбнулся. При этом он сделал едва заметный жест рукой, указывая на мать. Нилочка усмехнулась, и лицо ее, за минуту скучное, оживилось. Она увидела нечто давнишнее, знакомое, что вызвало в ней старые воспоминания детства. Бывало, когда Марьяна Игнатьевна сердилась на них, на нее и на Бориса, то они имели обыкновение друг дружке показывать так на нее украдкой, как бы говоря:
«Ничего! Пройдет!»
Этот жест за спиной Марьяны Игнатьевны был одною из их детских тайн, и теперь Борис нарочно напомнил своему другу и полусестре одну из этих невинных выходок детства.
Но когда Кошевая осталась одна, она снова задумалась глубоко.
Тогда все были шутки, думалось ей. А теперь подошло время тяжелое. Тогда были у нее враги, но было одно верное прибежище – Маяня. Заступница против всех. Теперь же эта мамушка и вторая мать против нее тоже. И она окончательно сиротой, одна-одинехонька. И люди совсем чужие становятся ближе близких. Чужой человек Зверев стал сразу близким и ратует за нее. А чужой человек князь Льгов стал чем-то… особливым для нее. За него она готова на все… на всякие подвиги. Откуда смелость берется, которой прежде не бывало? Что же с ней приключилось? Какая-то перемена в мыслях и в чувствах… Это – любовь!
И крутоярская царевна, еще недавно спрашивавшая тайком у горничных девушек, кто из них кого любит, за кого метит выйти замуж, добивавшаяся из разговоров с ними уразуметь, что это за чувство такое ими движет, заставляет их радоваться и горевать несказанно, теперь сама, сразу, неожиданно очутилась под властью такого же именно чувства.
Но в ней любовь проснулась по-своему… Чувство в самый краткий промежуток времени выросло, окрепло и овладело настолько всем ее существом, что все мысли были вытеснены из головы одной мыслью о князе Льгове.
Между тем, пока Нилочка сидела задумавшись у себя, а затем, достав письмо Зверева, которое она уже знала наизусть, начала снова перечитывать его, Щепина с сыном уже успели переговорить о князе.
Марьяна Игнатьевна, введя сына в его горницы, тотчас же строго спросила:
– Ты знаешь хорошо этого князя?
– Знаю, матушка, – ответил Борис, смущаясь. – Знаю мало, видел два раза… Но должен его любить и быть ему вовеки благодарным. Да и вы тоже… Он меня чуть не от смерти спас.
– Как от смерти? – воскликнула Щепина.
– Да, матушка, не хотелось мне это вам рассказывать. Думалось, не придется… Но если ныне дело пойдет на то, что вы против него стоите, то я вам все скажу… Но теперь увольте. Только что приехал. А это длинно рассказывать. Ну, завтра, что ли…
– Когда же? Когда же он тебя спас? Когда это было?
– Да только что я в Питер приехал; месяцев шесть еще не прошло.
– Да что же именно? Скажи хоть слово.
– Меня, матушка, могли убить… А князь Льгов заступился… Потерпите до завтра! – усмехнулся Борис.
Щепина опустила голову, и видно было, что она поражена признанием сына.
– Да ведь это, может, пустое и глупое приключение, – произнесла она. – И он вовсе не благодетель тебе какой. Услуга товарищеская в пустом деле. Пустяки.
– Нет. Не пустяки. И я у него в долгу. Мы в долгу. И вам против него грех идти – в чем бы то ни было, не только в таком важном деле, как сватовство. Коли он сватается, то, стало, любит Нилочку истинно. Он не такой, чтобы закидывать глаза завидущие на ее вотчины и деньги. А мне так даже и бог велел ему быть теперь в помощь. Надо отплатить добром за добро. Обратится он ко мне теперь, я за него горой стану против Мрацких и других.
– И против меня, матери родной? – вскрикнула Марьяна Игнатьевна.
– Что вы, матушка… Зачем… Да и вы за князя будете стараться.
– Я?.. Я, глупый! Я буду Нилочку прочить за Льгова?! Помогать ему, когда Нилочка должна быть женою другого, мною ей в мужья нареченного уже лет с десять?!
– А у вас, стало, есть свой жених для Нилочки?
– Вестимо, есть.
– Да коли она его не захочет, вашего-то…
– Захочет… Я заставлю…
– И ваш-то этот любит Нилочку?
– Любит.
– Да стоит ли он князя-то?
– Стоит. Нилочкин жених, мною нареченный ей, – ты.
Борис вскочил с места, стал пред матерью как вкопанный и, широко раскрыв глаза, глядел на нее с бессмысленным выражением в лице.
– Что вы, матушка? – выговорил он наконец тихо.
– Коли ты малоумок, то у матери за тебя разум был и теперь будет, – глухо проговорила Щепина. – Да, Нилочка должна быть твоей женой. Тебе должно быть в этом доме хозяином, крутоярским помещиком, а мне быть не мамкой Неонилы Кошевой, а свекровью.
– Этого никогда не будет, матушка.
– Что?!
– Не будет. И Нилочка не захочет меня в мужья. Да и я… тоже.
– Не захочешь ее в жены?
– Какая же она мне супруга? Она мне что сестра.
– Все это вранье крутоярское… Сестра?! Заладили дураки – сестра да сестра. Ну, и любитесь как брат с сестрой, – повенчаться это не помехой.
– Нет, я на это не пойду. Нилочка меня не захочет в мужья, а насильно венчаться я с ней не стану.
– Так ты мне тогда не сын! Я от тебя откажуся… Я… я тебя тогда… прокляну! Да! – глухо и меняясь в лице, произнесла Щепина.
XVII
Через два дня после приезда Бориса все население Крутоярска было немного взволновано невероятными вестями, которым, однако, почти никто вполне верить не хотел.
К Сергею Сергеевичу Мрацкому приехал из Самары гость. По его словам, в Оренбургской губернии была полная смута от всякого сброда яицких казаков, татар, всяких иногородцев и крестьян.
По счастью, в столице начальство не дремлет, и из Казани было уже известие, что там проехал присланный из Петербурга генерал Кар, чтобы принять начальство над войсками, собранными против мятежников. Надо было ожидать со дня на день поимки злодея Пугачева[6] и усмирения края.
– Ну, дорогой мой, – отозвался на эти вести Мрацкий, – у страха глаза велики, а языки длинные. Небось сотни две татар с одним беглым каторжником ограбили да прирезали двух-трех проезжих, а в Самаре из мухи слона сделали.
Гость напрасно клялся и даже подсмеивался над неведением и неверием крутоярцев. Все обитатели отнеслись к вестям так же, как и Мрацкий.
– Мало ли что народ болтает! Во всем пуде вестей и осьмухи правды не найдется.
Однако равнодушно и беззаботно отнеслись к вестям только во дворе и в палатах. Не то было на селе.
Чем менее любопытствовали обитатели крутоярских палат знать, что происходит под Оренбургом, тем более чутко и трепетно ждали вестей от разных «прохожих людей» обитатели крутоярского села и окружных деревень. Но новостей долго не было.
Наконец выпал снег и наступила сразу зима. По первопутку следовало ждать диковинных вестей…
Прошло три недели с приезда Бориса Щепина. В палатах и во дворе уже привыкли к этому событию, прервавшему праздно-скучную жизнь. Разумеется, молодой капрал не внес ничего нового в обыденную колею жизни. Единственная перемена, которая произошла одновременно с его приездом, были ледяные горы в саду и катанья с них дворни, благодаря сразу и дружно наступившей зиме.
Вначале многие крутоярцы надеялись, что всеми любимый Борис Андреевич, приехав из столицы, придаст некоторое оживление угрюмому существованию в больших палатах. Но вышло совершенно наоборот. Сам Борис, приехавший беззаботно-веселым, поддался влиянию общей скуки и, по прошествии нескольких дней, смотрел на все и на всех такими же скучающими глазами. Впрочем, на это была особенная причина.
Борис был поражен тем, что узнал от матери. Он никогда и не помышлял о том, что она давным-давно решила тайно от него. Он всегда, с детских лет, любил Нилочку, часто вспоминал о ней и в Петербурге, интересовался ее судьбой, но смотреть на нее иначе, как на сестру, он не мог. И теперь мысль – считаться женихом, думать о женитьбе на Нилочке – казалась ему чудовищной.
Положение его тотчас же по приезде стало странное, двусмысленное и тяжелое. Хотя за время пребывания в Петербурге он несколько освободился из-под влияния матери, которой прежде страшно боялся, тем не менее теперь незаметно для самого себя стал снова поддаваться этому влиянию.
Борису казалось, что если бы дело шло о пустяках, то он бы мог противиться матери в качестве взрослого и капрала, а не быть прежним маменькиным сынком; но в таком серьезном деле, как женитьба на Кошевой, у него не хватало храбрости противодействовать.
Марьяна Игнатьевна с первого дня заметила, конечно, что возмужавший сын стал несколько самостоятельнее, но женщина не сомневалась ни минуты, что снова овладеет его волей и разумом.
Отношения Щепина к крутоярской царевне с первых же дней стали не те, о каких он мечтал в Петербурге.
Они были неестественные, натянутые, неискренние.
Марьяна Игнатьевна строго запретила сыну не только говорить, но даже и намекать Нилочке на их тайный разговор и их намерения.
– Ты должен заставить Нилочку полюбить себя, – сказала она. – Пускай она сама додумается за тебя замуж идти. А если ей сейчас сказать, чего мы желаем, то она испугается и все пойдет прахом.
Все это казалось Марьяне Игнатьевне очень просто, а Борису казалось совершенно нелепым и немыслимым.
Молодая девушка, которой за последнее время не с кем было отводить душу, – конечно, с первых же дней избрала друга детства прибежищем, исповедовалась ему во всем, передавала ему подробно все свои сердечные тайны, волнения и надежды.
Борис уже знал, что Нилочка сильно влюблена в князя Льгова и готова идти на все. Ее робость, безволие – все исчезло под влиянием охватившего ее чувства. Борис выслушивал исповедь друга и принужден был обещать помощь, в чем только мог. Вместе с тем Марьяна Игнатьевна всякий день поучала сына, как заставить Нилочку полюбить себя и приучить ее к мысли – выходить замуж за него, Бориса.
И молодой человек неожиданно попал между полусестрой и матерью – двумя любимыми им женщинами – в самое нелепое положение.
Одновременно было еще нечто новое на душе молодого капрала. Когда-то здесь, в Крутоярске, часто, чуть не ежедневно, видел он в доме маленькую девочку Аксютку, прислуживавшую горничным, и тысячи раз случалось ему играть с ней. Затем, перед отъездом в Петербург, видел он пятнадцатилетнюю Аксюту, которая много изменилась к лучшему, но Борис этого как бы не замечал – оно было ему совершенно безразлично.
И теперь, по приезде, он встретил в этом же доме красивую молодую девушку и едва узнал в ней прежнюю Аксюту. Оказалось, что девушка уже с год почитается в Крутоярске чуть не первой красавицей всей округи.
С первых же дней Борис стал видеть Аксюту всякий день, так как она была приставлена печись о его вещах и белье. Случилось это по приказанию Анны Павловны Мрацкой, а дальновидная Марьяна Игнатьевна ничего в этом не усмотрела, сочла совершенно простым делом и не предугадывала, что могло случиться и на что сильно рассчитывал сам Сергей Сергеевич Мрацкий.
Через неделю после прибытия в Крутоярск Борис при встрече с Аксютой уже ласково ей улыбался, заглядывался подолгу на красивую девушку и все чаще заговаривал с ней. Теперь его уже занимала мысль, о чем так горячо разговаривали на ледяных горах Аксюта и Никифор, а однажды, взятые им врасплох, смутились, так как Никифор держал девушку за руки. Эта мысль сильно занимала Бориса, и он наивно не сознавал, что эта мысль, отчасти тревожная, во всяком случае неотступная, есть не что иное, как ревность. Молодой капрал, незаметно для самого себя, влюблялся в Аксюту и сам этого не знал. Он ревновал ее ко многим, и больше всех к Никифору, и тоже этого не подозревал.
Вместе с тем Борис Щепин не знал и главного – не знал, что, благодаря своим новым, пока еще наивным отношениям с Аксютой, он уже нажил в Никифоре злейшего врага. И теперь «Никишка-головорез» мог служить Сергею Сергеевичу и его ехидной затее еще с большим рвением, чем прежде.
Когда-то Никифора наняли намутить, напутать, разных бед бедовых наделать. Но у этого Никифора не было ненависти ни к князю, ни к Борису. Теперь сын караимки ненавидел обоих молодых людей: Щепина – из-за ревности, из-за того, что Аксюта была тоже неравнодушна к молодому капралу, а князя – за то, что обманулся и ошибся в расчете. Обещая Мрацкому сдружиться с князем и пойти на всякие затеи в Самаре, чтобы осрамить этого князя в глазах Нилочки, он слишком много брал на себя и увидел, что все это были мечты.
Князь Льгов обращался с ним холодно-любезно и не мог скрыть презрения, которое возбуждал в нем Никифор. Дружбы между ними возникнуть не могло, так как общего не было ничего. Льгов изредка относился к Неплюеву ласково, но эта ласковость была похожа на ту, с какою господа относятся иногда к дворовым людям.
Никифор, доносивший подробно обо всем Мрацкому, как о том, что узнавал, так и о собственных действиях, не скрыл от Сергея Сергеевича своей неудачи. Однако Мрацкий все чаще допускал к себе Никифора, подолгу говорил с ним и поучал его, но в этих беседах и совещаниях двух бесспорно самых злых людей в Крутоярске заключалось нечто особенное и замысловатое.
И это нечто было теперь во всем Крутоярске, будто нависло облаком и окутало всех, как туманом. Между всеми главными обитателями больших палат было удивительное и невероятное недоразумение. Про них и про всех можно было сказать, что их «черт веревочкой перевязал!».
Мрацкий, Никифор и Марьяна Игнатьевна интриговали лукаво, злобно, бездушно, но с полным самомнением, с твердым убеждением в успехе, даже с гордостью собственного превосходства пред всеми прочими.
Нилочка, Борис и князь Льгов, явившийся еще два раза в гости, относились к козням пассивно, как бы отбивались поневоле от сетей, которыми их опутывала невидимая рука. Между тем путаница в отношениях всех лиц была полная, так как все они – умышленно или невольно – обманывали друг друга.
Борис, невольно обманывая мать, тоже невольно обманывал и Нилочку, не говоря ей о затеях матери, которые казались ему нелепыми.
Мрацкий, обманывая Марьяну Игнатьевну, обманывал и Неплюева, хотя вместе с тем попался с ним впросак. Он поведал Никифору о своей твердой надежде, что Борис неминуемо влюбится в Аксюту, оскорбит этим девичье чувство Нилочки и сам себя вычеркнет из числа женихов. Для Никифора это сообщение Мрацкого было ударом ножа.
Вместе с тем князь Льгов, с первого дня более близкого знакомства с Нилочкой, стал удаляться от Неплюева, чуждаться его. Когда Никифор, ради отомщения Мрацкому за Аксюту, собрался было искренно и честно помочь князю в его деле, то Льгов обманулся в чувствах Неплюева и отнесся к нему с еще большею холодностью и подозрительностью.
Вместе с тем князь был убежден, что капрал Щепин, которого он немного знал по Петербургу, страстно влюблен в Кошевую и поэтому должен считаться его главным соперником.
Борису искренно хотелось бы всячески помочь князю – отблагодарить его за благодеяние в Петербурге, помочь в его деле женитьбы на Нилочке. А князь почти со злобой взирал на ненавистного капрала и готов был на все, чтобы избавиться от сего серьезного соперника.
Так как у каждого из главных обитателей Крутоярска были и вновь нашлись разные помощники, если не на деле, то, по крайней мере, на словах, то весь дом разделился на несколько лагерей, и всех обитателей опутала такая сеть, в которой они сами не могли бы разобраться. В Крутоярске завязался такой гордиев узел, который не только развязать было невозможно, но который, казалось, и разрубить было бы не под силу.
Прошла еще одна неделя, и огромная сеть, которая опутала всех обитателей Крутоярска, только слегка распуталась с одной стороны.
Борис, уже совершенно влюбленный в Аксюту, снова подстерег ее с Никифором. На этот раз не оставалось никакого сомнения, что Неплюев встретился с девушкой не случайно, что встреча их была, назначенным заранее свиданием.
На свою беду, Борис только видел, как горячо и страстно объяснялись молодые люди между собой, но не слыхал почти ничего. Он слышал несколько слов, сказанных Никифором, и из них прямо заключил, что «головорез» любит Аксюту. Но ни одного слова из того, что тихо, но холодно отвечала Аксюта, Борис слышать не мог и поэтому не знал, что чувствует она. Он не знал, что Никифор упрекает свою прежнюю возлюбленную в измене, а она грустно, но твердо оправдывается.
Если бы Борис слышал хорошо весь разговор, то он бы, конечно, был вполне счастлив. Теперь же это свидание и беседа молодых людей возбудили в нем только одну томительную ревность.
XVIII
Молодой капрал, проходив целый день скучный и грустный, объявил, что поедет прогуляться в Самару и вместе с тем заедет в гости к князю Льгову, который, побывав в Крутоярске, усиленно звал его к себе.
Князь Льгов, в душе ненавидя соперника, пригласил его к себе в Самару, отчасти из вежливости, отчасти из любопытства. Ему хотелось ближе узнать того человека, которого Нилочка, очевидно, начинает предпочитать ему.
Марьяна Игнатьевна очень обрадовалась этому визиту сына.
– Он, кажется, речист на словах, – наказывала она Борису, – а на деле – малоумный. Попытай его, разузнай все, не копает ли он нам какую яму. Будь умницей. Заставь его все себе разболтать. Узнай главное, куда девался Зверев. Я слышала, его в Самаре нет, а оно очень удивительно.
И в длинной речи Марьяна Игнатьевна научила сына, как действовать в Самаре, как поддеть князя Льгова, чтобы успешнее бороться с ним в случае каких-либо подкопов.
Но вместе с тем перед самым отъездом Бориса Нилочка успела шепнуть другу совершенно иное. Девушка упросила Бориса разузнать, как относится князь Льгов к ней, много ли ее любит или мало, надеется ли вместе с Зверевым на успешную борьбу с Мрацким. Кроме того, Нилочка упросила Бориса пригласить князя в Крутоярск как можно скорей, якобы лично к себе в гости.
Мрацкий, прощаясь с Борисом, тоже, хотя намеками, посоветовал молодому человеку воспользоваться своим посещением князя Льгова. Мрацкий косвенно посоветовал Борису убедить князя бросить свою затею и понять, что единственный серьезный претендент на руку Нилочки он сам – Щепин и что если они явятся соперниками, то он, Мрацкий, пойдет на все в защиту планов Щепиных, матери и сына.
И несколько смущаясь, но и грустно всех слушал Борис и всем обещал все, что от него требовали. Но искренним был капрал только с Нилочкой. Он выехал в Самару, твердо решив сблизиться с Льговым, откровенно объясниться с ним и стать его действительным и верным помощником.
Приехав в город и остановившись в гостинице, Щепин тотчас же отправился с визитом к губернатору, потом к московскому генералу Мансурову, присланному с особыми полномочиями из столицы, а затем к Звереву и князю, которых не нашел дома. Об первом он узнал, что тот уже с неделю как уехал в Петербург по делу.
От губернатора и генерала Щепин узнал невероятные вести. Насколько все услышанное им показалось ему невероятным, настолько же двум властным лицам показалось невероятным неведение дворянина и капрала Щепина.
– Как вы живете? – сказал губернатор. – Ведь до вас, извините, как до глухого вести доходят.
– Нам, в вотчине, совершенно ничего не известно, – отзывался Щепин, отчасти равнодушно.
– Помилуйте! Весь край в волнении, – говорил генерал. – Того и гляди – у вас начнут крестьяне подыматься и бунтовать! Не удивляюсь, коли не ныне завтра весь ваш Крутоярск схватится за вилы и за дубье. А вы ничего не знаете. Пожар кругом, от дыма задохнешься, а вы вот слушаете меня да глаза раскрываете удивленные.
Но несмотря на то, что губернатор, а равно и генерал красноречиво описали молодому капралу ужасное положение всего края, Бориса мало взволновали их речи. Его гораздо более волновало предстоящее свидание с князем Льговым.
На другой день, когда он снова собирался к Льгову, к подъезду его гостиницы подъехала карета, а через несколько минут в комнату Бориса вошел Льгов.
– Узнав, что вы были вчера у меня, я поспешил отплатить вам тем же, – вымолвил он, входя.
Молодые люди заговорили о всяких пустяках, и оба чувствовали, что они настороже, что они странно относятся друг к другу. Князь относился к Щепину подозрительно, а Борис смущался и не знал, чему это приписать.
Вдруг оборвав разговор о волнениях в крае, Борис выговорил решительным голосом:
– А я рад случаю, Николай Николаевич, чтобы снова вспомнить и снова поблагодарить вас за великую услугу в Петербурге.
– Полноте, что вы! Стоит ли это вспоминать! – отозвался князь.
– И очень стоит… И поверьте, я не забыл. Да и никогда не забуду… И поверьте, что если бы мне бог послал когда возможность отплатить вам той же монетой, то я сделаю это, хотя бы даже с опасностью собственной жизни!..
Борис произнес это так восторженно, так искренно, с таким глубоким чувством в лице и в голосе, что князь изумленно и пытливо присмотрелся к нему.
– Да, князь, такие услуги не забываются честными людьми. Если вам понадобится человек верный, к вам сердечно относящийся, не забудьте меня!
Льгов поверил словам, лицу и голосу молодого капрала, но понурился и вздохнул.
– Трудно это, Борис Андреевич! Могли бы вы быть мне добрым помощником, даже благодетелем, но в таком деле, в каком никогда не пожелаете этого… В таком деле, в котором явитесь поневоле не благодетелем моим, а злейшим врагом.
– Я вас не понимаю! – произнес Борис.
– Прекратимте эту беседу. Говорить прямо, откровенно – нам нельзя… Нам двум это невозможно… Менее возможно, чем кому-либо…
– Поясните мне что-нибудь, князь! Я совсем ничего не понимаю…
– Я не могу вам ничего пояснить, да и не нужно оно.
– Нет, нужно, князь… очень нужно… У меня есть дело до вас… Просьба!.. У меня есть… не знаю, как сказать… Есть у меня до вас… – начал путать Борис и не знал, как выразиться. – Мне бы надо откровенно побеседовать с вами об одном деле… Передать поручение вам…
– От кого? – удивился князь.
– Из Крутоярска, от одной особы, которая вам хорошо известна… От Неонилы Аркадьевны.
– Поручение?! – воскликнул князь. – Какое же? Не бывать в Крутоярске?
– Нет, совсем напротив. Побывать вскорости и бывать почаще…
Изумленное лицо князя поразило Щепина. Молодые люди посмотрели друг другу в глаза, недоумевая. Они, очевидно, совершенно не понимали один другого.
– И это поручение привезли вы?.. Взялись привезти?.. – спросил князь после паузы.
– Да.
– Вы согласились приехать ко мне и пригласить меня в Крутоярск от имени Неонилы Аркадьевны?
– Да! И с особым удовольствием.
– С удовольствием? – повторил князь. – Воля ваша, вы меня извините, но позвольте вам не поверить!
И князь насмешливо, даже презрительно рассмеялся. Лицо его говорило:
«Ты желаешь считать меня за дурака, но собственно ты сам простоват».
– Что же тут удивительного, что я прошу вас побывать в Крутоярске? – сказал Борис. – Это доставит удовольствие Неониле Аркадьевне, которую я очень люблю.
Князь Льгов, понявший все по-своему, понявший, что простоватый малый собрался хитрить, но очень неумело, собрался его – князя рядить в дураки, но рядит самого себя, – настолько вдруг рассердился, что выговорил уже резко:
– Прекратимте, пожалуйста, этот разговор!
Поговорив снова о пустяках, молодые люди расстались совершенно странно. Борис ничего не понимал, старался разгадать князя и не мог, а князь, подозревавший молодого капрала в неудачном лукавстве, не мог, однако, не сознаться, что доброе и честное лицо Щепина, его голос, искренний и правдивый, – все противоречит его подозрениям.
– Все-таки, – сказал Борис, прощаясь, – вы мне позволите завтра побывать у вас?
– Очень рад! – сухо отозвался князь.
– Мне непременно нужно… Мне нельзя… Я обещал… – снова начал путать Борис. – Мне нельзя выехать из Самары, не взявши с вас слова приехать в Крутоярск. Мне не хочется так ворочаться… Я не хочу опечалить Нилочку. Ведь это все, князь, дело важное! – выговорил наконец Щепин с искренним чувством.
Льгов посмотрел в лицо капрала и невольно признался самому себе:
«Ничего не понимаю!»
И, помолчав мгновенье, он вымолвил:
– Милости прошу! Поговорим еще, может быть, наконец что-нибудь и поймем, а пока, воля ваша… – и князь рассмеялся, – пока я ничего не понимаю.
XIX
Борис целый день продумал о князе и их странных отношениях.
«Точно будто мы враги, – думалось ему. – А почему?»
Мысль о том, что Льгов ревнует его к Нилочке, считая его соперником, ни разу не пришла ему в голову. Помышлять жениться на Нилочке казалось ему настолько диким и нелепым, что одна лишь мать, ослепленная любовью к нему, могла додуматься, по его мнению, до такой невероятной затеи. Другому же никому и на ум не придет ничего подобного. Следовательно, и князь не может считать его соперником. Да к тому есть еще одна важная помеха, чтоб ему, Щепину, стать поперек дороги Льгову: благодеяние князя, оказанное ему в Петербурге. Из одной благодарности не мог бы он, Борис, мешать теперь своему благодетелю.
И честный Щепин чувствовал, что если б он даже был влюблен в Кошевую, то уступил бы князю девушку-невесту, чтобы отплатить добром за добро.
Князь ничего подобного, с своей стороны, и не мог предполагать, не зная, с каким прямодушным и добрым малым он имеет дело. Вдобавок Льгов и не считал своего петербургского деяния по отношению к Щепину за благодеяние и смотрел на все как на случайность и на простую услугу дворянина и офицера своему собрату. Это «событие» для Щепина и простое «приключенье» для Льгова произошло уже давно. Князь забыл и думать о том, что хорошо помнил и ценил сердечный Борис.
Случай этот был самый простой.
Вскоре по прибытии в столицу и поступлении в ряды Семеновского полка Щепин, явившийся прямо «из-под юбок маменьки» – по выражению Мрацкого, подпал, разумеется, под влияние первого же человека, пожелавшего его себе подчинить.
В полку в это время процветала азартная карточная игра так же, как и во всей гвардии и в обществе. Нового новобранца втянули в игру почти насильно, и он стал посещать сборища офицеров в каком-то притоне, где шла страшная игра и где проигрывались даже вотчины.
Один из офицеров полка, уже пожилой человек, капитан Бровский, сделал из Бориса своего адъютанта или наперсника. Щепин, сначала незаметно для самого себя, а затем из малодушия, стал слепым орудием Бровского и исполнял все, что капитан ему приказывал, был у товарища в услужении. Как повиновался он матери в Крутоярске, так теперь стал слушаться во всем Бровского, часто желая, но боясь противоречить.
Бровский был одним из записных и самых отчаянных игроков. Он был всегда банкометом и всегда играл счастливо, обыгрывал всех. Щепин и не подозревал по наивности, что состоит в качестве наперсника у сомнительного игрока, подозреваемого в шулерстве.
Однажды давно подозреваемый Бровский попался. Целая компания офицеров устроила шулеру настоящую западню. Ему было доказано, что он играет мошеннически, и с ним распорядились попросту и под спудом, т. е. избили его до бесчувствия. Вместе с Бровским, конечно, попался и Щепин, но во время свалки выбежал в другую горницу и заперся на ключ. Он с отчаянием понял только теперь, у кого был адъютантом, но, конечно, знал, что, в сущности, не повинен и терпит в чужом пиру похмелье.
Расходившаяся толпа, исколотив Бровского, стала ломиться и в двери горницы, где спрятался Щепин, чтобы разделаться с ним тем же способом. Борис отворил окно и решил лучше броситься с третьего этажа на мостовую, нежели быть избитым в качестве шулера. И он знал тогда и помнил хорошо теперь, что решение его было твердо и непоколебимо. Он уже со слезами прочел «Отче наш» и сел на подоконник с намерением прыгать, когда двери уступят под ударами нападавших.
Все окончилось благополучно, благодаря вмешательству одного из самых разумных офицеров компании. Князь Льгов, собравшийся уезжать из игорного притона, когда началась свалка и драка, вышел на улицу и случайно увидел в окне бледную фигуру наперсника Бровского. Он увидел, как тот кружится, то поглядывает вниз, то прислушивается… Князь догадался, в чем дело… За час назад, во время игры, этот юный рядовой показался ему малым симпатичным и наивным прислужником шулера.
Князь вернулся тотчас назад и все уладил, усовестив компанию. Он один вошел в горницу Щепина, отворившего дверь, когда вся компания уже собиралась разъезжаться. Он объяснил Борису, что спас его от побоев с условием, чтобы он прекратил всякие отношения с Бровским.
Щепин охотно обещался, считая, что довольно уже наказан, так как был на волосок от смерти. Однако князь этим уверениям молодого человека, что он решился бы действительно на самоубийство, не поверил.
«В последнюю минуту не хватило бы духу прыгать», – думал он.
Поэтому все это приключение для князя не имело теперь того же значения, что для Щепина. Один считал, что оказал маленькую услугу – спас от срамных побоев, а другой знал, насколько твердо решился прыгать от этих побоев, и следовательно, считал себя спасенным от неминуемой смерти.
Теперь Борис живо вспомнил все это дикое приключение и снова уверял князя, что обязан ему жизнью. Князь поверил, и отношения их сразу изменились, стали более искренними.
Щепин пробыл в Самаре три дня и настолько сошелся с Льговым, что, простившись с новым другом, выехал обратно в Крутоярск, готовый всячески, не жалея себя, служить Льгову в его деле.
По возвращении Борису пришлось взять на себя новую роль, которой он никогда не играл и которая на первых порах показалась ему крайне трудной. Он должен был лгать и обманывать всех, за исключением Нилочки.
Только ей одной рассказал он всю правду и своим восторженным отношением к князю только разжег страсть Кошевой. Вместе с тем он поклялся Нилочке – так же, как клялся князю в Самаре, – положить за них душу, пожертвовать хоть своей жизнью, но добиться того, чтобы они принадлежали друг другу.
Новая роль лгуна и интригана по отношению к матери и к Мрацкому настолько была не по характеру и не по силам Щепина, что он, конечно, выдал бы себя сразу, если бы и мать, и опекун не были ослеплены собственным самомнением и той меркой, которой мерили Щепина.
Марьяна Игнатьевна ни единого мгновения не допускала мысли, что ее Боринька может идти против нее, может тайно противодействовать ее планам и вообще не повиноваться ей.
Мрацкий был убежден, что он слишком умен и хитер, чтобы быть обманутым этим Борькой. А главное – Мрацкий был убежден, что Щепин, не имеющий никакого состояния, точно так же такими же алчными глазами смотрит на состояние Кошевой, как и он сам со своим Ильей.
Борис должен был объясниться и с матерью, и с опекуном по поводу своего пребывания в Самаре и свиданий с князем и так как еще не привык лгать, то путался и противоречил себе.
Из его объяснений и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна вывели одно заключение, что Борис, по их наущению, хитрил насколько мог. Он – верный слуга, но большего от него требовать нельзя.
Мрацкий долго ахал и качал головой, узнав от Бориса, что князь приедет в Крутоярск в гости, лично к нему.
«Вот дурак-то! – думалось Мрацкому. – И в этом не сумел ничего придумать, чтобы отделаться от такого гостя!»
Марьяна Игнатьевна немного рассердилась на сына:
– Пойми ты, Боринька, ведь он тебя одурачил, этот нахал. Ты должен был сказать, что не можешь принимать его в гостях в Крутоярске, так как ты сам здесь, правильно рассуждая, тоже в гостях у своей матери.
Борис смущался, лгал, елико умел, но внутренне смеялся, думая: «Как бы удивились вы, если бы знали, что сам я уговорил князя приехать, невзирая на ваше неудовольствие».
XX
Однако вскоре Борис должен был иметь два неожиданных искренних объяснения с двумя личностями, которых теперь начинал любить одинаково страстно, хотя и разно. Прежде всего ему пришлось покаяться откровенно пред Нилочкой и выдать тайну матери.
Девушка была сначала изумлена, узнав, что заветным желанием Марьяны Игнатьевны был брак ее с Борисом, но затем Нилочке показалось это совершенно естественным, показалось гораздо более простым делом, нежели самому Щепину.
– Знаешь что, Боринька, – сказала Нилочка, подумав, – ведь это было бы очень хорошо. Это очень умно и, конечно, могло бы случиться, приезжай ты только немножко пораньше, – прежде, чем я повидала князя.
– Что ты, бог с тобой! – отмахнулся Борис. – Да ничего более невозможного придумать нельзя! Это матушка из любви ко мне такое придумала… Какой же я тебе муж? Ты – богачка, красавица, а я что ж такое? Нищий дворянин, капрал. И все ж таки надо сказать по правде, – чей я сын? Я сын нянюшки, которая за жалованье в прислуги пошла…
– Как тебе не стыдно так рассуждать! – укоризненно отозвалась Нилочка. – Маяня для меня что мать родная была, и я ее люблю как мать. И только теперь…
Нилочка запнулась.
– Ты хочешь сказать, что теперь меньше любишь ее? – грустно вымолвил Борис. – И ты права… Зачем она, выходив тебя, идет против твоего законного желания? Ты полюбила хорошего человека, лучшего жениха во всей губернии, и он тебя любит. Зачем же матушка идет против этого ради меня? Она должна любить нас ровно, она не должна ни мной жертвовать ради твоего счастия, ни тобой – ради моего. Матушка нехорошо поступает, мешая твоему браку с Льговым, и ты имеешь право меньше любить ее.
– Если, бог даст, все устроится, – решила Нилочка, – выйду я за князя, Маяня утешится, мы заживем счастливо, и я опять буду любить ее по-старому. А все-таки скажу, Боря, приезжай ты раньше, когда еще никто моих мыслей не заполнил, как теперь князь, я бы с удовольствием пошла за тебя.
– Полно, полно! – рассмеялся Борис. – Ты ничего не понимаешь… Разве наша любовь такая, при которой венчаются? Мы ведь брат с сестрой, вместе росли. Разве ты меня любишь так же, как князя? Да и потом, по правде сказать, уж если ты мне все говоришь, то и я тебе все скажу. Приезжай я в Крутоярск раньше, случилось бы то же, что и теперь. А теперь захоти ты идти за меня замуж, я не соглашусь ни за что. Силком повезут в церковь – упираться стану.
– Что ты? – изумилась Нилочка.
– Да, верно. Почему ты не можешь идти за меня замуж, потому и я не могу на тебе жениться. Ты любишь другого человека, ну, а я…
И Борис вдруг смутился, вспыхнул как девушка и замолчал.
– Ты тоже любишь? Кого? Жениться хочешь? – с изумлением спросила Нилочка.
– Да, люблю, но жениться не могу по-многому. Во-первых, я не знаю, любит ли она меня; во-вторых, еще молод я слишком. Да и нельзя мне на ней жениться. Я – дворянин, а она не моего состояния. Матушка померла бы с горя, если бы таковое приключилось… Да, Нилочка, твое дело плохо, а мое еще того хуже! Тебе горестно, а мне и того горше! Твое дело как-нибудь да сладится, – я это чувствую, чую, а мое приключение совсем погибельное. Не знаю, что и делать, – хоть бежать поскорей из Крутоярска! Если б не мое желание помочь князю и тебе, то я бы не остался у вас, как предполагал, а поскорей бы уехал в Петербург от беды.
– Да разве та, которую ты любишь, не в столице, а здесь? – удивилась Нилочка.
– Здесь… – смущенно и едва слышно выговорил Борис.
– Здесь?! В Крутоярске?
– Ну да… Здесь в Крутоярске.
– Вот… – выговорила Нилочка, разведя руками, и не знала что сказать. – Вот удивительно! Да кто ж это может быть?
Борис молчал, а девушка, подумав несколько мгновений, вымолвила, недоумевая:
– Год продумаешь – и ничего не придумаешь. Кто ж это в Крутоярске мог тебя заставить полюбить себя? Ты мне не скажешь?
– Уволь… Может быть, после скажу, а теперь не могу… Может, это пройдет – я и сам не знаю, как это приключилось. Удивительно! В Петербурге за все время службы я могу сказать, что ни на одну девушку глаз не поднял, не только что полюбить, – хотя и были такие, которые считались даже изрядными невестами, но мне полюбить и на ум не приходило. А тут вдруг сразу как-то поразительно все потрафилось. Будто все завертелось и меня завертело. И ничего я не разберу, ничего не понимаю, не знаю, что и делать… Знаю только, что жить без нее мне было бы невмоготу! Надо бы скорей бежать отсюда, а я не могу себе и вообразить, как буду жить, не видая ее. Да, Нилочка, беда бедовая!
– Да кто же это? В Крутоярске? Кто же это?.. – с изумлением повторяла Нилочка. – Дворовая? Крестьянка? Соседка барышня, что ли, какая? Этаких ты и не видал ни одной.
– Уволь, говорю тебе… В другой раз скажу.
И после этого откровенного признания другу в своей нежданной страсти Борису показалось, что он еще более увлечен и еще более принадлежит той красавице девушке, с которой видается постоянно, но объясниться не в состоянии.
Аксюта первое время по строжайшему приказанию Анны Павловны Мрацкой постоянно бывала при горницах молодого барина и вместе с Никифором проклинала свою должность, – отчасти потому, что Неплюев ревновал ее, подозревал и мучил, отчасти и потому, что быть среди дворни внизу было свободнее и веселее.
Но теперь все переменилось. Красивый малый, скромный, ласковый, сердечный, понемногу, сам того не зная, вытеснил из сердца Аксюты ее первую привязанность – простую вспышку еще не любившего сердца.
Аксюта вскоре если не уразумела, то просто почуяла, что Никифор совершенно не такой малый, который бы мог ей нравиться. Он лишь смелым и дерзким ухаживанием заставлял ее думать о себе и воображать, что она любит его.
Никифор, – думалось ей теперь, – известен тем, что уже давно направо и налево влюблялся во всех без числа; человек он лукавый, бессердечный, вспыльчивый и мстительный, презрительный и враждебно относящийся ко всем. Наконец, этот же Никифор, если не на деле, то на словах, готовый даже на убийство, был далеко не такой человек, которого бы Аксюта могла любить.
Молодой барин Борис Андреевич, наоборот, был именно таков, какой всегда мерещился Аксюте.
Через неделю после того, как девушка была приставлена служить в горницах молодого барина, она уже рада была своей новой должности. Она уже старалась сама предупредить всякое малейшее желание Щепина, с удовольствием угождала ему и вместе с тем начала избегать Никифора.
В тот день, когда Аксюте показалось, что Борис чудно и непонятно смотрит на нее, как будто и в нем есть что-то к ней большее, чем простая ласковость, – девушка стала относиться к Никифору почти враждебно. Несколько грубых слов злобной ревности окончательно оттолкнули ее от него.
И Аксюта, начав по целым дням глубоко раздумывать об обоих молодых людях, рассуждала просто:
«Никифор Петрович балуется. Мало ли кого и где уверял он в своей любви, мало ли кого он обманул. Бывали у него зазнобы всего на один месяц, а то и меньше. Со мной дольше тянется, потому что я не поддалась, а то бы и меня давно бросил. А Борис Андреевич, как сказывают Марьяна Игнатьевна, по сю пору ни на одну девушку ни разу не поглядел. Если бы он полюбил кого теперь, так было бы в первый раз и надолго. Случись этакое с ним, он бы меня с собой увез в Петербург… Одно только чудно, – прибавляла Аксюта, – то он ласково так смотрит, что, кажется, сейчас подойдет да обнимет, а то вдруг насупится, точно разгневается, и день целый слова не скажет».
На другой день по возвращении Бориса из Самары влюбленные случайно и неожиданно объяснились.
Придя к себе от матери, Борис нашел Аксюту сидящею около открытого комода, куда она клала белье. Девушка сидела, печально задумавшись.
Он уже видел ее поутру мельком и, проходя мимо нее, грустно, но и пытливо глянул в лицо красивой девушки. Взгляд его красноречиво говорил:
«Когда же мы объяснимся и уразумеем, что между нами?»
Аксюта поняла этот взгляд, потупилась смущенно и все утро затем сама себе удивлялась. Почему смелый Никифор, преследуя ее когда-то, ни разу не смутил ее своими дерзкими выходками? Он ловил ее в доме, подстерегал в отдаленных горницах или в саду и обнимал, целовал… И девушка оставалась спокойной, не робела и не боялась этих встреч. Теперь же скромный и кроткий Борис смущал ее одним своим появлением, одним взглядом. Каждый раз, что они оставались наедине, сердце Аксюты шибко билось, будто ожидая какой беды… беды, желаемой всем сердцем.
«Что же мне-то делать? – говорила она сама себе. – Не пойму я вас, дорогой мой», – мысленно обращалась она к Щепину.
Придя убрать горницу Бориса и уложить в комод принесенное ею белье, она под наплывом горьких дум забылась, села и глубоко задумалась, так что не слыхала, ни как он вошел, ни как очутился около нее.
Борис стал за ней и, смущаясь, не знал, что сделать, даже что сказать… Вывести ли ее из забытья или оставить так и любоваться ею хоть час, хоть день…
Он смотрел на милый профиль девушки, смуглое лицо с нежным румянцем, на ее гладко причесанную черную как смоль головку, на толстую косу, лежавшую на спине с вплетенной в нее красной тесьмой. Недавно сшитый сарафан, подаренный Аксюте барыней Анной Павловной, новый, ловко сидящий на ее полных плечах и груди, удивительно красил и без того красивую девушку.
Грустно-задумчивое выражение лица, какая-то беспомощность в позе, а в особенности полное забытье, в котором находилась Аксюта, как бы отрешившаяся от всего мира божьего, – подействовали на молодого Щепина странно и для него самого удивительно и непонятно… Он стоял не шелохнувшись, а сердце все сильнее стучало в груди. И будто кто-то сначала тихо, робко, а затем решительно, а затем и грозно понукал его…
«Ну же! Что же ты! Сейчас же!» – повелительно шептал чей-то голос.
И Борис с ужасом сознавал, чего от него требуют… Ему приказывают нагнуться, страстно обнять Аксюту, прижать к себе и, ничего не говоря ей, одними жаркими поцелуями объяснить ей все…
И, почти не отдавая себе отчета, что он делает, Борис нагнулся и обнял Аксюту. Девушка вскрикнула и вскочила как разбуженная, но не рванулась, а, напротив, крепко обвила его шею руками и сама первая прильнула к нему с поцелуями. И не скоро заговорили оба… Да и не о чем было говорить. Сразу оба узнали и поняли все, в чем сомневались.
– Так ты тоже меня любишь? Не Никифора? – прошептал наконец Борис.
– Никогда это не было, – отозвалась Аксюта. – Думалось… но как увидела вас…
И она не кончила; глаза ее, устремленные на Бориса, досказали ему тайну ее сердца.
Вечером Аксюта снова тайком явилась к Борису.
– Ваша я… ваша… – сказала она. – Приказывайте! На все пойду… Сейчас помереть за вас готова…
XXI
Никифор, убедившись, что Аксюта изменила ему, любима Борисом Щепиным и влюблена в него, был вне себя. Он не страдал, а был озлоблен. Не глубокое искреннее чувство, обманувшееся в своих ожиданиях, заставляло его теперь терзаться, – в нем говорило одно оскорбленное самолюбие.
С тех пор что Никифор ухаживал, постоянно изменяя и переходя от одной привязанности к другой, ни разу не случалось ему потерпеть неудачу или быть покинутым. Он успевал всегда и всегда первый бросал предмет своей страсти, чтобы перейти к другому.
Теперь случилось совершенно обратное. Более полугода ухаживал он за красивой Аксютой. Его настойчивое преследование девушки привело лишь к тому, что она стала относиться к нему несколько ласковее и, заставив его думать, сама думала, что любит его. В действительности же чувства не было никакого.
Появление Бориса и его первое сердечное слово заставили Аксюту перестать считать Никифора своим возлюбленным и всем сердцем отдаться глупому, но прямодушному Борису Щепину.
Никифор не скрывал сам от себя, что он собирался позабавиться ею как игрушкой и бросить ее если не через несколько месяцев, то через год, – а Борис, конечно, полюбил искренно и сильно. А что из этого выйдет? Конечно, то же самое… В конце концов разойдутся. Он уедет в столицу, а она останется… Нет! Кончится хуже, потому что он вмешается!
Эта первая неудача в любви повлияла на Никифора еще сильнее, чем он мог ожидать. Он поклялся теперь себе самому уничтожить Щепина, стереть с лица земли. Конечно, жажда мести не останавливалась и перед мыслью об убийстве. Эта мысль ни на минуту не испугала Никифора, и вопрос, которым он задался, был о средствах совершения его.
«Надобно его убить! – думал Никифор. – Надобно, чтобы его другие убили, а я бы остался в стороне. Тогда и ответа нет. Да и Аксюта не будет иметь причины меня возненавидеть. Надобно, чтобы Сережа Мрацкий и Марьяна Щепина сами убили его… Приказали бы убить! Но как это сделать? А вот в этом все и дело. Докажи себе, что умен уродился, и придумай!»
И несколько дней подряд Никифор сидел безвыходно в своей горнице или лежал на кровати и переворачивал в голове все один и тот же вопрос, делал сотни планов, – от самых простых до самых хитрых, – но не решался ни на что.
Петр Иванович Жданов, ездивший постоянно на охоту за зайцами по первой пороше, простудился, засел дома и от тоски стал чаще навещать побочного сына ради того, чтобы поболтать. Часто Никифор запирался, прикидываясь спящим, но изредка поневоле должен был впускать отца.
Беседы обоих, конечно, шли всегда об одном и том же – о крутоярских делах, о Нилочке и о том, что если придется покидать место опекуна, то деваться некуда и жить нечем.
– И как это ты не сумел в дружбу с князем войти! – сотый раз сказал однажды Жданов, придя к сыну ввечеру.
Петр Иванович охрип, сидел с повязанным горлом, с припаркой из мыла и меду, ноги были в валенках, а на икрах были горчичники. Вид у него был самый унылый, кислый.
– Как это ты – малый умный, а простого дела сделать не можешь? – продолжал ныть Жданов, слезливо глядя на сына.
– Ах, батюшка! – нетерпеливо отозвался Никифор. – Когда же вы перестанете? Только один у вас этот разговор и есть.
– Да, глупый, ты пойми, ведь от этого наша жизнь – моя и твоя – в зависимости! Выйдет замуж Кошевая за Илью или за кого другого, нас выкинут отсюда, как щенят выкидывают. А выйди она за князя Льгова при нашей помощи, мы навеки тут останемся. Он человек добрый, сердечный. Я ничего не могу. А ты будто не хочешь, не стараешься.
– Как же я буду стараться? – нетерпеливо воскликнул Никифор. – Ну, коли вы хитры, придумайте… Научите! Вы, знай, повторяете одно: да сдружись, да повенчай их! А вы вот скажите как…
– Да что же… Просто бы выкрали Неонилу Аркадьевну да и повенчали. Он бы выкрадывал, ты бы помогал, повенчал бы его в церкви – и конец! Что ж тогда Сергей Сергеевич поделает? Не развенчать же! Очень просто!..
– Просто! Просто! У вас все просто! – выговорил недовольным голосом Никифор. – Зубами луну достать тоже просто: потянуться да и цапнуть ее за хвост. Очень просто!
Но, говоря это, Никифор вдруг слегка изменился в лице. Мысль, блеснувшая в его голове, сразу заставила его сморщить брови, поджать губы и пытливо устремить красиво злые глаза на отца.
Петр Иванович, знавший сына хорошо, сразу увидел, что Никифор поражен тем советом, который он дал ему. И дал он как-то вдруг, зря… С языка сорвалось прежде, чем в голове рассудилось.
– Что же, Никита, разве я вздор сказываю? – вдруг ухватился Жданов за свою собственную мысль и приободрился. – Ей-богу бы, так! Научи ты князя похищать Неонилу Аркадьевну и вызовись помогать. Будешь его главным помощником, он тебя озолотит… Чего проще!
– Пустое все! – выговорил Никифор, но при этом слегка задумался и на все, что говорил Жданов, на все его вопросы не отвечал ни слова.
Петр Иванович, заметив, что сын усиленно обдумывает что-то, замолчал и стал ждать.
Прошло около получаса, и наконец Жданов спросил:
– Что ж, Никиша, ладно я сказываю? Надумал что?
– Все пустое! – отозвался Никифор, но при этом усмехнулся, и веселое выражение промелькнуло на его лице.
– Вот и врешь! По лицу вижу, что хитришь. Стыдно тебе от родного отца таиться! Я ж тебе доброе дело посоветовал, сказал, что сделать, а ты лучше меня сумеешь придумать, как все произвести. И таиться от меня – не след тебе, потому что я тоже малость помогу.
– Подумаю! – отозвался Никифор. – Надо порассудить… Коли покажется мне дело это возможным, я от вас таиться не стану… Зачем? Вы не пойдете разбалтывать.
Несмотря на желания Жданова обсудить тотчас же, как исполнить предложенный им план, Никифор отказался рассуждать об этом наотрез и стал говорить о пустяках.
Когда Петр Иванович ушел от сына, чтобы переменить припарки и снять горчичники, которые здорово нарвали ему икры во время беседы, Никифор, оставшись один, быстро зашагал по своей маленькой комнатке.
– Ай да батька! – говорил он вслух. – Нет, каков батька-то! И вот бывает дурак-то умнее умных… Каково придумал? Не придумал, а меня придумать заставил! Да, самое лучшее дело. Пускай они будут выкрадывать Нилочку, а уж что не выкрадут, за это я отвечаю. Я все подготовлю, все устрою, а Сережка и Марьяшка все расстроят. А мое-то дело устроят все-таки. А я буду в стороне, только в придачу еще денег наживу от Мрацкого. Нет, каков мой-то родитель! Как бывает на свете: глупые люди по совершенной глупости умные вещи выдумывают!
И весь вечер и часть ночи Никифор обдумывал план, мысль о котором подал ему отец. Все яснее представлялось ему, как он будет действовать и что должно неминуемо произойти из хитрой затеи.
На другой день, около полудня, Никифор уже был на половине Мрацкого и велел доложить о себе. Старик лакей Герасим заявил, что барин плохо почивал ночь, только что поднялся и вряд ли допустит к себе молодого барина.
– Ладно, ты все-таки доложи. Скажи, у Никифора Петровича дело есть самое спешное. Небось меня примет.
И Никифор не ошибся. Чрез минуту принятый Мрацким, он уже сидел против него и объяснял, что имеет крайне важное дело.
С той первой беседы между Мрацким и Никифором, когда ехидный опекун нанял головореза служить себе и дал ему мешочек с сотней целковых, много раз виделись и говорили они. И теперь отношения старого опекуна и молодого малого были совершенно иные, в их беседах слышалось равенство.
Никифор посмелел по отношению к Мрацкому, выражался прямее и резче, ничего не скрывая из своих убеждений. Опекун, найдя в молодом человеке настоящего «сибирного», не боящегося ни бога, ни черта, был не только доволен, что приобрел такого слугу, но даже начал находить удовольствие в беседах с ним.
В настоящих обстоятельствах Мрацкому именно нужен такой малый, через которого он мог бы добиться своей затаенной цели. Разумеется, Мрацкий думал и был убежден, что в этой затее Никифор сложит голову, а он сам сумеет остаться в стороне и пожать плоды подвигов «разбойного» малого.
Удивительнее всего было то, что опекун, узнав Никифора ближе, нисколько не презирал его, не боялся и не ужасался тем, что нашел в нем.
«Молодец малый! – думалось Мрацкому. – Вот кабы мой Илья такой был! Мы бы тогда не только женились на Кошевой, а и всякие бы дела творили. Разжились бы и в знатные люди вышли. Молодец малый! И подумаешь, что уродился от этакого остолопа, как Жданов. Впрочем, верно-то это известно одной караимке…»
XXII
– Ну, в чем же твое важное дело? Повествуй! – выговорил Мрацкий, когда Никифор сел перед ним.
– Новое дело и дело спешное! Только прошу вас, Сергей Сергеевич, сразу никакого мне ответа не давать, потому что ответ ваш будет неправильный. А вы подумайте денек, два, три, рассудите и обсудите все и тогда ответствуйте. Вам известно, что я, несмотря на все мои старания, не мог с князем сдружиться, не мог и с Щепиным. Оба они меня чуждаются, да и оба – такие кислые твари, что где им кутить! Стало быть, дело наше проигранное… И вот я придумал, как вывернуться из обстоятельств. Буду вам прямо сказывать! Надобно нам устроить, чтобы князь Льгов Неонилу Аркадьевну выкрал, чтобы тайно с ней венчаться. А я за все дело берусь.
Мрацкий выпучил глаза и разинул рот, но затем, тотчас же догадавшись, вымолвил:
– Верно, ты хочешь сказать, что будет князь похищать Нилочку, не похитит и не обвенчается?
Никифор рассмеялся.
– На это вам, умному человеку, и отвечать мне не подобает…
– Ну, то-то! Стало быть, что же ты хочешь? Князь явится похитителем, ты будешь ему помогать. А там что же? Кто же мешать будет?
– Вы же…
– Самолично и собственноручно?
И Мрацкий рассмеялся презрительно.
– Зачем, Сергей Сергеевич! Я же не дурак! Вы будете в этих горницах сидеть, но будете знать, в какие часы и где крадут Нилочку Аркадьевну. Другие люди мешать будут, которых я же достану, а вы только указ дадите им.
– Какой?
– Мешать…
– Да как мешать, дурак?
– Вестимо, бить воров и ловить.
– И только того?
– Нет-с… В самую эту свалку князя из ружья и положат на месте.
– Кто же?
Никифор рассмеялся.
– Неведомый человек, Сергей Сергеевич.
– Нет. Дело страшное! – выговорил Мрацкий, подумав. – С губернатором потом не развяжешься… Это ты глупо выдумал.
– Нет, Сергей Сергеевич, вовсе не глупо… Вы за себя боитесь. Так поймите: вы дадите приказ остановить до время Неонилу Аркадьевну, поймать похитителей и в случае сопротивления малость поучить их. И больше ничего. А на это у вас свидетели будут, – можно их, сколько хотите, набрать. При них можете приказание отдать. А откуда явится ружье и кто князька на месте положит, будет только для всеобщего удивления и аханья. И кто он такой, и как затесался, и как все приключилось – будет вовсе непонятно никому. Если бы даже что потом и раскрылось, паче чаяния, то все-таки вы в стороне, а пропадет другой человек.
– Пропадет!.. – проворчал Мрацкий. – Кабы он пропал тут же, сквозь землю провалился! А ведь его возьмут, пытать будут, судить. Он тут и скажет: «Это, мол, было уговорено у нас с Сергей Сергеевичем, а теперь я попался, а он отпирается».
– Какая же ему выгода-то выдавать вас?
– А черт тебя знает! Ты, малый, – и Варрава, и Иуда вместе.
– Так не хотите вы на это идти? – спросил Никифор решительным голосом.
И Мрацкому показалось, что если он ответит отрицательно, то у этого головореза как будто есть уже какой-то другой готовый план, совершенно противоположный и для Мрацкого, конечно, невыгодный.
– Если я не соглашусь на это дело, то ты все-таки похищение устроишь, только уже действительное. Так ли?
Никифор не ответил, а пожал плечами.
Мрацкий потупился и задумался. Он был поражен тем, что ему ни разу не пришло на ум, откуда грозила опасность его планам. Он не мог понять, каким образом ни разу не додумался до этого, до чего уже, может быть, додумался не только Никифор, но и сам князь.
– Какая путаница! – выговорил Мрацкий вслух. – Какая у нас в Крутоярске путаница! Какие чудеса в решете! Сам черт ничего не разберет! Все мы перепутались! Видел я все здесь насквозь, а теперь у меня в глазах рябить начало. Смеялся над Марьяной Игнатьевной, что она курам во щи угодит, а теперь начинаю думать, что как бы и меня не обошли и не нарядили в дураки. Слушай-ка, Никифор, отвечай ты по сущей по правде: князь собирается красть Нилочку? Ему это первому на ум пришло?
– Нет, – кратко отозвался Никифор.
– Ты лжешь!
– Нет, не лгу. Я это надумал – и надумал на два образца.
– Или в мою пользу, или в его пользу? Или князь будет украдывать, да не украдет, – или же сворует и обвенчается.
– Может быть! – отозвался Никифор.
– Не отвечай так! Глупый ответ!
– А как же мне умнее ответить?
Наступило новое молчание.
Мрацкий задумался и в несколько мгновений сообразил все вполне. Он убедился в том, что ему надо решаться. Он был уверен, что дело о похищении Кошевой уже затеяно князем и при помощи Никифора может удасться. И тогда все пропало. Если же он даст денег Никифору, – и очевидно, в этом не дело, – то похититель будет убит собственным же своим помощником, а он, Мрацкий, в стороне.
– Ладно, я согласен! – выговорил он вдруг. И, как бы решившись на отчаянный шаг и взволновавшись, Мрацкий встал и начал медленно ходить по гостиной.
– Вы не смущайтесь, Сергей Сергеевич! Вы, стало быть, все-таки не совсем в меня веруете. Сто раз вам говорю – ничего худого не будет! Князька ухлопают на месте, а кто ухлопал и как, каким чудом совершилось это, – никогда никто не узнает. Люди ваши будут клясться и божиться, что сами не знают, как потрафилось!..
– Ладно, что ж делать! Другого выхода нет! Сколько же тебе денег дать? Небось заломишь?
– Зачем… Дайте сто рублей! Довольно будет.
– На что собственно?
– А ехать в Самару, вертеться около князя и подговаривать на похищение. Да и насчет свадебных приготовлений тоже. Взаймы ему дам. У него ведь тоже денег-то – грош.
– Ну, ладно! Зайди в сумерки, а я еще подумаю.
– Зачем в сумерки? Думайте хоть три дня, все равно, только решайтесь твердо! Помните: начнем мы ладить воровство крутоярской царевны, а вы побоитесь мешать. Что же из этого выйдет? Мы ее и украдем…
Никифор вышел бодрый и довольный прошел в свою горницу, но, посидев немного у себя, вдруг поднялся с решимостью в лице и отправился чрез парадные комнаты к Щепиной. Горничная девушка доложила о нем главной мамушке.
– Что ему нужно, двухголовому? – отозвалась Щепина. – Поди спроси, какое такое дело у него до меня?
– Никифор заявил, что у него есть неотложное дело.
Марьяна Игнатьевна впустила к себе молодого малого, которого не любила и презирала. Увидя неприязненное лицо Щепиной, Никифор стал сумрачнее и сделал вид, что сам неприязненно относится к Щепиной и является как бы поневоле.
– Дело у меня есть до вас, Марьяна Игнатьевна, – холодно заговорил он, садясь. – Я не имею чести быть у вас в любимцах! За что вы меня невзлюбили – бог весть. Да это ваше дело и мне не любопытно. Я и без вашей дружбы проживу на свете. Пришел я к вам в кратких словах пояснить кое-что. Вы бы желали, чтобы Борис Андреевич сочетался браком с Неонилой Аркадьевной…
– Что ты врешь! Как ты смеешь этакое врать! – воскликнула Марьяна Игнатьевна.
– Виноват! Так и положим, что я вру. Но позвольте у вас спросить, будет ли вам приятно, если вдруг Неонилу Аркадьевну выкрадет кто-нибудь и женится на ней. А вы узнаете это тогда, когда вам останется только поздравлять новобрачных.
Щепина так же, как и Мрацкий, была поражена этими несколькими словами. И ей точно так же никогда, ни единого раза не приходила на ум возможность такого события в Крутоярске; а между тем она была даже удивлена простотой и удобоисполнимостью того, что ей вдруг объявили.
«Украдет и женится князь, а узнается все поздно, когда уже будут поздравлять», – подумала она.
И Марьяна Игнатьевна была настолько поражена, что долго сидела, вытаращив глаза на Никифора: молодой же человек с покойным лицом молчал и ждал.
– Что ты врешь? – глухо выговорила Щепина.
Никифор пожал плечами.
– Какой же это разговор, Марьяна Игнатьевна? Я буду говорить, а вы будете отвечать: врешь да врешь! Ну, положим, что вру, и тогда поясните, зачем я вру. На что оно мне нужно? То-то вот… Я вас предупредить пришел, не из любви к вам – лгать не стану, а по совсем особым причинам, для меня выгодным. Вот и скажите мне. Когда станут выкрадывать Неонилу Аркадьевну, а она охотно пойдет на это, вас обманывая, – желаете вы быть в неведении того, что творится у вас под носом, или желаете знать, когда это будет?
Щепина молчала и как бы постепенно приходила в себя.
– Вам, конечно, приятнее будет все знать, чтобы помешать Неониле Аркадьевне всяческими средствами. Ну, вот и есть человек, который вас вовремя предупредит, что, мол, держите ухо востро, начинается!
– Совсем, право, не знаю! Ничего не понимаю! – нерешительно выговорила женщина.
– Но вот в чем дело, Марьяна Игнатьевна, – продолжал Неплюев серьезным деловым голосом. – Это все присказка, а сказка-то впереди. Я приду, вас вперед уведомлю, когда будут выкрадывать нашу царевну, вперед скажу, как все будет подстроено, но вы должны с своей стороны, если своего счастия желаете, всячески Неониле Аркадьевне помогать, ничему не препятствовать, сборы ее облегчать и даже своего Бориса Андреевича приставить, чтобы он ей помог.
– Что ты, ошалел, что ли? Или балуешься? – воскликнула Щепина.
– Нет, Марьяна Игнатьевна! Выслушайте!
И Никифор толково рассказал Щепиной, что князь решился похитить Нилочку, которая на это согласна, а что она мешать похищению не должна, так как все кончится не венчанием, а смертоубийством. Князь Льгов при этом похищении будет убит и самого главного жениха у Неонилы Аркадьевны судьба отнимет. Останутся Илья Мрацкий и ее сын – Борис.
Щепина сидела, как бы оглушенная всем, что сказал Никифор, и, наконец понемножку придя в себя, заговорила:
– На мой толк, все это не так. Ты больно о себе большого мнения, всех за дураков почитаешь и меня в дуры произвел! Помогай я Нилочке бежать для того, чтобы она с князем обвенчалась! Уж больно ты простоват, Никифор, коли думаешь, что я такая дура.
– Совершенно верно, Марьяна Игнатьевна, оно бы так и могло быть. Вы – единственный человек, который может все дело испортить, просто двери запереть и не выпустить Неонилу Аркадьевну. А нужно, чтобы вы были в согласии, чтобы вы помогли и ничему не препятствовали. Но так как вы полагаете, что я вас обманываю якобы какой наемник князя, то я на это вам и отвечаю: приставьте к Неониле Аркадьевне помощника, Бориса Андреевича. Что же, по-вашему, он допустит венчание? Можете ему строжайший приказ дать, что если я вас обманываю, чтобы он не допускал обмана. Я вам повторяю, что как только Неонила Аркадьевна с князем встретится, так сейчас же тот на месте и останется, а она с Борисом Андреевичем вернется в дом. Ну-с, вот и все! Подумайте и ответ мне дайте. Ответ ваш я желаю простой: предупреждать мне вас, когда будет назначен час и день для этого воровства, или не предупреждать? Подумайте хорошенько! Мы и без вас можем обойтись, но лучше, если вы нам поможете.
– Да кто «мы»? Ведь это ты для Ильи Мрацкого все вымыслил?
– Марьяна Игнатьевна, то не мое дело! Мое дело – князя похерить, а затем останутся Илья да ваш Борис, а там уже ваше дело будет. Захотите вы меня в помощники сызнова взять, тогда и я свое слово скажу. Не захотите – вожжайтесь сами с Сергеем Сергеевичем, кто кого обделает. Вот и все, Марьяна Игнатьевна. А через денька два я приду к вам за ответом, полагаться ли на вас или нет, – будете вы мешать Неониле Аркадьевне в срочный час или помогать.
Никифор поднялся и хотел уходить, но женщина остановила его:
– Стой… Мне нечего думать… Я лучше по-твоему буду поступать, а то вы с Сергеем Сергеевичем меня еще хуже проведете. Я мешать не буду Нилочке, но Бориньку к ней приставлю и прикажу якобы помогать докуда можно… До храма… Но не дальше… Венчаться он не даст.
– Больше ничего от вас мне и не нужно… – ответил Никифор улыбаясь.
XXIII
«Как по маслу! – думал Неплюев, вернувшись к себе. – А князь и Нилочка даже еще и не знают ничего».
Разумеется, Никифор тотчас же прежде всего решил переговорить скорее с самой крутоярской царевной. Это было очень просто и в то же время очень трудно. Никифор часто бывал у молодой девушки в гостях. Она любила говорить с ним, так как молодой малый забавлял ее всякого рода рассказами и часто смешил. Но эти разговоры происходили всегда в присутствии Марьяны Игнатьевны. Повидаться и переговорить с Нилочкой наедине – было мудрено.
Отправившись к царевне, Никифор должен был просидеть около часу, болтая про все, что только приходило ему в голову, и, наконец воспользовавшись мгновеньем, когда Марьяна Игнатьевна отошла в другой угол горницы, он тихо произнес:
– Неонила Аркадьевна! надо нам побеседовать… Важное дело… о князе… Освободитесь от нее завтра да пришлите за мной.
Тому назад несколько месяцев Нилочка была бы крайне удивлена подобным предложением, – оно показалось бы ей странной, неприличной выходкой со стороны Неплюева. Но теперь времена переменились. С тех пор что она полюбила князя, она окружена если не врагами, то неприязненно настроенными людьми. Чтобы победить, надо действовать самой.
Девушка ничего не успела ответить и только кивнула головой, но на другой день около полудня горничная явилась просить Неплюева к барышне.
Явившись, Никифор нашел девушку одну. Марьяна Игнатьевна отправилась к сыну в горницу, вызванная им под каким-то пустым предлогом. Разумеется, Борис, по уговору с Нилочкой, освободил ее от матери.
Никифор прямо и резко спросил у девушки, желает ли она выходить замуж за князя Льгова, и если окончательно решила это, то что она намерена делать.
Нилочка отвечала тоже прямо и искренно, что с ее стороны это дело решенное, но что она пока не знает, как все обойдется.
– Вам, конечно, известно, Неонила Аркадьевна, что весь Крутоярск против этого, от опекунов ваших и Марьяны Игнатьевны до последнего дворового, который, ради боязни Мрацких, не станет вам помогать. Возьмите меня к себе в помощники – и все дело обойдется счастливо. А я расскажу вам то, что вам неизвестно, что замышляется против вас.
И Никифор нарисовал целую картину насильственного брака девушки с Ильей Мрацким, который замышляет его отец. И он стал доказывать девушке, что ей единственное спасение – решиться бежать с князем и тайно обвенчаться.
Никифор был уверен, что девушка испугается такого плана, но, к его удивлению, Кошевая ответила просто:
– Я готова, когда угодно. Но пойдет ли на это князь? Согласится ли он?
– За него я вам отвечаю! – твердо солгал Никифор. – Ему нужно только ваше согласие, а сам он готов. Позвольте мне передать ему от вашего имени, что вы согласны, – и все будет кончено. Если князь сам не возьмется за все, то я берусь. Завтра я поеду в Самару, а послезавтра привезу уже вам ответ. А через неделю вы будете уже княгиней Льговой. Только обещайте мне одно: в назначенный день не испугаться и не идти на попятный двор.
– Никогда! – вскрикнула Нилочка, и лицо ее оживилось. – Вы, стало быть, меня не знаете.
Никифор помолчал и с удивлением присмотрелся к девушке.
– Думал, что знаю, Неонила Аркадьевна, а вижу теперь, что ошибался. Тем лучше, если вы такая смелая.
Когда Никифор поднялся, стал прощаться, девушка выговорила взволнованным голосом:
– Если все это удастся, если князь пойдет на это и все кончится благополучно, то я буду у вас в долгу, Никифор Петрович! Потребуйте у меня тогда – что хотите! За то, чтобы быть женой князя, я готова отдать целую вотчину. В этом я вам божусь перед богом!
И девушка сама не знала, какое громадное значение получили эти слова в глазах Никифора. Он настолько хорошо знал Нилочку, что не мог ей не верить. А между тем такое обещание изменяло всю его затею сразу. Он смутился и задал себе вопрос: что же делать?
От Мрацкого он мог получить какую-нибудь тысячу рублей в награду, да и это было сомнительно. А Нилочка не была способна обмануть. Остается узнать только, захочет ли князь, сделавшись ее мужем, быть столь же щедрым. Вот что следовало только выяснить.
В тот же вечер Неплюев выехал в Самару, а на другой день был уже у князя с визитом и был им принят точно так же, как и прежде: вежливо, но холодно.
Разумеется, Никифор не тотчас и не прямо сплеча предложил ему свой план похищения Нилочки.
На его прозрачные намеки об этом князь отвечал гордо, а затем начал отшучиваться, явно показывая, что не желает в такого рода переговоры входить с таким человеком, как Неплюев.
– Зачем я буду затевать такое дело, – сказал наконец князь, – когда через месяц, а может быть и скорее, все может произойти гораздо проще. Господин Зверев в Петербурге и должен представиться графу Разумовскому и когда вернется сюда, то отправится в Крутоярск моим сватом с письмом от гетмана.
Никифор, конечно, был не только удивлен, но даже поражен известием, что Зверев хлопочет в Петербурге. Весь его план должен был сразу рухнуть. Но в одну минуту он сообразил все и взялся за дело иначе, сам удивляясь своей дерзости.
– Очень верю, князь, что господин Зверев успеет в своих хлопотах. Но будет поздно. Если пошло на правду, то я должен вам признаться во всем. Меня послала к вам сама Неонила Аркадьевна сказать вам, что надо спешить. Она прямо приказала спросить у вас, готовы ли вы выкрасть ее из Крутоярска и тайно венчаться?
– Сама Неонила Аркадьевна?! – изумился князь.
– Да-с.
– Вас послала ко мне спросить об этом?
– Да-с, так точно. А причина этому очень простая: не пройдет недели, Неонила Аркадьевна может сделаться женой Ильи Мрацкого…
– Каким образом?! – вскрикнул князь.
– Этого я вам передать не могу… Как это совершится – не знаю. Сергей Сергеевич Мрацкий – самый хитрый и дерзкий человек, какие когда-либо на свете рождались. Неониле Аркадьевне хорошо известно, что Мрацкий затевает что-то для нее погибельное и что ей невозможно будет спастись от этого. Может быть, потом и опекуна, и его сына будут судить. Да что ж толку-то? Сама Неонила Аркадьевна говорит, что когда она уже станет женой Ильи, так что же ей судиться? Надо будет судьбе покориться. Поэтому она и просит вас спасти ее от Мрацких.
– Это совершенно иное дело! – взволнованно выговорил князь. – Но что ж они могут придумать, Мрацкие? Ведь нельзя же насильно венчать.
– Не могу вам на это отвечать ничего. Что это все они затевают – я знаю верно, но как они исполнят затею – не знаю. Мрацкий – такой изувер, что на все пойдет. Итак, князь, что же мне отвечать Неониле Аркадьевне?
– Понятно, что я на все готов. Но ведь я не могу видеться с ней. Кто же поможет нам?
– Я, князь. И берусь за все. Головой отвечаю, что все кончится благополучно, что мы надуем, перехитрим Мрацких. Но главное – спешить надо. Скажите мне только одно: когда вы будете мужем Неонилы Аркадьевны, согласитесь ли вы щедро наградить меня за мою услугу?
– Да, но как я могу наградить вас?
– Вы можете подарить мне одну из вотчин Неонилы Аркадьевны.
– Конечно, с ее согласия, – отозвался князь, но улыбнулся так странно, что Никифор почему-то подумал:
«Обманет!»
Никифору показалось, что его предложение было для князя даже забавным. Он в одно мгновение убедился, что этот человек, когда женится на Кошевой, не даст ему ни рубля.
И Никифор ошибся. Не от этого улыбнулся князь. Услыхав об этой уплате за услугу, князь заподозрил все. Ему пришло на ум, что Никифор хитрит и лжет, что Мрацкие ничего не затевают против Нилочки, а что безродный приемыш Жданова желает просто устроить похищение и самокрутку князя, чтобы поживиться за счет состояния Кошевой.
– Да точно ли вас послала ко мне Неонила Аркадьевна? – выговорил он холодно.
– Не знаю, почему вы не хотите мне верить? – обидчиво отозвался Никифор.
– Ну, положим. Но не ошибается ли Неонила Аркадьевна? Затевают ли что Мрацкие? Может быть, у них и на уме ничего нет?
Никифор подумал мгновение и ответил вопросом:
– Стало быть, вы не согласны ни на что? Вы меня заподозрили? Это неудивительно. Но надеюсь, князь, что вы поверите, если услышите от самих Мрацких, что они затевают?
– Да, тогда бы я поневоле…
– Согласны ли вы явиться в Крутоярск тайком к вечеру, пройти в сад, пролезть по сугробам и влезть по лестнице в окно вышиною всего аршина четыре? – выговорил Никифор, усмехаясь.
– Я вас не понимаю! – отозвался Льгов.
Никифор повторил то же самое и прибавил:
– Вы тайком проберетесь и будете спрятаны у меня в горницах. И у меня же Сергей Сергеевич будет беседовать о своих ухищрениях, и вы все услышите чрез дверь. Тогда вы поверите, что спешить надо. Согласны ли вы?
– Конечно! – воскликнул князь.
– Извольте в таком случае через два дня к вечеру приехать на село и прислать за мной. Все остальное – мое дело.
Князь согласился тотчас, поблагодарил Никифора и прибавил, смущаясь:
– Признаюсь, я ошибался… Я совершенно иначе судил вас… Извините меня! теперь я вам верю. Если же вы помышляете не о счастии чужих вам людей, а о своих выгодах, то ведь это совсем понятно. Все мы так же действуем. Своя рубашка к телу ближе.
– Верно-с… А коему человеку чужие рубашки будут к телу ближе, тот непременно кончит в жизни тем, что очутится голый… – пошутил Неплюев.
Чрез час молодой человек был уже в пути и размышлял раздражительно: «Это ведь путано-перепутано… Легче бы в самую мудреную картежную игру играть… Ну, вдруг Зверев в Питере все обделает! Не лучше ли мне и впрямь их повенчать, договорившись о вознаграждении? А Борька?! Останется без отплаты. После его, что ли, убрать со своей дороги. Поздно будет! Ах, Аксюта! Все мои дела перепутала».
И наконец Неплюев решил бесповоротно:
– Прежде за себя постой! Не давай себя в обиду. А там после думай о разживе.
XXIV
Мрацкий, разумеется, тотчас же согласился на лицедейство в горнице Никифора, прийти и исповедаться в своей якобы затее насчет насильственного брака сына с Кошевой.
Когда Никифор подробно доложил обо всем, что узнал от князя, то главное препятствие для успеха в их затее сначала даже испугало опекуна. Путешествие Зверева в Петербург могло действительно иметь успех, и было совершенно понятно, что князь, ожидая благоприятного ответа из столицы, не найдет нужным действовать решительным образом, т. е. похищать Кошевую.
Мрацкий, разумеется, был того же мнения, что и Никифор. Для них оставался единственный исход – действовать безотлагательно и понудить князя, не дожидаясь ответа Зверева, решиться на похищение Нилочки. Но как заставить князя Льгова действовать?
Предложение Никифора было умно. Он скажется больным, а Сергей Сергеевич придет беседовать с ним в его горницу и будет говорить о том, что он через три дня, заранее все уже подстроив, насильно обвенчает Илью с Нилочкой. Князь Льгов, спрятанный в смежной горнице, все подслушает. И выбор у него будет один: или уступить возлюбленную Илье, или немедленно похищать ее.
Обдумав затею, Сергей Сергеевич не только согласился на комедию, но даже подивился уму Никифора.
Пришел, однако, день, условленный между Никифором и князем, а Льгов не явился. Прошло еще два дня, – а из Самары не было ни слуху ни духу.
Мрацкий уже начал беспокоиться. Ему все чудилось, что каждый час могут вместе появиться в Крутоярске Зверев и Льгов и привезти с собой строжайшее предписание графа Разумовского – выдавать Кошевую за князя.
Мрацкий от волнения понемногу дошел до полной уверенности, что многолетние грезы его должны обратиться в прах, и не только его Илья не женится на Кошевой, но не нынче завтра он со всей семьей будет изгнан из Крутоярска, освобожденный от опеки княгиней Льговой.
И Мрацкий чувствовал, что он готов на все. Если бы этот же самый «сибирный» Никифор предложил ему за известную сумму денег, хоть за две или три тысячи рублей, отправиться пришибить или прирезать князя в самой Самаре, то он тотчас бы готов был согласиться.
Однажды, когда Неплюев по собственному почину уже собирался вновь в Самару, к вечеру на дворе круто-ярских палат появились сани тройкой, и из них вышел князь Льгов. Появление его, конечно, как и всегда, многих удивило и всех заставило перешептываться во всех концах громадных палат.
Приезд этот всех взволновал – от Нилочки, ее опекунов и ее главной мамушки и до последней штатной барыни, до последнего дворового. Один Мрацкий, увидя князя на подъезде дома, вздохнул свободнее.
– Один приехал, соколик! – вслух выговорил он и радостно хлопнул в ладоши.
Мрацкий сразу понял, что если бы был удовлетворительный ответ из Петербурга, то князь не приехал бы один, а явился бы вместе с Зверевым, чтобы официально свататься.
Явившийся князь велел доложить о себе Борису. Новые друзья встретились и горячо расцеловались. Князь прямо прошел в горницу к Щепину и объяснил, что приехал на сутки по делу, чтобы посоветоваться откровенно с другом.
И с первого же мгновения прибытия Льгова в крутоярских палатах началось нечто такое запутанное, замысловатое, такая неразбериха, что не только, по народному выражению, всех черт веревочкой перевязал, но и сам черт если бы явился в дом, то запутался бы в той сети, которую несколько интриганов соткали, спутали и накинули на всех, зацепив и себя.
На другое утро два человека, уже побеседовавшие с князем: Щепин и Неплюев, – каждый в свой черед отправились тайно объясняться с остальными лицами, помогавшими путать себя в общую сеть.
Около полудня все до единого были озадачены, все сомневались, все подозревали друг друга, и всякий, в свой черед, боялся решиться на что-либо. Загадка была во всем и во всех.
Один Никифор знал ясно, что он делает, чего хочет и чем все путаное сочетание обстоятельств разрешится. Главные лица – опекун и мамушка, которыми теперь Никифор играл как куклами, были, однако, наименее смущены, наиболее полагаясь на себя, на свой разум и свое превосходство нравственное.
В доме, как накануне вечером, так и в этот день, с утра была речь только об одном – о бегстве крутоярской царевны, о похищении ее князем. Все главные обитатели дома знали это и все скрывали друг от друга. И все были согласны, все желали, чтобы подобное происшествие совершилось – и как можно скорей.
Свежий, посторонний человек, который бы появился теперь в Крутоярске и обладал бы не только проницательностью, но и провидением, неминуемо спросил бы:
– Кто же кого обманывает тут?
– Все всех, но вместе и себя самих.
В сущности, один головорез Никифор обманывал всех, потому что он один знал, чем кончится вся затея.
Марьяна Игнатьевна, встретившись с князем, обошлась с ним любезно и ласково, и Мрацкий был озадачен и удивлен.
Борис узнал от матери, что в случае чего-либо непредвиденного он должен всячески помогать князю Льгову, и он был поражен. Передав все откровенно Нилочке, как он делал это всегда, он привел девушку тоже в совершенное изумление.
Князь, найдя во всех приветливость, которой никогда прежде не встречал в Крутоярске, был настолько озадачен, что даже смутился и стал было подозрительно относиться к Неплюеву, но его обнадеживало и сбивало с толку участие в деле Бориса.
Даже Петр Иванович Жданов, даже глупый Илья Мрацкий и те, приглядываясь и прислушиваясь, таращили глаза, чуяли что-то диковинное в воздухе и ничего понять, конечно, не могли.
Льгов, по приезде, тотчас же переговорил откровенно с Борисом и правдиво объяснил свое неожиданное появление в Крутоярске. Он получил с нарочным письмо от Зверева содержания для него рокового.
Попытка Зверева – действовать прямо через графа Разумовского – окончилась полной неудачей. Гетман объяснил, что уже давно избрал для девицы Кошевой достойного ее жениха и следующим летом выпишет крутоярскую царевну в Петербург, чтобы обвенчать с избранником.
Вдобавок, на этот брак милостиво смотрела и сама государыня императрица. Имени этого избранника Зверев не узнал, но предполагал, что это один из придворных молодых людей, занимающий крайне высокое положение.
Получив это известие, князь не пал духом и решился неотложно действовать и самым смелым образом, хотя бы, как говорится, очертя голову. Он решился окончательно на то, что уже давно приходило ему на ум и что на днях предложил ему Неплюев, якобы от имени самой Кошевой.
Борис удивился немало тому, что Нилочка послала для переговоров в таком деле к князю не его, а Никифора, но, разумеется, вызвался тайно от матери помогать им обоим, не жалея себя.
В тот же день в маленькой горнице наверху сошлись вместе совещаться трое молодых людей: Щепин, князь Льгов и Неплюев. Дело казалось совершенно простым и ясным. Они трое собирались провести и обмануть опекуна Мрацкого и главную мамушку Нилочки, конечно, с согласия последней. А между тем и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна знали в эти минуты, что происходит тайное совещание молодых людей, и знали – о чем оно.
В то же время Борис и Льгов не знали, что сообщник их Никифор берется многое устроить – подпоить сторожей, мимо которых ввечеру придется Нилочке тайком бежать, равно берется разыскать священника, который бы согласился венчать князя, не имея документов невесты, – все это на деньги, полученные от самого обманываемого ими опекуна.
XXV
Условившись с Щепиным и с Неплюевым окончательно в своих действиях – в какой день и час и в каком месте ожидать с тройкой Нилочку, – князь Льгов собрался уезжать.
Когда лошади были уже поданы, а князь спускался по парадной лестнице на подъезд, главная штатная барыня Лукерья Ивановна явилась перед ним и с низким поклоном заявила, что барышня Неонила Аркадьевна покорнейше просит князя остаться кушать.
Не только князь, но и провожавшие его Щепин и Никифор удивились. Борис привык уже удивляться, но Никифору это новое для него положение показалось подозрительным. Ведь он ведет все, у него в руках вожжи от целого шестерика глупых, бойких, но неразумных коней или, вернее, нитки от нескольких глупых деревянных кукол, которых он заставляет ходить, двигаться и прыгать по собственному усмотрению.
Князь остался. Никифор тотчас же отправился к Мрацкому, чтобы узнать, кто пригласил князя или заставил Нилочку пригласить его остаться в Крутоярске. Откушав, князь, конечно, останется на вечер, останется и ночевать. Кто же смеет действовать помимо Никифора, не спросись у него?
К немалому удивлению Никифора, Мрацкий был озадачен известием, а затем через несколько минут в присутствии того же Неплюева старик Герасим доложил барину, что Неонила Аркадьевна просит Сергея Сергеевича с супругой и с семейством откушать сегодня за ее столом в большой зале.
– Видишь сам, что не я ей приказ посылал, – выговорил Мрацкий угрюмо. – Меня самого приглашают. Это, стало быть, Марьяшка хитрит. А зачем – неведомо! Поди-ка лучше к ней, попытай ее.
Никифор отправился было в горницы Марьяны Игнатьевны, но встретил по дороге своего врага, с которым теперь лукавствовал.
Борис, не ожидая вопроса, вымолвил:
– Матушка сердита, страсть как сердита!
И при этом Борис кротко и весело рассмеялся.
– Все порешила сама Нилочка, – продолжал он. – Не сказавши никому, заказала парадный обед, приказала все приготовить в большой зале и послала Лукерью Ивановну приглашать князя, а потом пригласила и всех к столу… Петра Ивановича и всех Мрацких. Совсем как бы именины ее, или рождение, или праздник какой.
– Ай да Неонила Аркадьевна! Молодец! Пора бы ей давно так действовать! – рассмеялся Никифор. – Нам зато можно надеяться, что у нее и впрямь хватит сердца выйти из дому в условный день и час.
В эту самую минуту около двух молодых людей, разговаривавших в коридоре близ большой лестницы, появилась Аксюта и тихо прошла, не поднимая на них глаз и даже слегка опустив голову.
Оба взглянули на нее. Ни тот, ни другой ни слова не сказали девушке, а затем оба глянули друг другу в глаза.
Щепин смущенно взглянул на Никифора, а этот настолько ненавистным взглядом смерил Бориса, что пронизал его насквозь. И тут только впервые стал догадываться наивный Щепин, что имеет в лице Неплюева страшного и даже, пожалуй, опасного врага.
Да, перед ним стоял его смертельный враг – и враг не с нынешнего дня, а давнишний! А между тем он не уберегается нисколько от него, не замечает его, не только не сторонится.
Никифор, уйдя к себе, улыбался отвратительной, злобной усмешкой, исказившей его молодое и все-таки более или менее пригожее лицо.
Борис отправился к Нилочке, но был задумчив, печален. Какое-то странное чувство сжало ему сердце, будто боязнь чего-то… Ему было, в сущности, все равно, – любит ли его или ненавидит приемыш Жданова – побочный сын какой-то татарки или караимки. Но если он прочел в глазах этого безродного головореза такую дикую ненависть к себе, то не следует ли подумать об этом?
– Но что же он может? – выговорил наконец Борис вслух сам себе. – Конечно, ничего!
Борис нашел Нилочку совершенно не такою, какой оставил за несколько минут пред тем.
Девушка, объявившая ему, что сама решила парадный обед с гостем, была тогда очень весела… Ее забавляла мысль, что она бунтует, показывает вдруг свою собственную волю, не стесняясь тем, что скажет или сделает опекун.
Теперь же он нашел девушку в углу ее горницы у окна за пяльцами, но она не шила. Опустив на худенькие руки свою белокурую головку, Нилочка была точно так же в таком же полном забытьи и отрешенная от всего мира, как когда-то недавно сидела Аксюта.
И Борис сделал почти то же. Он постоял немного над девушкой, потом нагнулся, взял ее голову в руки и поцеловал в лоб.
Нилочка вздрогнула, но, отняв руки от лица и увидя Бориса, грустно улыбнулась.
– Испугал ты меня! – прошептала она.
– О чем ты так задумалась и вдруг? Сейчас смеялась, когда я ушел, радовалась, что хозяйничать начала, как если бы и опеки над тобой не было, а теперь сидишь будто пришибленная. Случилось что?
– Ничего.
– Так что же ты приуныла?
– Мысли такие пришли, что сразу меня захватили, – тихо отозвалась Нилочка. – Я так задумалась, что все забыла, не знала где и сижу… Вот что, Боринька, – хотя и не след бы мне об этом говорить тебе, а все-таки надо. Присядь-ка…
Борис сел на диванчик недалеко от друга. Девушка собралась с мыслями и заговорила:
– Слушай-ка, дело простое! Отвечай мне, что я тебя спрошу, а если не знаешь, что отвечать, – подумай, вместе перетолкуем. Слушай, Маяня говорила тебе, что уже давным-давно, много лет, желала, чтобы ты на мне женился, что с этими мыслями она так и жила? Она и не знала, что когда ты будешь большой и военный, то не захочешь сам жениться, не знала, что и я к твоему приезду уже всю душу отдам другому человеку? Ведь не знала она ничего этого?
– Конечно, не знала! – отозвался Борис. – Что ж дальше?
– Скажи, как полагаешь, такой ли человек Маяня… твоя мать, – поправилась Нилочка, – чтобы вдруг, сразу, бросить все свои старые мысли и желания и согласиться на совсем другое? Может ли она желать теперь, чтобы я вышла за князя Льгова?
– Не знаю, – отозвался Борис и протянул свои слова, как бы соображая, что отвечать вместо них.
– Нет, ты знаешь или, подумавши, узнаешь. Так подумай!
– Да, правда твоя, чудно это немножко! – вымолвил Борис. – Матушка не такова, чтобы ныне одного желать, завтра – другого…
– Стало быть, у ней по-прежнему те же мысли: авось ты сдашься и я тоже – и обвенчаемся мы… Ну, хоть не сейчас, хоть через год.
– Да, думаю, что те же.
– Так как же, Боринька, – воскликнула Нилочка, – потакает она нам теперь?! Поясни-ка это! Сказала я ей, что задумала звать князя к столу, а там просить остаться ввечеру… Ведь пойми ты, мне хотелось повидать его, поговорить, хоть два-три слова украдкой сказать, хоть поглядеть на него и глазами ему сказать, что я и люблю его, и на все пойду. Я думала, Маяня… ну, твоя мать… страшно разгневается на все это, а она удивилась, поглядела на меня пристально, а потом стала улыбаться и говорить: «Что ж, хорошее дело! Веселей день проведем! Он речистый, что-нибудь расскажет, позабавит нас…» А затем, Боринька, через несколько минут поглядела я на нее, она сидит, глядит в окно, задумалась, и такое… Ты меня прости, она тебе мать! Такое у нее нехорошее, злое лицо, что у меня сердце екнуло. Что же все это?! Рассуди, Боринька. Ты мать любишь, но ведь и меня любишь. Рассуди по правде, подумай!.. Что же это все?
– Не знаю, Нилочка! Только одно и могу сказать, что она из любви к тебе бросила свои прежние мечтания, а самой все-таки горько. Другого я ничего придумать не могу.
– Ну, а мне, Боринька, сдается совсем не то… Не сердись и не смейся! Мне сдается, что тут все как-то во всем перепутано, ничего нельзя понять… Ну, посуди ты сам, хоть бы одно возьми – из-за чего Никифор бьется как рыба об лед, старается для меня и для князя? Я ему обещание сделала и сдержу его, но ведь это уже после было, когда уж он затеял все. А начало всего от него пошло! А он то и дело бегает к Сергею Сергеевичу, сидит у него иногда по целому часу… О чем они говорят? Я это недавно узнала. Рассуди ты все это и успокой меня, если можешь.
Борис собрался отвечать, но в эту минуту в горницу вошла Марьяна Игнатьевна.
Молодые люди смолкли, но вместе с тем впились глазами в фигуру вошедшей Щепиной.
Лицо ее было угрюмо, темнее ночи, голова опущена, руки скрещены на груди, и она вошла тихими мерными шагами, точно не живой человек, а какое привидение.
Одно это появление, внешний вид Щепиной прямо и отвечали Нилочке на все ее вопросы и сомнения…
Нет, эта женщина не бросила все свои заветные мечтания, не уступила… Она с ними сжилась! А она из тех, которые – когда задумают что, то добьются своего, не останавливаясь ни пред чем.
Молодые люди не знали, что Щепина была теперь мрачна потому, что додумалась до подозрения сына в обмане. Она собиралась приказать ему помогать Нилочке только в деле бегства из дома, но в случае обмана со стороны Неплюева не допускать полного похищения и венчаться… А можно ли теперь ей положиться на сына? А если он продаст ее князю Льгову… Родную мать, обожавшую его всю жизнь?! Да, на это похоже…
XXVI
Парадный обед прошел заурядно. Все были будто стеснены и поэтому молчаливы. Князь не решился остаться ночевать и в сумерки уехал.
С утра следующего дня Неплюев начал хлопотать и действительно деятельно занялся приготовлениями к похищению крутоярской царевны. Он один действовал будто за всех и все добровольно брал на себя. И князь, и Нилочка тотчас же незаметно для самих себя очутились в полной его зависимости.
Никифор два раза побывал в Самаре для совещания с князем, одновременно совещался и с Нилочкой. Вместе с тем он оттягивал и оттянул дело неизвестно почему. Два раза назначенный день для рокового события был им отложен. Никифор уверял, что не все готово, а между тем ни князь, ни молодая девушка не узнали от него истинной причины отсрочек.
Вместе с тем князь Льгов все-таки подозрительно относился к Никифору, сам не умея объяснить, почему действия Неплюева кажутся ему сомнительными. Причин сомневаться ему в искренности Никифора не было, однако, никаких. Ведь сам же он предложил князю свое участие, первый подал мысль о похищении. И тревожное чувство все-таки не покидало Льгова ни на минуту. Отстранить его, конечно, было поздно да и нелепо и, наконец, опасно.
Такое же сомнение, смущение и тревога были в сердце молодой девушки. Она не боялась того шага, на который решилась, она не сомневалась в себе. Она сомневалась в успехе задуманного дела, и, к ее же собственному удивлению, ей смутно казалось, что все было бы благополучно, если бы не главный его и добровольный устроитель.
Нилочка бессознательно, без всякой почти причины, подозревала Никифора так же, как и князь. У молодой девушки для этого подозрения было лишь одно основание: через одну из своих горничных она знала, что главный заговорщик и руководитель ежедневно бывает у Мрацкого и сидит у него подолгу.
Однажды ввечеру Нилочка решилась прямо спросить у Неплюева, по какому делу он так часто бывает у Мрацкого.
Молодой малый рассмеялся добродушно.
– Уж не думаете ли вы, Неонила Аркадьевна, что я хитрю, лукавствую. Я же вам на это ответил, что считаю Сергея Сергеевича ехиднее самого змия. Если может быть какая помеха в нашем деле, то, конечно, от него. Поэтому я и подлащиваюсь к нему, чтобы он мне поведал откровенно как преданному лицу, есть ли у него какое подозрение. Если бы вы послушали, что я ему говорю о себе и о вас, так ахнули бы! Я ваш заклятый враг! За то и он со мной откровенничает. Поэтому я и знаю, что он теперь и не помышляет о том, что мы собираемся учинить.
Конечно, молодая девушка вполне поверила объяснению Неплюева и успокоилась. На ее вопрос, что думает Никифор об успехе их предприятия, он еще добродушнее рассмеялся.
– Понятное дело, что убежим и обвенчаемся. Ведь это так мудрено кажется, особливо вам, девице. А чего же проще? Вы выйдете в сад и в поле, а князь приедет вас ждать. А там доедем до храма, обойдете вокруг аналоя три раза – и всему конец. Ловить вас никто не собирается. Была бы одна помеха – Марьяна Игнатьевна, да и на ту какая-то слепота нашла…
– Слепота ли это? – возразила Нилочка тревожно.
– А что же другое-то?
– Меня смущает Маяня… Она будто все знает и помогает.
Никифор махнул только рукой на такое странное подозрение.
Через день после этого разговора Неплюев был вдруг позван к опекуну.
«Что такое случилось?» – думалось молодому малому, когда он шел к Мрацкому.
И, несколько озадаченный и смущенный, предстал он пред Мрацким.
Вероятно, во всем, что делал и говорил Никифор, или в злобно-умном лице его было что-нибудь особенное, так как вслед за князем и Кошевой сам Сергей Сергеевич, полный сомнения, стал опасаться, не проводит ли его за нос головорез Никишка.
– Что прикажете? – спросил Никифор, пытливо вглядываясь в лицо старика.
– А видишь ли, – улыбнулся ехидно Мрацкий, – мысли такие мне в голову пришли… Хотел у тебя спросить: боишься ты меня или нет? Побоишься во мне врага нажить или тебе наплевать на такого врага?
– Уж, право, не знаю, Сергей Сергеевич, что и отвечать… Не понимаю, что вы говорите?
– А пришло мне на ум, Никифор, не собираешься ли ты впрямь обвенчать князя с Нилочкой и магарыч с них получить. Княгиня Льгова может больше тебе дать, чем я.
– Как же я это сделаю, Сергей Сергеевич? Каким способом?
– Очень просто, надуешь меня…
– А я у вас спрашиваю, как же я это сделаю? Вспомните уговор. Вам будет известно, в котором часу явится князь на тройке, и будет известно, когда наша царевна выбежит из дому. И ваши же люди с вашим Герасимом будут поджидать, чтобы их ловить. А Герасим за вас душу свою прозакладывает. Как же я могу надуть вас?
– Вот в том-то и дело. Нет ли тут какой загвоздки? Так я и хотел тебе вперед сказать: надуешь ты меня, я себя не пожалею, никаких денег не пожалею, а сотру тебя с лица земли. Так-таки ничего от тебя и не останется. В этом вот тебе бог!
И Мрацкий показал в угол горницы, где висела икона.
Никифор помотал головой и улыбнулся.
– Удивительные мысли! Все вам известно так же, как и мне, а вы – бог весть что придумываете.
– Вот то-то и есть, Никифор, что не все мне известно… Ты с людьми не будешь, ты не говоришь, где будешь и как будешь орудовать. Ты, может, проведешь их другой дорогой да и скажешь, что мои люди прозевали.
– Полноте, Сергей Сергеевич, ведь вы знаете, где я буду и что я буду делать! Что же, по-вашему, мне среди ваших людей с ружьем встать да и палить по князю, чтобы пятьдесят человек свидетелей на этакое дело было? А выдадут меня, будут судить в Самаре, кто же виноват окажется? Какова мне выгода убивать князя? Понятное дело, доищутся до того, кто меня нанял.
Переговорив снова подробно с Мрацким, Никифор вполне успокоил его, уверив, что для него вернее получить от опекуна небольшую сумму денег, чем невесть какие обещания опекаемой и ее возлюбленного.
– Не сули журавля в небе, дай синицу в руки! – вот что, Сергей Сергеевич, всякий должен знать.
– Ну, а скажи, – кончил Мрацкий, – благополучно ли все это окончится… Вестимо для нас, для меня?
– Останется ли, хотите вы сказать, князь Льгов на месте? Полагаю, что останется… Может быть, убит и не будет, пуля – дура! А уж тяжко ранен наверное будет. И всякие свои ухищрения бросит. Всякому своя жизнь дорога! Коли и выздоровеет, предпочтет искать себе другую невесту-приданницу.
– Ну, все-таки лучше бы того… – выговорил Мрацкий и запнулся.
– Остаться ему на месте? – усмехнулся Никифор.
– Да, лучше бы…
– Вестимо, лучше! Да так, надо полагать, и будет!..
XXVII
Наконец наступил и назначенный день. Еще поутру явился в Крутоярск посланный из Самары и привез Никифору письмо от князя Льгова, в котором тот уведомлял, что непременно в шесть часов вечера в санях, на тройке будет ждать в поле за садом.
Никифор показал письмо Нилочке и невольно подивился, глядя на молодую девушку. Она была холодна как лед. Лицо ее было спокойно, только глаза блестели ярче: то потухали, то вновь загорались еще более сильным огнем.
«Чудно! – думалось Неплюеву. – Вырастилась здесь, как малиновка в клетке, а все-таки бой! И не на такое дело, кажись, пошла бы… На войну пошла бы. Поглядеть на нее, – просто годится в царицы-монархини наша крутоярская царевна».
От Нилочки Никифор прошел к Мрацкому и тоже показал ему письмо князя.
– Смотрите, Сергей Сергеевич, – прибавил он, – вы не промахнитесь! Боюсь, вам бы не сплоховать!
– Что мне плоховать? Мое дело не мудреное, – отозвался Мрацкий. – Мои люди в срочный час в засаде будут.
От Мрацкого Никифор прошел в горницы Бориса и точно так же предупредил его, что ввечеру должно совершиться давно задуманное.
Здесь, в горнице Щепина, Никифор совершенно изменился. Говоря с Борисом, он сразу стал сумрачен, ни разу не поднял глаз на молодого капрала.
Кратко и сухо объяснившись с ним, он глухо прибавил:
– Помните же, Борис Андреевич, ваше дело – вместе с Неонилой Аркадьевной выйти из дому и провести ее в конец сада и посадить в сани, – больше от вас ничего не требуют. Коли вы в последнюю минуту струсите и не пойдете, то это будет с вашей стороны подлый обман.
– С чего же вы взяли, что я струшу? И чего мне трусить? В церковь я не поеду, вперед говорю… Прежде хотел, а теперь… не могу. Почему, не скажу вам, – грустно проговорил Борис. – Мне одна забота, что я все-таки, выходит, решился обманывать родную мать… ну, да бог даст, она простит! Зато я угожу и Нилочке, которую люблю как брат, и князю, которого тоже люблю… Что ж может меня остановить?
– Вот этого-то я и опасаюсь! – выговорил Никифор, не поднимая глаз. – Малодушие простое вдруг помехой будет… Как придется идти к Неониле Аркадьевне, струсите и на попятный, и все дело будет проиграно. Не может же она одна бежать через весь сад в потемках?! Уж лучше прямо теперь откажитесь, я вместо вас ее проведу. Тогда вы возьмитесь за мое дело – глядеть здесь, чтобы погони не было, а если будет, чтобы погоне из дома помешать.
– Нет, уж как сказано! – решил Борис. – Я в шесть часов ровнехонько заставлю Нилочку собраться и идти. И доведу ее до князя. Но дальше я ни шагу. А я так боюсь, как бы вдруг у нее робость не явилась.
– Ну, а я думаю, извините, единственный человек, который нам все дело может испортить, – это Борис Андреевич, который по малодушию в урочный час, вместо того, чтобы помогать, будет вот тут в горнице ахать, ахать да плакать, сам себя срамить. И ни шагу из своей горницы. От вас это станется!
– Вы не имеете никакого права говорить так, – обиделся наконец Борис. – Я даю честное слово, что свое дело сделаю. Да и, повторяю, бояться мне некого и нечего! В храме меня не будет, впредь говорю…
– Ну, ладно, давай бог! – произнес Никифор по-прежнему сумрачно и, не взглянув Борису в лицо, вышел из его комнаты.
И день этот пуще, чем все прежние, казался бесконечным днем для главных обитателей крутоярского дома. Он тянулся как вечность. Каждый минующий час казался целым нескончаемым днем.
Нилочка сидела у себя безвыходно, была холодна, спокойна, молчалива и не отрывалась от работы на пяльцах. Но то, что она вышивала, было совершенно спутано. Насколько казалось спокойно ее лицо, настолько смутно было на душе ее. Она горела как в огне, а сердце замирало и ныло… Мгновениями молодой девушке казалось, что она вместе со своим возлюбленным погибнет, что в этот же день окончится ее существование и его вместе с ней.
Мысль ее не шла далее калитки от сада в поле. Ей ясно представлялось, как она достигнет до того места, где князь будет ждать ее. Но что будет далее, она никак не могла представить себе.
Борис был тоже смущен, избегал разговаривать с матерью и не решался даже посмотреть ей в лицо, но вместе с тем какая-то непонятная тоска грызла его. С той минуты, что Никифор показал ему письмо князя и он узнал, что в этот же вечер непременно состоится похищение, – странное, необъяснимое чувство напало на молодого человека.
Он долго просидел у себя около окна, глядя на покрытую снегом окрестность, и все представлялось ему унылым, печальным. Побывав на минуту внизу, в горницах Нилочки, он снова вернулся к себе и снова просидел часа два, не двигаясь и глядя в окно.
Объяснить себе свое нравственное состояние, какого никогда у него не бывало ни в Крутоярске, ни в Петербурге, – он не мог.
Марьяна Игнатьевна не знала ничего о письме князя, но все узнала, сообразила. Она прочитала на лицах Нилочки и своего сына, что нынешний день – якобы роковой для них.
«Глупые дети, – думала она. – И на ум не приходит им, что они – куклы на потеху умных людей!»
Сергей Сергеевич сидел у себя и был угрюмее всех. Он всегда верил в успех своего предприятия. Один жених уже влюблен в Аксюту, другого похерят. Однако он тревожно обдумывал последствия того, что теперь, конечно, в точности будет исполнено Никифором. Как потом отвертеться? Во-первых, он будет отчасти в руках Никифора, у них будет общая тайна – преступление. А затем вопрос: сойдет ли с рук такое дело? Всякий поймет, кому была выгода отделаться от жениха Кошевой, за которого она сама собиралась замуж и за которого в это же время хлопочет в Петербурге у гетмана-графа прежний опекун.
Мрацкий сидел у себя угрюмо, погруженный в свои тяжелые думы, и изредка шепотом повторял вслух одно и то же:
– Не зарвался ли я? Не возомнил ли о себе чересчур? Не попасться бы мне!
Но затем он вздохнул протяжно и прибавил мысленно:
«Волка бояться – в лес не ходить!»
XXVIII
Наступили сумерки на дворе, и понемногу стемнело совсем. Потемнел и дом. Кое-где в горницах зажгли огоньки…
Огромный барский дом, большой сад, надворные строения, храм за рощицей – все имело свой обыкновенный, давний и всегдашний вид.
Но не так казалось оно двум существам, которые в эти мгновения будто томились под кровлей крутоярских палат, переживая душевные муки.
Нилочка уже часа два не находила себе места. Она двигалась без цели из одной своей горницы в другую или выходила в смежные парадные комнаты, в обе большие залы, угрюмые и пустынные, и бродила по ним, заглядывая в окно. Она озиралась на все, на горницы и на окрестность, тревожно и вопросительно, будто силилась узнать или прочесть где-либо на чем-либо ответ на вопрос: «Что будет?»
В воображении девушки рисовались картины близкого будущего, то отрадные, то ужасные…
Иногда ей представлялось, как она завтра явится сюда с мужем, как она, будучи уже по закону княгиней Льговой, смело и гордо заговорит с Мрацким.
Иногда же непонятный страх овладевал ею, и такая гнетущая тоска врывалась в сердце, как если б она собиралась идти добровольно на смерть.
Когда на больших часах в анненской гостиной пробило пять и по всем пустым горницам дома прозвучало мерно пять медленно звенящих ударов, Нилочка встрепенулась и стала прислушиваться. И каждый удар отзывался у нее в сердце. С рожденья слышала она этот бой, и никогда звуки эти не казались ей такими, как теперь… Это были странные звуки, унылые и зловещие, будто погребальные…
Слезы навернулись на глаза девушки…
– Когда будет бить шесть – что будет? – шепнула она, мысленно обращаясь к этим часам.
В то же время и Борис сидел у себя унылый, хотя с ним была забежавшая к нему Аксюта. Она знала, конечно, через него о сборах для бегства барышни. Девушка тоже была без всякой причины печальна, не имея возможности объяснить себе самой, что именно и почему лежит у нее камень на сердце.
Влюбленные сидели в углу горницы, задумавшись, и давно уже молчали.
Когда начало смеркаться, Борис заволновался. Он отпустил Аксюту и не знал, что ему делать. Идти за Нилочкой было рано, а ждать у себя урочного времени он не мог от волненья.
– Да чего же наконец я боюсь? – спросил он себя. – Не Мрацкого же? Что же он может? Ну, увезли из-под носа опекаемую – и конец! И раз Нилочка обвенчана – ему надо отсюда выбраться с пожитками, а не командовать. А матушка простит. Да и чудна она! Будто знает все. Приказала мне во всем помогать Нилочке, что та попросит, но взяла слово с меня не уезжать из Крутоярска.
Несколько ободрившись, Борис спустился вниз и, проходя через большую залу, увидел в полумраке маленькую фигурку у окна.
– Боринька, ты? – послышался ему голос Нилочки, но настолько изменившийся, что он не сразу признал его.
– Я… К тебе шел… – отозвался он и, приблизившись, прибавил тихо: – Шестой час.
– Скоро половина, – глухо вымолвила Нилочка.
– Что же?
– Что? – тоже вопросом ответила и девушка.
– Ты не знаешь?
– Знаю… Вестимо…
И оба смолкли, стараясь разглядеть друг друга в темноте.
– Оробела? – спросил наконец Борис.
– Нет… А страшно… – прошептала Нилочка. – Не страшно бежать, венчаться… А страшно другое. А что – не знаю.
– И мне как-то. Мрацкого я, вестимо, не боюсь. Что ж он может со мной? Я не крепостной его. На него у меня есть кулак и шпага, смотря по обстоятельствам… А я боюсь… чего – сам не знаю.
– Вот… Да… Как же, Боринька? Решаться ли? Не отложить ли?
– Пожалуй…
Нилочка схватила Бориса за руку, сильно дернула и произнесла с укором:
– Стыдно! А еще капрал столичный! Оставайся. Я одна добегу до калитки.
– Что ты… Что?.. Ты же говоришь – боюсь.
– Я тебя пытала… Ничего я не боюсь. Да и нечего бояться. А что у меня на сердце жутко, так понятное дело… Ведь мне под венец – на всю жизнь! А вот чего ты трусишь – этого уж никому не понять. Оставайся…
И Нилочка быстро двинулась чрез залу, но Борис бросился за ней.
– Я тебя одну не пущу! – воскликнул он. – Я буду здесь ждать. Одевайся и выходи.
Девушка ушла к себе в горницы; Щепин быстро сбегал к себе, вернулся вниз в плаще и в шляпе и стал ждать Нилочку у двери на маленькую лестницу, которая вела к выходу в сад.
В это же самое время к саду крутоярской усадьбы подъехали сани тройкой и стали, укрытые кустами ельника, в поле.
Из них вышел князь Льгов, прошел калитку и стал медленно ходить вдоль забора сада.
За полчаса до появленья князя здесь же, в самой чаще кустов сирени и акации, среди глубоких сугробов тихо и безмолвно сидели, укрываясь, человек двадцать дворовых людей, присланных сюда барином-опекуном под начальством его любимца лакея Герасима.
Дворня знала лишь наполовину, зачем ее отрядили. Было приказано повиноваться во всем Герасиму в деле препятствования уехать из вотчины.
Но куда и зачем собирается их помещица и истинная владелица – никто не знал. Шагах в полутораста правее от спрятанной в засаде дворни, тоже в кустах, притаился один человек, пришедший сюда прежде всех. Это был Никифор.
Он стал, пригнувшись и совершенно укрытый отовсюду. Пред ним было ружье, уже положенное на здоровый сук и верно направленное, как бы с подставки, на дорожку, по которой взад и вперед медленно и задумчиво шагал прибывший князь.
Если Льгов не подозревал, что в полумраке в сотне шагов от него скрыто две засады, то и дворня, видящая его, не знала, что поблизости от нее спрятался человек, который также следит за князем лихорадочным взором.
Благодаря звездному небу Никифор мог хорошо видеть Льгова. Уже два раза принимался он, брался за ружье, прикладывался с прицела к тихо движущейся фигуре и слегка трогал пальцем собачку… Стоило двинуть пальцем сильнее, и остро отточенный кремень, свежий порох на полке и жеребье, т. е. продолговатая свинцовая пуля, которую он чрез силу вколотил в ствол ружья – сделали бы вмиг свое страшное дело.
Но Никифор, два раза нацелившись в князя, оба раза усмехнулся. Он только пробу делал: достаточно ли видна мушка на стволе и можно ли хорошо направить дуло прямо в грудь.
«Умный человек эту штуку выдумал», – думал он, глядя на ружье.
Вдруг Никифор слегка вздрогнул, и его сердце застучало сильнее.
«Вот!» – будто сказал кто-то ему на ухо.
– Да. Ну так что же? – прошептал он как бы в ответ. – Что же? Что же? – повторил он. – Сейчас – и готово все будет…
В полумраке налево выделились две фигуры, мужская и женская, и поспешно приближались… Князь увидел их тоже и двинулся навстречу. Они сошлись вместе. Князь взял девушку за руки, как бы благодаря за решимость и сдержанное слово…
Борис стоял около них вплотную, но, перемолвившись, все трое двинулись к калитке, и Щепин отделился, идя последним…
В кустах зашумели… Послышался шелест и хряст, затем и голоса… Дворня из засады двинулась сразу…
– Лови, ребята! – крикнул Герасим.
Беглецы стали как вкопанные. Нилочка схватилась за князя, который обнял ее одной рукой. Щепин выступил вперед…
В то же мгновение гулко грянул выстрел. Борис ахнул, схватился за грудь и повалился на снег…
Дворня окружила беглецов, но все до единого человека, молча, озирались друг на друга с недоумением, будто спрашивая:
«Что это?.. Кто?!»
– Ребята? Кто же это? – раздался голос Герасима.
Чрез мгновенье все были заняты упавшим… Нилочка была на коленях около него. Князь тоже нагнулся, как бы забыв о бегстве и о нежданно явившейся толпе.
– Боринька? Боринька? – плакала девушка. – Что же это такое! Господи!
– Я… это знал… – прошептал Борис… – Конец… Скажи…
Но он не кончил и тяжело вздохнул.
– Как смели это! – с рыданием вскрикнула Нилочка на толпу, и, поднявшись, она грозно замахнулась на всех.
– Это не мы, барышня! – отозвался Герасим. – Бог весть кто! Непонятно. Пожалуйте скорее домой. А барина мы донесем. Берите, ребята…
Щепина подняли на руки. И все двинулись к дому. Нилочка пошла тоже, не думая ни о чем… И только пройдя несколько шагов, она стала вдруг озираться, будто искала кого глазами. Она искала князя. Но его не было с ней.
XXIX
В саду недалеко от забора стало тихо и пусто…
Снежные сугробы были истоптаны. Сейчас здесь сновала, шумела, голосила целая толпа. Теперь все стихло, и не было ни души… Дворня с Щепиным на руках была уже около дома.
Князь Льгов уже сел в свои сани, пораженный, смущенный, и скакал обратно в Самару. Один!.. Все рухнуло! И спасибо еще, что он жив. Князь догадался и верил, что случайно избегнул смерти. Пуля предназначалась, очевидно, для него.
Спустя с четверть часа после выстрела и сумятицы среди кустов шевельнулся кто-то, тяжело вздохнул и двинулся из сугробов.
Это был Никифор.
Долго просидел он в своей засаде, но не от опасенья за себя. Он давно видел, что все кругом опустело.
Никифор сидел на снегу среди чащи под наплывом нежданного и непонятного, какого-то для него нового чувства. Он сам с собой шептался, спрашивал и отвечал.
Его собственный выстрел заставил его замереть на месте. Он был уверен, что убил Щепина. Ружье с подставки было намечено спокойно и верно прямо в грудь Бориса и дрогнуть не могло.
И этот выстрел теперь все еще звучал в ушах Никифора… Ему казалось, что он теперь снова живет иною жизнью. Снова, а не по-прежнему, не по-старому. Для него началась новая жизнь. До выстрела была одна жизнь, а теперь началась другая… Этот выстрел разделил все на две половины: все… желания, мечты, все чувства, все мысли. То было до выстрела, а это вот… после, теперь…
– Человека убил! – шептал Никифор. – Бориса Щепина. Да. Хотел отплатить за Аксюшу. И отплатил.
Но ведь тот, которого он ненавидел здесь в Крутоярске, – его вдруг не стало… Есть мертвое тело. И это он сделал, что есть теперь мертвое тело. Он думал отделаться от врага, а нажил преследователя… Да, Борис Щепин, которого унесли дворовые в дом, – здесь, около него стоит невидимкой.
И так всегда будет! Отныне и навсегда.
– Все пустое! – шептал Никифор и прибавил: – Ох, лучше бы… сызнова.
Наконец, как бы овладев собою вполне, Неплюев вышел из засады и засунул ружье среди чащи в высокий сугроб. Затем он подошел тихо к тому месту, где лежал Борис, поглядел, вздохнул и медленно двинулся к дому.
Между тем в крутоярских палатах было всеобщее смятение… Страшная весть быстро облетела всех обывателей, и они сбежались в большую залу. Бориса принесли без чувств в горницы барышни.
По дому пронесся один вопль… Только один! Но долго звучал он потом в ушах всех крутоярцев. Этот протяжный стон вырвался из груди Марьяны Игнатьевны.
Скоро все уже знали все подробно и были в таком же недоумении, как и Герасим.
– Кто! Почему?.. Где же ружье? У кого нашлось?.. Что сказывает Сергей Сергеевич?..
Но вскоре новая весть ошеломила всех. Этого будто никто не предвидел. Кто-то объявил, что Борис Андреевич «кончился».
Действительно, принесенный и положенный на диван, Борис пролежал с четверть часа без движения, и только грудь его заметно вздымалась. Марьяна Игнатьевна стояла около дивана на коленях, смотрела в лицо сына широко раскрытыми глазами и с изумленным лицом. Женщина была, казалось, только изумлена – и до такой степени, что, очевидно, не понимала ничего происходящего перед ней.
Нилочка, тоже стоявшая поблизости от лежащего Бориса, не спускала глаз с своей Маяни. Она была страннее, чем ее сын. Нилочка уже предугадывала смутно, чего ждать… Это искаженное изумлением лицо мамушки говорило, что вопрос, написанный на нем, так и останется навсегда. Она никогда на него не ответит, а другим не поверит и даже не услышит, что они будут говорить ей.
Борис вдруг двинулся, широко раскрыл глаза и будто хотел сказать что-то… Но только грудь высоко вздулась и медленно опустилась. Нилочка поняла, зарыдала и отошла. Марьяна Игнатьевна ничего не заметила, стояла все так же на коленях и чрез несколько минут вымолвила тихо, но недовольным голосом:
– Боринька! Что же так-то лежать? Скажи что-нибудь! Где болит-то? А?..
И снова наступившее в горнице молчание настало надолго…
В то же время в половине Мрацких в коридоре столпились все люди, которые были посланы в засаду.
Сергей Сергеевич только что допросил всех лично, как приключилось невероятное событие.
Мрацкому не пришлось разыграть роль взволнованного и негодующего, как он приготовлялся с утра… Он действительно был вне себя.
Опросив всех и получив все тот же ответ – «не ведомо» и «бог его знает», – Мрацкий ушел к себе и метался из угла в угол, бился как разъяренный зверь в клетке.
– И не идет! Не идет! – изредка повторял он, злобно и нетерпеливо поглядывая на дверь.
Наконец Герасим, тоже взволнованный происшествием, в котором оказался против воли как бы виноватым, вошел, понурившись, и доложил:
– Никифор Петрович.
– Давай, давай! – почти закричал Мрацкий.
Никифор, сильно бледный, вошел и улыбнулся… Но это была не улыбка, или же Мрацкий отроду таких улыбок не видал, и она его приковала к месту, лишила языка. Он молча глядел на Неплюева.
– Ошибочка вышла, – проговорил глухо Никифор.
Мрацкий как бы пришел в себя и едва прошептал, задохнувшись от гнева:
– Ошибочка?!
– Да-с… Что же? Оба офицеры… Точку в точку платье и шляпы… Одного росту. Да и ночь на дворе… Что же… Мне и самому оно…
Никифор вздохнул. Мрацкий смерил малого с головы до пят и почувствовал, что его злоба начинает отливать от сердца.
Неплюев был на себя непохож, очевидно, от рокового недоразумения, в котором был виноват отчасти. Ведь не от раскаяния же в смертоубийстве треплет его будто в лихорадке. Не из таких этот. Сибирный.
– Как же вышло-то, скажи!! Что же теперь делать… всему конец. Второй раз князь не сунется…
Неплюев молчал, но Мрацкий, приглядевшись к нему, вдруг будто прочел что-то на его бледном лице.
– Ты Каин, да и Иуда вместе! – глухо прошептал он. – Пошел вон, сатана!
Ввечеру настала в доме унылая тишина. Все будто попрятались по углам.
Сергей Сергеевич обошел весь дом и всем пригрозился, что убийца будет найден, так как он даст знать в Самару о происшествии, и в Крутоярск пришлют приказных судей.
Вместе с тем Мрацкий распорядился немедленно относительно опекаемой им «безобразницы» и ее мамушки. Марьяна Игнатьевна с рокового мгновения, очевидно, потеряла рассудок, она даже сердилась и смеялась, разговаривая с телом покойного…
Щепину отвели наверх, заперли в отдельную горницу, а к дверям приставили дворового часовым и назначили двух горничных дежурить по очереди около сумасшедшей.
Нилочка в своих горницах, по распоряжению опекуна, очутилась точно так же взаперти и под стражей шести сменявшихся по очереди лакеев.
XXX
Между тем весь край волновался из-за самозванца Пугачева. Наступил конец ноября, и смута усилилась… В Крутоярске жизнь замерла. И прежде бывало всегда скучно и уныло в больших палатах; теперь же все, казалось, омертвело. Иногда большой дом, наполненный обитателями, мог показаться заброшенным и совершенно пустым.
Смерть внезапная и загадочно насильственная всеми любимого Бориса, безумие Марьяны Игнатьевны, находящейся как бы под стражей, и наконец положение самой крутоярской царевны, как бы тоже заключенной и отрешенной от всех, навели и уныние, и робость на всех обитателей дома.
Мрацкий, которого и прежде все боялись, теперь навел на всех такой страх, что даже грезился во сне иным штатным барыням. Главная из них, Лукерья Ивановна, подняла однажды ночью всех на ноги такими страшными воплями, как если бы ее резали. Вскочив с постели, она выбежала из своей горницы и пустилась бежать по дому, оглашая его дикими криками. Когда ее поймали, снова уложили, то она не могла объяснить, что с ней случилось, побоялась даже рассказать свой сон. А пригрезилось ей, что ее пришел перепиливать пилой сам Сергей Сергеевич.
Всего удивительнее было то обстоятельство, что боль в животе у Лукерьи Ивановны от пилы, которой Мрацкий пилил ее во сне, чувствовалась до утра.
Хотя другие штатные барыни и убеждали Лукерью Ивановну, что вся беда произошла от вновь заваренного кваса, которого все не в меру отведали, но во всяком случае молодой квас, под влиянием страшных крутоярских событий, преобразился ночью в старого опекуна Мрацкого с большущей пилой.
Главный деятель крутоярский, всеми по чутью почитаемый настоящим убийцей, был мрачен, сидел у себя в горнице или отлучался на сутки и более неизвестно куда.
Однажды Никифор пропал на целую неделю и, вернувшись, не захотел никому объяснить, где был. Даже Мрацкому ответил крепко:
– По своим делам!
Отношения Мрацкого и Никифора были несколько иные. Никифор относился к опекуну с ненавистью, но тщательно скрывал это. Причиною была судьба Аксюты. Тотчас же после похорон Бориса Щепина Анна Павловна, конечно, по приказанию мужа, приказала отнять у Аксюты вновь сшитые и подаренные ей сарафаны, и девушку отправили на скотный двор в помощь бабам, ходившим за коровами.
Разумеется, Никифор тотчас же бросился к Мрацкому объясниться. Умный и хитрый малый поступил наивно и попался в сети Сергея Сергеевича. Он искренно, горячо, даже сердечно, что совершенно не шло к нему, объяснил Мрацкому, что давно любит Аксюту и просит пощадить ее ради его.
Это было со стороны Неплюева слишком простодушным поступком.
– Так вот отчего ошибочка произошла? – ответил Мрацкий. – Так на мои денежки ты от своего неприятеля избавился, а не меня от моего избавил!
Никифор стал доказывать, что между его страстью к Аксюте и ошибкой, происшедшей при похищении Нилочки, нет ничего общего, но Мрацкий рассмеялся ехидно.
– Будь по-твоему! Готов поверить… И в силу того, что ты меня все-таки от лишнего женишка избавил, я на тебя гневаться не буду. Заключим мы с тобой новое условие… Избавь меня от другого женишка, сиятельного, и тогда приходи просить об Аксюте. Что пожелаешь, то и будет; а пока князь здравствует в Самаре – Аксюта твоя будет на скотном дворе. А коли затянется все это, то через месяц либо два так твоей Аксюте еще горше будет. Коли ты доподлинно любишь ее, то из-за нее прямо с ножом полезешь на князя и прирежешь его при всем честном народе.
И с этой минуты Мрацкий совершенно захватил в руки Никифора своей властью над судьбой дворовой девушки, ибо молодой малый, несмотря на явную ненависть к нему Аксюты, был по-прежнему влюблен в нее.
Между тем весь край был в полном смущении, и смута в умах все усиливалась, неурядицы, разбои и грабежи учащались. То и дело приходили вести о нападении скопищ на усадьбы.
В Крутоярске давно появился один старик помещик, а затем одна барыня с двумя дочерьми, спросившие убежища, так как их усадьбы были разгромлены и сожжены.
Разумеется, и здесь, главным образом на селе, тоже волновались и толковали всякую несообразицу крепостные крестьяне. Казалось, если бы не тяжелая, железная рука опекуна, то и крутоярские мужики готовы бы были отказаться от исполнения своих обязанностей.
Сергей Сергеевич давно уже отобрал в дворне и среди крестьян около дюжины шустрых молодцов, положил им большое жалованье и сделал из них расторопных сыщиков.
И всякий день являлись к опекуну всякого рода докладчики. Некоторые докладывали о том, что толкуют или собираются учинить на селе и в окрестных приписанных к Крутоярску деревнях.
Другие соглядатаи Мрацкого посылались им и много далее: в Самару, в соседние уездные города. Всем выдавалось жалованье по времени огромное, т. е. по пяти рублей ассигнациями. Кроме того, все были щедро оделяемы всякой провизией, и семьи сыщиков попали на совершенно новое положение, жили в довольстве и приобрели известное значение в усадьбе.
Благодаря этой вновь учрежденной команде разведчиков Мрацкий был теперь подробно извещен обо всем, что творится во всем крае верст на двести кругом. Он знал положительно больше о делах оренбургских и был вернее уведомлен, нежели сам самарский губернатор. Во всяком случае, он знал о самой Самаре и о делах администрации губернской больше, чем знало само начальство.
Мрацкий знал, что в земских судах и в разных присутственных местах, а равно и среди небольшого войска есть приверженцы вновь явленного императора Петра Федоровича, а этого и не подозревали самарские власти.
Мрацкий знал также, что в городе Ставрополе большое скопище калмыков, подкрепленное крестьянами, собирается взять приступом город Самару и в самое время, когда войска будут выведены из нее по оренбургской дороге навстречу к идущему самозванцу.
Разумеется, одновременно, благодаря только двум сыщикам, которых Мрацкий оставил на селе и которые не были, конечно, известны за таковых крутоярским крестьянам, Мрацкий знал наперечет всех главных коноводов и смутителей из местных крестьян.
Некоторых он уже выслал под конвоем в самарский острог, других, которых считал опаснее, держал взаперти в подвалах палат, не рассчитывая, конечно, на бдительность самарских властей.
Твердая рука опекуна чувствовалась и на селе, и в подвластных деревнях. Кругом в крае творились всякие бесчинства, иногда и злодеяния. В поместьях Кошевой не случилось за все время ни одного насилия и ни одного проступка, не только преступления.
Не видимый никому Сергей Сергеевич, маленький, худенький старичок, сидящий безвыходно в своих горницах, казался повсюду в окрестности для всех пугалом, – но не простым, а пугалом-исполином, который одним движением перста может похерить и в гроб заколотить сотню человек.
Между тем сам Мрацкий, за последнее время в особенности, казался озабоченным. Он ничем не занимался, ни разу не развернул ни одной бумаги или книги по опекунскому управлению и целые часы сидел задумавшись. Изредка он вздыхал.
– И не с кем-то посоветоваться! – восклицал он. – Хоть бы один человек был! А пропустить такие времена – стыд и срам! Пускай другие простофили зевают, а тебе, Сергей Сергеевич, грех прозевать этакие времена. Да что грех… и стыд великий! Всю жизнь раскаиваться будешь!
И каждый раз мысль о том, чтобы вызвать к себе Никифора и иметь с ним такое объяснение, которое будет в сто крат важнее всех прежних, подолгу, неотступно застревала в мозгу Мрацкого, но каждый раз он все свои размышления кончал все теми же словами:
– Нельзя! В таком деле сообщника нельзя иметь. Один будь!
XXXI
Наконец однажды, выслушав доклад трех приезжих сыщиков, из которых один – сын Герасима, явился из дальних мест, из города Бугульмы, Мрацкий узнал много нового.
Весь тот край был, по его словам, в полном восстании. Бунт разгорался как большой пожар, захватывая все кругом и распространяясь с неудержимой силой. Во всех губернских городах, даже в главном городе края, в Казани, были смятения, неурядицы и общая паника среди дворян. В Казани ожидали вновь назначенного из Петербурга главнокомандующего всех войск, собираемых против самозванца, генерала Бибикова.[7] Но все, от властей до последнего мещанина, были глубоко убеждены, что судьба этого нового питерского генерала будет все та же, что и судьба генерала Кара,[8] постыдно бежавшего от самозванца. «Разобьет государь Петр Федорович царицыны войска в пух и прах, – говорила молва народная. – И станет еще сильнее, еще грознее. И какие полчища ни приведи на него – ничего с ним не поделаешь, потому что дело его – правое».
От этого же сыщика узнал Мрацкий, что во многих богатых усадьбах полчища бунтовщиков с самим самозванцем или с его наперсниками принимались помещиками с хлебом-солью, при колокольном звоне, с хоругвями и с образами.
Не выдержал Сергей Сергеевич и решился на страшный, роковой и многозначащий шаг. Утром следующего дня, когда Анна Павловна своей утиной походкой явилась к мужу, Сергей Сергеевич показался ей не то чересчур веселым, не то чересчур пришибленным.
Женщина вытаращила глаза: не тот был Сергей Сергеевич, каким бывал всегда… Что-то чудное приключилось с ним!
– Ну, Анна Павловна, – заявил Мрацкий, – помнишь, говорил я тебе, начинается война, когда князек самарский вздумал свататься за Нилочку. Ну, а теперь, сударыня, начинается нечто важнеющее… Видишь ты вот эту голову? – показал Мрацкий пальцем себе на лоб. – Говори, видишь?
– Вижу, Сергей Сергеевич, – глупо отозвалась женщина. – Как же мне не видеть? Ваша это голова.
– То-то моя!.. Ну, вот видишь ли ты, как, по-твоему, она: на шее на моей сидит?
Анна Павловна склонила голову на сторону, пригляделась к мужу и вздохнула. Изредка муж задавал ей задачи, и она кое-как старалась всегда распутаться и хоть раз или два на десять ухитрялась сообразить без его помощи, в чем дело; но такую задачу, как теперь задал Сергей Сергеевич, конечно, не ей было разрешить.
– Не пойму я ничего, Сергей Сергеевич! – отозвалась она.
– Еще бы! Тебе да понять! А ты вот что скажи, голова моя на шее у меня, на плечах или нет?
– Кажись, что так… – отозвалась Мрацкая.
– Нету, сударыня, голова моя отныне не на шее сидит, а на волоске висит… Понимаешь! Вот тебе волосок, а на волоске голова висит… И вот именно моя теперь и повисла на волоске… Повесил я ее сам этаким способом. Не ныне завтра такое вы все узнаете в Крутоярске, что все без чувствия пошлепаетесь и будете так трое суток лежать. Ахнет вся округа, в Самаре ахнут, в Питере ахнут, что за человек такой Сергей Сергеевич Мрацкий.
И при этом маленький человечек поднял кулак над головой, будто грозясь и всем соседним губерниям, и даже самой столице.
И Анна Павловна, как ни была глупа, а увидела ясно, что муж радостно взволнован.
Около полудня, несколько успокоившись, Мрацкий послал за Неплюевым.
Лакей, ходивший звать молодого человека, явился с ответом, что Никифор Петрович придет через час. И Мрацкий узнал, что тот был в отсутствии в продолжении четырех дней и только сейчас вернулся в Крутоярск.
– Где же он был? Неизвестно?
– Никак нет-с, – отозвался лакей. – Только не в Самаре… Не оттуда приехали. А уж грязны, грязны – страсть. Сказывают сами, четверо суток не умывались и трое суток якобы ничего не кушали. Так сами сказывают, смеючись.
Лакей, докладывающий об этом, не нашел в этом ничего особенного, кроме смешного. Мрацкий взглянул на подобную отлучку Неплюева по-своему.
«Только удивительно одно, – подумал он, – чего дурак болтает, а не таит этакое про себя. Такой малый, как ты, Никишка, в такие времена, как нынешние, не будет сложа руки сидеть! Что я чую, то и ты чуешь! Как мне эта мутная вода на руку – рыбку в ней половить, – какая желается или какая попадется, – так и ты, сибирный, в этой же мутной воде чаешь выловить себе что-нибудь, что пригодится на всю жизнь. Ну, вот, что ж делать, и надо нам вместе. Одна голова – хорошо, а две – еще лучше! Ты же у меня, благодаря Создателя, теперь на цепочке на крепкой, и цепочка эта – девка Аксютка! Теперь ты у меня в полном послушании. Ошибочек, какая была тот раз, не будет!»
И Мрацкий стал нетерпеливо дожидаться появления Неплюева. Прошло довольно много времени, и наконец старик Герасим, явившийся с докладом о положении двух заключенных: Марьяны Игнатьевны и Неонилы Аркадьевны, что делал ежедневно, – доложил и о том, что Никифор Петрович просит его допустить.
– Зови, зови! – нетерпеливо выговорил Мрацкий.
Молодой человек вышел в горницу и удивил опекуна своим лицом. Или он устал с дороги, или ему нездоровилось, но Никифор казался сильно похудевшим. Глаза его, умные, всегда отчасти загадочные, блестели сильнее обыкновенного, но были еще замысловатее.
За ними, под черными лохмами кудрявых волос, ясно чудились Мрацкому такие сокровенные, диковинные мысли, которых Никифор, конечно, не выложит на ладонь, но от которых не нынче завтра не поздоровится многим.
– Ну, Никифор, давненько мы с тобой ине видались! – встретил его опекун.
– Дня четыре! – отозвался молодой малый, угрюмо и охрипшим голосом.
– Что – застудился, что ли? – спросил Мрацкий.
– Немножко есть. Дольше трех суток под крышей не бывал. Все под чистым небом…
– Что же так?
– Нужно было, Сергей Сергеевич! – умышленно загадкой отозвался Никифор.
– По своим делам? – усмехнулся старик.
– Точно так, Сергей Сергеевич! По своим делам. И за все время не спал почти да и не ел ничего.
– Вот как! И все по своим делам? – еще ехиднее усмехнулся Мрацкий.
– Да, Сергей Сергеевич, по своим делам! – усмехнулся тоже и Никифор, но с такой откровенной неприязнью к опекуну, как будто считал уже лишним притворяться и лукавить.
– Уж не выкрал ли ты Аксюту со скотного двора? – вдруг спросил Мрацкий.
– Нет, зачем! Ни на что она мне не нужна! Я и мысли о ней бросил.
– Почему так?
– Насильно мил не будешь! Она меня клянет, сказывает, что если бы вы приказали ей не только идти ко мне в любовницы, а венчаться со мной в храме, то она на себя руки наложит. Что ж мне с этакою тварью вожжаться, время терять? А время дорого. А уж нынешние времена, Сергей Сергеевич, не то что дороги, а золотые времена!
Мрацкий почти вздрогнул от последних слов, как если бы Никифор подслушал что-либо из самых его сокровенных мыслей или выведал ловко какую его тайну. Мрацкого поразило, что молодой парень оценил дни, переживаемые ими, точно так же, как и он.
И Мрацкий отпустил от себя молодого человека, поболтав о всяких пустяках и не сказав ни слова о главном. «Да, умен, мерзавец! – подумал он по уходе Неплюева. – Голова! Иуда и Каин! Ох, обида! Был бы у меня таков мой Илья, чего бы мы не натворили! Целое царство бы завоевали, а теперь и с одной крутоярской царевной совладеть не можем».
Заявление Неплюева настолько поразило Мрацкого, что он даже не решился заговорить с ним о своем важном деле. Старик действовал как шахматный игрок. Увидя новый неожиданный ход соперника, он решил снова серьезно обдумать свой ход, уже приготовленный было совсем.
XXXII
Разумеется, колебание Мрацкого продолжалось недолго, и в тот же вечер он послал опять за Неплюевым.
– Надумались? – загадочно произнес Никифор, садясь пред ним.
– Ну, слушай! – твердо и решительно заговорил старик. – Авось хватит у тебя ума-разума рассудить мудрейшее дело, которого проще нету. Сам ты говоришь, что золотые времена пришли для таких, как ты да я… Хочешь ты, мы вместе от этих времен себе великие выгоды добудем? Я все свои дела устрою, как мне желательно, а ты разбогатеешь, станешь важным помещиком… Желаешь ли?
– Помещиком богатым здесь не стать, Сергей Сергеевич, а раздобыть много денег, чтобы потом из этих пределов бежать и на далекой стороне стать важным помещиком, – вестимо можно.
– Можно, но не легко, все-таки же…
– Вестимо.
– Ну, а хочешь, я помогу тебе, и станет оно легким делом!
– Отчего же…
– Тысяч пятьдесят чистыми деньгами хочешь ты получить?
– Что ж спрашивать, Сергей Сергеевич…
– Ну, так вот ты их чистоганом получишь. И не я тебе их дам, пойми! Нет, ты сам их возьмешь, собственными руками. А уж взявши их, пойми, ты мне поможешь в моем деле. Понял ли?
– Понял, а все ж таки лучше скажите сызнова и потолковее.
– Видишь ли. Так надо обстоятельства подвести, чтобы ты пришел в Крутоярск, сам бы отправился в нашу кладовую и забрал бы там все опекунские деньги, какие есть наличными. А их больше пятидесяти тысяч. И вот ты их возьмешь, положишь в карман, затем меня отблагодаришь помощью… Обвенчаешь Илью с Нилочкой в храме божьем, будучи посаженым у крутоярской царевны.
Все показалось просто Никифору, но последнее обстоятельство – желание Мрацкого, чтобы он, безродный, был посаженым Кошевой, показалось ему загадочным.
– Слушай-ка, Никифор. Кто такой поднял весь край, всю сумятицу произвел и на столицу страх напустил? Кто он такой?
– Сказывают – донской казак, Пугачев, Емельян Иванович.
– Кто сказывает?
– Да все, Сергей Сергеевич.
– Врут все, Никифор! Клятвопреступники все, бунтовщики истинные! Нет никакого Емельяна Пугачева. Все выдумки немецкие, столичные! Явлен России и всему миру истинный царь Петр Федорович, чудом спасенный от смерти.
– Что вы, Сергей Сергеевич?! – вытаращил глаза Никифор.
– То-то, что вы! Пускай дураки врут и турусы на колесах расписывают. А умным людям, как я да ты, не подобает истинного царя обманным образом самозванцем звать! – проговорил Мрацкий твердо, но при этом улыбка его и взгляд маленьких глаз сразу все объяснили Никифору.
И молодой человек вдруг усмехнулся, даже отчасти добродушно.
– Что ж дальше, Сергей Сергеевич?
– Будем так сказывать: велик государь Петр Федорович! И мы за него!
– Ну, а дальше-то что?
– А дальше очень просто. Соберется скопище великое. Нету великого – хоть бы каких три-четыре сотни калмык, татар и крестьян православных. И будет оно под командою царского воеводы состоять. Соберет войско и благоустроит, давши в руки топоры и дубины, наперсник царский, звать его Неплюевым. И по указу его императорского величества шаркнет в Крутоярск. Опекун, Сергей Сергеевич, со всеми сожителями встретит посланника царского с хлебом-солью, и пойдут празднества. Потребует воевода царский что ни на есть. И все ему на подносе поднесут. Спросит воевода: «Есть у вас деньги?» Скажут: «Есть, к вашему удовольствию». Отворят кладовую, и набьет себе воевода Никифор полны карманы. А там объявит он царскую волю: указал Петр Федорович скорехонько повенчать Илью Сергеевича Мрацкого на Неониле Аркадьевне Кошевой. Сейчас попа и весь причт за хвост и в храм. В два часа времени все будет покончено, будет над всем помещица Неонила Аркадьевна Мрацкая. А мы воеводу после венца и свадебного угощения с поклонами проводим из Крутоярска. Хороша ли моя сказка?
– Хороша, Сергей Сергеевич, только всякой сказке конец полагается, а в вашей его нету.
– Какой конец?
– А что после-то будет?
– Да ничего.
– С Мрацким, с его сыном, с его невесткой, Сергей Сергеевич, понятное дело, ничего не будет. Обвенчаются И заживут себе молодые не мирно и не тихо… Ну, да это их дело! А воевода что? – спросил Никифор, усмехаясь язвительно.
Наступило молчание.
Мрацкий понял сразу вопрос, но не знал, как отвечать.
– Воевода? – заговорил он. – Что же? Кабы у него карманы пусты были! Воевода уделит десяточек тысчонок на чиновную братию, да и на волокиту, да на всяких судейских крючков – и выйдет сух из воды.
– Полагать надо, – нет, Сергей Сергеевич. Воеводе с этими деньгами придется удирать на край света, менять свое отечество и прозвище и на всю жизнь поселиться невесть в каких краях, чуть не в Немеции.
– Э… полно врать! – рассердился вдруг Мрацкий. – Во всех тех делах, что происходят и произойдут, в этой-то сумятице да неразберихе – какой черт какого лешего разыщет. Как ты полагаешь, если сотня разбойников нападет на проезжих да перебьет всех, узнается ли – кто кого как убил? И сами-то они не знают промеж себя, кто что натворил.
Наступило снова молчание и продолжалось долго. Никифор тяжело дышал, взор его блуждал кругом него, то останавливался на деревянном лице Мрацкого, сидевшего с опущенными глазами, то бродил по стенам и углам горницы. Но, очевидно, Никифор ничего не видел перед собой, поглощенный одною мыслью, которая заставила шибко биться его сердце и через силу переводить дыхание.
– Сергей Сергеевич, – выговорил он наконец совершенно глухим голосом. – А если в кладовых нету этих денег или теперь есть, да тогда не окажется?
– Желаешь, дам тебе книги, по которым сам все усмотришь, – горячо ответил Мрацкий. – За последнее время оброком и всякими другими делами собралось в кладовую пятьдесят три тысячи с сотнями и десятками. И будут они лежать сохранно впредь до благополучного прибытия царского воеводы и посланника. Да сам ты, олух, рассуди, что же мне эти пятьдесят тысяч, когда все состояние Кошевой будет состоянием Неонилы Мрацкой!
И снова наступило молчание.
– Ну, Сергей Сергеевич… – проговорил было Никифор, но смолк и как бы не решался продолжать. Затем молодой малый быстро поднялся, почти вскочил с места и выговорил едва слышно: – Идет!
– Ну, вот умница! – отозвался Мрацкий таким умышленно равнодушным тоном, как если бы дело шло о пустяках.
– Не даром, стало быть, я бегал! – проговорил Никифор как бы сам себе.
– Даром ты ничего не делаешь, – пошутил Мрацкий.
– Что вы затеяли, то уже готово…
– Как так?
– Да у меня в тридцати верстах отсюда уже есть команда человек в двести, которая по моему указу хоть на город Самару пойдет. Но не думал я с нею на Крутоярск идти! Видит бог! Думал я с нею три-четыре усадьбы разгромить и тоже поискать в них, нет ли если не кладовых, то хоть сундуков каких… Ну, а вы много умнее меня надумали, попроще. Как сами сказываете, все в два часа времени обойдется. Ладно, будь по-вашему! Чрез неделю встречайте царского воеводу Неплюева, но помните одно, Сергей Сергеевич. Вот вам бог! – И Никифор перекрестился. – Коли не найду я ваших пятидесяти тысяч в кладовой, то разгромлю всю усадьбу. И даже того хуже…
Мрацкий усмехнулся и ничего не ответил.
– Смешного мало, Сергей Сергеевич!
– Знаю. Но этого не будет. Деньги лежат и пролежат до тебя в сохранности.
– Ладно. Так и будет! Только одного я и опасаюсь, чтобы меня крестьяне крутоярские не встретили тоже с вилами и топорами. Ну, а если нас числом меньше будет, так зато много мы отчаяннее. Либо одолей, либо в острог иди.
– Об этом, Никифор, не тужи и не думай, – усмехаясь произнес Мрацкий. – Завтра поутру, когда проснешься, позовут тебя в большую залу так же, как и всех прочих, и ты ахнешь от того, что услышишь.
– Что же такое услышу я?..
– Потерпи до завтра. Говорю, ахнешь.
Действительно, наутро все крутоярцы были поражены несказанно всем, что произошло в доме.
По приказу опекуна все собрались в большой зале. Царевна вышла, окруженная своим штатом, с Лукерьей Ивановной во главе.
Вся семья Мрацких и Жданов с Неплюевым явились тоже.
Впереди толпы стояла дворня, а за ней крестьяне человек с полсотни из самых умных и дельных.
Опекун Сергей Сергеевич сказал речь, в которой объяснил, что в Оренбургском краю явлен истинный государь российский Петр III Федорович, который идет на столицы воссесть на престол. Все толки, что это якобы самозванец, – изменничество. И если будет сам царь или кто-либо из его воевод шествовать чрез Крутоярск, то все они обязаны встречу учинить как истинные верноподданные, с иконами и хоругвями и с хлебом-солью, при колокольном звоне.
Bee отнеслись к объявлению Мрацкого одинаково радостно.
– И слава богу, что царь! А то сказывали – разбойник, душегуб.
Одна Нилочка поняла всё… Новый замысел злого опекуна поразил ее. Чего хочет он? Чью погибель затеял опять? Быть может, на этот раз – ее собственную?!
XXXIII
Наступил декабрь месяц. Бунт в крае был в полном разгаре. Вести, привозимые сыщиками крутоярского опекуна, были все диковиннее. Бунтовали давно не одни татары и всякие инородцы.
Мрацкий был доволен вестями.
«Все пуще мутится вода, – думал он. – И чем мутнее она будет, тем легче мне дело справить».
Однако Мрацкого смущало то обстоятельство, что от исчезнувшего Никифора не было ни слуху ни духу. Он уехал из Крутоярска на другой же день после торжественного объявления Мрацкого насчет явленного государя и с тех пор ни разу не известил о себе опекуна, где находится и что делает.
Дни шли за днями, не принося ничего нового, и Сергей Сергеевич начинал уже смущаться. Наконец однажды утром явился один из сыщиков и доложил Мрацкому, что в ста верстах от Крутоярска появилось большое войско, отряженное государем Петром Федоровичем под начальством графа Чернышева.
На следующий день другой разведчик привез ту же весть. Войско, под начальством графа Чернышева, двигалось и было уже верстах в семидесяти. Слух ходил, что оно отряжено царем для взятия города Самары.
Войско это состоит главным образом из ставропольских калмыков, вооруженных чем попало, но с ним много крестьян и несколько рядовых солдат, имеющих ружья.
Мрацкий был несколько смущен. Крутоярск лежал как раз на пути этого войска. Если Сергей Сергеевич был готов принять с хлебом-солью царского воеводу и своего сообщника Неплюева, то вовсе не был готов встретить так же графа Чернышева, очевидно, такого же истинного, каким был и сам государь Петр Федорович.
От этого графа-самозванца он мог ждать совершенно иного. Если шайка нападет на усадьбу, то что же может произойти? А между тем опекун не только не подготовил из многочисленной дворни и крестьян какую-либо команду для отпора разбойников, но, наоборот, подготовил весь Крутоярск – и село, и усадьбу – к радостной встрече любого самозваного грабителя и бунтовщика, лишь бы он назвался царским воеводой. Взяться тотчас за дело, набрать команду человек в триста и вооружить ее чем попало, чтобы дать отпор сборщикам Пугачева и его наперсников, – было бы, конечно, возможно, если бы не торжественное объяснение опекуна, сделанное им когда-то в зале. Мрацкий, быть может, первый раз в жизни окончательно растерялся и не знал, что делать. Каким образом можно было объяснить всем в Крутоярске – от главных нахлебников и дворовых до последнего крестьянина на селе, – что он только в том случае согласен признать государем вора-самозванца, если к нему явится воеводой Никифор Неплюев, а войско или шайку под командой графа Чернышева он, Мрацкий, должен теперь почесть бунтовщиками? Кто же это рассуждение поймет?! Однако на следующий день Сергей Сергеевич сразу успокоился и даже возликовал.
Новый разведчик, явившийся к нему с докладом, объяснил, что войско в полтысячи человек идет прямо на Крутоярск. Начальствует им действительно граф Чернышев,[9] человек молодой еще, черноволосый, небольшого роста и очень строгий. По дороге он разгромил уже две небольшие усадьбы и сжег. Сказывают, из двух помещиков одного повесил, а другого застрелил. Барынь и барышень не убивает, а за собой уводит и при себе велит состоять. Но главная диковина для докладчика, – а не для Мрацкого, – состояла в том, что при этом графе Чернышеве состоит в помощниках крутоярский молодой барин Никифор Петрович.
Мрацкий чуть не бросился обнимать сыщика за эти известия.
Через час все в крутоярском доме ожило. Всем было оповещено от имени опекуна, что к ним идет царский воевода граф Чернышев и что надо готовиться торжественно встретить его. Всем равно тотчас же было известно, что при графе Чернышеве адъютантом состоит Неплюев.
На следующий день утром Мрацкий узнал, что к вечеру войско будет уже в Крутоярске, а воевода намерен переночевать, чтобы утром двинуться на Самару.
Действительно, в сумерки появились на селе отдельные кучки разного сброда, затем въехал длинный обоз. Как лошади и сани, так и всякого рода добро, которым был нагружен обоз, – все было имущество, награбленное накануне по усадьбам.
Спустя час уже целое скопище заняло и переполнило все село. На каждую крестьянскую избу пришлось по нескольку постояльцев, но всему скопищу, конечно, места не хватило, и гурьбы калмыков и всяких инородцев остались на улице на всю ночь и грелись вокруг разложенных больших костров. Село приняло сразу зловещий вид.
Перед полночью, когда Мрацкий тщетно ждавший Неплюева, уже собирался ложиться спать, к нему явился Герасим с докладом. На селе, по его словам, расположилось самое дикое, воровское скопище. Крестьян и солдат мало, больше все татары, калмыки и невесть какие шайтаны. Графа же Чернышева он видел сам, своими глазами.
– Как быть следует, воевода из себя пригожий и важный. Говорят все, что зело лют, – докладывал Герасим. – Вешает, головы рубит, кнутами засекает до смерти так обстоятельно и распорядительно, что его и свои усердно очень почитают. В одной усадьбе молодого помещика он собственноручно казнил, выпалив ему в уход из пистоли.
Неплюева Герасим тоже видел и даже говорил с ним.
– Никифор Петрович, – объяснил лакей, – состоит при графе в адъютантах, все его указы исполняет в точности и очень при нем тих и смирен, разговаривает перегнувшись. Совсем я нашего Никифора Петровича не признал! Так ласков, что удивительно! Уж когда наш головорез графа боится, так что ж с других требовать?!
Однако главного Герасим не разузнал. Мрацкий хотел увериться, чего ждал наутро, что прикажет воевода. Герасим спрашивал Никифора от имени Сергей Сергеевича, какие будут распоряжения, но Никифор ответил, что ничего не знает.
– Наутро видно будет! – сказал он.
Сергей Сергеевич, нисколько не успокоенный такими известиями и даже еще более тревожась, решился, однако, ложиться спать.
В это самое время кто-то такой быстро прошел через двор, вошел в дом, поднялся по лестнице в левое крыло, где помещалась вся семья главного опекуна, и встретился в коридоре с Герасимом.
– Никифор Петрович! – ахнул старик лакей.
– Я, любезнейший! Он самый! Доложи Сергею Сергеевичу.
Герасим, всегда презиравший и ненавидевший «Никишку сибирного» и всегда называвший его даже при Мрацком просто головорезом, теперь относился к нему с особенным уважением. Герасим, веривший в доподлинность воеводы графа Чернышева, решил, что, чего доброго, не ныне завтра и «Никишка» этот попадет в царские воеводы.
XXXIV
Мрацкий, конечно, тотчас же почти выбежал в гостиную, где его ожидал адъютант царского воеводы. Старик приблизился к молодому человеку, вопросительно глядя ему в лицо, как бы ожидая, что тот объявит; но Никифор только улыбался и точно так же вопросительно глядел в лицо Мрацкого. Наступила пауза, которая смутила опекуна. Пред ним стоял уже не тот Никифор, что был недавно для совещаний. На целые две головы вырос этот «сибирный» и был настолько важен, как если бы сам исполнял роль графа и воеводы.
– Ну, что ж, Никифор? – выговорил наконец Мрацкий тревожно, почти боязливо.
– Ничего, Сергей Сергеевич.
– Что скажешь? Что ж нам делать, как завтра быть? Выходить на него с образами, с хлебом-солью или ждать в доме?
– Никакого приказа от его сиятельства еще нету! – вымолвил Никифор, самодовольно ухмыляясь.
– Никифор, ты чудишь! Не грех ли тебе! Давай говорить толком.
– Вестимо, Сергей Сергеевич, мы толком и поговорим, только прежде соизвольте вспомнить, что промеж нас условлено. Что? Уже и забыли? Возьмите-ка вот ключ от кладовой, сходите туда, вернемся и побеседуем.
– Ох, голубчик! – вскрикнул Мрацкий. – Да это сейчас. Изволь! В этом ли дело?
Мрацкий засуетился. Ему не хотелось при Никифоре доставать ключ, который был в потайном ящике стола, но затем он сообразил, что обстоятельства настолько исключительны, что стоит ли того о пустяках и думать.
Через несколько минут старик уже растворил стол, выдвинул ящик, прижал какой-то гвоздик – и под отскочившей дощечкой оказались ключи. Он взял в руки один из самых больших и, улыбаясь, довольный, почти радостный, обернулся к Никифору.
– Пожалуй!.. Пятьдесят две тысячи с сотнями, почти пятьдесят три!..
И оба вышли в горницы, прошли по коридору, спустились по лестнице и, будучи уже в подвальном этаже, подошли к толстой двери, обитой железом. Замок нещадно заскрипел, и тяжелая дверь медленно поддалась вперед при их усилиях.
– Дверь умница, – весело заметил Мрацкий. – Туго идет при отворе. А назад сама бежит, только пальцем ее ткни хоть малость.
Действительно, снова толкнутая Мрацким дверь легко защелкнулась на тяжелую железную щеколду. Мрацкий зажег огня. Никифор оглянулся. Они были в небольшой на сводах горнице, аршин пять в квадрате. По стенам стояло несколько ящиков и два сундука, кованные железом.
– Тут все дребедень разная, – объяснил Мрацкий, – серебряные сервизы да какая-то иностранная посуда, – сказывают, якобы дорогая, – а нам, братец мой, вот что всего дороже!..
Мрацкий отворил ближайший сундук. Он был полон пачек ассигнаций.
– Ну, забирай! Припас ли что с собой?
Никифор усмехнулся, полез за пазуху и вынул что-то сложенное. Это оказался большой мешок из толстого полотна.
– Запасливый! – усмехнулся Мрацкий.
– Я-то? Конечно!
И оба они начали наполнять мешок ассигнациями, золотыми монетами и несколькими мешочками с серебром.
Через несколько минут дверь кладовой снова заскрипела, затем легко захлопнулась, и две фигуры среди темноты направились обратно в горницы опекуна. Поставив свой довольно большой мешок на пол у стенки, Никифор сел и вымолвил:
– Ну-с, вот теперь и рассуждать будем! Только скорей. Время не терпит, да и объяснять мне вам много не нужно. Графу все известно. Завтра поутру ждите приказаний явиться к нему, чтобы объясниться, и возьмите с собой Илью Сергеевича. Вы доложите ему о вашем желании сочетать браком сына с помещицей Кошевой. Доложите, что и она на сей брак согласна, а только так малость колеблется. После этого, как я полагаю, граф явится к вам со своими адъютантами к столу. Переговорите обо всем, и на следующий день будет назначено и венчание парадное Ильи Сергеевича с Неонилой Аркадьевной. Вот и все. Хорошо бы было, конечно, кабы вы из кладовой еще бы десятков пять тысяч выдали и графу. Вы думаете, я вам так и поверил, что в других-то сундуках одна посуда, хотя бы и серебряная?
– Вот тебе господь бог! Ничего там больше нету! – воскликнул Мрацкий.
Никифор рассмеялся.
– Полноте, Сергей Сергеевич, ведь я знаю хорошо от батюшки, какие капиталы каждый год приходят в крутоярское опекунское управление со всех вотчин и поместий Неонилы Аркадьевны! Сколько этих тысяч должно накопиться в кладовой! Если я согласился взять вот этот мешочек, – ткнул Никифор пальцем к стене, – так это по моей уж совестливости. Не жалейте, будет с вас и того, что все состояние Кошевых достанется вам. Поднесите тысяч пятьдесят графу, а то как бы не вышло какой беды… Подумайте, ну, вдруг ему придет охота штурмом взять крутоярские палаты?! Что тогда будет?
– Как же это можно, – раздражительно отозвался Мрацкий. – Я его в качестве царского воеводы встречаю с хлебом-солью, а он будет насильствовать?
– Да черт ему в вашем хлебе и в вашей соли, когда он может попользоваться всем, чем сам захочет! Верно вам говорю! Сознавайтесь! Ведь опять в кладовую не пойдем… Ведь есть у вас там еще десятки, а то и сотни тысяч? По-моему, за двенадцать лет опекунского управления доходу-то должно было накопиться тысяч пятьсот, а не пятьдесят две.
Мрацкий замахал руками и рассмеялся.
– Жалею я, что не раскрыл все сундуки при тебе! Сам бы увидел, что там ничего больше нету.
– Ну, как знаете! Это ваше дело.
Через несколько минут среди полной тьмы ночи кто-то быстро шагал через двор крутоярских палат и повернул в рощицу. На спине его был мешок.
Достигнув небольшого домика-сторожки, Неплюев вошел в нее, поставил свой мешок на пол и начал хлопотать и возиться. В каких-нибудь четверть часа он разобрал пол, под которым оказалось пустое пространство, опустил туда мешок и снова заделал все.
Никифор давным-давно загодя, вскоре после своего условия с Мрацким, ночью устроил и хитро приготовил местечко для своего будущего клада. Две ночи тогда проработал он тут, – зато теперь в несколько минут все было сделано.
XXXV
Рано утром поднявшийся Мрацкий недолго ждал. С села явился какой-то молодой малый, по виду дворовый лакей. Он был прислан просить от имени графа Чернышева опекуна господина Мрацкого и его старшего сына пожаловаться для объяснения в избу крутоярского бурмистра – самую просторную и чистую, где остановился царский воевода.
Сергей Сергеевич, довольный, с радостным лицом, стал собираться, приказав и сыну надеть свое новое платье. Через полчаса оба Мрацких в легоньких саночках уже выехали со двора на село и остановились у избы бурмистра. Вокруг нее стояла целая толпа крутоярских крестьян, баб и ребятишек.
Мрацкий, оглянув толпу, смутился. Все лица были неприязненные, насмешливые, злобные, и никто, ни единый человек не ломал шапки. Все глядели на Мрацкого и его сына не как на господ, являющихся в гости к воеводе, а как-то иначе.
Мрацкий хотел прикрикнуть на толпу и заставить всех снять шапки, но сдержался.
– Чудно это! – выговорил он, слегка смущаясь.
Через минуту оба Мрацкие были уже в избе. В углу на лавке сидел среднего роста черноволосый человек лет за тридцать, с усами и бородкой. С виду это был настоящий казак, каких много видал Мрацкий.
У стены стояло четверо молодцов, одинаково одетых в кафтаны и шальвары с высокими сапогами. В числе их был и Никифор. На другой стороне, на лавке, сидел крутоярский батюшка, около него дьякон, и оба они были, видимо, перепуганы.
Мрацкий в сопровождении сына вошел, быстро оглянул всех, поклонился и произнес:
– Имею честь явиться к вашему сиятельству и выразить вам мои чувства сердечные к его величеству государю, коего вы…
– Ладно, ты не болтай! – оборвал его сразу граф Чернышев. – Ты послушай, что я тебе скажу. Моя речь будет не долга. Сколько ты лет опекунствовал и сколько ты за это время себе награбил, обворовывая сироту?
Мрацкий, смутившись и побледнев слегка, хотел отвечать, но самозванец вскрикнул:
– Молчи! Мало того что ты ограбил сироту, а еще выдумал воровским образом совсем и имущество в руки забрать, надумал вот этого дикобраза, – показал он пальцем на Илью, – женить на сироте. Кроме того, за все время опекунства только кровопийствовал, православных крестьян – подданных великого государя Петра Феодоровича – всячески изводил, засекал, в Сибирь ссылал! Начать тебе теперь сказывать все, что ты, собака, за свою жизнь понатворил, – до вечера не кончим. А мне спешить надо… Ну-тко вы, ведите их!
Трое из адъютантов графа Чернышева двинулись к Мрацкому. Один Никифор стоял у стены, опустив глаза в землю.
Мрацкий, совершенно бледный, почти зеленый, и растерявшийся Илья, ничего не понимавший, оба почти бессознательно двинулись вон из избы.
Через несколько мгновений на улице произошла дикая расправа. Оба Мрацкие – и отец, и сын, – еле живые от перепугу, очутились в руках крестьян.
Через несколько мгновений оба уже висели, вздернутые на воротах избы…
Между тем граф Чернышев, объяснив батюшке и дьякону, чтобы наутро все было готово к парадному венчанию в церкви помещицы крутоярской, отпустил обоих.
– Помни, батька, – прибавил он, – чтобы все было законно! Документы мы тебе вручим и жениховы, и невестины. И все так сделай, состряпай и запиши, чтобы брак был законнее всех, какие когда-либо ты в жизни совершал.
Священник и дьякон вышли из избы на крыльцо и, оглянувшись на ворота, ахнули. Никакого шуму или крику не было на улице, пока они объяснялись с царским воеводой. А между тем здесь, на перекладине ворот, уже повисли два мертвых тела двух человек, которые сию минуту живые стояли перед ними.
Едва только самозванец и Никифор остались одни, как последний отошел от стены, сел на скамью к столу и произнес:
– Ну, Егорка, молодец ты! Не ожидал! И откуда у тебя, подлеца, важность берется? Поглядишь – и в самом деле ты какой граф Чернышев! И я бы так не сумел! Один вид чего стоит! Как ты стал Сережке выговаривать! Теперь одно только: ради Создателя в доме не осрамись. Пуще всего помни: будем за столом, не пей ты ничего. Помни, что я говорю! В случае, если ты мне все дело изгадишь, догадается Кошевая, кто ты таков есть, я тебя тут же собственными руками придушу!
– Уж это вы, Никифор Петрович, напрасно! – отозвался ряженый граф. – Сказал я вам – несколько деньков продержусь и никакого сраму не будет. А там, как все уладится, вы уж меня из этих графов увольте.
– Понятное дело. Как сказано. Завтра к вечеру после венца получишь обещанное – и ступай на все четыре стороны.
XXXVI
Около полудня Никифор явился в дом, к нему навстречу выбежало много дворни, все штатные барыни. На всех лица не было, все, казалось, ожидали себе того же, что постигло Мрацких. Никифор в нескольких словах успокоил всех.
– Никому ничего не будет, никакой беды, только вот что: ступайте скажите Анне Павловне и ее детенышам, чтобы они сейчас же собирались и чтобы к вечеру их в доме не было. Если кто из семьи Мрацких окажется завтра поутру в доме, того повесят точно так же на первой осине.
Затем Никифор велел доложить о себе Нилочке. Когда молодой человек вошел в горницу Нилочки, то едва узнал крутоярскую царевну. Молодая девушка была сильно бледна, казалась похудевшей, но лицо ее было холодно, спокойно, взгляд упорен и тверд настолько, что Никифор почти не узнал этих давно знакомых ему голубых глаз.
Сразу догадался молодой малый, что эта девочка-сирота, под впечатлением всего происходящего в доме за последнее время, постарела лет на десять, стала женщиной, и женщиной решительной, с такой волей, выработанной отчаянием, какой не может проявиться вдруг в девочке в обыкновенные мирные времена.
– Неонила Аркадьевна! – заговорил Никифор. – Я к вам по самому важному делу, какие только в жизни человеческой бывают. Извольте решить свою судьбу. Я являюсь к вам от воеводы государя императора, графа Чернышева. От вашего ему ответа будет все зависеть, даже – скажу прямо – ваша собственная жизнь… в зависимости от ваших же слов и решений. Либо все будет благополучно, либо и вы погибнете почти так же, как и Мрацкие.
Говоря это, Никифор пристально смотрел в лицо Нилочки и, к своему удивлению, не заметил ничего. Бровью не двинула шестнадцатилетняя сирота.
– В чем же дело? – выговорила девушка глухим шепотом.
– Дело простое! Позвольте начать издалека…
И Никифор подробно, с чувством, которое казалось не поддельным, а искренним, тихим и сравнительно ласковым голосом стал объяснять Нилочке, что он давно, с пятнадцатилетнего возраста, любит ее.
Он никогда, конечно, не смел мечтать о том, чтобы быть претендентом на ее руку, подобно, как покойный Щепин, или князь и даже как Илья Мрацкий. Но теперь обстоятельства настолько изменились, что он, Неплюев, решился заговорить о том, что таил в себе много лет.
– Я осмеливаюсь теперь объясниться с вами, – сказал Никифор, – и просить вас ответствовать, согласны ли вы выйти за меня замуж?
Нилочка слегка изменилась в лице, чуть-чуть потупилась и молчала.
– Я знаю, что вас останавливает, Неонила Аркадьевна. Вы любили князя Льгова, собирались за него замуж, и теперь вы надеетесь, что все это устроится еще легче. Но я должен вам сказать… прошу вас приготовиться услыхать горькую для вас весть: вы за князя Льгова теперь замуж выйти не можете…
– Почему?! – воскликнула Нилочка, подняв голову и устремив на Неплюева испуганный взгляд.
– Теперь это стало невозможно, Неонила Аркадьевна… Даже господь бог, не только люди не могут этого дела поправить. Вы слышали, что в Самаре был большой бунт, князь командовал всякими охотниками, из коих составил дружину. Была у него битва с нашими, государевыми войсками. И от его дружины не осталось, почитай, ни одного человека. Кто убит, кто повешен, а кто убежал, потому что в начале битвы командир был… Вы, одним словом, теперь свободны.
Нилочка мертвенно побледнела, потом взяла себя руками за голову и глухо выговорила:
– Не верю я этому!
– Верно, Неонила Аркадьевна. Князя нету! В этой самой битве он был окружен… сбит с коня…
Никифор не мог продолжать, ибо в эту минуту прямо сидевшая перед ним Нилочка тихо опрокинулась на спинку дивана, а затем соскользнула на бок.
Она лишилась чувств.
Никифор вскочил, стал звать горничных, но в комнатах не было ни души. Он выбежал в коридор и, наконец случайно встретив штатную барыню Лукерью Ивановну, послал ее к барышне, а сам стал ходить из угла в угол по большой зале.
Прошло с полчаса, и та же Лукерья Ивановна вышла и позвала его.
– Неонила Аркадьевна ничего, слава богу, в себя пришла, просит вас пожаловать.
Едва только Никифор очутился перед бледной как снег Нилочкой, она вымолвила слабым голосом:
– Когда это случилось с князем?.. Сколько дней тому… Когда он был… ну, погиб когда?
– Да уже дня три-четыре… Уж и похоронили, должно быть… – отозвался Никифор твердо.
Но едва только девушка выслушала ответ, как опустила глаза, так как глаза эти ярко блеснули и могли выдать ее.
– Что ж, нечего делать, – выговорила после паузы Нилочка. – Такова моя судьба! Было у меня четыре жениха, и из них остался в живых только один… Такова, стало быть, судьба! Когда вы хотите венчаться, Никифор Петрович? – прибавила она ласково, поднимая глаза и улыбаясь.
И Никифор не сразу ответил. Он был поражен переменой, совершившейся сразу в этом красивом лице. Глаза сияли, легкий румянец набежал уже на бледные щеки, улыбка была не деланная, а искренняя. Нилочка казалась довольной и счастливой.
«Что ж это? – невольно подумал он. – Чудно. Вот бабья-то любовь!»
– Вы мне всегда нравились, – заговорила Нилочка. – Если бы не князь, то я бы, конечно, предпочла вас и Бориньке, и Илье Сергеевичу. А теперь и так все к тому же свелось… Когда же мы будем венчаться?
– Если вы согласны меня осчастливить, то завтра же! – воскликнул Неплюев.
– Я совершенно согласна. Да и пора, давно пора! Нужен мне покровитель! Времена такие наступают страшные. А ведь я здесь одна. Никого не осталось, все на том свете! А Марьяна Игнатьевна заживо мертвая.
– Так позвольте сегодня же просить вас пригласить к столу графа Чернышева, одного из его адъютантов и меня.
– Конечно! Я сейчас распоряжусь…
Никифор не вышел, а выбежал из крутоярского дома. Он чувствовал себя самым счастливым смертным.
«Ничего не понимаю, – думалось ему. – Как просто! Неужели этак любят? Узнала о смерти князя и в полчаса успокоилась… Ничего не понимаю! Вон она, девичья любовь! Недаром я ни во что ставил ее!»
И, повернув из парадных горниц в правое крыло, к себе, Никифор не вошел, а ворвался в горницу, где жил Жданов.
Петр Иванович, давно снова хворавший, страдавший от болей в ногах, сидел в углу горницы и при виде Никифора вскрикнул:
– Слава Создателю! Я сижу здесь брошен, некому стакана воды подать! Поутру я только узнал о тебе и все ждал. Жив ли?
– Как видите.
– Ну, садись, рассказывай.
– Да что ж рассказывать?
– Про все… Про Мрацких, про царя, про воеводу этого… Говори!
Никифор сел и, смеясь, произнес:
– Это все пустое. А вот что, батюшка, любопытно, что мы остались в Крутоярске на всю жизнь! Завтра и Крутоярск, и все будет принадлежать Неониле Аркадьевне Неплюевой. А свекор ее будет важно разгуливать по всем горницам! Как ни верти, а все-таки свекор! И все это ему за то, что не бросил мальчишку побочного, а приютил и воспитал!
И Никифор положил руку на плечо Жданова. Лицо его было ласково и стало красиво. Счастие и восторг преобразили его.
XXXVII
Между тем, пока пораженный вестями Жданов пытал и расспрашивал сына, за что казнили Мрацкого с сыном, какие вести о подвигах государя Петра III, Нилочка сидела, запершись в своей комнате, и писала письмо.
Написав его, она быстро оделась и вышла в сад. Какая-то штатная барыня попалась ей навстречу.
– Что вы? Куда вы, барышня? Избави Бог! По всему саду татарва бродит… Убить могут! Разве это можно?
И женщина схватила Нилочку за руку.
– Не ваше дело! Ступайте к себе! – повелительно выговорила Кошевая и, оттолкнув женщину, вышла из дому.
Пройдя по дорожке, расчищенной от снега, она повернула к надворным строениям, миновала их и через внутренний двор пошла далее. Выйдя в рощицу, она пробежала ее и наконец очутилась близ храма, около маленького домика, где жил дьячок.
– Барышня! – воскликнул вышедший к ней навстречу маленького роста человечек, с рыжей бородкой и рыжими, длинными волосами, лежавшими на плечах.
– Я, Михайлыч! Сослужи мне службу, и веки вечные не забуду. Знаешь, что тут творится?
– Знаю, барышня, знаю… Страсти господни! Вам бы уехать. В Самару, что ль…
– Не могу, Михайлыч. Уж собиралась. За мной присмотр от разбойников… Поймают… Слушай меня. Я посижу тут, а ты сбегай на скотный двор, разыщи Аксюту и приведи сюда.
– Слушаю, барышня, слушаю!
– Только скорей, Михайлыч, скорей!
– В одну минуту!
И девушка осталась в маленьком домике, где пищали двое детей, а дьячок вышел и бегом пустился через рощицу.
Не более как минут через двадцать Нилочка увидела в окно ворочающегося дьячка, а вместе с ним и девушку, в которой трудно было бы признать Аксюту. Она была в нагольном тулупе, в огромных грязных сапогах и в каком-то драном сером платке, накинутом на голову.
Когда она появилась пред Нилочкой, девушка едва узнала ее, – настолько Аксюта похудела, изменилась в лице и подурнела.
– Слушай, Аксюта, – взмолилась Нилочка, – хочешь ли ты меня спасти от петли, почитай, от смерти. Кроме тебя, некого мне просить…
– Для вас, голубушка, на все пойду! – выговорила Аксюта.
И снова удивилась Нилочка. Голос девушки был другой: разбитый, хриплый.
– Возьми вот это письмо и вот деньги! Раздобудь себе подводу и ступай в Самару, да только так, чтобы тебя никто не видал, а то задержат – и все пропадет.
И Нилочка объяснила Аксюте, что она должна тайком выбраться из Крутоярска, доехать до Самары, разыскать князя Льгова и передать ему записку.
– Больше ничего, Аксюта. Но этим делом ты меня от смерти спасешь. Пойми ты это!
– Будьте спокойны, барышня! Сейчас же, прямо отсюда. Никакой лошади не надо! Прямо вот в поле пешком до деревушки Карповки. А там найду лошадку и к вечеру буду в Самаре. А где стоит князь, я знаю, мне Борис Андреевич часто рассказывал…
И при этих словах слезы градом полились по лицу Аксюты… Через минуту она оправилась, отерла лицо, спрятала письмо Нилочки за пазуху и выговорила твердо:
– Будьте спокойны, барышня, к вечеру буду у князя!
К трем часам Нилочка, довольная, слегка бледная, но все-таки улыбающаяся, пожалуй, радостная, сидела в анненской гостиной с штатными барынями, одетая в светлое шелковое платье.
Она ждала гостей: царского воеводу графа Чернышева и его двух адъютантов, из которых один был уже ее как бы нареченным женихом.
Нилочка задумалась, перебирая в голове все пережитое за последнее время.
«Много ли прошло времени – всего каких-нибудь месяца три, – а сколько воды утекло!»
Царский воевода граф Чернышев и его адъютант явились и были представлены крутоярской царевне ее женихом.
И пред столом, и во время обеда гости удивили и всех штатных барынь, и Петра Ивановича своим поведением. Одна Нилочка не была удивлена, хотя чувствовала себя стесненной с гостями.
И граф, и его адъютант вели себя не только скромно и порядливо, не только вежливо, но даже чересчур по-холопски смирно. Оба вдобавок будто повиновались Неплюеву, а в обращении с Кошевой робели, конфузились и запинались в беседе…
И только раз граф Чернышев обмолвился. Говоря об Самаре, он заметил:
– Город губернский. Улицы какие! Кабаки – и те в кажинных домах. А мой любимый все-таки на той стороне Волги. Там, как ни налижися – будочникам в лапы не попадешь.
Все удивились было, но находчивый Никифор объяснил, что граф сказывает это про мужиков. Сам же в Самаре не бывал никогда, да в своем графском состоянии и не может будочников бояться или в кабаки ходить.
XXXVIII
К вечеру Неплюев выпроводил обоих гостей и остался с Нилочкой вдвоем у нее в горницах.
Девушка была любезна с ним, казалась довольной и спокойной, и только изредка какая-то тень набегала на ее худенькое лицо, будто утомленное всем пережитым за последнее время.
Никифор, оставшись с девушкой наедине, снова начал говорить ей о своей давнишней к ней страсти, которую должен был таить ото всех.
– Напрасно, – сказала наконец Нилочка. – Все-таки следовало мне тогда закинуть словечко. Почем знать, что бы было, кабы я давно это знала… А скажите мне, Никифор Петрович, – вдруг, будто решаясь, выговорила девушка, – зачем мы спешим с венчаньем? Нельзя ли обождать день-два?.. Приготовить все получше…
Никифор взволновался сразу.
– Зачем же откладывать?!
– Да вот приготовиться. У меня и платья подвенечного нет.
– Стоит ли из-за этого ждать, Неонила Аркадьевна?!
– А мне бы очень… очень хотелось.
– Нет, уж извините… Я не могу… Да и графу надо выступать дальше, походом.
– А вы хотите, чтобы он был у нас на свадьбе? Разве без него нельзя обвенчаться?
– Простите, Неонила Аркадьевна, а я так полагаю, что вы хитрить хотите. Я же отлично понимаю, что, как граф отсюда с войском выступит, вы откажетесь венчаться со мной. Ведь я не дурак! Я знаю, вы меня не любите теперь, я могу только надеяться, что потом полюбите, по пословице – стерпится, слюбится.
– Какой же вы подозрительный. Ну, так я вам скажу, что вы ошибаетесь совсем. Если б я не захотела за вас идти замуж, то не испугалась бы никаких угроз. А только вот что я еще скажу…
Нилочка подумала и снова заговорила:
– Видели вы Марьяну Игнатьевну с тех пор, что она заперта?
– Нет-с, не видал с того самого вечера, что приключилось это диковинное и неразгаданное несчастье с ее сыном.
– У меня до вас просьба, Никифор Петрович. Самая простая.
– Что прикажете?
– Повидайте мою бедную Маяню.
– Зачем? – спросил Никифор странным голосом, и лицо его потемнело.
– Мне хочется, чтобы вы с ней побеседовали о чем-нибудь и хорошенько ее разглядели… Вы умный человек и мощете увидеть и решить, – как по-вашему: придет ли она когда в себя или на веки вечные лишена разума? Вот что мне хочется знать.
– Извольте, Неонила Аркадьевна, – глухо отозвался Никифор. – Хотя мне и не очень по душе видеть безумную женщину. Но для вас… Извольте. Когда прикажете…
– Да хоть сейчас… Я вас провожу к ней.
– Не поздно ли? Ночь ведь…
– Для бедной Маяни нет ни ночи, ни дня. Она всегда лежит на постели.
– Вы бываете у нее?
– Нет, никогда. Тяжело видеть мне ее. Я не могу. Другие все бывают.
– Говорит она?
– Говорит… Но все такое… Не совсем понятное… Редко понятно, а то надо догадаться. Чаще всего спрашивает, что Боринька и когда приедет из столицы на побывку…
Никифор не ответил, и наступило молчание.
– Так как же? – выговорила наконец Нилочка.
– Что-с?
– Пойдем мы к Маяне?
– Пойдемте. Извольте. Только я долго сидеть у нее не буду. Тяжело, как вы сами сказываете.
– Зачем долго? Вы сразу увидите все… И можете мне сказать: есть ли надежда на ее выздоровление. Минут десять довольно. А я вас подожду у дверей ее горницы.
XXXIX
Нилочка встала и двинулась. Неплюев, несколько угрюмый, последовал за девушкой. Пройдя гостиные и обе залы, они поднялись в следующий этаж и скоро были у двери горницы, где уже давно жила безвыходно сумасшедшая.
Дверь оказалась запертой снаружи.
Нилочка позвала горничную из соседней комнаты.
– Ты, Саша, теперь дежурная? – спросила она.
– Точно так-с.
– С каких пор?
– С утра. Я днем дежурю, а Маланья по ночам. Так завсегда-с.
– Когда ты входила к Марьяне Игнатьевне?
– Раз десять была и в сумерки была, – солгала Саша.
– Что она?.. Как сегодня?..
– Ничего-с… Все так же-с…
– Тиха?.. Молчит?..
– Да-с. Как завсегда… Будто все спят. Покушают и опять лягут и глаза закроют. И лежат… Редко когда Бориса Андреевича кличут. Иногда, бывает, вас тоже поминают… А то вот их… Больше никого…
– Меня? – чуть не вскрикнул Никифор.
– Да-с, вас, – ответила Саша.
Никифор вдруг стал еще угрюмее и наконец вымолвил, обращаясь к Нилочке:
– Право, не знаю, Неонила Аркадьевна, зачем вам желательно… Пожалуй, она признает меня… А ведь она не любила меня. Будет ей, пожалуй, неприятно увидеть.
– Где же ей вас узнать, Никифор Петрович, – заметила горничная. – Она никого как есть не признает.
– Ну, извольте… – вздохнув, сказал Неплюев.
Горничная отомкнула замок. Никифор вошел в комнату, а Нилочка осталась за дверью, судорожным движением замкнула замок и припала головой к дверям, трепетно прислушиваясь.
Лицо девушки сразу побледнело, грудь высоко вздымалась, и сердце стучало молотом.
«Господи! На что я иду, на какое дело!» – думалось ей.
В горнице безумной была полная тишина.
«А если ничего не будет?..» – мысленно ужаснулась девушка, прислушиваясь и трепетно ожидая.
В дверь сильно толкнули.
– Пустите!.. – раздался громкий голос Никифора.
И он стал кулаком стучать в дверь.
– Пустите! Неонила Аркадьевна! – крикнул Никифор. – Не глупите! Даром не сойдет. Я понял… Вижу… Что ж? Я ее зарежу – вот и все… Отворите… Отворите…
– Барышня, слышите… – испугалась горничная.
Нилочка дрожала всем телом, но глаза ее сияли страшным блеском. И ужас, и радость вместе дико оживили ее красивый взгляд…
В горнице поднялся шум… Завязалась, очевидно, борьба… Никифор крикнул еще раз: «Отворите!» – но сдавленным от усилий голосом… Он отбился…
Вместе с тем у самой двери стал ясно слышаться и другой голос, страшный, хрипливый, шипящий, бормотавший бессвязные слова.
Горничная в испуге бросилась бежать от дверей, а Нилочка ничего уже не слышала от ужаса, который проник в нее. Ее надежда сбывалась. Он не уйдет от нее!.. Он силен, но она, от безумья и жажды мести, еще сильнее.
Девушка знала, что делала и в чем была ее последняя надежда на спасенье от брака с безродным негодяем, ненавистным ей.
Она знала, что у Марьяны Игнатьевны давно уже одна утеха: иметь большой ножик под подушкой… Когда-то ей не давали его, несмотря на слезные просьбы, но затем, по приказанию Мрацкого, дали, и женщина успокоилась… Она забавлялась ножиком по целым дням, гладила его, целовала и называла по имени Мрацкого и Неплюева.
Нилочка вынула ключ из замка, спрятала себе за пазуху и, боясь лишиться чувств от леденящего ее ужаса, отошла от дверей горницы, но тотчас же она опустилась на пол без сил и почти без сознания…
Об дверь бились… В горнице происходила яростная дикая борьба… Наконец раздался сильный, отчаянный вопль… То был голос Никифора.
XL
Шестнадцатилетняя сирота, крутоярская царевна, спасла себя от позорного насильственного брака.
Женщина, безумная во всем, что было обыденной жизнью, была разумна в одном – в ясном сознании жажды мести. Вмиг узнала она врага… Одолеть ее было бы не под силу и троим, не только одному… И враг жизнью уплатил матери за жизнь безвинно погубленного им сына ее.
Граф Чернышев, при известии о страшной и удивительной погибели своего адъютанта, не только не напал на крутоярские палаты, но уехал тотчас на подводе… бежал. Скопище его было объято необъяснимым страхом и тотчас поднялось тоже и очистило село…
Однако чрез час по исчезновении толпы бунтовщиков все разъяснилось. Из Самары шла дружина охотников из дворян и мещан с сотней солдат под командой князя Льгова.
Священник недаром все заготовил в храме для венчанья… Ему пришлось пред сумерками действительно венчать крутоярскую царевну.
Примечания и комментарии Ю. Беляева
1
…в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими. — Речь идет о Семилетней войне (1756–1763 гг.), в которой участвовало десять европейских государств. Россия в союзе с Австрией и Саксонией нанесла в окончательном итоге поражение прусской армии короля Фридриха II (1712–1786).
(обратно)2
…все состояние оказалось бы выморочным. — Собственность, никому не завещанная и не имеющая наследников, переходит в государственную.
(обратно)3
Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803) – последний гетман Украины (1750–1764); после отмены гетманства получил чин фельдмаршала, но в Екатерининскую эпоху был постепенно отстранен от дел. Был младшим братом Алексея Григорьевича Разумовского (1709–1771), фаворита, а затем и тайного морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны.
(обратно)4
Император Петр Федорович (1728–1762) – российский император (с 1761 г.), немецкий принц Карл Петр Ульрих, внук Петра I. Был свергнут и убит в результате дворцового переворота, организованного его женой, будущей императрицей Екатериной II.
(обратно)5
Караимка – женщина караимской национальности, представляющей немногочисленную этническую группу тюркского происхождения и иудаистического вероисповедания.
(обратно)6
Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742–1775) – донской казак, предводитель крупнейшего крестьянского восстания в истории России (1773–1775 гг.), объявивший себя спасшимся царем Петром III.
(обратно)7
…Бибиков Александр Ильич (1729–1774) – генерал-аншеф, сенатор, выдвинулся в Семилетней войне. Командовал правительственными войсками, направленными на подавление Пугачевского восстания.
(обратно)8
Кар – русский генерал-майор, за неудачные действия против восставших отозванный и уволенный со службы.
(обратно)9
…Граф Чернышев – один из виднейших вельмож Екатерининской эпохи Захар Григорьевич Чернышев (1722–1784), генерал-фельдмаршал, с 1773 г. президент Военной коллегии. В повести идет речь о самозваном графе Чернышеве – сподвижнике Пугачева – Иване Никифоровиче Зарубине (Чике) (1736–1775).
(обратно)




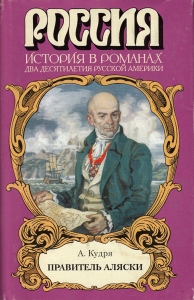

Комментарии к книге «Крутоярская царевна», Евгений Андреевич Салиас
Всего 0 комментариев