Михаил Дмитриевич Каратеев Русь и Орда Книга 2
Введение:
ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РУСИ И В ТАТАРСКИХ УЛУСАХ В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIV ВЕКА .
Минуло четверть века после почти одновременной смерти московского государя Ивана Даниловича Калиты, золотоордынского хана Узбека и литовского великого князя Гедимина – трех выдающихся монархов, составивших эпоху в истории своих стран. За это время как на Руси, так и в Орде произошло великое множество перемен, в корне изменивших не только политическую обстановку, но и соотношение сил. Русь, почти залечившая тяжелые раны, нанесенные ей нашествием Батыя, крепла и восстанавливала свою былую мощь; Орда, раздираемая ханскими усобицами, разваливалась и слабела.
В 1353 году умер от чумы великий князь московский Симеон Гордый – старший сын и наследник Ивана Калиты, – государь твердый и властный, неуклонно продолжавший собирание русских земель, начатое его отцом. Жертвами той же эпидемий пали его сыновья Иван и Симеон, его младший брат князь Андрей Серпуховский и глава православной Церкви, московский митрополит Феогност. На великое княжение вступил единственный оставшийся в живых сын Калиты – Иван Иванович, получивший прозвище Кроткого.(за исключительную красоту его также называли – Красным)
Это был слабый и безвольный монарх, с которым сразу же перестали считаться соседние князья, казалось, уже окончательно приведенные к повиновению его предшественниками. Вновь громко заговорили о своих правах на главенство князья Тверские; открыто потянулись к великому княжению князья Суздальские, значительно усилившиеся присоединением Нижегородской земли; совершенно вышел из-под московского влияния Муром; великий князь Рязанский, Олег Иванович, вторгся свойском в пределы Московского княжества и силою захватил город Лопасню, а сидевшего там московского наместника, боярина Михаила, увез в Рязань, и, по свидетельству летописца, «биша его нещадно и многия пакости ему сотвориша». Видя начавшееся крушение московского могущества, многие бояре Ивана Кроткого переметнулись в Рязань и в Тверь.
*Улус – в буквальном смысле есть понятие, определяющее совокупность людей, подвластных какому-либо хану или князю. Но с переходом татар к оседлой жизни термин этот принял значение удельного владения.
К счастью для Москвы и для всего русского будущего, в эту трудную пору, на место умершего Феоптста, московским митрополитом был поставлен Алексей Бяконтов(из рода бояр Плещеевых) – человек высокообразованный, умный и волевой, ставший впоследствии одним из наиболее чтимых русских святых. Он сразу же сделался гласной и почти единственной опорой слабовольного князя Ивана, а затем – малолетнего князя Дмитрия Ивановича. И только ему Москва обязана тем, что в эти тяжелые годы она не потеряла своего первенствующего значения и смогла продолжать великое дело объединения Руси.
Когда в 1359 году умер великий князь Иван Кроткий, его старшему сыну и наследнику Дмитрию, впоследствии нареченному Донским, едва исполнилось девять лет, и, несмотря на все старания митрополита Алексея, великое княжение над Русью перешло к Суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Однако через два года в Орде произошла очередная смута, в итоге которой там объявилось сразу два независимых и враждовавших между собою хана: Абдаллах и Амурат. Первый из них утвердил на великом княжении Дмитрия Суздальского, но московская партия, воспользовавшись обстановкой, сейчас же выхлопотала у другого хана ярлык на великое княжение для малолетнего Дмитрия Ивановича.
Между двумя претендентам и на верховную власть началась война, сложившаяся для Суздальского князя крайне неудачно: московское войско нанесло ему сильное поражение и заняло город Владимир, считавшийся в то время великокняжеской столицей. Тогда, видя победу Московского князя, хая Абдаллах тоже прислал ему ярлык на великое княжение. Дмитрий Иванович этот ярлык принял, но тем самым обидел хана Амурата, который сейчас же передал свой ярлык Дмитрию Суздальскому.
Обменявшись, таким образом, ханскими ярлыками, оба князя продолжали борьбу, и только в 1364 году, благодаря тому, что между Суздальскими князьями вспыхнула усобица из-за Нижнего Новгорода,– Дмитрий Иванович прочно утвердился на великом княжении и заставил своего соперника отказаться от дальнейших притязаний. Еще через два года мир был окончательно закреплен женитьбой Дмитрия Московского на дочери Дмитрия Суздальского.
Дмитрий Иванович, человек, щедро одаренный природой, к тому же c детства вынужденный действовать в очень сложной и трудной политической обстановке, рано выработал в себе качества незаурядного правителя. С ранних лет он твердо знал, к чему стремился, и к поставленным перед собою целям всегда шел смело и решительно, зачастую нарушая волю золотоордынских ханов и являясь первым из русских государей, занявших в отношении Орды почти независимую позицию. Очень скоро он сумел внушить должное уважение и всем русским удельным князьям. По словам летописи, он «твердою десницей приводиша князей под власть свою, аще же кои не покорялись его воле, на тех посягаша».
Он незыблемо верил в историческую миссию Москвы и в то, что ей предначертано объединить все русские земли. Главною же мечтою его жизни,– в чем всячески старался укрепить его и митрополит Алексей,– было свержение ненавистного татарского ига, уже полтораста лет тяготевшего над Русью. И для того чтобы эта мечта претворилась в действительность, у Москвы уже имелись все основные предпосылки: она достаточно окрепла экономически и политически,– на долю Дмитрия выпадало организовать ее воинскую силу и правильно эту силу использовать.
И если его дед, Иван Данилович Калита, заложивший основу московского могущества, был, прежде всего, вотченником-стяжателем, всеми способами расширявшим и укреплявшим свое родовое владение, то Дмитрий, по образу мыслей и чувств, был уже русским государем, для которого частое растворялось в общем. На враждующих с ним князей он смотрел не как на своих личных врагов и соперников, а как на врагов Руси, являющихся главным препятствием на пути ее освобождения. И опаснейшими из таких врагов он, не без основания, считал князей Тверских.
В великом княжестве Тверском, после смерти князя Константина Михайловича, во всем покорного Москве, сразу же начались затянувшиеся на двадцать два года усобицы между тремя удельными князьями: Микулинским, Холмским и Кашинским. Из этой борьбы в 1367 году вышел победителем Микулинскпй князь Михаил Александрович, одолевший соперников с помощью литовского князя Ольгерда, женатого на его родной сестре, Ульяне Александровне.
Едва утвердившись в Твери, Михаил Александрович начал готовиться к решительной борьбе с Москвой. Юный князь Дмитрий Иванович, конечно, знал об этом и понимал, что борьба будет трудной, ибо за спиной Тверского князя стоял воинственный и сильный Ольгерд, успевший уже захватить многие русские земли и стремившийся к дальнейшим завоеваниям. Но в предстоящем столкновении Дмитрий справедливо рассчитывал на сочувствие и поддержку всей русской народной толщи, ибо роли теперь коренным образом переменились: если в первый период борьбы и соперничества между Москвой и Тверью симпатии многих склонялись на сторону Тверских князей, законные права которых Иван Калита попирал при помощи интриг и татарской вооруженной силы, то теперь, наоборот, Тверской князь, опираясь на враждебную Литву, посягал на главный очаг русского объединения, от которого только и мог ожидать народ освобождения от татарского ига.
Вражду двух сильнейших русских князей всячески раздувал и умело ею пользовался литовский князь Ольгерд – талантливый полководец, дальновидный политик и блестящий организатор. Уже через три года после смерти Гедимина ему удалось овладеть великокняжеским столом в Литве, на котором, по завещанию отца, сидел младший из Гедимиповичей – Явнутий.
В Ольгерде, с детства припавшем православие и дважды женатом на русских княжнах, русское начало явно преобладало над литовским, и этим определялась вся его политика, направленная к тому, чтобы объединить под своей властью не только литовские, но и русские земли, слив их в одно общее Литовско-Русское государство. В соответствии с этим всю Западную Литву он отдал в управление своему брату Кейстуту (сохранившему язычество и женатому на жмудинке), поручив ему борьбу с наседавшими на литовские земли рыцарями Тевтонского ордена, а сам обратился на восток.
Играя на том, что он несет русскому народу освобождение от татарского гнета и от княжеских междоусобиц. В течение двадцати лет, предшествовавших вокняжению Дмитрия, он без особого труда захватил, одно за другим, все западные и южные русские княжества, подойдя почти вплотную к рубежам Москвы: с запада и с юга литовские границы теперь проходили от нее менее чем в ста пятидесяти верстах; Ржев, Можайск, Калуга и Тула были в ту пору пограничными городами, а юго-восточные рубежи Литвы достигали реки Дона.
* Первым браком Ольгерд был женат на княжне Марии Ярославне Витебской. Его христианское имя было Александр.
Но Ольгерд и на этом не хотел остановиться: действуя в согласии со своим родственником. Тверским князем Михаилом Александровичем, он все усилия прилагал к тому, чтобы ослабить Москву и, прежде всего, вырвать из-под ее влияния Великий Новгород. В то же время, стоя на юге у самых рубежей Рязани, он приобрел заметное влияние на политику Рязанского князя Олега Ивановича и стремился направить ее против Москвы.
Следует заметить, что успех, сопутствующий Ольгерду в захвате обширнейших искони русских областей, объясняется не столько временным падением авторитета Москвы, в период княжения Ивана Кроткого, сколько ослаблением Золотой Орды. Будь она в то время так же могущественна, как при хане Узбеке,– отторжение Литвой целого ряда русских княжеств, бывших татарскими данниками, было бы, конечно, невозможным.
Но в Орде шли теперь беспрерывные смуты, междоусобия и развал. Великий хан Джанибек, сменивший на престоле своего грозного отца. Узбека, еще пятнадцать лет удерживал в повиновении своих вассальных ханов и даже расширил владения Золотой Орды присоединением Азербайджана. Но в 1357 году он пал жертвою заговора, принесшего власть его старшему сыну Бердибеку и вместе с тем положившего начало концу Золотой Орды. Уже через полтора года Верди бек, успевший умертвить двенадцать своих братьев, умер при довольно загадочных обстоятельствах, «на престол вступил его тринадцатый брат, хан Кульна. Но пять месяцев спустя и этот хан был свергнут и убит последним из сыновей Джанибека – Наурузом.
Всей этой «занятней»,– как выражаются русские летописцы,– не преминули воспользоваться белоордынские ханы. Первый из них, Шейх-Орда, попытавшийся овладеть саранским престолом, был убит, но уже год спустя хан Кидырь оказался счастливее: ему удалось свергнуть Науруза и воцариться в Сарае. Почти все родственники хана Джанибека, включая и жену его, хатунь Тайдулу, были по его приказанию перебиты.
*Белая Орда, или Ак-Орда, находилась в Зауралье и в среднеазиатских степях, восточнее Золотой Орды. Ею правили потомки старшего брата Батыя, Ичана-Орды.
Кидырь оказался энергичным и твердым правителем, но порядка в Орде он восстановить не успел, ибо удар обрушился на него с той стороны, откуда он его никак не ждал: уже в следующем, 1361 году, он пал от руки своего собственного сына Темира-ходжи. Последний продержался на престоле всего пять недель. Вокруг золотоордынского трона идет теперь злая резня, и ханы, с неуловимой для историка быстротой, сменяют друг друга. Часто их появляется по нескольку одновременно: они сидят в разных городах, каждый чеканит свою монету, каждый называет себя «великим». Таким образом, со дня смерти Джанибека до Куликовской битвы, то есть за двадцать три года, в Золотой Орде сменилось двадцать девять ханов, имена которых сохранились в истории,– на самом же деле их было больше.
На фоне этой кровавой смуты, с начала шестидесятых годов четырнадцатого столетия, в Золотой Орде начинает выдвигаться и приобретать решающую силу темник Мамай, женатый на дочери хана Бердибека. Не будучи по рождению чингисидом, он сам, согласно укоренившимся обычаям, не имел права на ханский престол. Однако, после смерти Темира-ходжи, он становится хозяином положения в большей части Золотой Орды и начинает управлять ею при помощи подставных ханов, которых он возводит на престол и прогоняет, если они обнаруживают непокорность.
Первым из таких декоративных ханов был уже упомянутый Абдаллах, из династии Узбека. Но почти одновременно с ним появляется и второй «великий» хан – Амурат, из белоордынской династии. Он царствует независимо от Абдал-лаха и Мамая, силы обоих ханов приблизительно равны,– ни один не рискует решительно выступить против другого. После этого в Золотой Орде, помимо Мамаевых ставленников, утверждается вторая линия ханов, белоордынского происхождения. Когда Амурат пал жертвою очередного заговора, его сменяет по этой линии Азиз-хан, сын Темира-ходжи.
*Хатунь – титул главной жены великих ханов, в переводе русских летописей – царица.
**Темник – высший татарский вельможа, командир десятитысячного отряда конницы – тумена.
Он владеет всем Заволжьем, включая оба Сарая. За Мамаем остаются правобережье Волги, южнорусские степи и Крым Иногда, на короткое время, появляется и третий «великий» хан. Пользуясь общей разрухой, многие улусные ханы и эмиры перестают кому-либо подчиняться и на время также превращаются в независимых правителей. Хорезм, за исключением некоторых окраинных областей, в эту пору совершенно отложился от Орды,– в Ургенче независимо правил и чеканил свою монету эмир Хуссейн, из династии Суфи.
При таком положении в Орде татары не имели возможности решительно пресечь наступательные действия литовского князя Ольгерда, который широко пользовался этим для захвата все новых и новых русских земель. Только в 1363 году, после того как он, овладев Киевским и Переяславским княжествами, двинулся на Подолию,– три ближайших татарских князя, объединив свои силы, выступили против него. Но в сражении на реке Синие Воды они были наголову разбиты, и во всех этих землях Ольгерд посадил на княжение своих сыновей и племянников, которые сразу же перестали платить дань Орде.
Насколько ослабела к этому времени Золотая Орда, можно судить и по следующему примеру: в 1365 году татарское войско, возглавляемое ханом Тагаем, вторгнулось в Рязанскую землю и врасплох овладело ее столицей. Прежде в таких случаях покорно ожидали, пока татары, пресытившись грабежом, уйдут сами, но теперь против них сейчас же выступили наскоро собранные ополчения князей Олега Рязанского, Владимира Пронского и Тита Карачевского. Битва произошла при урочище Воинове, и в ней татары понесли страшное поражение,– сам хан Тагай, с небольшим числом нукеров, едва успел спастись бегством. Это была первая серьезная победа, одержанная силою русского оружия над ордынцами.
За последние четверть века крупные события произошли и в княжестве Рязанском. Едва вступил на престол хан Джанибек, Пронский князь Ярослав Александрович отправился в Орду и потребовал суда над княживший тогда в Рязани Иваном Коротополом, который незадолго до того предательски убил его отца, князя Александра Пронского.
*Старый Сарай, или Сарай-Бату, выстроенный ханом Батыем, находился близ нынешней Астрахани. Новый Сарай, или Сарай-Берке, ставший столицей Золотой Орды со времени хана Узбека, находился на девяносто верст ниже нынешнего Царицына (Волгограда).
**Хорезм – среднеазиатское государство, позже известное под назва нием Хивинского ханства. Его столица – город Ургенч, стояла на Амударье.
***Нукер – дружинник, служилый дворянин в Орде.
Джанибек принял сторону Ярослава. Он дал ему ярлык на великое княжение в Рязани и отправил с ним татарское войско, которое изгнало Коротопола из его столицы, после чего на Рязанском столе прочно утвердилась династия Пронских князей. В течение следующих девяти лет там княжили последовательно три брата – Ярослав, Иван и Василий Александровичи, но ни один из них не был долговечен, а уже в 1351 году на великом княжении в Рязани мы видим молодого князя Олега Ивановича, а на Пронском столе – его двоюродного брата, Владимира Ярославича.
Олег Иванович, удержавшийся на своем престоле более полувека, оказался очень способный и энергичным правителем,– при нем Рязанское княжество достигает вершины своего расцвета и могущества. Но в лице Пронского князя он всегда имел сильного соперника, которого, к тому же, поддерживала Москва, не желавшая допустить чрезмерного усиления столь опасного соседа.
Большие перемены произошли и в княжестве Муромском: в 1355 году на Муром внезапно напал князь Федор Глебович, о происхождении которого летописцы не говорят ничего,– вероятно, это был представитель какой-то боковой ветви муромской династии. Княжившему в Муроме Юрию Ярославичу пришлось покинуть свой город. Оба князя явились на суд в Орду, но, очевидно, здесь у Федора Глебовича заранее были подготовлены сильные позиции, ибо великий хан Джанибек не только дал ему ярлык, но и выдал князя Юрия головой. Князь Федор заточил своего соперника в Муроме, где Юрий Ярославич, так блестяще восстановивший этот город из развалин, в скором времени умер.
В заключение следует сказать несколько слов о положении в Белой Орде, ибо происходившие в ней события тесно связаны с темой настоящей книги.
Великий хан Мубарек-ходжа ненадолго пережил своего врага и соперника, золотоордынcкого хана Узбека: он умер в Сыгнаке, в 1345 году. Ему наследовал его старший племянник, хан Чимтай, царствовавший в Ак-Орде до 1360 года. Оставаясь верным своей политике добрососедских отношений
*Город Сыгнак – столица Белой Орды, стоявшая на реке Сырдарье, примерно в пятистах верстах от впадения ее в Аральское море .
Часть 1 Глава 1
В лето 6874, месяца геннвря в осемнадцатый день, на память святых отец наших Афанасия и Кирила, в неделю промежу говенем, женися князь великий Дмитрей Ивановичь, у князя у Дмитрия у Суждалльского, поял за ся дщерь его Овдотью и бысть князю великому свадьба на Коломне. Троицкая летопись
Первым, как обычно, ударил к ранней заутрене «Лебедь» – невеликий, но ясноголосый колокол Чудова монаcтыря: владыка Алексей, митрополит московский и всея Руси, проживавший в Чудове, был строгим ревнителем благочестия и паству свою любил наставлять к оному не столько слоном, сколь живым примером. Звонари всех храмов московских к этому часу стояли уже на своих звонницах, распетляв вервия колокольных языков и распялив для устойчивости ноги, в ожидании первого удара чудовского «Лебедя».
Едва лишь проплыл и медленно замер над просыпавшимся городом его неназойливый, но уверенный звук, будто властный голос самого владыки-святителя,– тотчас отозвался ему царственным басом «Великий Гуд» Успенского собора – лучший из пяти колоколов, отлитый на Московщине знаменитым колокольным мастером Бориской, звонко и радостно ударили ему вслед подголоски от Спаса-на-Бору; словно только и ждал того,– подстроился «Иван Лествичник», и, разом проснувшись, рассыпались красным звоном все семь колоколов Архангела Михаила. Благовест перекинулся на посад, прокатился по незатейливым деревянным церквушкам Заречья и, замыкая кольцо, от монастыря и монастырю понесся над лесистыми холмами Занеглименья. Торжественным звоном встречая наступающий день, десятки московских храмов разноголосым, но издавна слаженным хором колоколов призывали православный люд к утренней молитве, с коей каждому христианину подобало начинать свои житейские дела.
*До Петра Великого летосчисление на Руси считались от сотворения мира, которое полагали за 5508 лет до Рождества Христова.
** В старину на Руси многим колоколам, особенно славившимся своим звуком, давали собственный имена.
***Здесь упоминаются первые каменные храмы, выстроенные в Москве Иваном Калптой: собор Успения Пресвятой Богородицы, церковь святого Иоанна Лестничника, храм Спаса-на-Бору и церковь во имя Архангела Михаила.
Когда со звонницы княгининого Лазаря над самой головой ахнул и погнал над крышами города свою серебряную волну тенористый «Певун», – им самим недавно подаренный жене,– князь Дмитрий Иванович проснулся. Вставать не хотелось, все тело было налито сладкой ночной усталостью, и с минуту он лежал неподвижно, не открывая глаз. Однако второй удар звонкоголосого «Певуна», к которому дружно пристроился весь набор подзвонных колоколов, окончательно прогнал его сон.
«Эко поет,– со смесью досады и восхищения подумал молодой князь.– Будто тебя самого в небеса уносит! Знал свое мастерство Бориско… Таких колоколов, чай, и в Цареграде еще не бывало!»
Дмитрий открыл глаза, огляделся и быстро привскочил на постели: он находился не в своей опочивальне, а в тереме Евдокии Дмитриевны, куда тихонько пришел еще до полуночи, когда во дворце все спали. И уже перед самым рассветом, ненароком заснув на мягких пуховиках, не ушел вовремя. Экий срам ему, великому князю, ворочаться теперь к себе в одной рубахе, когда уже звонят к заутрене и кругом ходят люди!
Он с досадою сел на постели и поглядел на спящую рядом жену. Русые волосы ее пышно разметались по подушке, на матово румяных щеках подрагивали тени длинных пушистых ресниц, высокая грудь мерно вздымалась под кружевною вставкою рубахи. Евдокия Дмитриевна, которой в ту пору едва минуло шестнадцать лет, была так хороша и свежа в этом утреннем сне, что Дмитрий не выдержал: наклонился и поцеловал жену в полуоткрытые, по-детски пухлые губы. Теплая белая рука тотчас выпросталась из-под простыни и мягко обвила его шею.
* Каменная церковь Воскресения св. Лазаря, построенная в первые годы княжения Дмитрия Донского и входившая в состав хором княгини Евдокии Дмитриевны. Ныне это древнейшая постройка Москвы, сохранившаяся в своем первоначальном виде.
– Митюня… князенька мой… Веришь: в самый сей миг снилося мне, что меня ты целуешь!
– Вот и сбылся твой сон, лапушка! Только не обсчиталась ли ты, часом, спросонья? Может, не один раз я тебя целовал?
По лицу Евдокии пробежала улыбка, завихрилась на щеках двумя нежными ямочками. В синих глазах запрыгали веселые бесенята.
– Нешто я сказала один? Во сне целовал ты меня, не знаю, сколь долго… Я и счет позабыла!
– Ну, коли позабыла, на тебе еще один!., и еще!… Остатние после додам. А теперь пусти… Слышь, к заутрене звонят? Что люди скажут, коли увидят, что я об эту пору отсель выхожу!
– А что они сказать могут? Небось не от полюбовницы ворочаешься, а от своей жены.
– Оно так, да все же совестно.
– А ты послушай у двери: коли ничьих шагов не слыхать,– разом скочь в сенцы, да и вниз, по лесенке. Нешто тут далече!
– Да иного не остается. А ты, чай, не выспалась нопе,– поспи еще.
– Ай не грех?
– Тот грех на мне, я его и отмолю. Ну, прощай покуда. Почивай с Богом!
– Храни тебя Христос, милый!
Дмитрий сунул голые волосатые ноги в мягкие чувяки, подошел к двери и прислушался. По ту сторону вес было тихо. Ласково кивнув жене, он быстро вышел в темные сенцы терема и стал спускаться по крутой деревянной лестнице. Первая же ступенька под его погон надрывно заскрипела, что заставило князя мысленно выругаться.
Он и не подозревал, от какой неприятности избавила его эта голосистая ступенька: услышав наверху скрип, мамка Евдокии, Прасковья Андреевна, из рода суздальских бояр Вышеславцевых, направлявшаяся в терем будить свою княгиню,– подняла голову и, узнав в полутьме великого князя, в ночной сорочке спускавшегося вниз,– успела юркнуть под лестницу, прежде чем он ее увидел.
Когда за Дмитрием закрылась дверь его опочивальни, она тихонько выбралась оттуда, но наверх уже подниматься не стала, а, постояв немного у лестницы, направилась назад, в свою светелку.
«Эка встреча! – всю дорогу не переставая улыбаться, думала она, – Должно, к детям! Видать, крепко любит Дмитрей Иванович нашу княгинюшку! Да и как ее не любить, особливо в такието годы? Ведь ему еще и осемнадцати нету. Ну, ну, не стану ее сегодня тревожить, пускай поспит, сердешная, вволю… Небось в жизни-то еще успеет намаяться».
Дмитрий с малых лет привык считать себя, прежде всего, воином, а потому ни пышности в одежде, ни обрядности не любил. Тщетно некоторые из ближних бояр ему говорили, что великому князю всея Руси обряжаться самому не пристало: он всегда одевался и раздевался сам,– разве что от ходьбы по лужам либо на охоте промочит ноги и вечером велит отрокам стащить с себя сапоги.
Возвратившись, как он думал, никем не замеченный в свою опочивальню, князь сбросил ночную рубаху, натянул просторные, синего сукна шаровары и мягкие татарские ноговицы. Затем несколько раз громко хлопнул в ладоши. Почти сразу открылась боковая дверь, и два отрока, в длинных голубых рубахах, внесли в опочивальню медную лохань и пузатый кувшин с водой. Один поставил лохань на скамью, у окна, другой принялся поливать князю из кувшина.
Дмитрий мылся не торопясь, с удовольствием растирая студеной водой свой мускулистый торс. Он ростом был высок, ладно сложен, коренаст и крепок. Волосом и глазами черен, лицом смугл, взглядом суров. Густые, сросшиеся над переносьем брови и рано пробившиеся усы увеличивали впечатление этой суровости.
Окончив мытье, он расставил ноги, низко нагнулся над лоханью и велел отроку вылить остаток воды ему на спину и на голову. Потом принял от другого отрока полотняный, расшитый красным узорцем ручник и вытерся крепко, до жара в коже.
– Какой кафтан наденешь, великий государь? – спросил старший из отроков.
– Не надобно кафтана, день будет знойный. Неси белую рубаху да черкасский поясок, с серебром.
Пока отрок искал требуемое, Дмитрий расчесал костяным гребнем свои густые волосы и подошел к открытому окну. Княжеский дворец стоял на самой возвышенной части кремлевского холма,– почти вся Москва отсюда была видна как на ладони, и юный государь невольно залюбовался открывшимся перед его глазами видом.
*Отроками назывались тогда комнатные слуги.
Прямо у его ног расстилалась обширная площадь, по бокам которой высились белокаменные храмы и, богато изукрашенные резьбой, деревянные дворцы-хоромы московских бояр. Лучи восходящего солнца уже растекались по верхушкам деревьев, румянили круглые маковки церквей и слепящим светом зажигали слюдяные окна высоких теремов; влево, чуть поодаль, громоздились бревенчатые стены Чудова монастыря. А еще дальше, куда ни глянь, выбивались из густой зелени садов крутые, увенчанные крестами вышки бесчисленных деревянных церквей да тускло поблескивали от росы тесовые крыши. Справа, внизу, за новою каменной стеной, по его, Дмитрия, велению опоясавшей Кремль,– в утреннем мареве несла свои тихие воды Москва-река и слышались крики плотогонов, чаливших к берегу груженные камнем плоты. По замоскворецкой луговне, среди, рощ, перелесков и небольших озер, кучками были рассыпаны деревни и села, а за ними, уходя в бескрайнюю даль, дыбилось необозримое море лесов.
«Хороша моя Москва! – с удовлетворением подумал Дмитрий, – А еще и не такою будет! Пособил бы только Господь с татарвой да с княжьем управиться!»
Это краткое обращение к Богу возвратило его мысли к действительности: он быстро отошел от окна, надел поданную отроком рубаху, туго затянул пояс и отправился к заутрене.
Глава 2
За ранним завтраком у великого князя народу в этот день было немного: человек шесть ближних бояр да его двоюродный брат, Серпуховский князь Владимир Андреевич, со своим боярином-воеводой Акинфом Шубой.
Юный князь Владимир, которому в ту пору не было и шестнадцати лет, ростом был высок, почти как Дмитрий, но худощавая фигура его сохраняла еще мальчишескую угловатость. Заметно было, что он старается держать себя солидно, как подобает взрослому и, к тому же, важному удельному князю. Но это ему не всегда удавалось,– особенно в те минуты, когда взгляд его больших серых глаз, с чисто детской преданностью, почти с обожанием, останавливался на мужественном лице Дмитрия.
*Князь Владимир Серпуховский за Куликовскую битву получившей прозвание Храброго, был внуком Ивана Калиты от его младшего сына Андрея.
Перехватив один из таких взглядов, Дмитрий Иванович, тоже очень любивший своего двоюродного брата, ласково ему улыбнулся. Ему вспомнилось, как началась эта дружба, неразрывными узами связавшая их на всю жизнь.
Владимиру Андреевичу, родившемуся уже после смерти своего Отца, было всего пять лет, когда умер его старший брат Иван и к нему перешло Серпуховско-Боровское княжество,– важнейший московский удел, сохранявший еще, по отношению к Москве, значительную долю самостоятельности. Разумеется, за младенца Владимира всеми делами княжества правила группа бояр, которая,– пользуясь сначала слабостью великого князя Ивана Кроткого, а потом неустойчивым положением его малолетнего сына Дмитрия,– весьма мало считалась с Москвой и даже начала склоняться на путь открытого соперничества с нею.
Так прошел десяток лет. Когда Дмитрий Иванович закончил борьбу с Суздальскими князьями и утвердился на великокняжеском столе, он уже отчетливо сознавал, что власть его не будет прочной, пока Москва окружена кольцом удельных княжеств, признающих эту власть в лучшем случае на словах, на деле же сохраняющих полное самоуправление. Необходимо было добиться, безоговорочного подчинения себе соседних князей, и притом немедленно: перед Дмитрием уже выросла угроза неминуемого столкновения с Тверью, за спиной которой стояла враждебная Москве Литва.
Быстрыми и решительными действиями он, с помощью вооруженной силы, но почти без кровопролития, добился полного повиновения князей Ростовского, Ярославского, Стародубского и Муромского, а затем, с полгода тому назад, вызвал в Москву Серпуховско-Боровского князя, для переговоров и подписания ряда.
Серпуховские бояре, сопровождавшие в этой поездке Владимира Андреевича, наставляли его «стоять на своем праве крепко и перед Москвою на послаб не идти». Замкнутый юноша, казавшийся своему окружению покорным в недалеким, но обыкновению слушал молча и не возражал. Но велико было разочарование бояр, когда, после недолгой беседы с глазу на глаз с Дмитрием, Серпуховским князь решительно заявил, что готов не только признать себя его «братом молодшим», но и «служить ему, великому государю, по доброй воле, без ослушания и в службу ему, когда надобно будет, войско свое и бояр и слуг посылать. А кто ему, брату моему старшому, будет ворог, тот и мне ворог, а кто ему будет друг, тот и мне друг». Кроме того, он отказался от права самостоятельных сношений с Ордой и дань ей обязался вносить через Московского князя.
*Ряд – договор.
Когда ряд был подписан, Дмитрий Иванович подошел к Владимиру и крепко его обнял.
– Ну, Владимир Андреевич,– задушевно сказал он,– спаси тебя Христос! Годами ты молод, а разумом мудр,– сразу постиг, что не для моего возвеличения, а для пользы общей матери нашей – Руси это надобно! Отныне я тебе друг навеки и чего хошь для тебя не пожалею.
– А мне иного и не надобно, братец! Вот разве одно: отцовы хоромы тут минувший летом пожар спалил, так дозволь поставить новые поближе к твоим, ибо наперед мыслю я в Серпухове оставить наместника, а самому жить в Москве, дабы лучше служить тебе.
– То мне еще одна радость! Сего же дня выбирай себе место, где пожелаешь. Дам тебе лесу, плотников и иных умельцев. Станем жить вместе, и во всем ты мне будешь первым поможником!
Так родилась эта крепкая дружба двух русских князей, обессмертивших свои имена перед потомством. Дружба, плоды которой тринадцать лет спустя вкусила вся Русь на Куликовом поле.
Вслед за Владимиром Серпуховским подобные же договоры вскоре подписали с Москвой и другие удельные князья: Белозерский, Тарусский, Оболенский, Моложский, Дмитровский и Углицкий,– правда, далеко не все так охотно, как Владимир Андреевич. Таким образом, в руках Дмитрия оказались теперь все русские княжества, не захваченные Литвой, за исключением двух самых крупных: Тверского и Рязанского, с которыми еще предстояла тяжелая и длительная борьба.
«Ништо, и с этими управлюсь,– подумал Дмитрий, в памяти которого промелькнули сейчас все эти дела и события,– а там, коли пособит Господь, и Орда свое получит!»
Дмитрий Иванович оглядел сидевших за столом и остановился взглядом па румяном, излучающем здоровье лице боярина Гаврилы Андреевича Кобылипа, более известного всей Москве под прозвищем Гавши, который в эту минуту трудился над огромным кускам копченого окорока.
– Ну, как твой постоялец, Гавша Андреич? – спросил князь.– Еще не вошел в разум?
– Будто нет,– ответил боярин, еле ворочая языком в набитом рту.– Вчерась снова кричал, что станет жалиться на твое самоуправство хану,
– Ну, коли так, пусть еще сидит,– промолвил Дмитрий. – Да гляди, чтобы какой нужды либо лишнего утеснения ему не было и боярам его тож. Но караулить всех крепко и держать розно, чтобы и рои еж собой не сносились,– добавил он.
– Не нажить бы тебе с ним беды, Дмитрей Иванович, – после короткого молчания промолвил боярин Иван Вельяминов, статный мужчина лет тридцати, с русыми вьющимися волосами и с лицом редкой, почти ангельской красоты. – Добром его не отпустишь,– все одно тебя к тому принудят.
– Кто это меня принудит? – вспыхнул Дмитрий.
– А хотя бы и хан.
– Не вельми боюсь и хана, Иван Васильевич. Не те времена! Ноне ханов, к тому же, двое: коли один за него пойдет, другой беспременно на мою сторону станет.
– Окромя ханов, есть еще и Ольгерд Гедиминович. Не забудь, он Михаиле Александровичу зятем доводится, он же ему и тверской стол добыл. Нешто теперь он его в беде оставит?
– За то и держу Михаилу в нятьи, чтобы от той дружбы с ворогом Руси отрекся. Пускай мне крест поцелует, и разом ему дорога скатертью!
– Не поцелует он тебе креста, Дмитрей Иванович. Не такой он человек!
– И я такоже мыслю, что ноне еще не поцелует. Вот и пусть сидит! Мне и то на руку.
– Нешто думаешь его до смерти держать? Все одно отпустить придется.
– Зачем до смерти? Мне его надобно подержать, доколе мы вежи завершим и войско я соберу. Ведь ежели его сейчас ослобонить, он враз на нас Литву наведет, а мы к тому не готовы.
– По мне тоже пускай сидит,– вставил князь Владимир Андреевич, – хотя бы уж того ради, чтобы не помыслил, будто мы его дюже страшимся!
*Держать в нятьи – удерживать силою, под арестом.
** Вежи – башня.
Речь за столом шла о Микулинском князе Михаиле Александровиче, который полгода тому назад, при помощи Литвы, овладел великокняжеским столом в Твери, отобрав его у дяди своего, Василия Михайловича Кашинского, бывшего ставленником Москвы.
Около двух месяцев тому назад Дмитрий Иванович, по совету митрополита Алексея, позвал его в Москву, дабы полюбовно договориться об отношениях между ними и упрочить мир. Михаила Александрович это приглашение принял и прибыл в Москву в сопровождении своих ближайших советников и слуг. Встречен он был с подобающим почетом, но на первом же совещании отношения резко обострились: Дмитрий Иванович настаивал на том, чтобы новый великий князь Тверской признал себя его «молодшим братом» и поцеловал ему крест, как государю всея Руси. Михаила Александрович, рассчитывавший на поддержку Ольгерда, наотрез отказался. Он соглашался жить с Москвой в ладу и в мире, но на основах полного равенства.
В пылу разгоревшегося спора он заявил, что великое княжение над Русью по праву принадлежит его роду и что Московские князья, наводя на Тверскую землю татар, оттягали это право «великими неправдами, воровством и кровью». Взбешенный Дмитрий ответил, что сам Михаила Александрович, с помощью лютого врага Руси – Ольгерда Литовского, воровским образом отнял тверской стол у князя Василия Кашинского и что в этом деле он, Дмитрий, как старший из русских князей, принимает на себя обязанности третейского судьи. Он велел тут же взять Михаилу Александровича и «держать его в нятьи, доколе ему, великому князю Московскому и всея Руси, крест не поцелует, либо вернет тверской стол Кашинскому князю, который всегда был Москве другом».
– Сдается мне, только, что с вежами да со сбором войска надобно нам весьма и весьма поспешать,– негромко, но значительно промолвил младший брат Гавши, боярин Федор Кошка. Это был еще молодой белокурый человек, с мягкими вкрадчивыми движениями, круглолицый и гладкий, при одном взгляде на которого становилось попятным – почему получил он такое прозвище.
*Михаил Александрович был сыном, а Василий Михайлович – братом великого князя Тверского, Александра Михайловича, в 1339 г. казненного в Орде по проискам Ивана Калиты. Первый из них получил в удел город Никулин, а второй – Кашин.
– Мы времени и так не теряем,– ответил Дмитрий, а почто еще сверх того поспешать?
– Не нагрянул бы кто выручать Тверского князя, прежде нежели мы того ждем.
– Кому нагрянуть? Мы всех тверичей караулим крепко и за ними глядим во сто глаз. Упредить они никого не могли.
– Сами-то не могли, ан, может, другие им услужили.
– Окстись, Федор Андренч! Кто бы решился такое содеять?
Небось у Михаилы Александровича есть и в Москве доброхоты, – не сразу ответил Кошка, бросив косой взгляд на Ивана Вельяминова.– Нешто не могли они снарядить гонца, хоть к Ольгерду?
– Али ты чего знаешь?
– Кабы знал, не таил бы… Сказываю только, что могло такое быть.
Дмитрий замолк и нахмурился. Слова Кошки его встревожили. Торопливо закончив трапезу, он резко поднялся, коротко помолился на образа и приказал:
– Упредить Свибла, Федьку Беклемигаа и иных предстателей, чтобы были на местах. До полдника сам обойду все вежи и погляжу, как идут работы.
*Предстателями летопись называет руководителей строительных работ по возведению каменного кремля, ответственных перед князем.
Глава 3
Первое упоминание о Москве мы находим в летописях под 1147 годом, в связи с тем, что там состоялась встреча двух князей – союзников: Юрия Долгорукого и Святослава Новгород-Северского. С этого года и ведется официальная история нашей древней столицы. Но самое возникновение тут населенного пункта, может быть, прежде носившего иное название, с полным правом следует отодвинуть значительно дальше в глубину веков.
Доподлинно известно, что еще до прихода сюда князя Юрия Долгорукого на месте Москвы стояло большое село, принадлежавшее суздальскому боярину Степану Кучке. Еще раньше того здесь находился городок славянского племени вятичей, покоренных Владимиром Святым. Городок этот возник не позже девятого века, о чем свидетельствуют обнаруженные при раскопках предметы быта, украшения и монеты. Среди последних найдены были арабские дирхемы первой половины девятого столетия, и это доказывает, что население существовавшего здесь города уже тогда вело какие-то торговые отношения с Востоком. Но и это не было началом Москвы: те же раскопки обнаружили в западной части нынешнего Кремля остатка нескольких родовых городищ, относящихся к шестому веку. И, наконец, археологи установили, что человек облюбовал это место для поселения еще в эпоху каменного века, за три тысячи лет до Рождества Христова, и с той поры здесь, по-видимому, никогда не угасал очаг какой-то оседлой жизни.
*Слово «Москва», по одной версии, на языке некогда обитавших тут финско-угорских племен означало «мутная вода», по другой – «медведица».
Для наших отдаленных предков и их предшественников кремлевский холм являлся исключительно удобным местом для поселения: от вражеских набегов он был надежно защищен омывающими его с трех сторон реками – Москвой и Неглинной, множеством непроходимых болот и дремучими лесами, раскинувшимися на сотни верст вокруг. Истории известны случаи, когда шедшее на Москву неприятельское войско сбивалось в этих лесах и не могло обнаружить города.
В то же время местность изобиловала всевозможной дичью и ценнейшими породами пушных зверей, меха которых являлись тогда основой меновой торговли. Реки были полны рыбой и служили удобными путями сообщения, а климат и почва были благоприятны для земледелия. Все это обеспечивало редкому населению края спокойную и сытую жизнь, что очень скоро стало известным и в южнорусских княжествах. Уже в XI-XII веках крестьяне из Киевской Руси, жестоко страдавшие от непрекращающихся междоусобий своих князей и от частых набегов стенных кочевников,– усиленно начали переселяться на север, в Суздальскую землю, и это – в совокупности с другими, отмеченными выше преимуществами,– предопределило перенесение сюда в дальнейшем и великокняжеской столицы.
Юрий Владимирович Долгорукий,– первый из великих князей решившийся пренебречь Киевом ради Суздальской земли,– за какую-то провинность отобрав у боярина Кучки его москворецкие угодья, сразу же оценил все удобства этого места и основал здесь городок, который в 1156 году был обнесен прочным бревенчатым тыном и превратился в небольшую крепостцу, охранявшую подступы к Суздальскому княжеству. Очевидно, городок рос и развивался быстро, ибо уже в 1237 году, во время нашествия Батыя, летопись отмечает, что при взятии Москвы татарами здесь были разрушены многие монастыри и церкви.
В 1271 году вновь отстроившаяся Москва впервые становится столицей небольшого удельного княжества, доставшегося младшему сыну Александра Невского – Даниилу. При его сыновьях – Юрии и, главным образом, Иване, получившем прозвание Калиты, начинается быстрый рост Московского княжества, которое, в силу личных качеств своих князей и исключительно выгодного географического положения, превращается а центр объединения русских земель. Только лишь за годы княжения Ивана Даниловича территория этого княжества увеличилась в семь раз.
Калита значительно расширил свою столицу и обнес ее новыми стенами, а с восточной, незащищенной реками стороны окопал глубоким и широким рвом.
Городские стены, по обычаю того времени, были сделаны из огромных, вплотную приставленных друг к другу срубов-клетей, сложенных из дубовых бревен аршинного диаметра и заполненных внутри землею и щебнем. В вышину они имели более пяти сажень, а в толщину около двух. В промежутках между возвышавшимися над стеной глухими и проездными башнями, по внешней ее кромке, тянулось прочное «заборало», то есть забор из толстых дубовых горбылей, с прорезанными в нем бойницами. Эти укрепления были, по своему времени, настолько сильны, что превращали Москву в почти неприступную крепость.
Много внимания Иван Калита уделил и внутреннему благоустройству города: он построил здесь первые каменные здания, значительно расширил посад и ремесленные слободы. В это же время в Москве появились первые бревенчатые мостовые и водопровод,– очевидно подававший воду в великокняжеский дворец и на митрополичий двор,– о чем свидетельствуют остатки труб, обнаруженные при раскопках рядом с фундаментом деревянных стен Ивана Калиты.
Летом 1365 года большая часть города была уничтожена страшным пожаром. И хотя исполинские стены Кремля не полностью сгорели, а лишь обуглились,– великий князь Дмитрий Иванович, знавший, что ему придется много воевать и что его столице предстоит выдержать не одну осаду, решил строить новые стены, впервые в истории северной Руси сложенные из камня.
*Калита значит – денежный мешок, кошель.
У князя Дмитрия решения быстро проводились в жизнь: он хотел приступить к постройке уже а следующем году, но тому помешали два непредвиденных обстоятельства: эпидемия чумы, стоившая Москве множества жизней, и разграбление Нижнего Новгорода новгородскими ушкуйниками, наделавшее великому князю немало хлопот. Однако уже с осени начали возить в Москву камень для кладки стен. Сплавляли его по реке, на плотах и баржах, по-видимому, из подмосковного села Дорогомилова, где были обнаружены богатые залежи белого известняка, от которого новая Москва и получила свое название Белокаменной. С весны 1367 года приступили к возведению крепостных стен, и летом следующего года они были в основном закончены,– оставалось лишь достроить некоторые башни и ворота.
Такой срок для столь грандиозного, по тем временам, строительства может показаться неправдоподобно коротким. Но сомневаться в нем не приходится, ибо и начало и конец постройки отмечены в летописях. Не говоря уж о том, что надвигающиеся события заставляли князя Дмитрия очень торопиться с укреплением своей столицы и для этого имелись и все технические возможности.
Вопреки укоренившемуся мнению в средневековой Руси не было недостатка в опытных мастерах и строить умели быстро. Дубовый кремль Ивана Калиты был выстроен всего за полгода; храм Архангела Михаила в Москве был полностью закончен менее чем за год. Кстати, это доказывает, что каменная кладка отнюдь не была, даже в северной, лесной Руси, чем-то новым и неизвестным, и все разговоры о том, что Дмитрий Донской при постройке своего кремля пользовался мастерами-иноземцами, лишены какого-либо основания.
Среди строителей этого кремля летописи не отмечают ни одного иностранного имени, но зато называют несколько русских. Именами этих строителей первоначально были названы многие отдельные части постройки: так, например, Спасские ворота прежде назывались Фроловскима, а Троицкие – Пешковыми; были башни – Свиблова, Беклемишева, Собакина, Тимофеева и т. д.
*Ушкуйниками называлась новгородская вольница, на больших ладьях – ушкуях отправлявшаяся по рекам в дальние края, для грабежа и открытия новых земель. За этот набег Дмитрий Донской заставил новгородских старшин уплатить 8 000 р. серебром, что по тем временам было огромной суммой.
** Некоторые ошибочно считают, что слово «кремль, происходит от „кремень“. Это не так, ибо кремлями первоначально назывались именно деревянные укрепления. Назвааие это идет от слова „кремь“ – так на севере и до сих пор называют строевой хвойным лес.
Достоверно известно и то, что каменные храмы Ивана Калиты были выстроены без всякой иностранной помощи,– своими владимирскими и псковскими зодчими и мастерами. И в качестве образцов были взяты не византийские, а наши древние новгородские каменные церкви, архитектурный стиль которых позже был усвоен и Суздалем. По внешнему виду это были не очень затейливые, обычно квадратные здания, с двумя-тремя выступающими стенными полукружиями для алтарей; наверху – круглый «барабана, увенчанный главным куполом.
Но в Москве к этому уже добавляются некоторые местные архитектурные особенности: вместо суздальских круглых арок, над порталом и окнами, здесь сооружают стрельчатые, по стенам идет несколько горизонтальных лепных поясов. с узорами, напоминающими русскую резьбу по дереву, а верх увенчан полукруглыми «кокошниками». Внутри эти церкви были отделаны мраморными плитами и цветной майоликой, а несколько позже – греческими и русскими мастерами расписаны стенной живописью.
Сооружение такого храма обычно заканчивалось за один строительный сезон.
Глава 4
В лето 6874 князь великий Дмитрей Ивановичь, погадав с братом своим, князем Володимером Андреевичем Серпуховьским и со всеми бояры, замыслил обновить град свой и тое же зимы повезли бел камень к городу. И заложил град Москву камен и начаша делати безпрестанно, и что задумаша то и совершиша город Москву стенами чюдными оградил. Московская летопись
Когда Дмитрий Иванович, сопровождаемый князем Серпуховским, вышел на крыльцо, намереваясь пуститься в обход кремлевских укреплений, к нему подошел рослый молодец лет двадцати, с темными вьющимися волосами, чуть курносый и веселоглазый. Это был его любимец и товарищ детских забав, Михаиле Бренко, позже боярин и воевода.
– Тут, княже, прибег до нас какой, не ведаю, человек из Литовской земли. По роду не наш, не русин, но, видать, муж знатный, и с ним много слуг,-доложил он, указывая Рукой на кучку спешившихся у крыльца всадников, снявших Шапки при виде великого князя.
– А чего ему надобно? – спросил Дмитрий, оглядывая приезжих и останавливаясь взглядом на стоявшем впереди других невысоком коренастом человеке средних лет, с бритым подбородком и висячими рыжими усами. Он был одет в темно-зеленый кунтуш и высокие сапоги со шпорами; на поясе висел тяжелый клыч в малиновых ножнах, отделанных серебром.
– Сказывает, что служить тебе приехал.
– Пусть подойдет. Да покличь толмача Ачкасова,– добавил Дмитрий, не знавший иных языков, кроме русского.
– Не надобно. Дмитрей Иванович: он по-нашему разумеет добро.
– Ну, зови.
По знаку Бренка приезжий витязь неторопливо поднялся на крыльцо и остановился перед князем.
– Челом тебе, княже великий,– с сильным иностранным выговором, но довольно правильно произнес он, низко кланяясь и касаясь пола зажатой в руке меховой шапкой.
– Будь здрав, человече! Сказывай, кто таков и отколе прибыл?
– Зовусь я ныне Яном, а прозываюсь Драницей, великий государь. Прибыл же сюда из Литвы, дабы служить тебе, коли будет на то твое милостивое соизволение.
– Ты что же, литвин?
– Нет, княже, я из старого борусского роду и был средь тех, кои не захотели покориться немцам и ушли в леса. Мы бились за землю свою и за волю, доколе можно было, но что сделает горстка безоружных людей супротив одетых в железо рыцарей и их каменных замков? Нас ловили, как диких зверей, а поймав, предавали лютым казням. И ныне, кто уцелел, ушли в Литву либо к ляхам. А я пришел к тебе, великий государь.
– Почто же и ты в Литве не остался? Чай, вы с литвинами одной крови.
– Покинув землю отцов, я приехал в Литву, княже, и три лета прослужил в войске у князя Ольгерда, ожидаючи, что поведет он нас на немцев. Но увидел, что у него не то на уме: он воюет русские земли и тем лишь пособляет проклятым рыцарям. Потому и хочу тебе служить.
*Клыч – род кривого меча.
*Боруссы, или пруссы,– племя, родственное литовскому, населившее нынешнюю Пруссию и почти полностью истребленное рыцарями Тевтонского ордена.
– Где же ты по-нашему научился?
– Да у Ольгерда ж. Почитай, у него все войско по-русскому говорит.
– Так… А тебе, часом, не случалось видеть у немцев самопалы либо арматы огненного бою?
– Случалось, княже. Однова мы у рыцарей такую армату отбили, и я добре разглядел, как она сделана.
– И выпалить из нее сумеешь?
– Сумею, государь, коли огневое зелие будет.
– Вот это добро! Такой человек мне надобен. Мыслю и я невдолге завести в своем войске арматы,– тогда поставлю тебя учить людей огненному бою, а покуда тебе и иное дело сыщется. Коли будешь мне верен и к службе окажешься усерден,– на меня не посетуешь.
– Челом тебе, княже великий!
– Челом, челом… У нас говорят: спаси Бог либо спаси Христос! Да ты какой веры? Чай, вы, боруссы, язычники?
– Народ наш молился своим богам и наивыше всех чтил мать-землю Жемину да бога войны Натримпа. Рыцари нас обращали в христианство силою, но когда покинули нас наши боги и уразумели мы суть новой веры,– стали принимать ее и сами, без понуждения. И я принял.
– За это хвалю. В чем же, однако, уразумели вы суть Христовой веры?
– В том, княже, что кому нет удачи на этом свете, будет удача на том. И поелику немцы нас мучают здесь, на земле, мы их будем мучать в жизни вечной,– убежденно ответил Драница.
Услышав такое рассуждение, смешливый Бренко прыснул в кулак. Улыбнулся и Дмитрий.
– Ну, это вы того,– промолвил он.– У нас не так. Немцы хотя и христиане, но еретики, и за то самое их бесы в аду и без вас намучают. А ты, коли хочешь служить мне, изволь креститься в нашу, православную веру.
– Воля твоя, великий государь,– покорно ответил Драница.
– Ну то-то… Был ты Яном, у нас станешь Иваном. А по родителю как ты зовешься?
– Отец мой по имени был Гримонт, княже великий.
– Похоже на Григория. Стало быть, у нас будешь зваться Иваном Григорьевичем. Ты, Миша,– обратился князь к Бренку,– устрой его покуда у себя, да скажи отцу Мефодию, чтобы его скорее окрестил. А там поглядим, где ему поместье выделить и к чему приставить.
*Огневым зелием назывался порох.
Подойдя к главным, Боровицким воротам, получившим это названии от некогда дремучего, а теперь уже сильно поредевшего соснового бора, подступавшего здесь вплотную к городу,– Дмитрии Иванович поднялся на венчавшую ворота башню и осмотрелся кругом.
Десятки раз уже глядел он отсюда на новые, вырастающие вокруг его столицы укрепления,– радостно было глядеть,– и имеете со стенами в сердце его вырастала затаенная гордость собой: ведь это его воля подняла тысячелетиями лежавший в земле камень и превратила его в неприступную белокаменную твердыню!
Но сегодня ему пришла и другая мысль: да, все это создано его велением, но люди-то каковы! Ведь не минуло и полутора лет с того дня, как заложил он в основу этих укреплении первый камень, а сейчас погляди: вьется вокруг города пояс высоченных каменных стен, коих не сокрушить никакому ворогу! Снизу они много толще, но и по самому верху можно без боязни гнать на двух тройках рядом. И все это поднято руками своих, владимирских мастеров, по расчетам и указаниям не заморских зодчих, а своих же, русских. Отколе только взялись! Вот хоть бы Федька Беклемиш: на вид куда увалень, а оказался ума палата и в работе горел! Эн какую, башню вымахал! И бояре его пожалую… А Тимоха Векшин: пришел в лаптях, на вид лядащий, попервых работал как все, а ныне такого умельца хоть и в Цареград не стыдно. Этого деньгами одарю да вотчиной, – в бояре он рылом невышел… Да, башковит русский народ и руки у него золотые! Чего бы только он не достиг, кабы дать ему единую разумную волю да сбросить с его богатырских плеч постылый татарский гнет! И я его сброшу! – уверенно подумал Дмитрий.– Братьев родных не пожалею, коли станут мне в том помехой! Непокорное княжье буду давить как вшей, землю стану есть, а сброшу! Инако не достоин я перед Богом княжить над таким народом!
Спустившись с башни, Дмитрий, со своими провожатыми, двинулся по верху стены на восток, вдоль речки Неглинной. Здесь все каменные работы были закончены, и сейчас плотники, между идущими но внешнему краю стены массивными каменными зубцами, прилаживали толстые дубовые щиты – «заборалаа, с проделанными в них скваясшши. Чуть поодаль, с внутренней стороны укреплений, сотни две обнаженных по пояс рабочих в облаке пыли рушили кусок деревянной стены старого кремля. Чтобы не оставлять город без защиты, на случай всегда возможного нападения,– ее сносили по частям, по мере того как сажень на двадцать впереди вырастала новая каменная стена, охватывающая, таким образом, гораздо более обширное пространство.
Сильно обгоревшие и трухлявый бревна старой стены выкатывали крючьями на берег и спускали в реку; те, которые сохранялись лучше,– тут же шпили на доски и на дрова. Все прочее шло на забутовку новой стены, которая хоть и строилась из другого материала, но по старому способу: С двух сторон, на крепком растворе извести, клали облицовку из толстых, грубо обтесанных каменных плит, а промежуток заполняли землей и щебнем.
Около Курятных ворот великого князя встретил главный предстатель, боярин Федор Андреевич Свибло, руководивший всем строительством. До начала этой постройки во всей Москве никто не догадывался, что под скромной внешностью этого немногословного сорокалетнего человека скрывается талантливый самородок, Бог весть откуда и какими путями почерпнувший твои обширные познания, которым мог бы позавидовать не один прославленный зодчий.
Два года тому назад, когда боярская дума решала – как строить новый кремль и в каких землях искать умельца, способного руководить его постройкой, разгорелся жаркий спор: одни стояли за Византию, другие хотели строить по образцу немецких каменных крепостей-замков и звать зодчего немца. И тогда, неожиданно для всех, поднялся не любивший споров Федор Свибло.
– А на что нам немцы да греки? – негромко промолвил он.– Нешто у нас своих образцов мало? Вон, хотя бы каменный кремль во Пскове: почитай, три века уже стоит, и досе не сумели его взять те самые немцы, у коих вы теперь учиться хотите. Да и в Изборскс не хуже. Есть и в иных заходных городах наших. И все те кремли ставлены своими, русскими людьми.
Бояре подняли было Свибла на смех, но Дмитрию Ивановичу его слова пришлись по душе.
*Скважня – бойница.
– Псковской кремль и вправду неплох,– сказал он,– да ведь надобно суметь такой сделать!
– Еще и получше сделаем. Без немцев и без греков, своими, русскими руками да умом.
– Ты, что ли, сделаешь? – насмешливо спросил старый боярин Босоволков.
– Хоть и я,– спокойно ответил Свнбло. – Поеду во Псков и в иные каменные русские города, все обсмотрю и обмерю, я выстрою не хуже, ежели великий князь повелит.
Бояре зашумели. Дмитрий был в нерешительности, но митрополит Алексей, перед словом которого привыкли склоняться все, неожиданно поддержал Свибла, и это положило конец спорам. Через несколько дней Федор Андреевич выехал во Псков и в Изборск, а младший его брат Александр – в Старую Ладогу и в Порхов, для изучения тамошних каменных крепостей. Вернувшись несколько месяцев спустя, с подробными записями и чертежами, они стали во главе строительства, многое еще додумали от себя и полностью оправдали оказанное им доверие. Новый кремль получился на славу, и Москве теперь не страшна была никакая осада.
– Ну что, Федор Андреевич,– спросил Дмитрий, когда боярин подошел и отвесил ему положенный поклон,– когда мыслишь управиться?
– К осени управимся, княже, – ответил Свибло. – Не много уже и осталось: с полуночной стороны, от самых Боровицких ворот, все башни выведены доверху; в Беклемишевой осталось лишь свести верх, Шешков свою тоже кончает. Более иных поотстала Фролова, да вот ведем теперь две нововых, глухих, что ты велел добавить со стороны Москвы-реки.
– А Собакина как?
– Тимоха ее завершил. Ноне леса убирают.
– А ну, пойдем глянем.
Собакина башня стояла возле оружейного двора, в северовосточном углу неправильного четырехугольника, образуемого стенами нового кремля. Несколько выступая из стен наружу, для удобства стрельбы, она представляла собой массивное круглое сооружение, с выходящими на все стороны бойницами и плоской крышей, увенчанной по краю каменными зубцами.
Не доходя до нее шагов десять, Дмитрий остановился и обшарил ее сверху донизу внимательным, изучающим взглядом. Добрая работа! Камни тут подобраны один к одному и обтесаны гладко, будто выструганы. А оттого и вся башня кажется легче и стройней, чем другие.
*Полуночной сторонойназывался север, полуденной – юг
Из ближайшей бойницы высунулась взлохмаченная русая голова на тонкой журавлиной шее и озабоченно поглядела наверх, где в это время здоровенный рабочий, с трудом удерживаясь на оголенных стропилах, готовился спускать тяжелую, заляпанную известью лесину.
– Эй, Кострома! Убьешьси! – хриплым голосом закричала голова,– Обвяжись, дурило, веревкой, да за зубец! С черта вырос, а все глупой, как дите!
Заметив внизу великого князя, голова мигом втянулась в бойницу, а через минуту из башни показался и поспешно направился к Дмитрию и сам ее обладатель, мастер Тимофей Векшин. Вначале ему была поручена постройка другой башни, на восточной стене Кремля. Но когда сын боярскийИван Собака, строитель угловой и наиболее ответственной башни, получившей его имя, сорвался со стены и поломал обе йоги,– Векшин был переброшен сюда и много раньше, чем ожидали, завершил постройку.
– Будь здрав, Тимоша,– приветливо сказал Дмитрий Иванович.– Добрую башню ты вывел! Спаси тебя Христос, а я твоей службы не забуду.
– Рад служить тебе, великий государь, – земно кланяясь, ответил Тимоха.
– Все закончил?
– Все, княже. К вечеру леса уберем.
– Тебе от меня двадцать и пять рублев, а ватаге твоей пять ведер крепкого вина и день роздыху. Теперь ворочайся на свою старую башню и там потрудись тако же. Как ее завершишь,– еще тебя награжу.
– Благодарствую, великий государь, спаси тебя Господь! А я послужу тебе, доколе живота хватят.
Дмитрий вошел в башню и по крутой каменной лестнице поднялся на ее плоскую крышу. Прямо перед ним развернулся неохватный вид на холмистое, покрытое лесами Занеглименье, с разбросанными там и сям селами и монастырями; справа раскинулся заторопившийся в зелени обширный московский посад, отделенный от города широким рвом, идущим вдоль восточной стены Кремля. От столицы во все стороны разбегались дороги: тверская, дмитровская, ярославская, владимирская, ордынская, серпуховская… Сколько их!
«Вот ежели бы воспарить птицею да поглядеть сверху на мою Москву,– подумал Дмитрий,– не иначе, она бы звездою представилась: дороги от нее, что лучи, и вдоль каждой тянутся по обе стороны избы, аж до самого леса! А придет: время, и сольются все те лучи в один круг-солнце, и всей Руси светить оно станет!»
*Детьми боярскими тогда называли служилых дворян.
Спустившись вниз, Дмитрий зашагал дальше, по восточной стене, не задерживаясь, миновал уже законченную Никольскую башню и остановился у Фроловых ворот, находившихся в средней части этой стены. Со стороны посада, прямо перед ним, расстилалась площадь торговых рядов(нынешняя Красная площадь), окаймленная несколькими деревянными церквами; в глубь кремля, к государеву дворцу, вела отсюда довольно широкая, мощенная бревнами улица. У моста, перекинутого через ров, стояло с полсотни груженых телег,– там шла толкотня и неразбериха, в воздухе висела крепкая ругань: узкие ворота пропускали лишь по одной телеге, к тому же то и дело; надо было останавливать их движение, чтобы выпустить едущих из города. Поглядев с минуту на всю эту кутерьму, Дмитрий нахмурился.
– Это негоже,– обратился он к боярину Свиблу,– В сей стене беспременно надобно еще ворота пробить. Либо под]Никольской башней, либо под Тимофеевой. А то и под обоими. Глянь, что деется!
– Истинно надобно, княже,– ответил боярин,– да ведь ты дюже торопил с постройкой, а ворота да мосты много времени отымают.
– Ништо, коли надо, так надо. Управились мы быстрей, нежели я мыслил, а без вторых ворот тут беда. Ставь их у Тимофеевой башни, поелику она еще не завершена. Спереди, на случай чего, выведи каменный заслон и за ним ломай стену.
– Сделаю, Дмитрей Иванович.
– Ныне Тимоха со своею ватагою снова сюда перейдет, они эти ворота борзо сробят. А Фрол где?
– Должно, внизу, в проезде, ворота навешивает. Спустившись со стены, Дмитрий вошел под округлые своды проездной башни. Здесь человек двадцать рабочих, обливаясь потом и с трудом удерживая на весу створку железных ворот, толщиною в вершок,-только что отлитых взамен временных, дубовых,– старались навесить ее на огромные, вмурованные в стену крючья. Высокий и толстый человек в расстегнутом кафтане, зычно покрикивая, руководил их движениями. Это был предстатель Фрол Беклемиш. Увидев князя, он тотчас подошел к нему с низким поклоном.
– Ты, Фрол, что-то от других поотстал,– строго сказал Дмитрий.– Гляди, твоя башня лишь наполовину сделана, а Тимоха свою ныне закончил.
– Так ведь у Тимохи глухая башня была, княже, а моя проездная! Нешто это одно? – оправдывался Фрол.– К тому еще, тута непрестанно туды-сюды ездют, и то мне в работе великая помеха.
– Потому с тебя столько, как с иных, и не спрашивал. Однако поспешай. Дабы все завершить, сроку даю тебе месяц. Управишься – награжу, а нет – на себя пеняй!
– За месяц управлюсь, государь.
– Поглядим.
На угловой, юго-восточной башне великого князя уже ожидал брат Фрола, Федор Беклемиш. У этого все было в исправности, работа подходила в концу, а потому, долго тут не задерживаясь, Дмитрий двинулся дальше, по стене, идущей вдоль реки Москвы. Здесь она была особенно высока, а местами шла в два и три яруса.
Миновав две недавно начатые башни, великий князь остановился у третьей, почти законченной. Это была особая, так называемая Тайницкая башня, из которой предположено было провести подземный ход к реке, чтобы, в случае длительной осады, можно было по ночам пополнять запасы питьевой воды в городе. Но дело разрешилось проще: во время рытья под самой башней открылся родник чистой ключевой воды. Другой родник, еще более обильный, нашли под Собакинои башней, так что Москве теперь не угрожал недостаток воды, сколь долго ни затянулась бы осада.
Подземный ход все-таки сделали, но придали ему иное, чисто военное назначение, а чтобы о тайнике не было лишних разговоров, башню было велено впредь называть Шешковой, по имени ее строителя.
Поглядев на нее снаружи, Дмитрий велел своим спутникам
ожидать его под стеной, а сам опустился в подземелье. Здесь, при свете факелов, несколько рабочих, под наблюдением Шешкова, заканчивали крепление подземного хода. Пройдя его из конца в конец, князь обернулся к предстателю, сопровождавшему его со светильником в руке.
– Ну, спаси тебя Бог, Андрей! Ты добро потрудился, и я твоей работой всльми доволен.
– Робил как умел, княже. И рад, коли угодил тебе.
– Ты откуда родом?
Тутошний я, московский. Из села Кудрина.
– Из Кудрина? Погоди… Есть там вблизи деревенька Удомля, и рядом с ней пустошь.
– Знаю ее, государь. Добрая пустошь. Гридиной она прозывается.
– Жалую ту деревню и пустошь тобе, в вечное володение.
– Спаси тебя Христос на долгие годы, великий государь! – кланяясь в землю, ответил Шешков.– А я за тебя хоть сейчас живот положу!
– Живой ты мне лучше послужишь. Да вот еще чего: окромя тех осьмерих, что крест целовали, ведает ли еще кто-либо о сем тайнике?
– Опричь их да меня, не ведает ни одна душа, княже. Иных я сюды не пущал.
– То добро. Каждому из них, сверх положенного корму, пять рублев и по паре новых сапог. Да еще раз накажи им крепко, чтобы языками-то не трепали. Рыли, мол, родник, и только.
– Будь надежен, великий государь, нешто наш мужик свое крестоцелование порушит? Да и подобрал я для той работы людей верных и непьющих.
– Верю вам. Ну, завершай тут, с Богом!
Выйдя из подземелья, Дмитрий Иванович низом, вдоль внутренней стороны стены, направился к последней перед Боровицкими воротами, Свибловол башне, стоявшей на углу, при впадении Неглинки в Москву-реку. Но не успел он сделать и двадцати шагов, как со стороны дворца показался всадник, в котором князь сразу узнал своего окольничего, Ивана Гавриловича Кутузова.
– Дозволь сказать, великий государь,– промолвил он, осадив коня перед Дмитрием и легко соскакивая на землю.
– Сказывай,– ответил несколько встревоженный князь.
– К тебе из Орды посол от великого хана!
– От Мамаева хана?
– Нет, княже, от хана Азиза.
*Кормом называлось получаемое кем-либо содержание, жалованье,
*Окольничий – древний придворный чин. На его обязанности были встречи и представление князю иностранных послов, забота о их размещении, а также – распоряжение всем во время поездок князя.
– Ну, этот хоть тем велик, что сам себе хозяин. А кто таков посол-то?
– Муж еще молодой и обличьем на татарина не похож нимало. А по имени Карач-мурза.
– О таком не слыхивали. Должно, не вельмн важная птица.
– Не думай, княже: нукер перед ним туг о трех хвостах возит.
– Стало быть, ханского роду! Все одно, пусть пождет, покуда я его принять схочу. Наших послов в Орде тоже не вдруг принимают. А людей с ним много?
– Душ с пол ста, государь.
– Поставь их на Посольский двор. Посла чтить, как князя, по сану ему и корм отпускай, а людям его – как положено.
– Слушаю, княже.
– Да упреди владыку Алексея. Скажи ему, что хочу с ним ныне же совет держать.
Глава 5
В лето 6876 князь великий Дмнтрей Ивановичь Московский да Алексеи митрополит князя великого Михаил Александровичи Тферьского зазваша на Москву любовью, а в правде бысть ему суд на-третеи и поимаша его и бояр его всех, и разведоша их розно и быша в нятьи и в истоме. А князь Михаиле седе на Гавшином дворе, и потом не за долго время внезапу придиша из Орды посол татарский князь Карачь, н тогда помысливше и укрепив князя Михаилу крестным целованием, отпустиша его восвояси. Никоновская летопись
Митрополит Алексей – человек обширного ума и большой государственной мудрости,-узнав о прибытии ордьнского посла, советовал великому князю принять его немедля и без нужды не раздражать хана в такой момент, когда перед Москвою уже стояла неотвратимая угроза войны с Литвой. Но, Дмитрий, глубоко чтивший святителя и с детства привыкнувший следовать его советам, в этом вопросе проявил необычную неуступчивость.
– Пусть пождет татарин! – решительно сказал он. – Не хочу, чтобы все эти мурзы да ханы мыслили, будто они на Руси хозяева и что так уже их русский государь страшится!
*Туг – бунчук, обычно из хвостов тибетских яков,-знак высших начальников в Орде. Количество хвостов отвечало их происхождению и рангу. Три хвоста указывали на принадлежность к роду Чингиса.
– Подумай, чадо мое,– промолвил несколько задетый митрополит,– к месту ли будет ньше хану когти казать? Я в том пользы не вижу. К тому же не знаем мы, с чем посол-то прислан. И может, для нас же лучше будет, коли мы о той без промедления сведаем.
– С чем он прислан – отгадать немудрено: сам знаешь, отче, боле двух годов мы хану Азизу дани не посылали. Тем паче не надо бы ханского посла зря злить.
– А какая в том беда? Все одно больше положенного он не спросит, а что положено – хоть так, хоть эдак отдавать надобно. Да я его долго томить не ставу, а и умалять себя перед погаными тоже не хочу! Нешто ордынские ханы наших послов сразу принимают?
Владыка вздохнул, но спорить больше не стал. Он хорошо понимал, откуда все это у Дмитрия: будучи наставником юного князя, он сам воспитывал в нем с малых лет неустрашимого воина, учил не гнуть спины перед ханами, последовательно и настойчиво готовить его для решительной борьбы с Ордой. То, что он теперь слышал от Дмитрия, было следствием его собственных наставлении и в глубине души его даже радовало. И потому он только сказал:
– Ну, гляди сам… Ты государь, твоя, стало быть, и воля.
Прошло несколько дней. Ханский посол терпеливо ожидал приема и никаких признаков гнева или неудовольствия не обнаруживал. Его часто видели разъезжающим по Москве на великолепном арабском жеребце, в сопровождении двух или трех нукеров, почтительно державшихся немного позади. Он с любопытством поглядывал вокруг, иногда придерживал коня у иных боярских хором, изукрашенных особенно искусной резьбой, издали долго смотрел на дворец великого князя, увенчанный златоверхим теремом и являвшийся замечательным образцом деревянного зодчества. Но к новым укреплениям близко не подъезжал и, казалось, даже не глядел в их сторону, хотя ему, как послу великого хана, никаких препятствий в том не чинили.
Держался он с достоинством, по без надменности,– не так, как обычно держали себя на Руси ханские послы. В беседы ни с кем не вступал, лишь изредка перекидывался со своими спутниками короткими фразами по-татарски. Однажды зашел в лавку искуснейшего московского бронника Ивашки Чагая, выбрал наилучший тончайшей работы юшман, по-русски спросил – сколько стоит, и заплатил сполна, не торгуясь, хотя Ивашка и заломил с него цену вдвое большую против обычной.
* Бронник – мастер, изготовляющий защитные доспехи.
Вечерами, – говорили слуги Посольского двора,– иной раз сидел он подолгу у горящего светца и писал что-то в небольшую тетрадь, которую хранил в зеленой сафьяновой сумке, расшитой золотою битью.
Обо всем этом тотчас докладывали Дмитрию. Если бы татарин вел себя вызывающе и чем-либо проявлял свое нетерпение, молодой государь, в котором много еще оставалось неизжитого юношеского задору, вероятно, заставил бы его ожидать дольше. Но скромное поведение посла его обезоруживало, и вечером четвертого дня он, через окольничего Кутузова, объявил Карач-мурзе, что назавтра его примет.
Не сомневаясь в том, что посол приехал требовать уплаты дани, Дмитрий прикинул в уме – чем можно укрепить ханское терпение, а одновременно и ослабить опасность, всегда грозившую Москве со стороны Орды. Раньше, у его предшественников был для этого только один путь: выражение полной покорности и беспрекословное повиновение. Теперь же, когда Орду раздирали внутренние неурядицы и у хана не было прежней уверенности в несокрушимой силе своего оружия, – несравненно правильнее было показать ему свою растущую мощь.
«Силу мою его посол уже видел,– думал Дмитрий,– Небось втайне все глаза обмозолил о наши новые стены! Пусть теперь поглядит да расскажет своему хану, как русский государь живет и как ему служат». И он решил поразить Карач-мурзу внушительностью своего приема.
Чтобы посол не подумал, что ему устраивают особо торжественную встречу, никакого воинского наряда в тот день ко дворцу поставлено не было: лишь, как обычно, стояли у крыльца два парных стража в красных кафтанах и с копьями в руках, да два другие – с саблями наголо, у дверей Думной палаты, где был назначен прием.
Эта палата представляла собой просторный, почти квадратный зал, с четырьмя резными деревянными колоннами посредине и с рядом высоких стрельчатых окон, выходящих на площадь. Его стены, сверху донизу, были облицованы большими четырехугольными щитами из мореного дуба, изукрашенными по краям вычурной резьбой, а местами закрыты драгоценными тканями и узорчатыми бухарскими коврами, поверх которых было развешано всевозможное оружие. Выше человеческого роста, в середине каждого щита висело золотое или серебряное блюдо тонкой чеканной работы. Внизу, вдоль стен, тянулся ряд широких, покрытых коврами скамей, на которых разместилось человек сорок московских бояр, все в богатых, шитых золотом и жемчугом ферезеях, надетых поверх шелковых либо легких, заморского сукна кафтанов.
*Юшман – древнерусский защитный доспех, состоящий из стальных колец,– комбинация кольчуги с бартерном.
**Бить – расплющенная тонкая металлическая проволока.
Прямо против входа, под большим образом святого Георгия Победоносца, в усыпанном драгоценными камнями окладе,– на невысоком, крытом парчой помосте, стоял резной деревянный трон с полукруглой спинкой и подлокотниками выложенными золотом и слоновой костью. На троне сидел Дмитрий Иванович, великий князь Московский и всея Руси, в сверкающем самоцветами парадном облачении, в бармах и отороченной собольим мехом Мономаховой шапке; украшенной крупными голубыми бриллиантами и увенчанной золотым крестом.
Лицо Дмитрия, которому он тщетно силился придать величие и каменную неподвижность, было зло и нахмурено. В этом неудобном, тяжелом облачении ему было нестерпимо жарко, тело чесалось, пот выступал на лбу крупными каплями, противной щекочущей стрункой сбегал по спине, между лопаток.
Справа от него в деревянном кресле, очень похожей на трон, но без золотых украшений и без подножки,– сидел в черной шелковой рясе и в белом клобуке митре полит Алексей, а слева, в таком же кресле, Серпуховские князь Владимир Андреевич, в расшитом золотом белом атласном кафтане.
Позади этой группы, охватывая ее полумесяцем, неподвижно стояло двенадцать воинов-великанов, один к одному, как родные братья,– все в одинаковых стальных кольчугах с посеребренными зерцалами и в шлемах-шишаках, опоясанные тяжелыми богатырскими мечами. Сбоку, шагах в пяти от кресла митрополита, стоял, одетый в черное, молодой еще человек,– княжеский толмач Ачкасов.
*Ферезея – длинная парадная одежда древнерусской знати.
* 3ерцало – дополнительный доспех, надевавшийся поверх кольчуги и состоявший из крупных стальных пластин, – иногда вызолоченных или посеребренных, – круглой на груди и соединенных с нею боковых четырехугольных.
Оглядев в последний раз палату и находившихся в пей людей, Дмитрий отрывисто приказал:
– Ввести татарина!
Окольничий Кутузов, стоявший у входа, низко поклонился великому князю и тотчас вышел. Минуту спустя двери распахнулись на обе половинки, и в палату вошел ханский посол, в узорчатом восточном халате, подпоясанном шелковым кушаком, в зеленых сафьяновых сапогах, с загнутыми кверху носками, и в круглой, приплюснутой сверху меховой шапке. На боку его висела татарская сабля в черных, с золотом, ножнах.
Взглянув на него, Дмитрий едва сумел скрыть свое изумление: легким, уверенным шагом,– так непохожим на расхлябанную походку природных наездников-татар,– к нему приближался высокий и стройный мужчина, лет двадцати пяти. В его красивом, правильном лице, с бритым подбородком и небольшими темными усами, не было ничего татарского. И вдобавок, с этого лица, из-под черных, тонко очерченных бровей, смело и открыто глядели на князя большие глаза, синие и ясные, как у девушки. Если бы Дмитрий доподлинно не знал – кто это, он готов был бы поклясться, что видит перед собою своего соотечественника.
Посол между тем, остановившись шагах в пяти от трона, снял шапку, приложив руку ко лбу и сердцу, низко поклонился митрополиту Алексею, а уж после этого, и далеко не столь низко,– великому князю. Потом снова надел шапку и вскинул глаза на Дмитрия. Поза его не выражала ни особой почтительности, ни высокомерия: он стоял как равный перед равным.
Увидев, что Карач-мурза стоит перед ним в шапке, Дмитрий Иванович нахмурился, но сейчас же овладел собой: посол имел на это полное право, ибо представлял здесь особу великого хана, свою зависимость от которого он, великий князь Московский, пока еще вынужден был признавать.
«Иные ханские посланцы держат себя перед русскими князьями и вовсе без уважения,– успокаивая себя, подумал Дмитрий.– Бывает, кричат и ножищами топают… Этот, видать, не таков. Может, и шапку бы передо мною скинул, не заставь я его прождать четыре дня. Шуму не поднял, а вот теперь со мною квитается… Потому и владыке сперва поклонился, а уж после мне».
– Спроси его, с чем прислан? – помолчав, обратился Дмитрий к толмачу. Тот выступил вперед и повторил его вопрос по-татарски.
– Толмача не надобно, князь, – с еле уловимым восточным выговором, но правильно сказал по-русски посол, – я добро знаю по-вашему.
– Али ты уже бывал на Руси? – с удивлением спросил Дмитрий.
– На Русь я приехал впервой. Но я знаю языки смежных с Ордою народов, и русский тож.
– И видать, знаешь не хуже нас. Да ты не русский ли, часом?
– Нет, князь, я татарин и родился в Орде,– ответил посол. В этих спокойно произнесенных словах что-то неуловимое для других коснулось, однако, чуткого уха митрополита и заставило его особо насторожиться. Он уже и раньше не отводил от лица Карач-мурзы пытливого, изучающего взгляда.
– Ладно, сказывай, с чем тебя прислал великий хан, промолвил Дмитрий Иванович.– Есть ли от него какая грамота?
– Грамоты нет, князь. Но чтобы ты знал, что я буду говорить от имени великого хана, он дал мне вот эту пайцзу.
С этими словами Карач-мурза вынул из-за кушака и пока зал Дмитрию овальную золотую пластинку, с вырезанной на ней головой тигра и надписью по-татарски: «Силою всевышнего Аллаха, да будет благословенно имя великого хана Азиза-ходжи и да умрут ослушники его воли. Сему повинуйтесь».
– Добро, сказывай!
Великий хан Азиз-ходжа, да пребудет с ним навечно милость Аллаха, повелел мне спросить: здоров ли сын его Дмитрий, великий князь Владимирский и Московский?
– Скажи великому хану, что я здоров. А здоров ли отец мой, великий хан Азиз-ходжа? – с трудом выдавил из себя Дмитрий.
*IIайцза – золотая, серебряная или бронзовая пластинка, слуившая пропуском или знаком особых полномочий. Золотая выдавалась лишь высшим представителям власти, облеченным полным доверием великого хана.
В официальных сношениях великий хан именовал подчиненных ему русских князей своими сынами, а они его – отцом. В то время, хотя Московские князья уже и называли себя великими князьями всея Руси, титул этот еще не имел официального признании. Старшим из русских князей считался тот, кто получал ярлык на княжение во Владимире, из-за которого, таким образом, и велись бесконечные распри.
– Благодарение Аллаху, великий хан здоров. И он ожидает от тебя покорности и дани, которую ты не присылал уже два года.
– Дань давно собрана. Скажи великому хану, что я не посылал ее доселе лишь потому, что на Волге разбойничали ушкуйники, а после них – мятежная орда хана Булат-Темира. И я не хотел, чтобы достояние великого хана попало к ним в руки.
– Скажу, князь. Но ушкуйников ты давно прогнал, а мятежник Булат-Темир, но повелению Великого хана Азиза-ходжи, посажен на кол. И путь из Москвы в Сарай-Берке теперь чист.
– Доведи великому хану: не минет и месяца, как дань ему будет послана. Может, не вся сразу, но за год пошлю. – решилпоторговаться Дмитрий Иванович. К его удивлению, Карач-мурза не стал спорить.
– Доведу, князь,– сказал он. – Но это не все: великому хану, да ниспошлет ему Аллах долгую жизнь, стало ведомо, что ты обманом и силою захватил Тверского князя Михаилу, приехавшего в Москву как гость, и держишь его в плену. Великий хан тебе повелевает: отпустить немедля Тверского князя и всех людей его на волю и ни в чем им обиды не чинить.
– А что до того великому хану? – воскликнул Дмитрий, не сразу обретая дар речи.– Это наше, русское дело. И ежели я острастку даю ворам, оберегая землю свою от смуты и крови, – в том не токмо право мое, но и долг: на то я великий князь над Русью!
– Ты в своей земле князь, а Михаила Тверской в своей. Перед великим ханом вы оба равны. И я тебе передаю повеление его, которое ты слышал.
– А коли я того повеления не исполню?
– Коли не исполнишь, жди для себя беды: великий хан разорит твою землю, ослобонит Тверского князя силою и передаст ему ярлык на великое княжение во Владимире. А ты встанешь перед судом великого хана.
– Ну, это мы еще поглядим,– запальчиво начал Дмитрий , но митрополит Алексей быстро перебил его:
– Погоди, княже, дозволь мне сказать послу, и, не ожидая ответа, он обратился к невозмутимо стоявшему Карач-мурзе: – Князь Михаила тверским столом завладел незаконно, сложившись с набольшим ворогом, как Руси, так и Орды,– Ольгердом Литовским. А ныне замышляет он против целой Руси, о чем великий хан, должно быть, не ведает. Мы ему все подробно отпишем, а уж тогда пусть он нас и рассудит.
*Слово вор тогда означало «изменник», «узурпатор». Вор же в нынешнем значении этого слова назывался – тать.
– Великому хану вы можете отписать, и он вас рассудит по справедливости. Но допрежь того вы должны отпустить Тверского князя, как повелевает великий хан.
– Нешто на то нам срок положен?
– Великий хан сказал: я должен оставаться в Москве неделю. Четыре дня уже минуло. Еще через три я и доложу великому хану, исполнена ли его священная воля.
– Ну, ежели так, говорить не о чем,– помолчав, промолвил митрополит.– Мы о том ныне же станем совет держать и завтра либо послезавтра скажем тебе, на чем порешили. Ты же, посол, будь ласков, навести меня сегодня ввечеру в Чудовой обители,– тут тебе всякий укажет. Сам, должно быть, ведаешь, в Орде я бывал не единожды, немало имею там друзей, и мне бы хотелось кой о чем расспросить тебя без помехи.
– Хорошо, аксакал, я приду, – ответил несколько удивленный Карач-мурза.
*Аксакал – дословно «белая борода», почтительное обращение к особо уважаемым старикам.
Глава 6
Митрополиту Алексею в ту пору было за семьдесят, но внешность его могла послужить образцом величавой старческой красоты. Он был высок ростом, довольно худдержался прямо; белая как снег борода, может быть, немного слишком холеная для его сана, придавала его тонкому одухотворенному лицу особую, патриаршую благостность. Он, пожалуй, казался бы несколько «неземным», если бы не большие серые глаза, глядевшие остро и молодо. В спокойном, сосредоточенном взгляде не было безразлично к окружающему отрешенности подвижника, а чувствовалась твердая воля и глубокий ум.
Родившись в богатой и просвещенной семье черниговского боярина Федора Бяконта, перешедшего на службу в Москву,– Алексей (в миру Элевферий) с детства получил незаурядное по своему времени образование, которое усердно пополнял в течение всей дальнейшей жизни. Его обширные знания, в соединение с сильной волей и ясным пониманием стоявших перед Москвой исторических задач, помогли ему не только поднять авторитет русского архипастыря на небывалую дотоле высоту, но и стать в трудные для Руси годы мудрым и твердым руководителем ее внешней и внутренней политики.
Святителя глубоко почитали не только на Руси, но ив татарской Орде. Но почитали несколько по-разному: русский народ чтил его за чистоту личной жизни и за те неоценимые услуги, которые оказывал он родной земле; татары же считали его колдуном необыкновенной силы и испытывали перед ним почтительно-суеверный страх. Слухи о творимых им чудесах ходили по всей Орде, преувеличивая действительность в десятки и сотни раз.
Русские церковно-летописные источники тоже связывают с именем святого Алексея много чудесных случаев. В чудеса можно верить или не верить, точнее,– в зависимости от склада ума,– можно объяснять их вмешательством божественной силы или естественными причинами. Но самих фактов зачастую отрицать невозможно, ибо их достоверность не подлежит ни малейшему сомнению. И к этому именно разряду фактов относится следующий случай, отмеченный как в русских, так и в восточных летописях и подтверждаемый целым рядом побочных обстоятельств.
В середине пятидесятых годов четырнадцатого столетия тяжело заболела хатунь Тайдула, любимая жена золотоордынского хана Джанибека. Судя по тому, что летописи говорят, что в нее «вселился бес», вероятно, тут был случай эпилепсии. К ханше привозили прославленных врачей, пробовали лечить ее всеми известными тогда способами, но ничто не помогало. Вскоре она к тому же ослепла. Тогда кто-то надоумил Джанибека обратиться к митрополиту Алексею, уже получившему известность целителя. В своем письме к княжившему в Москве Ивану Кроткому великий хан писал: «Слышали мы, что есть у вас на Руси некий поп, именем Аликсай, которому Бог все дает по молитве его. Пришли к нам борзо сего служителя Божия, дабы исцелил он здравие моей любимой супруги».
Положение митрополита было нелегким: в случае неудачи он рисковал очень многим, может быть, даже головой. Летописи говорят, что, получив это приглашение, он долго молился в Богородицкой церкви и что Бог послал ему ободряющее знамение: на алтаре сама собой загорелась стоявшая там свеча. Алексей отправился в Орду, с молитвою окропил ханшу святой водой, и Тайдула прозрела. Припадки ее тоже после этого прекратились.
Случай этот произвел на татар огромное впечатление, а хан Джанибек «дароваша митрополиту многия милости и с честью великою отпустите его на Русь».
Достоверность этого случая подтверждается тем историческим несомненным фактом, что в числе «многия милости» Джанибек, за это исцеление, подарил митрополиту Алексею принадлежавшее Орде ханское посольское подворье, находившееся в самом центре Московского Кремля,– где митрополит, в память этого события, выстроил монастырь, названный Чудовым. Ханы больше привыкли получать подарки чем их делать, и потому нет сомнения, что только событие совершенно исключительное могло побудить Джанибека на такую щедрость.
Известно также, что Тайдула после этого не только оказывала православной Церкви и самому митрополиту Алексею неизменное покровительство, но и совершила шаг, которому в ином случае едва ли нашлось бы объяснение. Она выпросила себе у хана, в качестве личного удела, русский город Тулу и поселилась там, окруженная православным духовенством. До конца жизни она пользовалась нормальным здоровье; а погибла от руки убийцы, при одном из дворцовых переворотов в Сарае.
Из уст в уста передавался среди татар и другой случай: будто бы, выезжая из Орды, митрополит Алексей увидел как какой-то татарин избивает русского раба. Остановив его возок, святитель пытался образумить истязателя, но последний ответил лишь грубой бранью и поднял руку, чтобы снова ударить свою жертву. Поднял, но опустить не мог: она как бы окаменела в этом положении. Митрополит, не сказав больше ни слова, велел погонять лошадей, и вскоре возок скрылся из виду. Тщетно пытался татарин опустить
Не помогли ему ни молитвы муллы, ни усилия знахарей. Рука его обрела подвижность только после того как он догадался отпустить на волю своего русского раба. Рассказывали и другие подобные истории. Пылкое воображение азиатов, падких на все таинственное и сверхъестественное, за долгими разговорами в чайханах и на стойбищах, у ночных костров, измышляло и пускало в обращение все новые и новые чудесные случаи из жизни русского «аксакала Али-касая», постепенно облекая его имя в легенду.
*До нас дошли три ярлыка, за собственной подписью Тайдулы, выданные митрополиту Алексею.
Спустя несколько лет после исцеления Тайдулы в Орде произошли крупные события, и митрополиту Алексею снова пришлось отправиться в Сарай, чтобы получить у нового хана ярлык, подтверждающий права и привилегии православной Церкви.
Молодой хан Бердибек захватил престол путем открытого насилия, и с его легкой руки этот способ воцарения становится в Золотой Орде не только обычным, но и почти не знающим исключений. Однако, в целях восстановления истины, следует заметить, что русские летописцы приписывают ему предумышленное отцеубийство едва ли основательно. Персидский историк Муин ад-Дин Натанзи, несомненно, лучше осведомленный, освещает это событие иначе. По его утверждениям виновником и душою переворота был темник Товлубей, хотя убийство хана Джанибека первоначально не входило в его намерения. Произошло следующее после победной войны с Хулагидами, завоевав у них Азербайджан Джанибек оставил там наместником своего старшего сына Бердибека, а сам отправился назад, в Сарай, но по дороге, где-то около Дербента, тяжело заболел, и приближенные с часу на час ожидали его смерти. Конечно, каждый из его пятнадцати сыновей надеялся захватить престол после смерти отца, и был в той или иной степени подготовлен к соответствующим действиям. Эмир Товлубей, находившийся в ханской ставке, без сомнения, хорошо понимал, что он станет в государстве первым человеком, если новый хан будет обязан ему своим троном. И потому он немедленно вызвал из Азербайджана Бердибека, сообщив ему о безнадежном положении отца.
Однако к тому времени, когда Бердибек, во главе крупного отряда своих нукеров, прискакал в ханскую ставку, Джанибек почти выздоровел и пришел в бешенство, узнав о появлении здесь своего наследника с войском. Тогда, опасаясь жестокой расправы, Товлубей, которому уже нечего было терять, пошел на крайность: ворвавшись в ханский шатер, с несколькими преданными ему людьми, он прикончил хана | тут же начал приводить эмиров к присяге Бердибеку. После этого, но распоряжению того же Товлубея, но, вероятно, уже с ведома Бердибека, в различных городах Орды были убиты его двенадцать братьев.
*Xулагиды – династия, идущая от Хулагу, внука Чингисхана, от его младшего сына Тулая. Она владела государством, которое включало Персию, Багдадскнн халифат, Армению, Грузию и Азербайджан.
В отношении Руси Бердибек придерживался политики своего отца, то есть правил без излишней жестокости. Но он был вольнодумцем и в чудеса «русского попа» не верил, а случай с исцелением Тайдулы приписывал простой случайности. Желая посмеяться над Алексеем и развенчать его в глазах своих подчиненных, он, как гласит предание, пригласил его на обед и приказал слугам подать ему на блюде печеную лошадиную голову. Митрополит поблагодарил хана, за тем перекрестил блюдо, и все с изумлением увидели, что на нем лежит жареная щука, которую святитель спокойно принялся есть. На Бердибека это произвело, будто бы, такое впечатление, что он не только дал Алексею просимый ярлык, но еще и даровал новые милости православной Церкви.
Глава 7
Церковные земли все: и леса и воды, огороды, виноградья и сады, мельницы, зимовища и летовища, – да не зимают оных ни в чем наши баскаки, ни сановные, ни служилые люди, а что буде взято, да отдадут немедля и беспосульно.
А церковные люди все: мастеры сокольники, пахари, холопы и слуги и работницы и все, кто будет из церковных людей,– никого да не заимают ни во что, ни в работу, ни в сторожу. А попове и чернецы на дани, ни поплужницы, ни таможницы, ни иного чего не дают, а кто с них возьмет,– баскаци наши, княжьи писцы либо иной кто,смертию да умрет.
А что в законе их – иконы, книги либо иное что, да не емлют того, не издерут и не погубят. А кто будет веру их хулити, тот человек обвинен будет и умрет.
Из ярлыка хана Менгу-Тимура, 1259 2.
Здесь будет уместно сказать несколько слов об этих, доныне сохранившихся «тарханных» ярлыках, выданных различными ханами Золотой Орды русским митрополитам, ибо они полностью опровергают весьма распространенное, но совершенно ошибочное мнение о том, что православная Церковь терпела от татар жестокие притеснения.
В империи Чингисидов полнейшая веротерпимость и покровительственное отношение верховной власти ко всей вероучениям были предопределены еще самим Чингисханом.
*Тархан – свободный, неприкосновенный. Таких ярлыков сохранилось семь: ханов Менгу-Тимура. Узбека, Бердибека, Атюляка и три подписанные ханшей Тайдулой.
Будучи гениальным организатором, он хорошо понимал, что, не оскорбляя религиозных чувств покоренных народов и не восстанавливая против себя их духовенства,– будет несравненно легче удерживать в повиновении созданную им сверх империю, охватывавшую более половины всей известной тогда земной поверхности. И потому, еще в самом начале своих завоеваний, он, для всех покоренных им стран, провозгласил полную свободу отправления любого религиозного культа, а также неприкосновенность церковного имущества и личности священнослужителей. В силу этой, так называемой тарханной грамоты – любой храмовый прислужник или монастырский раб находился в большей безопасности, чем сам монарх завоеванной Чингисом страны.
Этот обычай веротерпимости неуклонно соблюдал и внук его Бату-хан, создатель Золотой Орды. Сам он, по словам персидского историка Джувейни, «не придерживался ни одной из религий или сект и не питал никакой склонности к познанию Бога». Очевидно, он считал, что ему, «джехангиру», не подобает склонять голову перед богами побежденных им народов.
Кстати, интересно привести ту характеристику, которую дает ему названный историк: «Бату был мудрым и справедливым государем. Особенно он покровительствовал городу в торговле. Со всех сторон купцы привозили к нему в ставку свои товары. Что бы это ни было,– он брал все и за каждую вещь платил щедро. Никто из тех, кто приходил к нему для службы и для торговли, не возвращался без выгоды для себя».
Почти то же самое пишет о нем армянский автор Киракос Гандзакеци в своей «Истории монголов». Он добавляет: «К Бату-хану постоянно приезжали цари, князья, купцы и все несправедливо обиженные, лишенные отчизны и имущества. Он по справедливости разбирал их дела и возвращал им княжества и владения. Он щедро раздавал ярлыки и льготные грамоты, и никто не дерзал ослушаться его воли».
Чтобы облегчить возможность беспристрастного суждения о хане Батые, сыгравшем столь крупную роль в истории Руси,– приведем еще отзыв о нем афганца Ал-Джурджани: «Бату был человек весьма справедливый. В продолжение его царствования подвластным ему странам ислама не приключилось ни одной беды, ни по его собственной воле, ни от его подчиненных, ни от войска. Купцы наши и все другие под его защитой пользовались чрезвычайной безопасностью и получали большие выгоды».
*Бату– хана наши легопмся неправильно называют Батыем.
**Джехангир – значит «покоритель мира», это был титул Бату.
**Ала ад– Дин Джувейни. История завоеватели мира. 1260 г.
Как видим, мнения всех этих историков – современников Батыя – вполне единодушны. Все трое принадлежали к различным, покоренным татарами народностям, и потому едва ли их можно заподозрить в искажении истины в пользу своих поработителей. Католический прелат Плако Карпинн, посетивший, по поручению папы, ставку Батыя, тоже отзывается о нем с уважением. Свидетельства всех этих авторов показывают, что для правильной оценки личности Батыя нельзя основываться только на русских летописях. Причины расхождения вполне понятны: Русь особенно жестоко пострадала от татарского нашествия; она оказала завоевателям исключительно упорное и долгое сопротивление, а потому победители, озлобленные огромными потерями, были здесь поначалу беспощадны и обложили Русь особенно тяжкой данью. К тому же свободолюбивый русский народ не мог так легко примириться с потерей своей независимости, как мирились с нею азиатские народы, издавна привыкнувшие ко всевозможным завоевателям. И потому естественно, что наши летописцы относились к татарам со жгучей ненавистью И не находили ни для кого из них доброго слова.
Конечно, образцом добродетели Бату-хан отнюдь не был. Но в управлении своим огромным, разноплеменным государством он проявлял много ума и дальновидности и показал себя блестящим организатором. Когда ему это казалось нужным, – он бывал неумолимо жесток, но широко применял также методы поощрения, был справедлив, щедр, умел проявлять великодушие и по-своему был благороден.
Поелику к делам веры он был совершенно равнодушен, все религии, и в том числе православие, в пределах его империи пользовались полнейшей свободой. Пожалуй даже, к православию он относился с большей симпатией, чем к другим вероучениям. Это можно заключить хотя бы из того, что старшему своему сыну Сартаку и его жене он позволил принять православие, может быть сознательно предопределял этим дальнейший путь Орды, от которого ее отклонил лишь случай: ранняя смерть Сартака.
*Ал – Джурджани. Сочинение «Табакат-и-наспри», 1259 г.
** Джиованни дель Плано Карпини в своей книге «Libellus Historicus» пишет: «Бату, император татар, живет с полным великолепием. Он очень милостив к своим людям, но все же внушает им сильный страх. В бою он весьма жесток. Он очень умен, проницателен в весьма искусен в войне, так как сражается уже долгое время».
Так или иначе, но при Бату-хане никаких особых ярлыков, ограждающих права русской Церкви, не требовалось. Положение стало более тревожным после того, как на золотоордынский престол вступил Берке-хан, младший брат Батыя, принявший магометанство. Под его влиянием Орда начала быстро исламизироваться. Можно было ожидать, что в связи с этим изменится отношение татар к православной Церкви и что ханские баскаки на Руси перестанут соблюдать тарханную грамоту Чингисхана. Отдельные ее нарушения, очевидно, уже имели место, и это заставило митрополита Кирилла в 1269 году обратиться к хану Менгу-Тимуру с просьбой подтвердить особым ярлыком неприкосновенность православной веры и русского духовенства.
Менгу– Тимур, царствовавший после Берке-хана, выдал просимый ярлык, начинавшийся, между прочим, весьма любопытным для исследователя вступлением: «Силою великого Аллаха и волею всевышней Троицы…» Подобную фразу в устах великого хана можно объяснить только тем, что в ту переходную эпоху, -когда старое татарское язычество в Орде уступало место новым, более возвышенным формам религиозного культа, – в ханской ставке почти в одинаковой степени сказывалось влияние ислама и православия, а сам хан, в совести своей, пытался если не соединить, то как-то примирить оба эти религиозные начала.
Ярлык Менгу-Тимура не только подтверждает, но и значительно расширяет привилегии русской Церкви, определенные грамотой Чингисхана. Под страхом смертной казни запрещается кому бы то ни было проявлять неуважение к православной вере и оскорблять ее священнослужителей; такое же наказание определяется за кражу или порчу богослужебных книг, икон и церковной утвари; как черное, так и белое духовенство, вместе со всеми церковными и монастырскими людьми и угодьями, освобождается от всех видов Дани, податей и повинностей, а также подтверждается полная неприкосновенность всех церковных владений.
Подобные ярлыки в дальнейшем выдавались и другими ханами. Невзирая на то, что в Орде все крепче утверждался ислам,– в каждом последующем ярлыке не урезывались а, наоборот, расширялись привилегии православия. Так, в ярлыке великого хана Узбека, выданном в 1313 году митрополиту Петру, после подтверждения всего установленного Менгу-Тимуром, имеется следующее добавление: «И есть за митрополитом право судити и в правде правити все люди своя, в чем ни есть: в разбое, в поличном и в татьбе, и во всех иных делах,– ведает сам митрополит един, или кому он укажет».
*Баскаки – высшие ханские уполномоченные в покоренных странах, нечто вроде наместников. По положению они считались выше князей и военачальников. Иногда их называли также даругами.
Иными словами, митрополиту предоставляется право суда над всеми подведомственными Церкви людьми, причем в делах, не только касающихся религии, но также в уголовных, и гражданских.
Бердибеков и следующие ярлыки дают русскому духовенству еще некоторые дополнительные льготы, главным образом в смысле свободы передвижения по землям Орды и ограждениям от придирок и поборов ханских чиновников.
Если добавить к этому, что в самой Золотой Орде существовала русская епархия, во главе с епископом ( этот епископ официально именовался епископом Саранским и Подольским.) , что во всех крупных татарских городах имелись православные храмы, а в Сарае-Берке их было пять,– станет совершенно очевидным, что Церковь наша не только ни в чем не терпела обиды от татарской власти, но, наоборот: в лице золотоордынских ханов имела решительных защитников и покровителей, предоставлявших ей такие права и привилегии, которых далеко не всегда удавалось ей добиться от своих собственных, русских князей.
Глава 8
Обычные представления об отсталости древнерусской культур неверны. До завоевания Руси татаро-монголами ни о какой отсталости говорить не приходится. Напротив, Русь этого времени, самым тесным образом связанная с самой передовой страной тогдашней Европы – Византией, опережала своим развитием многие из европейских страны. Она обладала высоко развитой письменностью, литературой, зодчеством, живописью; в ней процветали ремесла и торговли. Она была грозным государством с обширными международными связям и гордым патриотическим самосознанием.
Академик Д. С. Лихачев(Культура русского народа X – XVII вв.)
Владыка Алексей чуждался роскоши и был далек от стремления к тем пышности и блеску, которыми любили окружать себя западноевропейские иерархи его ранга. Но не было в нем и показного аскетизма. В соответствии с этим его покои в Чудовом монастыре были обставлены скромно, но удобно и даже уютно. Здесь не было ничего, что служило бы тщеславию или праздности, но зато было все, что необходимо для повседневного обихода, труда и отдыха человека, стремящегося не к бессмысленному и никому ненужному умерщвлению плоти, а к тому, чтобы как можно лучше и дольше послужить родной земле, православной Церкви и своему народу.
Были поздние сумерки. В рабочей келье митрополита пахло сосновой смолой я воском, где-то в углу неназойливо, но без опаски распевал сверчок. У божницы теплилась лампада,– на вид беспомощный огонек ее стойко боролся со сгущающимся мраком, не давая ему затмить священные лики. Алексей давно отложил перо и теперь неподвижно сидел, откинувшись в кресле, у широкого, заваленного рукописями стола. В этот переходный час,– когда день уже отошел, но еще не зажигали свечей,– он любил посидеть спокойно, в раздумьях, и дать отдых устающим глазам. Последние месяцы он напряженно работал над своей «Книгой поучений», которую задумал написать как руководство для низших церковных иерархов, в большинстве своем пребывавших тогда в недопустимой для священнослужителя косности.
«Помыслить тяжко,– думал святитель,– сколь далеко откинуло нас басурманское иго назад, во тьму невежества, и сколь мало ныне осталось на Руси пищи для душеполезного чтения! А ведь до нашествия поганых и в грамоте и в книгочействе, да в искусных умениях были мы впереди почти всех иных народов.
Почитай, с полтыщи городов и городков стояло тогда на Руси, и не зря же урмане да свей издревле называли нашу землю Гардарией: то им было в великую диковину, поелику своих городов не имели они в ту пору и трех десятков. Когда шли на нас татары, монастырей на Руси было два ста с половиною, а церквей и не счесть!
*Из трудов св. Алексея до нас дошли: «Прибавления к творениям святых отцов», «Книга поучений», «Душеполезные чтения», замечательный своей точностью перевод с греческого Евангелия и некоторые иные переводы и грамоты.
**Франкский ученый нонах Теофил, живший в XII в., в своем сочинении «Divrsarum artium shedula» (трактат и развития различных отраслей искусства и ремесла) в области культуры ставит Русь на второе место непосредственно после наиболее передовой тогда Византии и выше всех других европейских стран.
***Урманами назывались тогда норвежцы, свеями – шведы.
****Древние скандинавы называли Русь «Гардарик», что значит «Страна городов».
В одном Киеве стояло их мало не шесть сот, да в Великом Новгороде два ста, либо близко того… Ежели для всех прочих городов исчислить на круг по четыре церкви,– вот еще две тыщи. Да в книгах митрополичьих сыскал я без малого шесть тысяч сел, такоже имевших по одному храму. Не менее двух тысяч было, сверх того, княжеских да боярских домовых церквей – крестовых палат. Стало быть, вкупе набиралось у нас свыше одиннадцати тысяч православных храмов, рассадников грамоты.
Одним лишь тем храмам, для обихода своего и совершения положенных треб, надобно было иметь более ста тысяч богослужебных книг. И в каждом монастыре, а такоже при многих городских церквах, были свои книжные списатели, кои трудились над переводами и размножением своих и из иных земель привезенных книг. Радели они не токмо о духовном, но такоже и о мирском, поучительном и разум возвышающем чтении. Всякий книголюб,– а было их на Руси немало,– знал, где и что заказать возможно. И писец, за месяц либо за два, списывал ему с великим тщанием и красою любую книгу, взымая за труд свой не более гривны серебром, а чаще – гривну либо две гривны кунами.
Были обширные книгохранилища при многих церквах; и в монастырях, к примеру, в Киево-Печерском, в Авраамиевом Смоленском, при святой Софии в Новгороде, при Успенской соборной церкви во Владимире… При всяком епископском подворье беспременно имелось училище для рукополагаемых попов, а при всяком приходе – какая ни есть школа для поповых детей и других отроков и отроковиц, к грамоте склонных. И грамотный человек не был тогда на Руси в редкость. В городах, почитай, каждый осьмой либо девятый знал читать, а не менее половины таких и писать умели.
*При этом способе подсчета результат получается скорее заниженный. Применяется и иной, исходящий из того, что древнерусский приход в среднем не мог включать более пятисот человек, а население Руси к началу XIII в. определяется приблизительно в 7 миллионов душ. В этом случае мы получаем цифру в 14 000 храмов.
** Описателями назывались переписчики книг.
***Гривна – основная денежная единица Древней Руси. Существовало три типа гривны: золотая, серебряная и кунная. Серебряная представляла собой пластинку, содержащую около 200 граммов чистого серебра; золотая ценилась в 6,5 раза дороже, а гривна кун – в 4 раза дешевле серебряной. Гривна кун делилась на более мелкие монеты: вначале на 20 ногат, а позже – на 50 кун, или резан. Значительно позже появился рубль – это серебряная гривна, разрубленная пополам.
Немало было и вельми ученых мужей, знавших разные премудрости и глаголивших на многих языцех. И, вестимо, имели они знатные вифлиотеки. Особливо князья наши… Почин тому, надо быть, положил великий князь Ярослав Володимерович, не зря прозванный Мудрым: книг имел он в своих хоромах великое множество и, сказывают, денно и нощно предавался чтению. Такоже и сын его Святослав Черниговский,– у этого не токмо хоромы, а и клети были книгами полны. Да и Всеволод Ярославич был зело учен и легко изъяснялся на пяти языцех, окромя своего родного,– а из земли своей он николи не выезжал! В Киеве воздвиг он училище для благорожденных девиц, где обучали их грамоте и всяким наукам… Михаиле Юрьевич, Мономахов внук, с греками, с латынянами и с немцами беседовал на их языках и книг имел пропасть… Не менее того имели их Галицкий князь Ярослав Осмомысл и Святополк Черниговский, оба славные своей ученостью… Смоленский князь Роман Ростиславич да Волынский – Володимир Василькович в своих городах открыли многие училища и держали на своем корму немало грецких и латинских учителей. Роман Ростиславич столь много о просвещении народа своего пекся, что всю свою казну извел на школы да на книги и умер в столь крайней бедности, что смоляне, дабы прилично похоронить его, должны были собрать складчину… Великий князь Костянтин Всеволодович во Владимире и в Ростове Великом воздвиг училища, и многие отроки обучались там всяким наукам от грецких, латинских и своих, русских ученых мужей. И одних только грецких книг тем училищам подарил князь более тыщи… Великим книголюбцем был такоже князь Гавриил Мстиславич в Новгороде,– не зря его Церковь наша к сонму святых причислила. Много порадел он о просвещении Пскова и Новгорода, где по примеру мудрого предка своего Ярослава Володимеровича повелел всех охочих до знания отроков и отроковиц обучать грамоте.
Да нешто только среди князей наших бывали столь просвещенные мужи? – продолжал свои неторопливые думы святитель, как драгоценные четки перебирая в памяти славные имена русской древности.– А боярин Ян Вышата? А отцов Церкви сколько! Почитай, каждый монастырь был в те поры очагом мудрости… Новгородский епископ Иоаким, первый летописец земли Русской, учредил в Великом Новгороде школу еще в шесть тысяч пятьсот тридцать осьмом году,– должно, первая была на Руси. ( 1030 г. христианской эры) Обладателями великих знаний и изрядных книжных сокровищ были такоже епископ Туровский Кирилл, митрополит Климентий Смолятич ( Изучал Гомера, Платона, Аристотеля и др., был их знатоком.), инок Григорий Печерский, Моисей Угрин, Никон Черноризец, Исаакий Затворник… да разве всех перечислишь? Борзо и охотою шел народ наш к свету и знанию, и все сгубила проклятая Батыева орда! Все те сотни городов были порушены во прах, почти все те богатства книжные сгибли в пламени пожаров. И вновь одичал русский народ. Грамотный человек на Руси теперь в редкость, сколько и попов есть вовсе темных! Книг не осталось от прежнего и сотой доли. Да и кто бы о них помышлять стал, покуда хоть чуток ран своих Русь не залечила? Вот, только лишь сто годе спустя, Иван Данилыч Калита о них впервой вспомнил. Не тем будь помянут, – бессовестный был человек и скаред великий, но на книги денег не жалел, и немало их было Москве размножено за годы его княжения. И за это простит ему Господь многие из его прегрешений…»
Старик келарь, вошедший с серебряным свечником в котором горели три толстых восковых свечи, нарушил размышления митрополита и вернул его мысли к действительности. Он потер лоб сухой старческой рукой и спросил:
– Что, не приходил еще ханский посол?
– Покуда не был, владыко, – ответил монах, ставив свечник на стол. – Должно, не придет уже, вишь, ночь на дворе.
– Придет беспременно.
– Тогда веди его прямо сюда.
– Приведу, владыко. Чем еще велишь послужить тебе
– Ничего не надобно, отче. Ступай покуда с Богом.
Инок бесшумно вышел, а митрополит снова погрузился в раздумье. Но теперь мысли его приняли иное направление:
«А может, и впрямь не придет посол? Хотя такой слова своего не порушит, видать по обличью… Удивлена! оно достойно, его обличье: николи не встречал такого татарина… Да точно ли он татарин? Что-то мне с первого мига, как его увидел, гребтится иное… будто знаем он мне. Но отколь?… Кажись, вот-вот ухвачу, постигну, ан нет, уплывает… Господи, освети разум, укрепи память мою!…» Старец закрыл глаза и, откинув голову на спинку кресла, замер неподвижно, весь унесясь в минувшее. Так прошло несколько минут. Вдруг лицо его посветлело, в открывшихся глазах блеснула радость. Он вспомнил!
* Все перечисленные в этом размышлении митрополита имена, факт и цифры почерпнуты из летописей и иных документов древности. См. хотя бы Сапунов Б. О древнерусской книжности.
Это было тринадцать лет тому назад, когда он, Алексей, впервые посетил Орду и Господь послал ему силу исцелить ослепшую ханшу Тайдулу. В те дни в Сарае о том только и говорили. У православного епископского подворья, где остановился митрополит, день и ночь стояла толпа всякого убогого люда, чаявшего хоть коснуться одежд русского чудотворца либо поднять горсть пыли с того места, куда ступила его нога.
И вот, поздно вечером, когда уже совсем смерклось, растолкав убогих, вошел в ворота человек,– по одежде знатный татарин,– и потребовал допустить его к святителю. Думая, что это посланный от великого хана либо от Тайдулы, коего ожидал владыка,– слуги его тотчас впустили.
Примечательный то был человек,– такого, увидевши раз, не забудешь: росту огромного, в плечах косая сажень, лицом еще не стар и глаза острые, а волосы и борода белее снегу… Сказался он русским, по имени Никита, из карачевских боярских детей, но в Орде прожил уже много лет. И, испросив благословения, поведал он тогда историю вельми необычную.
Будто в городе Сыгнаке, на реке Сейхун, при ставке ак-ордынского великого хана Чимтая, проживает родной внук этого хана,– в ту пору отрок годов двенадцати либо тринадцати. И будто тот отрок, рожденный от матери-татарки, на деле есть русский княжич, сын законный князя Карачевского, Василия Пантелеича, коего на Руси давно почитали пропавшим без вести. Но Никита, бывший его стремянным и не разлучавшийся со своим господином до самой его смерти, в тот вечер открыл всю правду…
Он рассказал, как Тит Мстиславич Козельский, научаемый братом своим молодшим, князем Андреем Звенигородским, неправдою добыл у великого хана Узбека ярлык на большое княжение в Карачеве, где по праву и правде сидел тогда братанич его, – тот самый князь Василий Пантелеич…
*Сейхун – арабское и татарское название реки Сырдарьи.
** Братанич – племянник, сын старшего брата. Сын младшего брата назывался брательнич, сын сестры – сестрич.
И как потом заманили дядья своего братанича и государя в город Козельск и там хотели схватить его изменой; но князь Василий им не дался и ускакал, успевши насмерть зарубить саблею Звенигородского князя Андрея Мстиславича, который в том воровском деле был главный виновник и заводила… А после, спасаясь от Узбекова гнева, князь Васил! Пантелеич, вместе с ним, с Никитой, бежал в Орду, где был принят с почетом и два года спустя оженился на ордынской царевне, на Чимтаевой дочери. А ей спустя год родился у них сын… И невдолге, по то же году, коль скоро стало ведомо, что умер хан Узбек. Собрался князь Василий, с женой и сыном, в обрат, на родину, где ждал его к себе на княжение брянский народ. И за день всего до отъезда принял он нежданную смерть от воровской стрелы. А мальчик остался у своей татарской родни и растет как татарин…
– Почему же ты его на Русь не привез, понеже он князь русский? – спросил Алексей, когда посетитель закончил свой рассказ.
– Да ведь мать-то его татарка! Нешто можно был дите новорожденное с родной матерью разлучать? Да и кто бы мне дал то сделать, ежели бы я и похотел?
– Ну, а после, когда он подрос?
– Не единожды я о том думал, отче святый. И рассудил, что лучше ему покуда оставаться в Орде. Привез бы я его на Русь, – где бы он, сиротка, преклонил? В отчине его княжит лютый ворог, Карачевская земля ноне не под Русью, а под Литвой, стало быть великий князь Московский хоть бы и захотел порадеть о справедливости, – того сделать не может. От литовского государя, Ольгерда Гедиминовича, тем паче ожидать нечего: нынешний Карачевский князь, Святослав Титович ему доводится зятем, и, вестимо, Ольгерд завсегда возьмет его сторону. Нет сумнения, что на земле отцов своя княж -Васильев сын ныне найдет лишь ворогов и будет супротив них бессилен. А в Белой Орде он важный царевич, – по отцу наследовал улус, который будет поболе Карачевского княжества, со всеми его уделами. Да и живет при родной матери и при деде, которые в нем души не чают…
– Так чего же ты от меня хочешь? – спросил митрополит после довольно долгого молчания.
– Хочу, чтобы знал ты, владыка, как архипастырь и отец духовный всея Руси, что в басурманской Орде растет среди татар праправнук родной святого Михаила, по роду старший из всех Черниговских князей, ныне живущих, в то время как в земле его отцов, по праву ему принадлежащей, княжат обманщики и воры!
– Да поможет ему Господь! Но того изменить мы не властны: сам ты сказал, что вотчина его ныне под Литвой.
– Сегодня под Литвой, а что завтра будет, о том лишь Бог ведает. Москва растет и крепнет, к ней течет вся русская сила. И может статься, недалек тот день, когда она Черниговские земли у Литвы отымет. Вот тогда и замолвил бы ты, святой отец, перед великим князем свое справедливое слово и сказал бы ему, кто должен по праву княжить в Карачеве.
– Коли так случится, не сумневайся. Но ведь ежели к тому времени много годов пройдет и вырастет твой княжич в Орде,– станет он чистым татарином. Может, и слова по-нашему вымолвить не сумеет.
– Того не опасайся, владыка: я с ним не разлучаюсь и он меня почитает, ровно второго отца. Я его научил Русь любить, как мы ее любим, а говорит он и пишет по-русскому так, что еще у него поучиться можно. И знает много: он жадный до учения, как иной пьяница до вина.
– Ежели так, он нам и как татарин немалую пользу принести может.
– Да что ты, владыка! – с обидою в голосе сказал Никита.– Какой же он татарин? Почитай, половина всех русских князей берет в жены иноплеменниц, разве же их дети оттого перестают быть русскими? Вот, к примеру, князь Юрий Володимерович, заложивший ваш город Москву, на половчанке был женат,– нешто сын его, святой и благоверный князь Андрей Юрьевич, с того стал половцем? Тот на Руси вырос, а этот растет в Орде. Да разве его в том вина? Эх, отче, поглядел бы ты на нашего княжича,– не стал бы такого думать: он по обличью Русский как есть. Лицом весь в родителя, только у того глаза были карие, а у этого – как небесная синь. И душою тоже чист и светел, как и отец его был.
– Как же звать-то его?
– В младенчестве звали мы его Ваней,– думали Иваном окрестить, как вернемся на Русь. Так я его и ныне зову. Ну, а средь татар зовется он Карач-мурза. По отцу, значит, поелику Василея Пантелеича в Орде прозвали князь Карачей. Не умели, вестимо, татары-то вымолвить «Карачевский».
Схватив начало клубка воспоминаний, что было самым трудным, святитель припомнил весь этот разговор до малейших подробностей: он обладал необыкновенной памятью. И| пожалуй, не менее необыкновенной удачей.
«Прими, Господи, смиренную благодарность раба твоего,– удовлетворенно подумал он, – явил бо мне еще раз великую Свою милость! Теперь знаю, как говорить с ханским послом».
И в этот самый миг келарь доложил ему о приходе Карач-мурзы.
Глава 9
Как и все в Орде, Карач-мурза немало слышал «аксакале Алексее» и о той чудодейственной силе, которой ему приписывала молва. Большей части того, что рассказыва ли, он не верил, но и остающегося было достаточно того, чтобы митрополит представлялся ему существом не обыкновенным. Впрочем, это представление не вызывало нем суеверного страха, как в большинстве рядовых татар, все люди своего времени, Карач-мурза верил в Бога и верил в чудесное. Но, как человек мыслящий и получивший хоров образование, он пытался подыскать этому чудесному какое-то разумное объяснение или хотя бы постигнуть его нерв причину.
В данном случае первопричиной чудес он считал глубин познаний русского старца, которому, за святость жизни, открыл тайны высшей мудрости. Кроме того, он знал, что годы малолетства Дмитрия всеми делами Московского государства мудро и твердо управлял Алексей, влияние которого на русского великого князя и сейчас, как говорили в Орде, было почти неограничено. В силу всего этого Карач мурза, еще до встречи с митрополитом, был преисполнен к нему уважения, которое укрепилось и возросло во время приема у князя, когда Алексей своим своевременным вмешательством предотвратил резкое столкновение, к которому вела запальчивость Дмитрия и которого сам Карач-мурза всеми силами хотел избежать.
Железная, нерассуждающая дисциплина и слепое повиновение полученному приказу составляли основу татарского воинского воспитания. Такое воспитание получил и Карач-мурза. Отправляясь послом в Москву, он не допускал и мысли о том, что воля пославшего его хана может быть не исполнена. Но он искренне хотел, чтобы это произошло мирно, без насилия и без обид, ибо ехал на Русь преисполненный доброжелательства и, кроме того, хорошо знал, что великий хан Азиз-ходжа остановил свой выбор на нем именно потому, что и сам желал окончить дело миром: хан полагал, что Карач-мурза, в совершенстве владеющий русским языком и сам полурусский, лучше, чем кто-либо, сумеет помирить двух враждующих великих князей и установить между ними согласие.
Не понимая еще всей сложности внутрирусской обстановки и отношений, ханский посол наивно думал, что оба русских князя и сами стремятся к тому же и что он, таким образом, окажет услугу им обоим. А потому холодно-высокомерный прием, оказанный ему Дмитрием, его удивил и в глубине души обидел. И, вместе с тем, окончательно склонил его симпатии на сторону Тверского князя, которого он и прежде готов был считать жертвою коварства и недопустимого нарушения законов гостеприимства со стороны князя Московского.
Понимая, что митрополит пожелал его видеть вовсе не для разговора о своих ордынских знакомых, а лишь ради того, чтобы извлечь из этого свидания какую-то пользу для князя Дмитрия Ивановича, в ущерб Михаилу Тверскому,– Карач-мурза заранее решил быть непреклонным и требовать точного исполнения ханской воли.
* * *
– Рад тебя видеть, князь! Спасибо, что исполнил просьбу мою и зашел навестить старика, – сказал Алексей, поднимаясь навстречу гостю, приветствовавшему его почтительным восточным поклоном.– Не обессудь только за прием: я смиренный служитель Божий и хоромы мои небогаты.
– Мудрость и добродетели хозяина являются лучшими украшениями жилища,– с обычной для Востока цветистой вежливостью ответил Карач-мурза.
– Садись сюда, сделай милость,– продолжал митрополит, опускаясь в свое кресло и указывая посетителю на другое, стоявшее сбоку стола. – Чай, ты находился либо наездился по Москве до устали!
– Я сегодня никуда не выезжал, святой отец,– садясь, сказал Карач-мурза. – Все примечательное и достойное внимания, что мог я увидеть в городе вашем, я уже обсмотрел за те четыре дня, которые провел здесь, ожидая приема у великого князя.
– Что же, приглянулась тебе наша Москва?
– Да, святой отец. Вы умеете устраивать свои жилища, жить чище, красивее и удобней, чем живут другие народ: которые я видел.
– Ну, жилища что! Тебе, как воину, наши но стены да башни, надо быть, куда любопытнее было видеть.
– Это правда, аксакал,– ответил Карач-мурза, непроизвольно называя святителя так, как обычно называли его татары, – мне бы хотелось их обсмотреть. Но я к ним близко подъезжал и даже почти не глядел в их сторону.
– Почто так? – удивился митрополит.
– Потому что, если великий хан станет меня расспрашивать об этих укреплениях, я должен говорить ему правду, и я скажу: я видел их только издали и потому не могу судить ни о толщине, ни о высоте московских стен, ни о том, с каков стороны их лучше брать.
– Вот ты какой! Хотя и татарин, а Русь тебе, видать, тоже чем-то мила?
– Я воин, а не лазутчик, святой отец,– уклончиво ответил Карач-мурза.
– Ну, ну, пусть будет так… А скажи мне, князь, почто И тебя бунчук о трех хвостах? Ты не родич ли будешь великому хану?
– Великому хану Азизу-ходже, да продлит Аллах его драгоценные дни, моя мать доводится двоюродной сестрой
– Так… Стало быть, ты и великому хану близок, Руси нашей будто зла не хочешь?
– Ты сказал истину, почтенный старец.
– А ныне утром мне подумалось иное…
– Почему, аксакал? Разве я сказал что-нибудь против Руси?
– Прямо не сказал… Но ты хочешь, чтобы мы от себя отпустили безоговорно злейшего ворога Руси, князя Михайла Тверского.
– Такова священная воля великого хана,– сразу насторожившись, ответил Карач-мурза,– и ежели вы не хотите себе беды, она должна быть исполнена.
– Исполнить-то ее, вестимо, надо. Но исполнить можно по– разному, и это уже в твоей, а не в ханской воле.
– Мой слабый ум не в состоянии проникнуть в глубину твоей мудрой мысли, святой отец.
– Мы бы князя Михаилу Александровича и сами давно отпустили с Богом, ежели бы он Дмитрею Ивановичу крест поцеловал.
– А зачем целовать? От великого хана ему на то повеления не было.
– Повеления не было, но и запрету не было. А меж тем от того крестоцелования и хану была бы немалая польза. И потому, ежели впрямь ты Руси добра желаешь,– мог бы ты князя Михаилу в том убедить либо даже его понудить…
– Ты москвич, аксакал, и потому думаешь, что хотеть добра Руси – это значит хотеть его Московскому князю. А мне Тверь такая же Русь, как и Москва!
– Видать, не знаешь ты здешних делов, княже. Москва о всей Руси, как мать родная, печется и ее воедино крепит, аки свою семью. А Тверской князь о себе лишь мыслит и на нас наводит литовское войско. Ну, сам ты скажи: что великий хан на том выгадает, ежели пособит Михаиле? Только то, что литовский князь Ольгерд у него еще и новых данников отымет, на придачу к тем, коих уже отнял! А Москва не одну лишь свою выгоду блюдет, но такоже и ханову.
– Так говоришь ты, аксакал,– с легкой усмешкой ответил Карач-мурза,– а если мы спросим Тверского князя, он скажет: «Это я блюду выгоду великого хана, потому что не даю Москве усилиться настолько, чтобы вовсе перестать платить дань великому хану!»
– Эх, князь! Ты умен и сам должен понимать: всякий народ хочет и ищет воли. Но тебе, – митрополит особенно подчеркнул это слово,– тебе во всем этом деле, кроме ума, такоже и сердце кой-что говорить должно…
– Оно мне говорит: Москва – Русь и Тверь тоже Русь! – приходя в бозотчетное для себя возбуждение, ответил Карач-мурза.– Но Московский князь позвал Тверского в гости и приготовил ему западню! Говорят, ты великий провидец, отче, но есть вещи, которых и ты не можешь знать… Эта западня слишком напоминает мне другую, всеми давно позабытую. И потому в таком деле не жди моей помощи! Я помогу не вероломному обманщику, а обманутому!
– Ежели я провидец, то ужели мыслишь ты, что Господь послал мне этот чудесный дар за вероломство либо за помощь в чужом вероломстве? А истину я и вправду вижу лучше, чем ты… И знаю, про какую западню ты сейчас вспомнил: про ту, которую тридцать годов тому назад уготовили в городе Козельске родителю твоему покойному, великому князю Василею Пантелеевичу Карачевскому, дядья его Тит Мстис-лавич да Андрей Мстиславич. Не так ли, князь Иван Васильевич? Но можно ли равнять тот случай с тем, что ты видишь здесь? Там было чистое воровство, а тут как раз обратное:| Дмитрей Иванович свою землю от воров обороняет.
Глава 10
Карач– мурза был потрясен этими спокойно произнесенными словами. Если в пылу спора он совсем было позабыл какой славой пользуется его собеседник, то последний напомнил ему об этом самым ошеломляющим образом. Велика власть непостижимого, даже над самым храбрым и умным человеком! Бледный, откинувшись на спинку кресла, мурза глядел на митрополита с такой помесью страха и удивления в своих округлившихся синих глазах, что святитель невольно улыбнулся.
– Да ты не опасайся,– немного помолчав, промолвил он. – Что я знаю, то во мне и умрет.
– Аллах акбар!– пробормотал Карач-мурза, начина приходить в себя.– Тебе открыты все тайны, святой отец, ты знаешь все!
– Не все, однако… К примеру, не знаю я, почто скрываешь от нас, что ты сын русского князя?
– Зачем говорить об этом? Аллах не дал моему отцу возвратиться на Русь, значит, Он захотел, чтобы я был татарином и я стал татарином. Но память отца для меня священна, и не хочу, чтобы здесь показывали на меня пальцами и говорили: «Вот едет сын князя Василея Карачевского, он родился в Орде и сделался „поганым“… Ведь так вы называете нас, татар?
– Вас, татар? Ты не татарин, а русский, Иван Васильевич!
– Нет, аксакал! Я хотел быть русским, но этого не хочет Аллах. И я не мог идти против Его всевышней воли.
– В чем же ты увидел волю Аллаха?
– Только слепой мог бы ее не увидеть, ибо Аллах указ ее трижды: в первый раз, когда моего отца, потерявшего все Руси, Он привел в Орду и дал ему там улус и жену-татарку. Отец не понял воли Аллаха,– он хотел, вместе со мною, возвратиться на Русь, и вот, в самый день отъезда, его поразила стрела врага… Но даже после этого я хотел остаться русским. Я с малолетства говорил и думал по-русски, я знал все, что делается на Руси,– до тринадцати годов сердцем и мыслями я был здесь, с вами. Но когда Аллах в третий раз указал мне свою волю, я понял, что ничтожный червь не может и не должен противиться своему Создателю…
– Каково же было это третье указание Божье?
– Бог призвал к себе человека, научившего меня любить Русь и воспитавшего меня русским. Человека, которого я чтил и любил как своего второго отца и который мог бы прожить еще сто лет, если бы я не шел против воли Аллаха.
– Да, Никита Толбугин был богатырь. Какою же смертию он умер?
– Бисмаллах! Ты и про него знаешь, аксакал? Воистину я был глупцом, когда не хотел верить многим из тех чудесных историй, которые рассказывают о тебе в Орде! Прости меня, святой старец! Теперь я знаю: все, что говорят о тебе,– это только ничтожная доля правды!
– Ежели бы так было, я бы не стал тебя спрашивать, как погиб тот, кого ты называешь своим вторым отцом. Вот видишь: не знаю же.
– Потому, что тебе нет надобности проникать в эту тайну чудесным путем: ты знаешь, что я тебе и так скажу. Но если бы я захотел это скрыть от тебя, то все равно не смог бы этого сделать!
– Ну, так как же было дело-то?
– Это было в тот год, когда ты исцелил в Золотой Орде хатунь Тайдулу, святой отец. Незадолго до того литовцы захватили землю моего отца – княжество Карачевское, и Никита поехал в Сарай-Берке, чтобы у русских и литовских купцов узнать все новости. Но назад он не вернулся: в это лето по низовьям Волги лютовала черная смерть,– на обратном пути Никита захворал и через два дня умер.
– Да упокоит Господь душу этого славного витязя в селениях праведных,– перекрестившись, сказал митрополит.– Ну и после того остался ты совсем один среди татар?
– Зачем один? Я остался с матерью, в Сыгнаке, у деда моего, великого хана Чимтая.
– Ив смерти Никиты узрел ты, стало быть, волю Господню к тому, чтобы стал ты татарином?
*Черною смертью, или моровой язвой, называли тогда чуму, эпидемии которой в те времена свирепствовали в Европе и в Азии, унося миллионы жизней.
– Да, аксакал. И если бы я снова не повиновался этой воле, Аллах поразил бы еще кого-нибудь из близких мне людей или меня самого. Я навсегда сохранил в сердце память о родине моего отца, и Руси я хочу только добра. Но сам я теперь татарин. Я начал и кончу свою жизнь в Орде, и потомки мои будут не русскими, а татарскими князьями, как того хочет Аллах.
Карач– мурза замолк, и святитель глубоко задумался. С присущей ему проницательностью он уже отлично разобрался в особенностях душевного склада своего собеседника: Карач-мурза правдив, благороден до мозга костей, не глуп, но слегка наивен… Родившись и прожив всю свою жизнь в Орде, среди татар, он не мог, конечно, противостоять всей окружающей среде, особенно после того, как умер Никита. Немудрено и естественно, что теперь он чувствует себя татарином. Да и кто бы, на его месте, не усмотрел во всем этом воли Божьей? Знать, и вправду была на то воля Божья, и для чего-то привела она сына русского князя в Орду и поставила его возле! самого ханского престола… Обратить его в русского, почитай, не поздно и сейчас, но нужно ли это?-Ну, прибавится на Руси один хороший воин… При своем высоком положении не принесет ли он стократ больше пользы, оставаясь в Орде, ежели сделать его истинным другом Руси и ее пособником? И митрополит, взвесив все это в уме, сказал:
– Ты правильно понял, сын мой: Господь хочет, чтобы ты оставался в Орде, доколе не последует от Него нового указания. Но ужели мыслишь ты, что Он, который есть сама Мудрость, делает это без всякой цели?
– Я не думал об этом, аксакал. Но если у Аллаха есть такая цель, Он сумеет мне указать ее, когда настанет час.
– Этот час настал. Веришь ли ты мне?
– Как я могу тебе не верить, святой отец, после всего того, что я сегодня от тебя услышал?
– Тогда внимай: все свершается по воле Божьей. И это она привела тебя сюда, для того, чтобы я мог указать; тебе твой путь. Да, Господь хотел, чтобы ты вырос в Орде и по внешности стал татарином. Но он хочет, чтобы ты сохранил при этом свое русское сердце. Он высоко вознес тебя в Орде лишь того ради, чтобы ты лучше мог послужить Руси. И когда послужишь,– Он выведет тебя из Орды снова. Я вижу и говорю тебе: ты умрешь на родине своего отца и в вере своих православных предков. И потомство твое не татарскими будет князьями, а русскими! Верь мне,– сие свершится.
– Я верю тебе, отец… Но что я должен делать?
– Господь станет тебе указывать. Ты близок к ханскому трону, и власть твоя будет велика. Никогда не забывай, что ты русский, и где только сможешь для Руси и для народа своего сделать что доброе – делай! Где сможешь отвести от них какое-либо зло или беду,– отведи! Для того Бог и послал тебя в Орду!
– Я всегда буду так делать, клянусь тебе, аксакал! Я сам этого хотел. Но моя мать татарка, я родился и вырос в Орде, я видел от татар много добра и ласки. Не заставляй меня платить за все это неблагодарностью и предательством! Аллах не может этого хотеть!
– Кто тебе говорит о том? Всегда будь чист в делах своих и в совести своей и ничем недостойным себя не пятнай, ни там, ни тут. Но знай и помни одно: не Русь поработила и гнетет татар, а татары Русь. Мы татарам зла не хотим, – места на земле хватает и им, и нам. Но Господь сотворил людей свободными,– искать и добиваться воли – это наше священное право. И мы татарское иго сбросим, сроки уже близки. Ужели же в этом сердце твое будет не с нами, а с татарами?
– Нет, святой отец, в этом сердце мое всегда будет с вами, ибо справедливость и правда на вашей стороне. Я останусь там, куда послал меня Аллах, но если я когда-нибудь подниму оружие против Руси, пусть Он поразит меня смертью!
– Ты хорошо сказал, сын мой. Но поелику ты сам считаешь, что освобождение Руси от татарского гнета есть правое дело, – почто хочешь ныне стать препоною на пути князя великого Дмитрея Ивановича, который о том только и мыслит?
– Стать препоною на его пути? Я не понимаю тебя, отец мой.
– Для того чтобы освободить Русь, Дмитрею Ивановичу, допрежь всего, надобно крепить свою силу и единить русские земли. Тверской князь Михаила Александрович в том ему наибольшая помеха. А ты его руку держишь.
– Я не держу его руку, аксакал. Но великий хан хочет, чтобы я установил между Тверским и Московским князьями мир и защитил справедливость. И я стал на сторону обиженного. Не нарушая воли великого хана, я не могу позволить князю Дмитрею держать в плену князя Михаилу.
– Кто о том говорит? Нешто нам самим сладко держать его в нятьи? Но нам ведомо, что замыслил он против Москвы, потому и хотим обязать его крестоцелованием князю Дмитрею Ивановичу. И ты, как посол великого хана, без труда мог бы принудить к тому князя Михаилу, тако же как Дмитрея принуждаешь отпустить его с миром и без обиды.
– Коли он крест поцелует по принуждению, а не по своей доброй воле, он станет еще злейшим вашим ворогом и клятвы своей все одно не сдержит.
– Тако же и я мыслю. А потому, отпустивши его, мы за ним пуще прежнего будем глядеть в оба глаза. Но тут есть и иное: на Михаилу Тверского ныне все другие князья воззрились, – поцелует он Москве крест либо нет? Коли не поцелует, для всех прочих послужит это великим соблазном. А ежели он, самый из них сильный, Дмитрею покорится,– иные и подавно будут смирны, как овцы.
– Хорошо, аксакал,– немного подумав, сказал Карач-мурза,– пусть будет так, как ты хочешь. Завтра я буду говорить с Тверским князем и заставлю его поцеловать крест великому князю Московскому.
– Ну, вот и ладно. Спаси тебя Господь, Иван Васильевич! После того мы князя Михаилу немедля отпустим,– ты это увидишь своими глазами и перескажешь великому хану. О тебе же я государю нашему Дмитрею Ивановичу скажу, что! ты друг наш верный всегда и всюду. А в нужный час открою ему и твое истинное имя. Ты отселе прямо в Сарай поедешь?
– Нет, аксакал. Отсюда я хочу проехать в Литву, чтобы своими глазами увидеть то, что когда-то ласкало глаза моего отца, чтобы ступить ногой на ту землю, которая должна была стать моей землей.
– Пути Господни неисповедимы. Кто знает? – Может, та земля еще и будет твоей. Не вечно же ей быть под Литвой, а коль скоро литвинов оттуда сгоним, Дмитрей Иванович о праве твоем порадеет… А вот, к слову: слыхал ли ты, что была грамота духовная первого князя земли Карачевской, прадеда твоего Мстислава Михайловича, коя утверждала род твоего отца на большом княжении? И что ту грамоту у родителя твоего покойного выкрали?
– О всем том слыхал я не раз от Никиты, святой отец.
– Стало быть, ведомо тебе и то, кем она была украдена?
– Да, аксакал. Этот злой человек был недостоин жизни, и Аллах покарал его рукою моего отца.
– То истина. Но грамота-то где-нибудь осталась. Вы хоть искали ее с Никитой?
– Нет, аксакал. Зачем она мне?
*Духовная грамота – завещание.
– Как зачем? Ведь с тою грамотой в руках перед законом ты князь земли Карачевской и старший в роду Черниговских князей!
– Сила сильнее закона. А сила в руках моих врагов. Нет большей силы, чем помощь Божья. А ты отколе
знать можешь, на чьей стороне будет эта великая сила? Надобно беспременно найти ту грамоту.
– Где ее ныне сыщешь, святой отец? Вороги моего отца ее, поди, давно изничтожили.
– Попади она в руки к князю Титу Мстиславичу, он бы ее, вестимо, изничтожил. Но Андрею Мстиславичу это было никак не с руки. И в день смерти своей он ее при себе не имел, – о том знаю я доподлинно от козельских попов. Стало быть, выезжая в Козельск, оставил он ту грамоту в отчине своей, в Звенигороде. Там и надобно искать. Нынешний Звенигородский князь Федор Андреевич что-либо должен о том знать.
– Хорошо, аксакал. Я поеду в Звенигород и спрошу у него.
– Эх, княже,– сказал митрополит, взглянув на Карач-мурзу с отеческой лаской,– чистая твоя душа! Но вот беда,– не у всех она такая, как у тебя… Что ж, пробуй. А коли у тебя дело не выйдет,– я попробую!
Глава 11
В лето 6875 на заутрене по Дмитриеве дни, князь Михайло Тферьскый приехал из Литвы в Тферь со своею ратью и с литовською, бояр дяди своего оттеда изъымал и пошол ратью к городу Кашину. И сретиша его послы от дяди его в селе Андреевском и тут возложи ему Бог на сердце добрую мысль еже о любви и о миру. И в том месте рать свою увернул и с дядею мир взял, а через дядю и с князем великим Дмитреем Ивановичем. Троицкая летопись
Несмотря на свой беспокойный нрав и постоянные войны с соседями, великий князь Михаил Александрович Тверской пользовался на Руси уважением и широкими симпатиями, притом вполне заслуженными. В положительной оценке его личности сходятся все современники, включая сюда и московских летописцев.
По общим отзывам, он был весьма образованным, гуманным и добрым человеком и заботливым, справедливым государем. Как и все прочие князья его времени, он деятельно и упорно защищал свою независимость, но в каких-либо особо эгоистических устремлениях и тем более в отсутствии патриотизма его обвинить нельзя. Нет сомнения, что Русь он любил и желал ей освобождения от татарского ига ничуть не меньше, чем желал того же Дмитрий Московский. Но в то, что это освобождение несет русскому народу именно Москва, он не верил и Московских князей искренно считал «ворами», незаконно присвоившими себе великое княжение и готовыми на все ради того, чтобы его за собою удержать.
Как в смысле родового старшинства, так и в деле борьбы за освобождение от татарского гнета, Михаил Александрович, конечно, считал Тверских князей первыми и по существу был прав и в том и в другом. Из всех князей Владимирско-Суздальской Руси Тверские были старшими и великое княжение, по русским законам, принадлежало им. О свержении татарской власти Тверь тоже начала помышлять раньше всех остальных и неоднократно предпринимала смелые шаги в этом направлении. Еще в 1295 году дед Михаила Александровича, великий князь Михаил Ярославич, заключил с Новгородом союз, явно направленный против Орды, и если не выступил против нее открыто, то лишь потому, что его не захотели поддержать другие, и прежде всего – Московский, князь Даниил Александрович. Не было в ту пору у Тверских князей никакой приверженности и к Литве. Тот же Михаил Ярославич за годы своего княжения воевал с нею несколько раз.
В длительной борьбе за великокняжеский стол, возникшей между Тверскими и Московскими князьями, последние опирались главным образом на Орду, которой они выказывали полную покорность, и тем обеспечивали себе поддержку ханов. Дед, отец, дядя и старший брат Михаила Александровича были казнены в Орде по проискам Московских князей. Когда в 1327 году тверичи восстали против татарского сатрапа Чол-хана, посаженного великим ханом Узбеком в Тверь,– как говорили, на постоянное княжение,– это восстание утопил в крови Московский князь Иван Калита и пришедший в Тверскую землю во главе пятидесятитысячного татарского войска.
Сам князь Михаил родился в изгнании, в городе Пскове, куда его отец вынужден был бежать из своего княжества, преследуемый Москвой и татарами. Мог ли он после всего этого верить, что Московские князья всерьез намереваются вступить в освободительную борьбу с Ордой, на которую они всегда опирались и благодаря которой возвысились над другими русскими князьями. Это последнее обстоятельство вполне оправдывало в глазах Михаила Александровича и вынужденное сближение Твери с Литвой: оно, в силу сложившейся обстановки, диктовалось требованьями самозащиты и было достигнуто при помощи ряда брачных союзов, заключенных между Тверскими и Литовскими князьями. Так, дядя Михаила Александровича, великий князь Дмитрий Михайлович, получивший прозвище «Грозные Очи», был женат на сестре Ольгерда, Марии Гедиминовне. Родная сестра его, Ульяна, была женою самого Ольгерда, а сын его, княжич Иван, женился на племяннице литовского государя, Марии Кейстутовне. Все эти родственные связи давали Литве повод поддерживать Тверь против Москвы, а совершенно обрусевшая семья Ольгерда Гедиминовича охотно предоставляла убежище тем Тверским князьям, которым приходилось временно покидать свою отчину, спасаясь от преследованья Московских князей и приводимых ими татар.
Ольгерд по воспитанию был больше русским, чем литовцем. Государство свое, постепенно вобравшее в себя все западные и южные русские княжества, он называл Литовско-Русским, причем русскому началу в нем открыто отдавал предпочтение над литовским. Так, государственным языком там считался русский, а государственной религией – православие. С детства исповедуя православную веру, Ольгерд был ее ревностным защитником и даже добился от Вселенского патриарха учреждения независимой литовской митрополии, которая позже была упразднена под давлением Москвы. Литовцев, за малейшее неуважение к русским или за чинимые им обиды, он сурово карал. В общем, он делал все от него зависящее, чтобы русские в его государстве чувствовали себя как дома. Вернее даже,– чтобы, оставаясь у себя дома, они видели в нем, Ольгерде, не захватчика, а покровителя и наиболее выгодного для них государя.
Прибирая к рукам огромные русские области, он действовал, где это было возможно, не как завоеватель, а как объединитель Руси, преследующий ту же цель, что и Московские князья, но имеющий перед ними два важнейших преимущества, которые он всюду подчеркивал: он был независим от Орды и обладал достаточной силой, чтобы положить конец княжеским усобицам.
И это производило свое действие: возможность отдохнуть от междоусобных войн и избавиться от необходимости платить дань татарскому хану многих влекла к Ольгерду. Целый ряд русских земель передался ему добровольно или оказав лишь незначительное сопротивление.
*Все государственные акты и официальная переписка Литвы времен Ольгерда велись на русском языке.
Народу это на первых порах принесло явное облегчение; положение резко изменилось лишь после смерти Ольгерда, когда, в силу польско-литовской унии, верх в стране взяли католики. Что же касается русских князей, то многие из них, уже хорошо понимая, что самостоятельности им все равно не сохранить,– предпочитали признать свою зависимость от Литвы, а не от Москвы, ибо это избавляло их от подчинения Орде.
Для всех признавших его власть Ольгерд был государем добрым и милостивым. Покорившихся ему русских удельных князей он оставлял на своих местах и им говорил: «Я старины вашей и обычаев ни в чем не рушу и никакой новины в ваших землях не завожу. Живите под моей рукою, как и прежде жили».
Зная все это, Тверской князь Михаил Александрович, стоящий между Москвой и Литвой, не видел ничего предосудительного в том, что пользовался помощью Ольгерда. Он имел все основания не доверять Москве и не ждать от нее решительных действий против татар, полагая, что Дмитрий Иванович лишь ловко играет на этой идее, чтобы привлечь народные симпатии и легче подчинить себе других русских князей. С другой стороны, ему казалось, что при заведенных Ольгердом порядках Литва скоро сама совершенно обрусеет, и потому опасным врагом русского народа он ее отнюдь не считал.
Он был к тому же уверен, что когда на Руси появится единый и всеми признанный государь, который сбросит татарское иго,– все те русские земли, которые временно подчинились Ольгерду, сами от него отойдут. И таким государем-освободителем мечтал стать сам Михаил Александрович, хотя бы ему и пришлось для этого вначале опереться на того же Ольгерда. Разве это хуже, чем опираться на помощь татар, как всегда делали Московские князья? – думал он.
Таким образом, столкновение и борьбу Михаила Александровича с Москвой нельзя рассматривать как сознательную измену интересам Руси. Самое большее, в чем можно его обвинять, это в непонимании обстановки и в отсутствии политической дальнозоркости. Отчасти его действиями руководили соображения самозащиты, в основном же тут налицо скорее соревнование в деле служения родной земле, в ее конечном освобождении и возвеличении. Каждый из двух князей-соперников шел к этой цели своими собственными путями, и если борьба закончилась торжеством Дмитрия Московского, то лишь потому, что его пути оказались правильнее и нашли опору в более мощных слоях народа. Выражаясь языком современности, они оказались демократичней путей Михаила Тверского.
И по духу, и по структуре своего управления Тверь всегда была аристократичнее Москвы, ибо как во внутренней жизни, так и во внешних сношениях и связях она опиралась главным образом на дворянство и на духовенство, тогда как Москву поддерживал простой люд и купечество.
Что это было именно так, хорошо видно хотя бы из той характеристики, которую дают князю Михаилу Александровичу русские летописи. По их единогласному свидетельству, он был очень набожен и «милостив бе на духовный чин, иноки же и священники паче князей почиташа» ( Никоновская московская летопись) . Был бескорыстен, помыслами чист, стремился благоустроить свое государство, править по справедливости и быть заступником слабых и угнетенных. «С мудрыми земли своея много беседоваша и научашеся, како суды исправливати и како обидимыя и маломощныя от насильства избавляти» (Вологодская летопись) . Он не имел узкого круга приближенных или любимцев, был ласков и приветлив со всеми, особенно со своими ближайшими сотрудниками, и потому «сладок он бяша своей дружине, яко не любяша ни злата, ни одежд многоценных, но все елико сам имеяше – раздаваша дружине своей» (Тверской летописный свод) .
Под старинным термином «дружина» летописец тут, несомненно, подразумевает боярство и служилое дворянство. И щедрости князя Михаила Александровича, очевидно, особенно не преувеличивает, потому что дворяне и бояре охотно шли к нему на службу даже из чужих земель и горячо его поддерживали, так же как и духовенство, которое ко всему роду Тверских князей вообще относилось с исключительным благоволением.
Достаточно вспомнить, что дед Михаила Александровича, великий князь Михаил Ярославич, казненный в Орде по навету Московских князей, был возвеличен Церковью как праведник и мученик. И он сам, и жена его, княгиня Анна Дмитриевна, были причислены к лику святых. Подобная же попытка была сделана и в отношении его сына, великого князя Александра Михайловича, погибшего при таких же обстоятельствах. И если она не увенчалась успехом, то лишь потому, что Московские князья к тому времени приобрели уже решающее влияние на главу русской Церкви. Смерть самого Михаила Александровича,– в старости мирно скончавшегося у себя в Твери, – даже московскими летописями описана как образец идеальной христианской кончины, завершившей достойную и праведную жизнь. Тверские же летописцы оставили его «жития», написанные совершенно в духе жизнеописания святых.
Из всего этого ясно, что Тверской князь находил на Руси сочувствие и поддержку в верхних слоях населения, более обособленных и не столь сильно, как другие, страдающих от всяких внешних и внутренних неурядиц.
К Москве, наоборот, тянулись народные низы, ибо ее политика была для них более выгодна. Торговый и ремесленный люд находил у хозяйственных и оборотистых Московских князей широкое применение своим способностям и решительную защиту своих интересов. Крестьянство пользовалось большим спокойствием, чем в других землях. Простой народ в основном страдал тогда от двух тяжких зол: от княжеских усобиц и от татарского ига. Под водительством смелого и сильного князя он готов был подняться на татар и даже мечтал об этом. Но в повседневной жизни,– пока момент решительного выступления не созрел, – ему гораздо выгоднее было поддерживать такого князя, который умел сохранять мирные отношения с Ордой, что обеспечивало его подданным относительное спокойствие. А Тверские князья с нею как раз и не умели ладить, примеры и следствия чего все» были хорошо известны.
От внутренних княжеских раздоров народ в эту пору страдал несравненно больше, чем от татарского ига, и веет понимали, что спасение от этого величайшего зла заключается только в единодержавии или, по крайней мере, в значительном усилении какого-либо одного князя. И в поисках такого князя народ единодушно обращал свои взоры в сторону Москвы, а уж никак не Твери, где усобицы не прекращались!
И, наконец, в простом народе, – интересы которого не были, как у многих представителей знати, связаны с вопросами внешних отношений,– гораздо громче говорило здоров вое национальное чувство. В Литовском государстве это народ, несмотря на все ухищрения Ольгерда, видел прежде всего врага Руси, а его непомерный рост за счет исконных русских земель – подсознательно воспринимал как нечто унизительное для своего национального достоинства. И потому союз Тверского князя с Литовским, направленный против Москвы, оскорблял русское самолюбие и отвращал народные симпатии от Твери.
Сочувствие низовых масс населения полностью было на стороне Москвы, – ее руку «черный люд» держал во всех русских землях, включая даже вечевой и полуреспубликанский Новгород. И это обстоятельство в дальнейшем ее возвышении сыграло, несомненно, решающую роль.
Глава 12
В тот день, когда приехал в Москву ханский посол, великий князь Михаила Александрович проснулся особенно не в духе.
Вот уже почти два месяца томили его в плену, понуждая поцеловать крест Московскому князю либо вернуть тверской стол Василию Кашинскому. Каждые два-три дня наведывался к нему, будто ненароком, кто-нибудь из ближних бояр Дмитрия, сперва спрашивал о здоровье, о том – достает ли ему отпускаемых медов и вин и нет ли каких жалоб на корм, а после сворачивал все на то же. Иной грозил и стращал, иной принимался нудить, будто зуб больной расшатывал, а были и такие, что канючили почти униженно.
Раза два захаживал и сам владыка митрополит. Но князь Михаила стоял на своем твердо. Бывало,– особенно поначалу,– кричал и поносил всех срамными словами, угрожая ханским гневом и войной,– «ужо только вырвусь из вашего разбойного стану»,– но последнее время чаще отмалчивался. Вяло обругав очередного посетителя, он поворачивался к нему спиной и принимался глядеть в окно либо заводил какой-нибудь свой разговор с сыном боярским Афанасием Коробовым (единственным тверичем, которого при нем оставили), так, будто никого иного в горнице и не было.
Нужды он ни в чем, кроме свободы, не испытывал, обращались с ним уважительно, кормили и поили хорошо и вдосталь. В Гавшиных хоромах были ему отведены две просторные и светлые горницы, утром и вечером мог он посещать крестовую палату и слушать церковные службы. Когда просил,– выпускали погулять в сад, который, как и весь Гавшин Двор, был обнесен двухсаженным бревенчатым тыном. Однако его всегда сопровождал либо сам Гавша, либо кто-нибудь из его четырех братьев, смертельно надоедавших Михаиле Александровичу своими увещеваниями, и потому эти прогулки и вскоре совсем прекратил.
Самое худшее заключалось в том, что он был совершенно разобщен со своими людьми и ни от кого не мог узнать, что делается за стенами его тюрьмы. Однажды только зашел к нему тайный доброхот его, боярин Иван Васильевич Вельяминов, который, зорко оглядевшись по сторонам, успел поведать, что всех тверских бояр держат друг от друга розно, по различным московским дворам, и что из тверичей, приехавших с князем Михайлой, никого из Москвы не выпустили и стерегут крепко, чтобы не дали знать великому хану либо Ольгерду Гедиминовичу.
– Но ты, княже, не печалуйся,– добавил Вельяминов, – я тебя в беде не оставлю. Уже скачет мой…– но в эту самую минуту вошел в горницу Гавшин брат молодший, любимец Дмитрия – боярин Кошка, который и не дал досказать начатого Вельяминову. Так и не узнал князь Михаила, кто и куда скачет, но все же понял, что Вельяминов послал куда-то гонца, и это его сильно подкрепило.
Недели полторы спустя зашел было Иван Васильевич в другой раз, но проклятый Кошка как учуял,– Вельяминов в одну дверь, а он в другую, и снова не дал говорить. Оставалось ждать терпеливо, пока дело само покажет, куда поскакал гонец Вельяминова и что из того получилось. Все же надежда на то, что его скоро выручат, теперь была,– Михаила Александрович подбодрился и стал отругиваться от уговаривающих с прежним подъемом.
Но текли дни и недели, а все оставалось по-старому, пленник снова начал впадать в уныние. В этот день, едва он, проснувшись, открыл глаза и увидел над собой потолок ненавистной Гавшиной горницы, – темной хмарой наползла на него тоска, которая еще усилилась после ранней обедни, когда, выходя из крестовой палаты князь вдруг осмыслил, что нынче, горячо молясь о своем избавлении, он просил Бога о совершении чуда.
«Ужели и впрямь не осталось мне на что надеяться кроме как на чудо?» – почти с отчаяньем подумал он и возвратился к себе в горницу мрачный и подавленный, впервые за все время не получив от молитвы никакого облегчения.
Сын боярский Афанасий Коробов, сидевший у открытого окна и от скуки вырезывавший из липового чурбачка замысловатый ковшик,– заслышав шаги, поднял голову и глянул на вошедшего князя.
Михаила Александрович, которому в ту пору шел уже тридцать шестой год, был, как и все Тверские князя ростом высок и собою дороден. Красивое, обычно приветливое лицо его было сейчас зло и хмуро, а в серых глазах клубилась такая тоска, что у боярского сына, боготворившего своего государя, сжалось сердце.
– Помолился, княже?– спросил он, надеясь вовлечь князя в разговор и как-нибудь подбодрить его. При веселом, общительном характере Михаилы Александровича прежде это удавалось ему без особого труда.
– Помолился, Афоня,– безразличным голосом ответил князь.
– Ну, вот и ладно! Господь твою молитву услышит беспременно. Он тя не покинет! Ты только крепче верь в Его милость, да и сам не поддавайся кручине.
– Легко сказать! Второй месяц уже в плену досиживаем…
– Второй месяц! Да нешто это много? Иные и годы сидели. Да ведь и не в татарской неволе томимся: держат нас тут неплохо и харч дают важный.
– Утешил хворого золотой постелью,– невесело усмехнулся князь.
– А что? Все лучше, нежели сидеть в яме, в железах либо в колодках. Могло быть и так.
– Погоди, может, еще и в яму посадят. От Москвы всего ожидать возможно… Сколько крови-то на ней нашей, тверской!
– За ту кровь она Богу заплатит, княже. А ныне не те времена. Вот увидишь: заставят Дмитрея нас ослобонить.
– Я и сам того ждал. Да когда оно будет-то? Должно, когда черт помрет, а он еще и хворать не начал…
Коробов открыл было рот, чтобы что-то ответить, но в этот миг дверь чуть слышно скрипнула, и на пороге выросла стройная фигура боярина Вельяминова. Обежав горницу глазами и убедившись, что в ней нет посторонних, он быстро подошел к Михаиле Александровичу вплотную и не переводя Духа негромко сказал:
– Знай, княже: ныне поутру прибыл ханский посол к Дмитрею Ивановичу. Я его давно ждал, ибо как только тебя схватили,– тотчас отправил к хану гонца с упреждением и молил не оставить тебя в беде.
– Спаси тебя Христос, Иван Васильевич! А хан Абдал-лах…
– Я не к Абдаллаху посылал, а к Азизу, княже. Абдаллах и Мамай с Дмитреем сейчас хороши и могли взять его сторону. А хану Азизу давно дань Москвой не плачена, и он поди, рад будет такому случаю. К тому же он, кажись, ныне сильней.
– Ну и что ж тот посол?
– Посла велено поставить на Посольском дворе, и когда его князь великий примет, того не знаю. Опасаюсь я одного, что Дмитрей да митрополит сумеют как-либо татарина улестить али наплетут ему на тебя такого, что он их действа одобрит. Сам ведаешь, святитель наш на таких делах съел.
– Как же быть-то теперь? – забеспокоился Михаила Александрович. – Ты бы не мог, боярин, с тем послом свидеться либо кого подослать к нему?
– Коли случай будет, вестимо, не премину. Только навряд ли то удастся: Дмитрей наказал своим людям с ханского посла глаз не спускать и тотчас доводить ему – куда он пойдет, что станет смотреть и с кем общаться. А меня Кошка, по всему видать, тоже кой в чем уже уподозрил. Потому и тороплюсь обсказать тебе все, покуда он не нанюхал моего следа.
– Что же мне делать-то?
– Ты жди. Ежели мне с послом говорить удастся, я тебя упрежу, приду сюда сам. Хоть и не один буду, но ты знай: показался я,– стало быть, все ладно. А коли до третьего дня меня не увидишь, подымай шум и требуй, чтобы тебе самому дозволили говорить с ханским послом. Перед тем за день попросись погулять в саду, ходи поближе к тыну и, после скажешь, что слыхал, как по ту сторону прохожие о приезде посла промеж собою говорили.
– Ладно, сделаю. Только нешто они дозволят?
– Опробовать все одно надобно. Может, и испужаются, когда станет им ведомо, что ты о приезде посла знаешь.
– А кто посол-то?
– Молодой какой-то татарин, видать, из ханов, бунчук о трех хвостах. Ну, ин ладно, оставайся покуда с Богом, Михайла Александрович, и уповай на Его милость. А я пойду. Коли кого из Гавшиной братии повстречаю, скажу, что приходил увещевать тебя о крестоцеловании. Да все лучше уйти неприметно.
– Али никто не видел, как ты вошел?
– Видела челядь, да ей что? Нешто мало нас, бояр, Гавше либо к тебе от Дмитрея приходит?
Глава 13
Минуло еще два дня, а Вельяминов не появлялся. Впрочем, Михаила Александрович не очень и надеялся, что боярину удастся говорить с послом, а потому сам приготовился действовать, как было условлено.
На следующий же день он попросил выпустить его на прогулку, что было ему, как обычно, дозволено. Гавша Андреич вышел в сад вместе с ним, но едва они успели пройти из конца в конец, как явился воевода Плещей – младший из братьев митрополита – и позвал боярина к великому князю.
– А чего там стряслось?– лениво спросил Гавша.
– Почто зовет тебя Дмитрей Иванович, мне не ведомо,– ответил Плещей, – а только наказывал он, чтобы ты был немедля.
– Ин ладно, иду… Только уж ты, Александр Федорович, побудь тут покеда с князем Михайлой. Чай, он долго гулять не станет.
Все это было как нельзя более на руку Михаиле Александровичу. Покуда боярин и воевода разговаривали промеж собой, он стоял у самого забора и свободно мог слышать, что говорилось на улице. Оттуда в это время и впрямь доносились какие-то громкие голоса.
Таким образом, с этой стороны все было подготовлено, и на другой день, едва пообедав, князь Михаила, через прислуживавшего ему отрока, передал Гавше, что хочет с ним говорить.
Гавша, в простоте душевной решивший, что Тверской князь наконец образумился и надумал поцеловать крест Дмитрию, – сейчас же явился на зов, хотя и собирался как раз вздремнуть после сытного обеда.
– Ну, вот, княже,– почти умильно начал он,– видать, Господь открыл наконец твои уши для истины.
– Открыл, открыл, боярин, не сумневайся! И теми открытыми ушами слыхал я, что прибыл в Москву посол от хана Азиза. Я его давно о/кидаю, ибо сам знал, да и вам, дуракам, говорил не раз, что великий хан меня в обиду не даст. Желаю говорить с тем послом!
Гавшу слова князя поразили, как обухом. Умом он не был скор, а потому, прежде чем сообразил – надо ли отрицать приезд посла, почти непроизвольно произнес:
– Да ты отколь о том сведал?
– Тебе по дружбе открою,– усмехнулся Михаила Александрович.– Покуда ты вчера в саду с Плещеем растабаривал, стоял я у самого тына и слышал, как о том народ на улице говорил.
– Вишь ты, какое дело!– пробормотал перепугавшийся боярин. Как раз в этот день поутру Дмитрий Иванович принимал ордынского посла, и Гавша своими ушами слышал, что хан Азиз и впрямь требует немедленного освобождения Тверского князя. Плохо, что Михаила Александрович о том раньше времени сведал, да еще по его, Гавшиной, оплошке…
– Дело такое, что допусти меня говорить с послом! Не то вовсе вам, разбойникам, худо будет!– крикнул князь Михаила.
– Да нешто оно в моей власти, Михаила Александрович? Я и сам человек подневольный: мне что государь мой велит, то я исполняю.
– Ну, так ступай к своему государю и доведи ему: Тверской, мол, великий князь требует пустить его к ханскому послу! И добавь: хуже будет, коли сам посол того потребует!
– Мне что? Я, пожалуй, доведу… Только навряд ли Дмитрей Иванович тебе такое дозволит.
– Свой-то умишко у него не длинней бороды, я знаю. Но, может, у владыки разумом разживется. Авось смерекают вместях, что лучше хоть теперь добром поладить, нежели на ханский рожон переть!
Боярин ушел, что-то бормоча, а Михаила Александрович, оставшись вдвоем с Коробовым, принялся, не жалея крепких слов, ругать всех Московских князей, какие когда-либо жили, а наипаче всех – Дмитрия Ивановича. Он быстро распалялся, но был отходчив, а потому, отведя душу, вскоре заснул сном праведника и проснулся, когда уже смеркалось.
– Эй, Афоня!– крикнул он, открыв глаза и разом садясь на постели.– Не приходил боярин, покуда я спал?
– Никого не было, княже,– отозвался от окна боярский сын.
– А ну, начинай шуметь!
Двери снаружи были заложены на засов, и когда требовалось вызвать кого-либо из челяди, узники стучали в них деревянной колотушкой. На сей раз Афоня исполнил это с таким усердием, что через минуту сломя голову прибежал сам дворецкий.
– Гаврила Андреич где?– грозно спросил князь Михаила, едва только дверь открылась.
– В трапезной, княже,– ответил испуганный дворецкий.– Только что вечерять собрался.
– Зови его сей же час сюда! Да скажи: долго ждать не стану! Вот досчитаю до ста, и учнем крушить окна и двери! Дворецкий исчез, и очень скоро запыхавшийся Гавша предстал перед Тверским князем.
– Ну, что?– спросил последний.– Говорил ты с Дмитреем Ивановичем?
– Говорил,– ответил Гавша.
– Почто же до сей поры ко мне носа не кажешь? Нешто не знаешь, что я ожидаю его ответа?
– Знаю… Только мало тебе будет радости в его ответе.
– Что же сказал он?
– Сказал, что ежели хочешь сразу отсель выйти,– целуй крест ему, великому князю Московскому и всея Руси, и после того с ханским послом хоть до самой смерти не разлучайся. А нет,– так сиди и жди. Коли будешь надобен, тебя позовут.
– А, так! Ин, ладно, поглядим! От ханского посла он меня все одно не укроет! Разве что уморит, как родичи его моего отца и деда уморили! Он, часом, тебе не велел еще подсыпать мне зелья в вино либо во щи?
– Бога побойся, княже,– перекрестился боярин,– нешто Дмитрей Иванович таков?
– А каким ему быть? От худого семени не жди доброго племени! Али душегуб и разбойник Калита не родной ему дед?
– За деда внук не ответчик. А Дмитрей Иванович не таков,– сказал Гавша, начиная помаленьку наливаться кровью. – И коли молвить истину, не зря он тебя ныне мурыжит, у него только и думки – как бы Русь из татарского ярма вызволить, а ты у него на загривке как чирей сел!
– Он вызволит, как же! Дадут белке орехов, когда зубов не станет!– кричал Михаила Александрович.– Досе Москва лишь Орду от Руси вызволяла, а не Русь от Орды! Али забыл, как она с татарами нашу Тверь усмиряла и жгла, когда мы поднялись против Щелкана? А потом и Смоленск, за то, что хотел отложиться от Орды? Теперь же я вашему князьку крест целуй! Почто он мне не поцелует, коли он такой уж о Руси печальник? Я без обману хочу Русь от татарского гнета спасти!
– Эх, княже! Что промеж ваших дедов деялось, то давно осталось позади. Видать, все там были хороши! А ныне я тебе вот что скажу: коли бы в той сваре верх взял ваш Тверской род,– днесь надлежало бы нам всем под твою руку идти, а не под Дмитрея. Но поелику возвысилась Москва и она сейчас всех сильнее,– на нее уповает весь русский люд, а не на вашу культяпую Тверь, что на Ольгердовых костылях где-то позади волокется! Ты вот человек вельми ученый, но, видать, учение тебе впрок не пошло, ежели ты этого не разумеешь,– в сердцах добавил боярин и вышел из горницы, хлопнув дверью.
*Зелье – отрава, яд.
*Щелканом звали на Руси Чол-хана, татарского наместника в Твери, убитого в 1327 г. восставшими тверичами.
Глава 14
В тот самый вечер, когда в хоромах боярина Гавши Кобылина происходили эти события, – в Чудовом монастыре митрополит Алексей беседовал с Карач-мурзой. И потому на следующий день дело приняло новый и совершенно неожиданный для князя Михаилы оборот.
Утром, когда владыка рассказал Дмитрию Ивановичу о том, что ему удалось склонить на свою сторону Карач-мурзу, который обещал говорить с Тверским князем,– Дмитрий, в свою очередь, поведал святителю, что Михаила Александрович узнал о приезде посла и домогается свидания с ним.
– Ну, и что ты ему велел ответить, княже?– спросил митрополит.
– Велел ответить, что ежели крест мне поцелует,– волен говорить с кем хочет. А инако пусть ждет моего решения.
– Мыслю я так,– промолвил святитель после небольшого раздумья.– Надобно теперь сказать, что коли он хочет говорить с ханским послом, ты ему в том не препятствуешь. Так будет для нас лучше. Ежели Карач-мурза сам его позовет,– Михаила беспременно станет похваляться, что вот, мол, Московский князь той встречи допустить не хотел, да пришлось ему пойти на попятный. Есть и другое: эдак он не сможет говорить, что Карач-мурза заставил его крест целовать по нашему наущению. Посол его не звал,– сам он навязался на разговор с ним.
– Истина, отче, так оно лучше будет,– согласился Дмитрий.
– Стало быть, на том порешим. Я сей же час упрежу обо всем мурзу. Чай, и он таким поворотом останется доволен: ему будет куда ловчее, ежели не он, а сам Михаила о тез делах речь заведет. А ты после полдника пошли сказать Тверскому князю, что к ханскому послу путь для него открыт.
Получив от великого князя новые распоряжения, Гавша Андреевич немедля отправился к своему узнику.
– Бывай здоров, княже,– сказал он, входя в горницу и перекрестившись на образа.– Ну, как? Все еще серчаешь на Дмитрея Ивановича за вчерашнее?
– Провалились бы вы оба в преисподнюю али еще куда подалее, – не громко, но прочувственно ответил князь Михайла, поворачиваясь к боярину спиной и тем показывая, что вступать в разговор не намерен.
– Вот Богу-то и видать, кто из вас двоих сердцем чище! Ты ему провалиться сулишь, а он мне повелел: скажи, мол, князю Михаиле Александровичу, что коли желает говорить с ханским послом, я ему в том не помеха. Пускай идет хоть сегодня и беседует с татарином, о чем ему надобно.
Князь Михаила был этим известием изрядно удивлен, но виду не показал. Он снова повернулся к Гавше лицом и, усмехнувшись, промолвил:
– Отколе взялась такая доброта, отгадать не трудно: не иначе как сам посол захотел меня повидать и дознаться правды,– вот князек-то ваш и поджал сразу хвост.
– Ежели бы так было, тебе бы сказали: в такой вот час иди к послу, да и только. А тебе говорят: иди, ежели сам хочешь и когда тебе любо. А коли размыслил,– не ходи. Дмитрей Иванович тебя не неволит.
– Когда же идти-то?– помолчав, спросил князь Михайла.
– А уж это ты сам решай. Коли желаешь, я пошлю человека на Посольский двор, дабы узнал он, когда посол тебя принять схочет. По ответу глядя и пойдешь. Отпустить тебя дозволено одного, без стражи. И такоже сам в обрат воротишься, когда наговоришься с послом.
– А где я толмача возьму? Ослобонили бы хоть на час боярина моего Федора Бибика: он сам ордынского роду и по-татарски знает вельми добро.
– Толмач тебе не занадобится, княже: ханский посол по-нашему чешет, словно бы на Руси родился. Сам слыхал.
– Ну, то еще лучше,– обрадовался Михаила Александрович.– Коли так, боярин, будь ласков, пошли кого-либо на Посольский двор немедля. Пусть твой человек спросит,– не можно ли мне сейчас прийти?
Когда пожилой и невозмутимый нукер ввел князя Михаилу в посольские покои, Карач-мурза, в полосатом шелковом халате и в расшитой золотом тюбетейке, сидел на скамье у стола и, макая гусиное перо в плошку с чернью, что-то писал на лежавшем перед ним листе сероватой бумаги.
И наружность и занятие посла были столь необычны для татарина, что Михаила Александрович в первый миг растерялся и подумал,– не подстроено ли все это Дмитрием? Но быстро сообразил, что будь это так,– ордынца сумели бы сделать более похожим. И потому, отбросив сомнения, он поклонился в меру низко и сказал послу, который в эту минуту поднял голову и глянул на вошедшего:
– Будь здрав на многие годы, почтенный мурза! А я, Михайла, княж-Александров сын и великий князь Тверской, усердный за тебя Богу молельщик.
– Здравствуй в мире и ты, князь,– негромко ответил Карач-мурза, кивнув головой.– Садись и сказывай, почто хотел меня видеть?
– Допрежь всего,– сказал князь Михаила, еще не садясь, как того требовал обычай,– хотел я тебя спросить: здоров и благополучен ли отец мой, великий хан Азиз-ходжа, наш мудрый повелитель и заступник всех неправедно обиженных?
– Великий хан Азиз-ходжа, да пребудет с ним навеки милость Аллаха, здоров и благополучен. Садись же и говори, какое дело привело тебя ко мне?
– Ты, высокородный мурза, не обессудь, что пришел я с пустыми руками и не могу ныне одарить тебя, как велит обычай и как мне бы самому хотелось. Сам знаешь, я тут не дома. Но уж как только ворочусь к себе в Тверь, тотчас пришлю тебе мехов собольих и саблю такую, что не у всякого хана сыщется…
– На добром слове тебе спасибо, князь, но даров твоих мне не надобно. Сказывай о деле.
*Бумага была изобретена китайцами во II в. до нашей эры. В средние века секретом ее изготовления владели арабы, от которых крестоносцы перенесли его в Западную Европу. На Руси она начала входить в употребление в первой половине XIV в., в Средней Азии еще раньше того. Гусиные перья впервые начали употреблять в VII в., в Испании.
– Коли так, изволь,– промолвил несколько удивленный Михаила Александрович.– Скажи, почтенный посол, ведомо ли великому хану, что Московский князь Дмитрей Иванович, по любви и братству зазвавши меня в Москву, тут повелел схватить и вот уже два месяца томит в заточении?
– Великий хан знает о том от твоего гонца. И он прислал меня сюда, чтобы моими глазами увидеть истину и моим разумением снова наладить мир и согласие промеж Москвой и Тверью.
– Благодарение Господу!– обрадованно воскликнул князь Михаила.– Коли так, ты уже повелел Московскому князю ослобонить меня и моих людей?
– Да. Такова воля великого хана, и я возвестил ее князю Дмитрею Ивановичу.
– Спаси тебя Господь, мурза! А великому хану Азизу-ходже, заступнику и покровителю моему, земно кланяюсь и обещаюсь быть верным слугою. Стало быть, я могу хоть сего же дня ворочаться в Тверь?
– Тверь не твой город,– спокойно промолвил Карач-мурза.– Ты можешь ехать в свою вотчину, в город Микулин.
– Как в Микулин?! Да ведь я ныне в Твери княжу!
– Ты сел в Твери силою и ханского согласия на то не испрашивал. Досе мы знаем Тверского великого князя Василея, дядю твоего,– а ты для нас князь Микулинский. И ежели набольший из русских князей, Дмитрей Иванович, тебя в Тверь не пускает,– правда на его стороне, ибо старый Тверской князь, коего ты незаконно согнал, жил с ним в мире и в дружбе, а ты того не хочешь!
– В том он солгал тебе!– воскликнул князь Михаила, пораженный таким неожиданным для себя оборотом дела.– Я с ним войны не ищу! Не хочу лишь крест ему поцеловать и признать себя его молодшим братом. Но равным быть согласен, хотя всем ведомо, что род мой выше его рода и что великое княжение над Русью по закону мне надлежит!
– У меня нет повеления от великого хана разбираться в том, чей род старше, князь. Но мне велено рассудить вас двоих,– князя Дмитрея и тебя. И я рассудил так: у князя Дмитрея нет права держать тебя в неволе, и ты свободен. Путь же твой из Москвы – в Микулин. А ежели хочешь в Твери княжить, допрежь того поладь добром с Московским князем. Без этого ни помощи, ни признания тебе от великого хана не будет.
– Эх, мурза! Воистину слепы вы там, в Орде! Ужели же великий хан не может уразуметь, что у Дмитрея на уме? Коли он нас, князей русских, всех себе покорит, мыслишь ты – станет он платить вам дань и ходить под рукою вашего хана? Он хочет стать единым и вольным царем над всей Русью, и вы же ему в том пособляете!
– А тебе, русскому князю, стало быть, любо, чтобы Русь всегда оставалась под рукою татарского хана и Орде дань платила?– спросил Карач-мурза, и в голосе его так явственно прозвучали насмешка и презрение, что Михаила Александрович смешался и забормотал:
– Да ведь ты, мурза, ханский посол!… Я к твоей выгоде говорю. Нешто тебе великий хан скажет спасибо, коли ты его ворога укрепишь? Даже дивно мне от тебя такое слышать!
– Ты по мне не болей, княже,– из воли великого хана я не выйду и за действа свои перед ним ответить сумею. Да он и сам знает, что плох тот государь, который своей земле добра не хочет.
– Да нешто я своей земле добра не хочу! Ну, как я с тобою, с татарином и с ханским послом, о том говорить могу? Или, может, ты вовсе и не татарин?
– Речь у нас не обо мне, а о тебе. И о том, где тебе надлежит княжить,– в Твери либо в Микулине.
– Вестимо, в Твери! И отец мой, и дед, и прадед были великими князьями Тверскими, ныне их стол надлежит мне и по закону и по общему хотению. Даже дядя мой, князь Василей Михайлович, хотя попервах и полютовал немного, а все же от великого княжения отступился добром и перешел из Твери обратно в Кашин.
– Перешел «добром» потому, что ты привел с собою литовское войско, коему он все одно не мог противустоять. А вот послушаем, что он скажет, когда за его спиною будет стоять московская рать да туменов десять татарской конницы? И много ли от того приключится пользы твоей земле и твоему народу?
– Стало быть, только на том вы меня в Твери и оставите, что поцелую я крест Московскому князю? – помолчав, спросил Михаила Александрович.
– Ежели поцелуешь князю Дмитрею крест и крестоцелование свое будешь блюсти, великий хан,– да умножит Аллах его славу,– обещает тебе свою милость и пришлет ярлык на княжение в Твери. А инако от Орды для себя добра не жди.
Михаила Александрович задумался. Конечно, надеясь на помощь князя Ольгерда и на разруху в Золотой Орде, можно было бы упереться на своем и отказаться от крестоцелования, а вместо Микулина поехать и сесть в Твери. Но кто знает, захочет ли Ольгерд ввязываться в войну с Ордой и не объединятся ли оба хана для совместного похода, сулящего им богатую добычу? Тверь к тому же еще как следует не укреплена,– не то что Москва… Стены деревянные, да и те всюду протрухлявились. Запасов в городе вовсе мало… «Пожалуй, лучше будет для видимости покориться, чтобы дали время справить свои дела и столковаться с Литвою,– подумал он,– а тогда еще поглядим – кто кого! За порушенное же крестоцелование, поелику меня к нему принудили, Бог не осудит!» Придя к такому заключению, он тяжело вздохнул и сказал:
– Ин будь по-твоему! Коли нельзя иначе, поцелую крест Дмитрею Ивановичу. Доведи великому хану: хотя и делаю то по принуждению,– первым клятвы своей не порушу, и доколе Москва меня не тронет, и я ее трогать не стану. Но пусть и назовусь, для людей, молодшим братом Дмитрея,– все одно в Твери буду править по своей воле, и ты ему скажи, чтобы знал свое, а мне бы не указывал.
– В Тверской земле хозяином будешь ты, а на Руси – князь Дмитрей. В чем ином он тебе указывать не станет, но за измену призвать тебя к ответу может всегда. И ты это помни.
– Да ведь этак он что хочешь за измену посчитать может! К примеру, учну я свой город обновлять либо приедет ко мне погостить зять мой, Ольгерд Гедиминович, а он скажет, что я к себе Литву призвал, чтобы с нею вместе на Москву идти! А коли не сам он такое выдумает, так митрополит ему назудит в уши. Ты его еще не знаешь, нашего святителя! Нешто не по его наущению меня Дмитрей схватил?
– Митрополит – человек святой жизни и великой мудрости. Его знает и чтит вся Орда. И никто плохому про него не поверит. А тебя я чем доле слушаю, тем более тебе дивлюсь. Даве ты меня спросил,– татарин ли я? Ну, а теперь я спрошу: да точно ли ты русский, князь Михаила?
Михаила Александрович остолбенел,– для него это было уж слишком. Подозрение, возникшее при первом взгляде на посла, нахлынуло на него с новой силой и разом обратилось в уверенность. Конечно, все это подстроено Дмитрием и митрополитом, чтобы обманом заставить его поцеловать крест Московскому князю либо уйти из Твери в Микулин! Потому Дмитрий столь нежданно и позволил ему идти к послу… И с ним говорит теперь какой-нибудь московский прощелыга, одетый татарином, думая поймать его, Тверского князя, в эдакую детскую ловушку! Но нет, шалишь!
– Ах ты, шут стоеросовый!– закричал он, побагровев от гнева.– Ты что же, думал – я дите неразумное либо николи не видел настоящего татарина? Битый час плетешь тут невесть что и мыслишь – так вот я тебе и поверил! Дурачье московское! Хоть бы кого иного послом-то вырядили, а ты, поди, от Орды и близко не бывал! Я едва глянул на твою харю, так сразу и разгадал всю вашу затею! Ужо пождите: великому хану будет ведомо, что за дела вы тут творите его именем,– тогда поглядим, какой ярлык он вам пропишет!., да чего ржешь-то как жеребец?
Карач– мурза, при первых словах Тверского князя, открыл рот от изумления, затем грозно нахмурился и вскочил с места. Но в следующий миг гневное выражение его лица внезапно сменилось веселым. Он широко улыбнулся, показав собеседнику два ряда белых, как кипень, зубов и наконец, позабыв о своем посольском достоинстве,-повалился обратно на скамью и захохотал безудержно и так заразительно, что у Михаилы Александровича гнев сразу остыл и ему тоже захотелось смеяться.
– Эк тебя прорвало,– промолвил он.– Ну, ладно, хватит! Выкладывай теперь – кто ты таков и кто тебя научил предо мною скоморошничать?
Утирая рукавом выступившие на глазах слезы, Карач-мурза достал из кармана золотую пайцзу и бросил ее на стол перед князем Михайлой.
– Не сумневайся, князь,– сказал он, не без труда придавая своему лицу обычное невозмутимое выражение,– я настоящий посол, хотя и мало похож на татарина, а потому буйство твое тебе в вину не ставлю. Но думаю, что разговор наш можно на этом закончить. Завтра ты поцелуешь крест князю Дмитрею Ивановичу и после того можешь ехать в Тверь. Я доведу великому хану, что ты волю его исполнил, и он пришлет тебе ярлык на тверское княжение.
Глава 15
И тогды князь великий Дмитрей Иванович да Алексей митрополит попускаша князя великого Михаила Александровича Тферьского и бояр его восвояси. Князь же Михаиле осерчаша вельми и о том негодоваше, что ему учинили на Москве, и положил то в обиду и про то имеаше розмирие к великому князю, наипаче же на митрополита жаловашеся,– к нему же веру имел паче всех, яко по истине святителю. Троицкая летопись
Спустя день в соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, после торжественного молебна, князь Михаила Тверской целовал крест Дмитрию Ивановичу, великому князю Московскому и всея Руси.
По повелению Дмитрия обряд был проведен с великою пышностью, в присутствии всей московской знати и тех удельных князей, которые в ту пору находились в Москве. Впрочем, их было немного: кроме Владимира Андреевича Серпуховского, только Константин Иванович Оболенский, с сыновьями Иваном и Андреем, Федор Романович Белозерский да Федор Михайлович Моложский – статный белокурый юноша, ровесник и друг князя Дмитрия.
Зато боярство московское было почти в полном составе. Тут находились все четыре брата митрополита Алексея – Феофан, Федор, Матвей и Александр Плещеи; Кобылиных было пятеро: кроме Гавши и Кошки, еще Семен Жеребец, Александр Елка и Василий Вантей; был и московский тысяцкий, престарелый боярин Василий Васильевич Вельяминов, с сыновьями Иваном и Микулой, и брат его – окольничий и воевода Тимофей Васильевич.
В ладанном тумане собора боярские ферезеи сверкали золотом и самоцветами, в отблесках свечей палево искрились низанные жемчугом воротники; чтобы не ударить лицом в грязь перед другими,– каждый приоделся сегодня в самое лучшее, но всех затмили богатством своих одеяний братья Дмитрий, Иван и Владимир Всеволожские – сыновья Смоленского князя Всеволода Глебовича, приехавшие служить Московскому государю. Среди бояр и приближенных Дмитрия Ивановича не одни они были Рюриковичами: братья Иван Уда, Михаила Крюк да Иван Собака принадлежали к роду князей Фоминских .( Их отец, удельный князь Федор Юрьевич Фоминский, был женат на разведенной жене Симеона Гордого, Евпраксии.)
Чуть не пополам уже согнула старость Алексея Васильевича Босоволкова, а пришел тоже; рослый и дородный Иван Окатьевич Валуй рядом с ним кажется истинным великаном; хоть и не столь высок, но осанист и важен Иван Федорович Воронцов; виден собой и Михаила Челяднин, а вот Иван Андреевич Одинец – тучен и вширь расплылся, из него бы двоих таких можно сделать, как старший брат его, сухонький, и желтый Константин Добрынский. Всех взял роскошною, черной как смоль бородой Дмитрий Александрович Зерно,– внук, татарского мурзы Чета, пришедшего из Орды на службу к Ивану Калите. Был среди бояр Дмитрия настоящий татарин – царевич Серкиз, во святом крещении Иван, годов семь тому назад счастливо спасшийся от Кидыревой резни в Сарае и приехавший, вместе с сыном своим, служить Московскому князю. Был и один боярин из немцев ныне Семен Мелик, а прежде – рыцарь фон Мельк.
* История сохранила около пятидесяти имен московских бояр княжения Дмитрия Донского,– по-видимому, всех его ближайших сотрудников и главных воевод.
**Тысяцкий в Москве начальствовал над всем сборный войском (за исключением постоянной княжеской дружины) и, кроме того, имел гражданскую власть, совмещая в себе, применительно к более поздней терминологии, должности губернатора и командующего войсками округа.
***От мурзы Чета и боярина Зерно произошли Годуновы и Сабуров.
Пришли также братья Свиблы, Логин Кикин, Родиов Квашня, Андрей Борков, Юрий Кочевий да Юрий Щека Дмитрий Минаевич Минин, Иван Мороз, Иван Хромой Андрей Шуба, Данила Рыбкин-Борцов и иные. Тут же, чуть стороне, рядом с воеводами Петром Лихачевым и Семеном Добрынским, стоял мало еще с кем обзнакомившийся прусский воевода Драница, только лишь накануне крещенный Иваном.
Отдельной кучкой, хмурые как сычи, стояли тверские бояре Гаврила Бороздин, Федор Бибик, Тарас Шетнев Андрей Кондырев, Михаила Левашев и Афанасий Сулин в недобрый час приехавшие в Москву вместе со своим князем и отсидевшие два месяца взаперти, по домам московских бояр. Впрочем, судя по упитанным телам и лоснящимся лицам, неволя ни для кого из них не оказалась тяжелой и с особыми лишениями отнюдь не была связана.
Ко кресту приводил Тверского князя сам святитель Алексей. Михаила Александрович был угрюм и не старался скрыть своего раздражения. Ему не без основания казалось, что все это можно было совершить гораздо проще и скромнее, и, что Дмитрий созвал сюда всю Москву нарочно, чтобы все увидели унижение его соперника. Клятву свою он пробормотал сквозь зубы, скороговоркой, и когда, после целования креста, Дмитрий Иванович, по обычаю, обнял своего нового «молодшего брата»,– князь Михаила наскоро, будто клевал, ткнулся в его щеки плотно сжатыми губами и, не подойдя даже под благословение митрополита, направился к выходу из храма.
Дмитрий, наоборот, был приветлив и, казалось, не замечал скверного настроения Тверского князя. Едва возвратившись из церкви во дворец, он послал Ивана Васильевича Вельяминова звать Михаилу Александровича и его бояр на большой ужин, тем же вечером. Князь Михаила, уже готовый к отъезду, отказался наотрез.
– Глаза бы мои на них не глядели, не то что с ними за одним столом сидеть! – в сердцах добавил он.– Обладили свою плутню, не хуже чем заправские оплеталы на торгу, а теперь и за пирок! Языки бы они себе пооткусывали!
– Пускай их покуда тешатся,– промолвил боярин Вельяминов – Воровством добытое никому впрок не пойдет.
– Москве, видать, идет!
– То до поры, княже.
– Ну, Дмитрей – это еще так,– продолжал Михаила Алексеевич,– от него всего ждать было можно: каково дерево, таков и плод. Но митрополит! Отец духовный всея Руси, образчик благочестия, поглядеть на обличье,– живым можно в рай пустить! Я ему как самому Богу верил, ан у него совести меньше, чем у козла!
– Ништо, Михаила Александрович, по крайности, ты теперь узнал, каковы они есть, а дело наше еще не пропало. Ты когда выезжать мыслишь?
– Как когда? Да вот сразу после полдника и выеду. Чай, московским гостеприимством по горло сыт!
– Так оно, вестимо, лучше: для тебя теперь время дороже золота. Хоть ты Дмитрею крест поцеловал, все одно он тебя в покое не оставит, покуда вовсе не сломит,– я его думки знаю. А потому ты, не теряя дня, крепи Тверь да столкуйся с Ольгердом Гедиминовичем, чтобы рать свою держал наготове, возле самых тверских рубежей. По этому году Дмитрей на тебя едва ли пойдет,– войска у него еще маловато, да и кремль каменный он сперва хочет достроить. Но к весне ожидай и будь готов.
– Коли до весны у меня срок будет, я ему и собраться не дам,– первым на него ударю! Лишь бы по осени не нагрянул.
– Не нагрянет. А ежели тут будет что затеваться, я тебя о том загодя упрежу.
– Спаси тебя Христос, Иван Васильевич, а я твоей дружбы не забуду. Коли наша возьмет, быть тебе тысяцким на Москве, после твоего родителя. Да и еще чего попросишь,– отказу тебе не будет.
– На добром слове спасибо, княже. Буду и я тебе верным слугой. А покуда прощай и легкий тебе путь! Я же пойду: лучше бы никто не увидел, что мы с тобою тут долго беседуем.
– Прощай, Иван Васильевич, оставайся с Богом!
Боярин Вельяминов ушел, а два часа спустя Тверской князь, вместе со всеми своими людьми, не простившись с Дмитрием, покинул Москву.
Глава 16
Пиршество во дворце великого князя Дмитрия состоялось и без тверских гостей. В большой трапезной, богато убранной по стенам драгоценной посудой и охотничьими трофеями, за широкими дубовыми столами собралось в тот вечер человек полтораста приглашенных.
Дмитрий Иванович, несмотря на нрав довольно крутой и властный, как никто из московских государей, был дружен со своими боярами. В службе он был к ним требователен, но в то же время милостив, помощь и хороший совет ценил и ни одного важного дела без боярской думы не начинал, хотя не раз бывало, что, выслушав терпеливо все мнения, делал потом по-своему. Бояре его побаивались, но любили и служили ему честно,– такие, как Иван Вельяминов, были среди них редкими исключениями.
Любил Дмитрий и повеселиться, и обычно каждое хорошо завершившееся государственное дело венчал подобным пиром, на который звал всех своих помощников и приближенных. Но вместе с тем был он бережлив,– на столах у него немного бывало дорогих иноземных вин и заморских сластей, зато серебряным братинам и ендовам с хмельными медами и сулеям с крепкими настойками не было счету, а уж о яствах и говорить нечего! На Руси в старину умели поесть и выпить,– нынешний едок не пошел бы дальше того, что стояло на столах в начале трапезы.
В круглых серебряных мисах были здесь студни,– свиные, куриные и рыбные, моченые яблоки, редька в сметане, соленые огурцы и грибы всевозможных сортов; в приземистых золотых ставцах – икра осетровая, белужья и щучья играла веселой искрой, дробя и отражая свет сотен восковых свечей, освещавших трапезную; на кованых и резных драгоценных блюдах, всюду, куда ни глянь, громоздились и иные холодные закуски: копченые языки, окорока, буженина, рыбные балыки, поросятина под хреном, налимья печень с луком, перепела в масле и многое еще.
Казалось бы, во всю ночь не одолеть гостям этого изобилия, ан нет, – не проходило и получаса, как многие блюда и мисы уже пустели, их наполняли снова или заменяли иными. Десятка два хорошо обученных своему делу отроков,– к каждому случаю все в одинаковых длинных рубахах, то голубых, то белых, то алых,– бесшумно двигались за спинами пирующих, передавая блюда, наполняя тарелки и разливая по чаркам настойки, кому какая люба: рябиновую, мятную, полынную, можжевеловую, смородиновую, анисовую…
Проходил час либо полтора, и отроки убирали со столов десятки порожних блюд. Но трапеза этим лишь начиналась: слуги вносили объемистые серебряные мисы со щами и с ухой, блюда с мясными, рыбными и капустными пирогами, кулебяками, курниками, лапшатниками, блинчатниками и оладьями.
Затем появлялись рыбные кушанья и к ним в небольшом количестве белое угорское или рейнское вино. И наконец, следовало традиционное блюдо московского великокняжеского и царского стола, без которого не обходилось ни одно пиршество: жареные лебеди. Слуги вносили их целиком, на резных деревянных подносах, изукрашенных зеленью, и ставили на особый стол, посреди трапезной, где несколько стольничих резали их на части и раскладывали по серебряным блюдам. Обычно рассчитывали одного лебедя на шесть – семь едоков, но до конца пиршества еще было далеко.
Дав пирующим время управиться с лебедями, их продолжали потчевать другими мясными блюдами: несли запеченных с кашей ягнят, гусей с яблоками, уток с тертой свеклой, тетеревов с брусникой, рябчиков в сметане, оленину с чесноком и другое. Слуги в это время обносили гостей красным грузинским вином и крепкими стоялыми медами, от старости утратившими сладость. И в конце подавались «заедки»: ягоды, варенные в меду,– а летом и свежие, со сливками,– орехи, пряники, коврижки и сладкие пироги, мед в сотах, малиновый и смородиновый квас и сладкие наливки.
В это время, иной раз, по распоряжению князя, в трапезной появлялись песенники – гусляры, а то и ряженые – скоморохи, принимавшиеся дурачиться между столами и потешать гостей забавными выходками и прибаутками. Среди них часто бывали известные острословы, умевшие ловко поддеть и вышутить кого-либо из присутствующих, но на это обижаться не полагалось.
*Братина – сосуд в форме широкой, круглой вазы; ендова – то же самое, только с «носиком»; сулея – фляга, бутыль.
** Позже вошло в обычай накрывать их чехлами из лебединых шкурок, с полным оперением, так что казалось, что в столовую вносят живых лебедей.
Такая трапеза длилась часами, и по ее окончании, несмотря на привычку, далеко не все бывали в состоянии подняться с места. Но выпившие лишнее держали себя благопристойно, разума не теряли, а если где-нибудь и вспыхивала ссора,– обычно было достаточно строгого слова государя или укоризненного взгляда митрополита, чтобы она прекратилась. И лишь в редких случаях, по знаку Дмитрия, стольникам приходилось выводить из-за стола без меры упившегося и отправлять его домой.
Один лишь владыка Алексей не пил ничего, ел только рыбное и до конца никогда не оставался. Обычно, когда вносили лебедей, он покидал трапезную, сославшись на недомогание или на необходимость работать.
Несмотря на то что, по нынешним представлениям, каждый ел за четверых,– по окончании пиршества многие яства оставались несъеденными, и на следующее утро дворцовые слуги, в сопровождении стольников, разносили блюда со снедью по домам бояр и иных гостей, которым великий князь желал выказать свое особое благоволение.
На пир, конечно, был зван и Карач-мурза. Его посадили на почетное место, по левую руку великого князя,– по правую сидел митрополит Алексей. От прежнего высокомерия Дмитрия не оставалось теперь и следа,– он просто и дружески беседовал с ханским послом, расспрашивая его о Белой Орде и о Хорезме, где воспитывался мурза, и дивясь его обширным знаниям.
Такое отношение со стороны князя Дмитрия было понятным: Карач-мурза оказал ему важную услугу. Кроме того, былая ненависть к татарам в русском народе теперь уже значительно ослабела, а представители татарской знати обычно встречали на Руси радушный прием, ибо как раз в эти годы, видя начавшийся развал Орды, они усиленно искали сближения с русскими князьями и охотно переходили к ним на службу. К концу четырнадцатого столетия, среди бояр и воевод Московского, Тверского, Рязанского, Нижегородского и иных русских княжеств, было уже немало татар, ставших родоначальниками значительной части старого русского дворянства.
*Не считая сохранивших княжеский титул почти сорока родов татар ского происхождения, как, напр., Юсуповы, Кудашевы, Кугушевы, Тохтамышевы, Урусовы, Девлет-Кильдеевы и др.,– от татарских корней идет значительная часть русской аристократии, напр., графы Апраксины, Уваровы, Ростопчины, Орловы-Давыдовы, Матюшковы, Зубовы, дворяне Сабуровы, Ртищевы, Вердеревские, Хитровы, Поливановы, Бибиковы, Муромцевы, Юзефовичи, Ермоловы, Щербачевы, Арсеньевы и многие другие.
Едва выпили по две-три чарки и закусили, Дмитрий подал знак, и к Карач-мурзе приблизились окольничий Челищев и стольник Сенявин. Первый обеими руками держал на вышитой шелком подушке драгоценную саблю, в ножнах, богато изукрашенных золотом и самоцветами, второй – налитый до краев золотой кубок замечательной чеканной работы. В трапезной внезапно наступила полная тишина.
– Высокородный князь и мурза! – с низким поклоном сказал Челищев.– Князь великий Дмитрей Иванович Московский и всея Руси просит тебя принять от него эту саблю, в дружбу и в память!
Карач– мурза встал, низко поклонился Дмитрию, вынул саблю из ножен и, держа ее одной рукой за эфес, а другой за острие, приложил ко лбу и к груди, потом поцеловал клинок и сказал:
– Именем великого Аллаха клянусь всегда быть тебе верным другом, князь! И если я порушу свою клятву, да поразит эта сабля меня самого !( Клятва на сабле, с соблюдением описанного ритуала, считалась у татар священной, нарушение ее почиталось навеки несмываемым позором)
Окольничий Челищев сделал шаг в сторону, и на его место встал стольник Сенявин.
– Высокородный князь и мурза,– кланяясь, сказал он.– Великий князь Дмитрей Иванович Московский и всея Руси просит принять тебя этот кубок, как память о том, что на Москве ты всегда желанный гость!
Карач– мурза взял из рук Сенявина кубок, снова поклонился Дмитрию и промолвил:
– Будь здрав на многие годы, князь, и пусть Аллах никогда не оставит тебя своими милостями! Твой подарок мне дорог, но ласка еще дороже. А Москвы не забуду, и путь, ведущий в нее, всегда будет для меня путем желанным и радостным.– С этими словами он осушил кубок до дна, поставил его на стол и, опять поклонившись великому князю, сел на свое место. Трапезная огласилась приветственными криками и звоном кубков и чар.
– Ты сегодня много поведал мне об умельстве ваших хорезмских мастеров,– сказал послу Дмитрий Иванович.– Так вот, ежели тебе случится, покажи там эту саблю и кубок. Они сработаны здесь, в Москве, руками наших русских умельцев.
– Такую работу можно хвалить целый день, и все-таки будет мало,– ответил Карач-мурза, разглядывая художественную чеканку, покрывавшую кубок.– В Ургенче не сделали бы лучше. И многие иные вещи, что я видел в Москве, тако-же сработаны с великим уменьем. Ты по праву можешь гордиться своими мастерами, княже.
– Есть у меня немало людей вельми умелых и добрых поможников, но сколько их еще надобно! Земля наша велика и не сделана, чтобы поднять ее, рук не хватает! И потому на Руси всякий знающий человек,– книжник ли, воин либо какой рукомесленник,– всегда желанен, отколе бы он ни пришел. И ты, князь, ведай и помни: коль захочешь мне служить,– мало ли чего может не ныне, так завтра случиться у вас в Орде,– я всегда тебе рад буду. В боярах моих есть уже один ваш царевич, а тебя еще выше поставлю! Истинно говорю: полюбился ты мне, да и святитель наш сказывал, что ты не такой татарин, как иные, и хвалил тебя, как доселе никого, кажись, не хвалил. А он людей видит наскрозь!
– Спасибо на добром слове, князь,– ответил Карач-мурза.– И коли однажды Орду покину, никому, кроме тебя, служить не стану. Но на все воля Аллаха, она же мне повелевает быть покуда в Орде.
– И ты ей повинуйся, сыне,– вставил митрополит, внимательно слушавший этот разговор.– Быть может, она поведет тебя долгой дорогой, но выведет куда надо. А Дмитрею Ивановичу, когда придет час, я открою то, что покуда лишь мы двое знаем. Ты когда из Москвы тронешься?
– После завтрашнего дня на рассвете выеду, святой отец.
– Ужели же ты мыслишь на Литву ехать со всеми своими татарами? Ведь их при тебе, почитай, более полусотни!
– Нет, аксакал, нукеров моих и слуг сотник Ойдар поведет отсюда прямо в Орду. Я оставлю при себе лишь двоих либо троих.
– Гм… А нет ли средь твоих людей таких, чтобы добре знали русскую речь?
– Есть один, что знает не хуже меня. Он сын русских родителей, давно полоненных татарами. Я потому и взял его к себе в нукеры, чтобы было с кем говорить по-русски.
– Он тебе предан?
– Он при мне неотлучно уже шесть лет, аксакал. И много раз доказал свою верность.
– Вот его и возьми. А другого я тебе дам,– он тоже человек надежный и отменно знает все те места, по которым ты поедешь. Больше никого и не надобно. И мыслю я, что лучше бы тебе обрядиться и сказываться в пути русским. Эдак ты куда больше увидишь и узнаешь. С ордынцем небось всякий будет держать себя начеку и языка перед ним не развяжет.
– Я и сам о том думал, святой отец. По слову твоему и сделаю, а за советы твои и за провожатого великая тебе благодарность.
– Знаю и я от владыки, что хочешь ты поглядеть теперь на Литовскую Русь,– вставил Дмитрий. – Ну что же, с Богом! А ежели в чем нужна тебе моя помощь,– говори, все сделаю.
– За ласку твою и за доброту, княже, пусть Аллах воздаст тебе девять раз вдевятеро (число девять считалось у татар особенно счастливым) . Но, кажись, ничего мне не надобно.
– Ну, гляди. В пути, коли будет тебе сподручно, можешь сказываться московским боярином. По тем землям, которыми ты поедешь, друзей у Москвы немало, и боярина моего навряд ли кто посмеет обидеть. А ежели что худое приключится,– пришли весть, и я тебе пособлю. Только на этот случай скажи мне наперед – каким именем зваться станешь?
– Спаси тебя Аллах, княже,– с непритворной искренностью в голосе промолвил Карач-мурза. И, минутку подумав, добавил, – А назовусь я Иваном Васильевичем Снежиным.
– Ну вот и ладно, Иван Васильевич,– улыбнулся митрополит,– так мы тебя теперь и станем звать. Завтра зайди ко мне, -простимся. А покуда оставайся с Богом и веселись, я же пойду. Стар стал и немощен,– грешное тело просит отдыха…– И, осенив всех общим крестным знамением, святитель покинул трапезную.
А день спустя, на рассвете, Карач-мурза, с двумя спутниками, выехал из Москвы, держа путь на Серпухов.
Часть 2 Глава 17
Разумные изречения и слова благодарности не стираются со страниц книг и с листов рукописей, а потому, когда достойные люди уходят в мир небытия, память о них остается жить навеки. Мухаммед ал-Захири, Самарканд, XII в.
Карач– мурза не мог помнить своего отца,-ему не было и года, когда погиб князь Василий. Но по рассказам близких он представлял его себе необыкновенно живо, наделяя всеми положительными качествами мужчины, воина и князя, в размерах близких к совершенству. И это было естественно: не только мать и Никита Толбугин, но и все родственники-татары,– включая даже сурового и надменного Урус-хана, дядю Карач-мурзы,– всегда с таким уважением говорили об его отце, что у мальчика и не могло сложиться о нем иных представлений.
По этим рассказам он хорошо знал все обстоятельства гибели отца и того, что за нею последовало. Будучи уже взрослым человеком и улусным князем, не раз подолгу задумывался он о минувшем и о необычности своей собственной судьбы, сидя на берегу Миаса, под той самой ивой, где предательская стрела оборвала жизнь князя Василия. Здесь думалось особенно хорошо,– от могилы отца шли, казалось, незримые токи, умиротворяющие сердце и несущие ясность мыслям. И в такие часы с особой признательностью вспоминал он Никиту, благодаря которому сохранилась эта дорогая могила.
Еще со времен язычества татары,– чтобы предохранить останки умершего от возможного осквернения врагами,– всегда хоронили своих покойников на равнине, в стороне от каких-либо естественных примет, а чтобы скрыть всякие следы погребения,– прогоняли над могилой табун лошадей, тем больший, чем выше был, по своему положению, покойник. Так, например, когда умер Чингисхан,– над тем местом, где останки его были преданы земле,– на берегу реки Онон, в Монголии,– гоняли двадцать тысяч коней до тех пор, пока вся окрестность не была ими вытоптана столь основательно, что никто не сумел бы уже определить местоположения могилы.
Позже, под влиянием ислама, этот языческий обычай начал постепенно отмирать, и многих татар,– в особенности знатных,– стали хоронить в специально выстроенных мавзолеях. Но в отдаленных от очагов культуры, окраинных улусах еще долго придерживались старины, и именно так хотели похоронить князя Василия.
Но Никита этого не допустил. По его настоянию князь был похоронен на том самом месте, где испустил свой последний вздох,– у берега реки, в полуверсте от основанного им городка. За неимением православного священника обряд погребения совершил мулла, но над могилою был насыпан высокий курган, на вершине которого Никита,– прочитав все, какие помнил, христианские молитвы,– водрузил сделанный им самим огромный дубовый крест.
Как внезапный горный обвал, обрушилась смерть Василия Пантелеевича на всех его близких. Об этой поре их жизни Фейзула-ханум почти ничего не рассказывала сыну, и он, понимая, как тяжелы для нее эти воспоминания, сам никогда ее не расспрашивал. Но от Никиты он постепенно узнал все.
Потрясенная горем Фейзула в первые недели, казалось, помутилась в рассудке. Она была явно неспособна к принятию нужных решений, и их дальнейшей судьбой пришлось распорядиться одному Никите. Верный слуга и друг погибшего князя хорошо понимал, что им нельзя оставаться в уединенном северном улусе после того, как вся орда великого хана Мубарека откочевала далеко на юг: это было небезопасно, пока жив был убийца Василия, а кроме того, все здесь напоминало Фейзуле о страшном событии,– ее душевная рана всегда оставалась бы открытой, постепенно лишая ее остатков воли к жизни. И потому Никита принял единственно правильное решение: увезти осиротевшую семью князя Василия в улус хана Чимтая, где она имела бы надежную защиту и где Фейзула, в привычной с детства обстановке и в кругу родных, легче могла бы пересилить свое горе.
Но когда Никита попробовал заговорить об этом с Фейзулой, она решительно заявила, что не покинет могилы мужа.
*Очевидно, при погребении Чингисхана были приняты и другие предосторожности, потому что советские археологи, недавно обнаружившие эту могилу, тела в ней не нашли.
**Этот курган существовал в Оренбургской губернии до наших дней и назывался у окрестных жителей «княжьим курганом», хотя всякая память о том, кто под ним похоронен, давно исчезла.
Потребовалось много мягкой настойчивости, ума и времени, чтобы пробудить благоразумие в отчаявшейся женщине, но все же Никите это удалось. И однажды, целое утро пролежав ничком на кургане Василия, как бы прощаясь с дорогим ей прахом, Фейзула возвратилась в шатер с воспаленными от слез глазами и сказала, что ради безопасности сына и ради его будущего она готова уехать.
Никита не замедлил воспользоваться ее согласием, тем более что времени терять было нельзя: на пороге стояла осень, а от берегов Исети до Мангышлакского полуострова, где находилась ставка хана Чимтая, путь был не близкий. Когда прибыли они к берегам Хвалынского моря, здесь уже бушевали холодные зимние ветры, а оставленный ими Новый Карачев давно был засыпан снегом по самые крыши.
В стойбище хана Чимтая, где уже знали о гибели князя Василия, их приняли как своих. Особенно много душевного тепла и заботы уделила осиротевшей семье ханум Кудан-Кичик,– старая подруга Фейзулы и жена ее брата Туй-ходжи-оглана. По ее настоянию их юрты были поставлены рядом, что позволяло молодым женщинам все время быть вместе. И мало-помалу веселой и говорливой Кичик удалось победить отчаянье Фейзулы и вывести ее из состояния тупого равнодушия ко всему окружающему. Правда, ее навсегда покинула прежняя жизнерадостность, и она поклялась себе, что больше не выйдет замуж, но все же, когда наступило новое лето, глаза ее уже не были красны от слез, и, сидя рядом с Кичик, у входа в шатер, она с улыбкою примиренности часами могла наблюдать, как у ног ее ползали по горячему песку маленькие Карач и Тохтамыш. Когда одному из них, после долгих усилий, удавалось встать на ноги и сделать неуверенный, валкий шажок,– другой ревниво старался опрокинуть его на землю. Но все же первым начал ходить Карач-мурза: как-никак, он был на три месяца старше своего двоюродного брата.
Минул еще год, и пришли новые перемены: умер хан Мубарек-ходжа и на собравшемся курултае великим ханом Белой Орды был провозглашен Чимтай. Ставка его перешла в город Сыгнак, а Мангышлакский улус наследовал Туй-ходжа-оглан. Фейзула, которой предстояло решить,– ехать ли с отцом или оставаться с братом, почти без колебаний остановилась на последнем. Душевная рана ее была еще так свежа, что ее пугала жизнь в большом и шумном городе, к тому же не хотелось расставаться с Кичик. Она боялась, что отец не посчитается с ее желанием и попросту прикажет ей следовать за собой, но Чимтай, выслушав ее, лишь сказал:
– Пусть будет так. Пока твой сын мал, оставайся тут. Но когда тело его окрепнет и разум созреет для того, чтобы вмещать знания, ты привезешь его в Сыгнак. Я позабочусь о его воспитании и о его будущем.
*Хвалынcким морем тогда называлось Каспийское.
**Курултай – верховный совет татарской знати, собиравшийся иногда для решения особо важных государственных и инастических дел.
Чимтай, как известно, был миролюбив и с соседями своими старался ладить. Это ему удавалось без особого труда, ибо его современник, золотоордынский хан Джанибек, тоже не стремился к подавлению Белой Орды. Таким образом, в отношениях между обоими татарскими царствами, на пятнадцать лет, то есть до смерти Чимтая, наступил период затишья, и как детство, так и юношество Карач-мурзы протекли в мирной обстановке. До тринадцатилетнего возраста он не покидал Мангышлакского ханства и воспитывался как всякий татарский мальчик – будущий воин. Высокое происхождение не избавляло его от прохождения этой общей суровой школы,– наоборот, налагало обязательство пройти ее полнее и лучше других. К двенадцати годам он уже во всем был привычен к кочевой и походной жизни, отлично скакал на любом коне, метко стрелял из лука и саблей перерубал водяную струю с такой ловкостью, что не отбрызгивалась ни одна капля.
Неизменным товарищем его детских игр и воинских упражнений был Тохтамыш. Мальчики росли вместе, были неразлучны, и с детских лет их навсегда связала крепкая дружба, несмотря на то что характеры их были совершенно различны.
Тохтамыш обладал большими способностями, умом и волей, но по натуре своей был властен, честолюбив и скрытен. Живя в атмосфере ханских интриг и усобиц, он рано понял, что тот, кто ищет высокого положения и власти, всегда должен быть готовым к явной или тайной борьбе против любого соперника, а таковым вероятней всего мог явиться кто-нибудь из близкой родни. И потому с детства он привык не доверять никому.
Карач– мурзу, наоборот, никакие честолюбивые планы и мечты не занимали, он был уравновешен, прям и чужд какого-либо лукавства, а к тому же, под влиянием Никиты, в эти годы он свое будущее еще связывал с Русью, считая, что в Орде находится лишь временно. И потому Тохтамыш, несмотря на свою природную подозрительность, не мог сомневаться в искренности его дружбы и сам платил ему тою же монетой.
Но истинным пестуном и наставником Карачевского княжича, волею злого случая обреченного на жизнь в татарской Орде, был в эти годы Никита. Свято выполняя клятву, данную умирающему князю Василию, он посвятил заботам о мальчике и его воспитанию весь остаток жизни и перенес на своего питомца всю ту любовь и преданность, которую питал к его отцу.
Будучи только воином и человеком неженатым, он раньше никогда не имел дела с детьми, но все же сумел найти правильный подход к сердцу ребенка и завоевать его любовь и доверие. Он научил смышленого малыша говорить, а позже – читать и писать по-русски и постепенно передал ему все, что сам знал о Руси и о роде его отца, неустанно внушая – каким должен быть истинно русский человек и русский князь. А так как собственные понятия Никиты были весьма возвышенны и сам он был человеком безупречной честности и благородства,– таким же рос под его влиянием и Карач-мурза.
Во всем этом татары Никите не мешали: они считали важным, чтобы мальчик получил правильное воинское воспитание, область же духа их интересовала мало. К тому же Никита пользовался среди них большим уважением, они знали, что ничему худому он не научит, а если и привьет ребенку кое-что русское,– плохого в том нет, потому что то же самое привил бы ему и родной отец, если бы остался жив.
И только однажды, когда Сулукан-беки, старшая жена хана Чимтая, позвала муллу, чтобы он совершил над мальчиком мусульманский обряд обрезания,– произошло столкновение, ибо Никита этому решительно воспротивился. К счастью, сам Чимтай был совершенно равнодушен к вопросам веры и потому встал на сторону Никиты. Напомнив о Ясе Чингисхана, устанавливающей полную веротерпимость, и о том, что даже некоторые взрослые чингисиды еще не приняли ислама, он объявил, что Карач-мурза волен сам выбрать себе религию, когда разум его достаточно созреет для этого. Таким образом, характер и внутренний облик мальчика складывались почти исключительно под влиянием Никиты, который с ним не разлучался. Впрочем, один раз он все-таки покинул своего питомца довольно надолго.
*Яса – уложение, составленное Чингисханом для руководства его наместникам и потомкам в определяющее основные нормы законодательства и управления государством.
Глава 18
Да будет благословен Аллах, определяющий судьбы и справедливо устанавливающий возмездия! Усами Ибн-Мункиз, XII в.
Это случилось спустя год после смерти князя Василия, когда они уже обжились в Мангышлакском улусе и Фейзула внешне примирилась со своей утратой. Убедившись в том, что ни ей, ни ребенку не угрожает здесь никакая опасность и что о них есть кому позаботиться в его отсутствие, Никита однажды явился в шатер к Чимтаю.
– Отпусти меня, хан, в Золотую Орду,– промолвил он после обмена приветствиями. – Коли будет на то Божия воля, я невдолге и ворочусь. Ну, а ежели не ворочусь, не оставь младенца-то нашего. Чай, в нем и твоя кровь течет. Чимтай внимательно поглядел на Никиту. Он сразу понял, зачем понадобилось ему ехать в Золотую Орду.
– Что бы с тобой ни случилось, сейчас или в будущем,– несколько помедлив, ответил он,– за мальчика ты не бойся: пока я жив, внук мой не будет нуждаться ни в чем и с головы его не упадет ни один волос. Но тебе незачем ехать в Золотую Орду: собаку Хисара разыщут мои люди и я сам покараю его.
– Нет, хан,– решительно сказал Никита,– злодей от меня должен смерть принять! В том я поклялся князю моему в смертный час, на святой его крови, и коли такой клятвы не исполню, лучше и мне на свете не жить, ибо гадок я себе стану, как жаба. О тебе знают,– сам ты николи слова своего не порушил, пойми же теперь и меня. И мести моей не препятствуй.
– Хорошо,-после небольшого раздумья ответил Чимтай.– Будь по-твоему, и да поможет тебе Аллах! Но что ты один сделаешь? Враг твой силен и хитер. Возьми с собой сколько захочешь моих воинов и скажи – в чем еще нужна тебе моя помощь?
– Спаси тебя Аллах, пресветлый хан! А помощи мне не надобно. Вот разве, коли сможешь добыть мне Джанибекову пайцзу, – ты ведь с ним хорош,– она бы мне пригодилась, ибо открывает в Орде все пути и двери. А из людей возьму с собой лишь аньду своего Кинбая, да еще двух верных татар, его родичей.
– Кинбай? Это не тот силач, которого поборол ты в Чамга-Туре?
– Он самый и есть, почтенный хан. С того случая мы и побратались, а после был он сотником в улусе нашего князя и тоже небось рад будет отомстить за его смерть.
– Ну, вдвоем с Кинбаем вы целой сотни стоите,– усмехнулся Чимтай. – А пайцзу, вот, возьми мою, мне ее Джанибек прислал, когда сел в Сарае великим ханом. С нею тебя никто не посмеет тронуть, а коли велишь – еще и помогут.
– Благодарствую, милостивый хан! Помощи просить ни у кого не стану, не чинили бы только помехи,– сказал Никита, пряча за пазуху золотую пайцзу. – Ну, оставайся с Богом и прости, ежели когда не угодил тебе в чем…
– Ты благородный человек, и я никогда, даже в мыслях, ни в чем не мог упрекнуть тебя. Поезжай, и да сопутствует тебе милость Аллаха!
*Аньда – побратим, кунак.
*Чамга – Тура -нынешняя Тюмень.
Без всяких приключений приехав со своими спутниками в Сарай-Берке, Никита в первый же день узнал, что Хисар-мурза находится в городе и живет возле самого ханского дворца, в большом и красивом доме, подаренном ему Джанибеком. По единодушным уверениям всех завсегдатаев чайханы, где остановился Никита, Хисар был в большой милости у нового повелителя, ибо, появившись в Золотой Орде за несколько месяцев до смерти великого хана Узбека он сразу же принял деятельное участие в дворцовых интригах и успел оказать Джанибеку важные услуги в борьбе за престол. Поговаривали даже, что он собственной рукой убил в Сарае-Бату Кадырбека, – старшего брата нынешнего хана,– в устранении которого Джанибек был особенно заинтересован. Впрочем, столь милостивое отношение золотоордынского хана к Хисар-мурзе объяснялось не только этим, чего, разумеется, не могли знать осведомители Никиты: готовясь войне с Хулагидами, Джанибеку было необходимо обеспечить себе поддержку Мавераннахра, к династии которого принадлежал Хисар. А потому, договорившись на этот счет с последним, Джанибек обещал помочь ему овладеть мавераннахрским престолом, вокруг которого велась в ту пору кровавая борьба нескольких претендентов.
Узнав все, что можно было узнать из разговоров, Никита выбрал особенно людный час и, замешавшись в толпу, внимательно осмотрел снаружи жилище Хисара, которое разыскал без всякого труда. Это был большой, несколько приземистый каменный дом, с фасадом, выходившим на площадь и выложенным золотисто-желтыми изразцами. По обе стороны массивных, окованных медью дверей стояли вооруженные мечами и копьями стражи, а вокруг всего двора тянулась каменная стена, высотою в полторы сажени. Было совершенно очевидно, что особа чагатайского хана охраняется надежно и что захватить его здесь – нечего и думать.
Ни идти на верную гибель, ни откладывать свою месть на неопределенное время Никита не хотел. Он решил оставаться в Сарае и ждать подходящего случая. Поселившись на окраине города, в его ремесленной части, он, при помощи трех своих татар, установил постоянное наблюдение за домом Хисара, сам избегая показываться в центре. Фигура его была слишком приметна, а узнай Хисар-мурза о его пребывании в городе, он, при нынешнем своем положении, легко сумел бы отделаться от врага.
Протекали дни, не принося ничего утешительного. Хисар иногда выходил из дому, отправляясь в ханский дворец или к кому-нибудь из золотоордынских вельмож, но в этих случаях его всегда сопровождало не менее десятка нукеров. Один раз он принимал участие в устроенной Джанибеком охоте с беркутами и все время находился в свите великого хана. Было ясно, что во время подобных выездов приблизиться к нему незаметно не представляется возможным.
Так прошло более месяца. Наконец однажды соглядатаи сообщили, что Хисара посетил сам Сары-Тимур, везир великого хана, и что в доме после этого началась заметная суета: поминутно выезжали и отправлялись куда-то нукеры, вносили и выносили вьюки, из степи пригнали десятка два свежих коней. Все указывало на то, что Хисар получил какие-то распоряжения от Джанибека и теперь спешно готовится к выезду из города.
*Мавераннахр – древнее среднеазиатское государство, включавшее Бухару и Самаркандскую область. Во время владычества татар оно входило в улус Чагатая – второго сына Чингисхана,– потомки которого там и царствовали.
** Везир в Орде – нечто вроде дворцового министра.
Выслушав эти новости, Никита приказал своим наблюдателям удвоить бдительность, а сам сейчас же приготовился в неизвестный путь.
На следующее утро Хисар-мурза, в сопровождении двух десятков нукеров, выехал из Сарая, держа направление на юго-восток. Следом за этим отрядом, на таком расстоянии, чтобы не терять его из виду, выехали два татарина Никиты, а за ними, в некотором отдалении,– сам Никита с Кинбаем.
Преследованье не было трудным, так как по этой дороге, идущей на Сарай-Бату и далее на Хорезм, в обе стороны двигалось много проезжих, часто встречались караваны, а в степи повсюду были разбросаны стойбища и отдельные юрты. Все это позволяло Никите и его спутникам двигаться за отрядом Хисара в непосредственной близости, без риска обратить на себя внимание.
К ночи нукеры Хисара разбили ему в стороне от дороги походный шатер, а сами расположились в десяти шагах от него, прямо на траве, разведя большой костер и пустив стреноженных лошадей в степь. Никита, со своими людьми остановился в небольшой ложбинке, в какой-нибудь верст от этого лагеря, на всякий случай не разжигая огня. Глубокой ночью, когда костер в стойбище Хисара погас, он подобрался почти вплотную к шатру и больше часа пролежа на земле, присматриваясь и прислушиваясь.
В лагере все крепко спали,– по-видимому, Хисар был очень далек от мысли, что здесь, в самом сердце Орды, может угрожать какая-нибудь опасность, и никаких предосторожности не принимал. Пробраться к нему в шатер: прикончить его ударом кинжала было, пожалуй, не трудно, Никита хотел не этого: убийца князя Василия должен был знать и видеть – за что и от чьей руки принимает смерть.
Утром движение возобновилось в том же порядке, и продолжалось несколько дней. Никита начинал догадывать куда едет Хисар, ибо видел, что они неуклонно следуют то же дорогой, по которой сам он приехал в Сарай, но держась обратного направления. Когда, оставив в стороне Сарай-Бту, на шестой день пути они переправились через реку Джаик и свернули на юг,– предположение Никиты обратилось в уверенность: Хисар-мурза ехал в Хорезм,– очевидно, Джанибек нашел, что настало время перебросить его к границам Мавераннахра. Никите это было на руку: если так,– дальнейший их путь лежал через улус Чимтая, что в случае нужды позволяло скорее и легче уйти от преследованья.
*Д ж а и к – татарское название реки Урал.
На тринадцатый день, миновав накануне большое озеро Сам, отряд Хисара остановился на ночлег возле одинокого колодца, в самом центре Устюртской возвышенности, уже в пределах Мангышлакского ханства. Густые заросли саксаула и неровная местность дали возможность Никите и его людям, не опасаясь быть замеченными, расположиться совсем близко, на склоне холма, откуда весь лагерь Хисара был виден как на ладони.
Погода все время стояла удушливо-знойная, но в этот вечер восточный край неба внезапно стал затягиваться тучами, из которых, в быстро сгущающейся тьме, все ярче сверкали зарницы, а вскоре послышались и отдаленные раскаты грома. Приближалась гроза,– явление в этих местах редкое и к тому же крайне нелюбимое татарами, которые грозы суеверно боялись.
Со своего наблюдательного поста Никита видел, как внизу засуетились нукеры, укрепляя шатер Хисара, отгоняя от него подальше стреноженных коней и суматошно перетаскивая свои седла и вьюки в полуразрушенную глинобитную постройку, стоявшую немного в стороне от колодца. Смысл всей этой возни был ему совершенно понятен: он знал, что, по татарским обычаям, во время грозы прежде всего следовало удалить из своего жилья посторонних людей, отогнать от него как можно дальше всех домашних животных, а затем, завернувшись в черный войлок или, за неимением его, просто обернув голову конской попоной, лежать неподвижно, ничком, творя про себя молитвы. И, припомнив все это, Никита почувствовал, что сегодня судьба посылает ему долгожданный случай.
План, мгновенно родившийся в его уме, был смел и прост, а все его подробности он успел хорошо обдумать за те два часа, которые прошли до того, как ночь плотно окутала землю, а гроза разразилась в полную силу.
Приказав двум своим татарам,– у которых привычка слепо повиноваться воле начальника пересиливала даже страх перед грозой,– подвести оседланных коней к самой опушке кустарника, окружавшего колодец, он, вместе с Кинбаем, осторожно приблизился к шатру Хисара. Дождь едва начинался, но гром грохотал вовсю, и молнии сверкали почти беспрерывно. В их свете Никита увидел то, чего ожидал: возле шатра не было ни души,– все нукеры давно укрылись в хижине, где, вероятно, лежали вповалку на полу, бормоча молитвы. Тогда Никита, оставив на страже Кинбая, быстрым рывком отдернул кошму, закрывавшую вход в шатер.
Теперь ему нужна была лишь одна вспышка молнии, чтобы действовать наверняка внутри. Она сверкнула почти тотчас, и в ее мгновенном свете Никита успел различить прямо напротив входа постель и лежащий на ней черный, продолговатый сверток. Этого было достаточно, и в следующую секунду Никита, навалившись всею тяжестью на этот сверток, уже увязывал его ремнем. Хисар задергался и глухо замычал, но сейчас же получил, через покрывавший его войлок, такой удар кулаком по голове, что потерял сознание или, во всяком случае, счел за лучшее не подавать больше признаков жизни.
Через минуту, подняв тюк с Хисаром на руки, Никита вышел из шатра, а еще через две – четверо всадников уже мчались от колодца по направлению к ставке хана Чимтая.
Крепко увязанного мурзу Никита перекинул перед собою через седло, как мешок с овсом, а когда конь его притомился под двойной тяжестью,– передал сверток Кинбаю.
Так, время от времени передавая друг другу этот живой груз, скакали они больше часу. Кони изрядно устали, чтобы дать им отдых, Никита приказал перейти на шаг. Гроза удалялась, сквозь сизые прорывы разбегающихся туч все смелее поглядывала на землю ущербная луна. Найдя налитую дождем лужу, всадники утолили жажду, напоили лошадей и, передохнув немного, снова пустились вскачь. К рассвету их отделяло от колодца верст сорок.
– Куда ты везешь его, аньда?– приблизившись к Никите, спросил Кинбай.– В стойбище хана Чимтая нам с ним доехать: будет погоня, а до него еще больше пятнадцати фарсахов. И кони наши совсем устали.
– Ну, погоня-то нам не страшна,– ответил Никита. – Сработали мы чисто. Его люди ничего такого и в мыслях не держат. Они, ежели даже и вылезут ночью из хибары, войти в шатер и тревожить своего хана до утра не осмелятся, и утром, когда уж увидят, что его нет,– не вдруг сообразят куда он подевался и в какой стороне его искать: дождем наши следы начисто замыло.
*Фарсах – принятая в Средней Азии мера длины, равная приблизительно семи верстам.
– Может, и так, аньда. Но человек, который не надеется на счастливые случаи, всегда живет дольше того, кто на них надеется.
– Это ты истину молвил. Ну, что же, коли так, остановимся. Везти его к Чимтаю я не помышлял, а ждал лишь, пока рассветет. Доставай гадину из вьюка!
* * *
Хисар– мурза, давно очнувшийся в своем мешке, из отрывочных фраз, которыми изредка перебрасывались его похитители, понял, в чьих руках он находится, но всей безнадежности своего положения пока не сознавал. Трусом он не был, большим умом не отличался, а к тому же был настолько высокого мнения о своей особе, что просто не допускал мысли, что эти люди могут его убить. Вероятно, с него потребуют выкуп, думал он, или отвезут в ставку хана Чимтая, а там уж Джанибек сумеет его выручить.
Не беспокоясь, таким образом, за свою жизнь, но понимая, что всякое сопротивление пока бесполезно, он покорно висел в своих путах, несмотря на мучительное неудобство такого положения.
Когда вьюк, в котором он находился, без особых церемоний сбросили на землю и развязали, он сел, расправил затекшие конечности и налитыми кровью глазами огляделся вокруг. Было уже светло. Бескрайняя степь просыпалась, как сказочно-прекрасная девственница; розоватые лучи восходящего солнца растекались по непросохшей земле, взбирались на серебряные метелки полыни, тысячами жемчужинок рассыпались по росистым перышкам ковыля. Как красиво, и как это он прежде никогда не замечал – до чего хорош этот мир!
Но в следующую секунду он увидел Никиту, стоявшего в трех шагах и глядевшего на него тяжелым, неподвижным взглядом, как глядят на змею, которую сейчас раздавят. И под этим взглядом Хисару впервые стало по-настоящему страшно. Он смутно почувствовал, что все его успокоительные рассуждения рассеиваются, как дымка, поднимающаяся от этой влажной земли и тут же, на глазах, тающая в воздухе. Почти не сознавая, что делает, он вскочил на ноги и закричал:
– Чего ты хочешь от меня, сын шакала?! И как смел ты поднять свою грязную руку на меня, царевича и друга великого хана?
– Ты злодей и подлый убивец,– медленно сказал Никита, делая шаг к нему.– А чего я хочу, ты знаешь: за князя моего, за светлую жизнь его, тобою загубленную, хочу казнить тебя смертью. Становись на колени!
– Я не убивал твоего князя!– надрывно выкрикнул Хисар, побледнев как мел, но продолжая стоять на месте.
– Врешь, душегуб! Он успел сказать мне, кто его убил. И не спасут тебя от моего отмщения никакие цари и ханы! Становись на колени!!
Хисар быстро повел вокруг помутившимися глазами и сделал такое движение, будто хотел бежать. Но тяжелая как жернов ладонь Никиты опустилась ему на плечо и придавила к земле. Сразу обмякнув, он медленно опустился на колени. Никита шагнул назад и взялся за рукоять сабли.
– Не убивай меня,– быстро сказал Хисар. – Я дам тебе столько золота и коней, сколько ты пожелаешь!
– Не надобно мне ни золота твоего, ни коней! Умри, и да будет проклята твоя память!
Поняв, что сейчас конец, Хисар почувствовал почти непреодолимое желание упасть к ногам Никиты и, целуя его сапоги, молить о пощаде. Но последним усилием воли и гордости он взял себя в руки и решил умереть как мужчина. Лицо его внезапно приняло почти спокойное выражение, он взглянул на небо, посиневшими губами пробормотал священные имена Аллаха и Пророка, потом скрестил руки на груди и наклонил голову.
Не сводивший с него глаз Никита потянул из ножен саблю, но на половине этого движения рука его остановилась. Застыв на секунду в неподвижности, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя и сам себе удивляясь, он медленно дослал саблю обратно в ножны и почти виноватым голосом обратился к Кинбаю, молча наблюдавшему за происходящим.
– Не могу, аньда… Хотя и изверг он, а рука не подымается на безоружного. Ну пусть бы он кричал, ругался, что ли… А так не могу! Пореши его ты! Тебе ведь не впервой, сам мне когда-то сказывал.
– Отойди в сторону, аньда,– только и сказал Кинбай, становясь на место Никиты. Выставив левую ногу вперед, он подался на нее всем туловищем и в то же мгновение правою ногою нанес страшный удар под сердце стоявшему на коленях Хисару. Последний, не успев даже охнуть, запрокинулся на спину, широко раскинув руки .(Один из обычных способов казни в Орде, применявшийся за поступки, позорящие честь воина)
– О такого человека не стоило пачкать оружия,– спокойно сказал Кинбай, поворачиваясь к убитому спиной.– Однако едем, аньда, сегодня будет знойно, а до ближайшего колодца отсюда полдня пути.
Глава 19
Стремление к знанию есть священная обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки. Надпись XIV в., вырезанная над входом в медресе города Бухары
Когда Карач-мурзе и Тохтамышу исполнилось по тринадцать лет, по повелению великого хана Чимтая они были привезены в Сыгнак. С ними приехала Фейзула-ханум, не пожелавшая расставаться с сыном, и, конечно, верный Никита. Чимтай встретил внуков ласково и остался ими доволен. К тому времени оба они уже были рослыми, хорошо сложенными и красивыми юношами, казавшимися старше своих лет. Их поселили в ханском дворце, где им были предоставлены слуги, лошади, оружие и все иное, что подобало иметь молодым представителям высшей татарской знати и огланам, как вскоре повелел называть их Чимтай, убедившись, что они умеют держать себя с достоинством и что воинская подготовка их, для такого возраста, не оставляет желать лучшего. Для дальнейшего же совершенствованья в этой области к ним были назначены особые наставники, из старых нукеров великого хана.
В ту пору среди ордынской знати, более столетия прожившей в тесном общении с культурными народами Средней Азии и уже совершенно отюреченной,– грамотность и получение хотя бы основного образования считались почти обязательными. И благодаря соседству Хорезма и Мавераннахра, Белая Орда в этом отношении значительно опередила Золотую.
*Оглан – царевич, официально признанный правомочным членом династии чингисидов, тогда как титул «мурза» стоящий после имени, указывал на принадлежность к владетельному княжескому роду вообще, а не только к роду Чингиса. Тот же титул «мурза», стоящий перед именем, означал лишь дворянское происхождение.
В Сыгнаке существовало несколько духовных училищ – «медресе», в которых, помимо изучения Корана, обучали чтению, письму и счету, а также началам философии и астрономии. Одну из таких медресе, по желанию Чимтая, стали посещать Карач и Тохтамыш. Она предназначалась исключительно для отпрысков высшей аристократии и познаний давала больше, чем другие: тут проходились также основы истории, географии, медицины и правила стихосложения. Знание последних для образованного человека Средней Азии считалось очень важным, а это влекло за собой необходимость основательного изучения персидского языка. Фирдоуси, Сзади, Низами, Хосров и другие поэты, произведения которых в то время служили непререкаемыми образцами,– писали по-персидски, и потому этот язык у всех среднеазиатских народов считался тогда не только классическим, но и вообще единственным пригодным для поэзии. И только лишь в конце пятнадцатого века гениальный поэт из Герата Алишер Навои,– узбекский Пушкин,– впервые отважился писать на своем родном языке – тюркском.
Тохтамыш особенного усердия к наукам не проявлял, в глубине души считая, что для воина они не нужны. Но Карач-мурза отдавался им с увлечением. Ему хотелось знать все, и вскоре того, чему учили в медресе, ему уже стало казаться недостаточно. Он был общителен и любил заводить разговоры с бывалыми людьми, особенно с чужеземцами, расспрашивая о их странах и прочно удерживая в памяти все услышанное. Особенно ценным оказалось для него знакомство с зодчим Хусейн ал-Касимом, построившим в Сыгнаке замечательную мечеть и еще несколько красивых зданий. Это был пожилой уже араб, человек широко образованный, поездивший по свету и всего навидавшийся. Ему понравился дотошный юноша, он охотно удовлетворял его любознательность, и Карач-мурза почерпнул от него многое.
Любил он также ездить и бродить по городу, где его,– до той поры ничего не видевшего, кроме войлочных юрт и степных кочевий,– поначалу все поражало своей грандиозностью и великолепием. Впрочем, Сыгнак был тогда действительно большим и довольно благоустроенным городом, раскинувшимся на несколько верст вдоль реки Сейхун и насчитывавшим около ста тысяч жителей.
Время его возникновения уходит в глубину веков, и к началу монгольских завоеваний он являлся одним из крупнейших торговых и культурных центров Средней Азии. Густая сеть оросительных каналов, на много десятков верст вокруг него, оживляла бесплодные прежде пески, обратив их в. цветущий оазис, с широко развитым садоводством и земледелием.
Джучи– хан, старший сын Чингиса, посланный отцом на завоевание этого края, был человеком для своего времени гуманным и старался избегать излишних жестокостей и разрушений. А потому, приближаясь к Сыгнаку, он отправил туда своего посла, с предложением сдать город без боя и обещая ему в этом случае полную неприкосновенность. Но сыгнакцы, понадеявшись на силу своих укреплений, вместо ответа убили ханского посла. Тогда Джучи, после семидневной осады, взял город приступом и приказал разрушить его до основания. В развалинах Сыгнак пролежал почти сто лет, и только в начале четырнадцатого века белоордынский хан Эрзен его отстроил и сделал своей столицей.
*Герат – город и одно время самостоятельный султанат в северной части нынешнего Афганистана.
Теперь в нем снова было много больших и красивых зданий, из которых особенно выделялся своим великолепием ханский дворец, почти сплошь выложенный красно-желтыми изразцами и сзади, со стороны реки, переходивший в огромную крытую террасу, опирающуюся на ряд массивных, соединенных арками колонн, изукрашенных замечательной мозаикой.
Сыгнак был местом погребения почти всех членов белоордынской династии, каждый из которых покоился в отдельном мавзолее. Эти дворцы мертвых, соперничавшие друг с другом красотой архитектурных форм и богатством отделки, составляли как бы отдельный город, в котором центральное место занимал мавзолей великого хана Эрзена, носивший название Кок-Кесене. Это было величественное здание с высокими порталами, увенчанное исключительно оригинальным по замыслу куполом: он опирался на квадратное основание, выше переходящее в восьмигранник и заканчивающееся шестнадцатигранником. Сам купол, под цвет стенам покрытый голубой глазурью с белым узором, был не полукруглой формы, как тогда было принято, а конической.
Обширны и богаты были также сыгнакские караван-сараи и базары. Как торговый узел, Сыгнак имел первостепенное значение, ибо из всех крупных среднеазиатских городов он был самым северным. Дальше уже простирались необозримые песчаные степи, для всего кочевого населения которых Сыгнак являлся ближайшим местом сбыта и приобретения всего необходимого. Историк того времени, Рузбек-хан Исфаганский, называвший этот город «гаванью половецких степей», пишет, что на его базарах ежедневно продавалось несколько тысяч лошадей, до пятисот верблюдов и полностью раскупалось содержимое многих караванов, приходивших из Персии, Индии, Хорезма, Мавераннахра и иных стран.
Первый год жизни в Сыгнаке, полный новых впечатлений и знакомств, промелькнул для Карач-мурзы незаметно. Но в начале следующего случилось событие, отозвавшееся на всей его дальнейшей судьбе: пришли слухи о том, что в далеком Карачевском княжестве произошли крупные перемены, и Никита,– которого никогда не покидала надежда на восстановление законных прав его питомца, – отправился в Сарай-Берке, чтобы разузнать все толком и в случае надобности – проехать оттуда на Русь.
Из этой поездки он, как известно, не вернулся. Смерть его явилась для юноши жестоким ударом и резко отразилась на его мироощущении. Живя и воспитываясь среди татар, он только под неусыпным влиянием Никиты, да и то последнее время не без некоторого насилия над чувством реальности, мог считать себя русским. Теперь же эта тонкая нить, связывавшая его с родиной отцов, оборвалась, и под влиянием матери и Тохтамыша он даже усмотрел в этом событии прямое указание свыше, определяющее его жизненный путь. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он принял ислам и просил великого хана закрепить за ним улус на реке Исети, некогда принадлежавший его отцу. И Чимтай, успевший искренно полюбить внука, охотно исполнил его просьбу.
За истекшие пятнадцать лет как население этого улуса, так и количество скота в нем увеличилось во много раз, потому что, используя великолепные пастбища Исетского края, Чимтай не только оставлял там значительную часть приплода, но еще и перегонял туда в засушливые годы излишек конского поголовья с юга. Все это досталось теперь Карач-мурзе, обеспечивая ему не только высокое положение в Орде но также источник постоянного и крупного дохода. Этим он не замедлил воспользоваться: к тому времени он закончу курс наук в медресе, но жажды знаний не утолил. Сыгнак в этом отношении, ничего больше дать ему не мог, и он решил отправиться в Ургенч, столичный город Хорезма, являвшийся в ту пору крупнейшим культурным центром Средней Азии.
Чимтай это решение одобрил, и месяц спустя Карач-мурза-оглан, в сопровождении десятка нукеров и слуг, простившись с близкими, пустился в новый путь.
Глава 20
Я поведал вам о нашествии монголов и думаю, что о том же станут рассказывать многие другие. Но все эти повествования будут ниже действительности: бедствия, которые обрушились на наши страны, превосходят все, что звала история. (Киракос Гандзакеии, армянский историк XIII столетия)
Хорезм, известный позже под названием Хивинского ханства, принадлежит к числу древнейших государств Средней Азии, со славным и богатым событиями прошлым. И если в ходе мировой истории он никогда не приобретал того исключительного значения, которого достигали Персия и Арабский халифат,– было время, когда Хорезм возвышался над обоими этими государствами и переживал эпоху замечательного политического и культурного расцвета, не избежав в дальнейшем общей участи всех «состарившихся» народов и придя постепенно к полному упадку.
О древней истории Хорезма можно было бы сказать очень много, но здесь мы ее коснемся лишь вкратце: историк X -XI веков, Абу Рейхан Бируни, относит возникновение этого государства к тринадцатому столетию до начала христианской эры. Во времена царя Дария Первого ( VI в. до Р. X .) Хорезм входил в состав Персидской империи, но два века спустя восстановил самостоятельность, которую сохранял более тысячи лет. В период с восьмого по двенадцатый век он попеременно попадал в зависимость от арабов, турков-сельджуков, афганцев и каракитаев. Последние, в середине двенадцатого столетия, захватили Мавераннахр и наложили дань на Хорезм, который вынужден был признать себя их вассалом.
Однако в конце того же века хорезмшах Текеш уже успешно боролся с каракитаями и даже осаждал Бухару. Затем он разбил войско сельджукского султана Тогрула Второго и отобрал у него половину Персии. Сын Текеша, шах Мухаммед, действовал еще удачней: он взял Бухару и Самарканд, изгнав оттуда каракитаев, а затем нанес решительные поражения багдадскому халифу и афганскому султану. В итоге этих побед в начале тринадцатого столетия Хорезм превратился в крупнейшее среднеазиатское государство, состав которого вошли целиком Персия и Мавераннахр, а также Восточная Аравия и значительная часть Афганистана. Его столица – Ургенч в эту пору сделалась одним из самых значительных городов Азии и общепризнанным центром культурной и умственной жизни.
*Каракитаи – кочевой азиатский народ, иначе называвшийся Киданями и живший по соседству с Китаем, возле озера Ляо.
**Хорезмшах – титул государя Хорезма.
Впрочем, в этом отношении он и раньше стоял на одном из первых мест. Достаточно вспомнить, что в Ургенче родился и жил гениальный ученый – энциклопедист Абу Рейхан Бируни; тут долгие годы прожил великий мыслитель и медик Авиценна (Абу Али Ибн Сина), таджик по происхождению; здесь учились и творили знаменитый математик Абу Наср Арран, философ Абу Сахл Масихи и многие другие ученые средневековья, чьи имена сейчас на Западе забыты, но чьи замечательные труды легли в основу развития современной науки.
Блестящего расцвета достигла к этому времени и хозяйственная жизнь Хорезма. Благодаря превосходно разработанной оросительной системе,– до уровня которой там далеко не дошла еще современность, земледелие процветало почти на всей территории страны. Тут с успехом выращивались хлопок, виноград, славящиеся на весь мир дыни, всевозможные овощи и фрукты, рис, просо, ячмень и другие хлебные злаки. Широко было развито и ремесленное производство, в особенности кожевенное: хорезмийские седла и другие изделия из кожи славились на всю Азию.
В Хорезме скрещивались караванные пути из Китая, Индии, Персии, Аравии и Поволжья,– иными словами, через него непрерывно двигался поток товаров, составлявших основу торгового обмена между Азией и Европой, обогащая страну и обеспечивая пышное развитие ее собственной торговли.
Но этот период расцвета и благоденствия Хорезма продолжался очень недолго: ему нанесло внезапный и сокрушительный удар нашествие монголов.
Не подлежит сомнению, что завоевательным походам Чингисхана сопутствовала крайняя жестокость. Но она вовсе не была следствием особой кровожадности или глупости (какой был смысл монголам зря уничтожать то, что впредь становилось их достоянием?), а составляла часть общего стратегического плана, имея целью породить панику и показать населению покоряемых стран, что малейшее сопротивление завоевателям влечет за собой беспощадную кару.
*До татарского нашествия город этот назывался Гургенч.
Татары, подходя к какому-нибудь городу, обычно высылали вперед посла с предложением сдаться, и в тех редких случаях, когда это предложение принималось,– давали пощаду жителям и никаких разрушений не производили, ограничиваясь лишь легким грабежом, что носило характер своеобразной уплаты жалованья войску. В случае же сопротивления по взятии города его предавали полному разграблению, предварительно выгнав в поле всех жителей. Затем отбирали и уводили в рабство всех искусных ремесленников, молодых женщин и некоторых физически крепких мужчин. Остальных частью убивали, частью отпускали на свободу. Если сопротивление бывало особенно упорным и долгим, – город разрушали и избивали в нем всех мужчин, а иногда и все население поголовно.
Факты показывают, что эта стратегия устрашения столь же мало оправдывала себя в тринадцатом веке, как и в применении современными Чингисханами: почти неизвестны случаи добровольной сдачи монголам, наоборот,– повсюду им оказывали отчаянное сопротивление, несмотря на то, что всякий раз оно заканчивалось свирепой расправой. И если Чингисхан все-таки успешно завершил свои завоевания, то лишь в силу полной разобщенности его противников и неумения их сговориться между собой для общего организованного отпора.
В 1218 году, в одном из хорезмийских городов был разграблен огромный караван с товарами, принадлежавший Чингисхану, а посол, прибывший из Монголии требовать за это удовлетворения, по приказанию хорезмшаха был убит.
Это дало Чингисхану повод начать войну. Его войско, насчитывавшее 150 000 человек, вторгнулось в пределы Мавераннахра, но хорезмшах Мухаммед, располагавший значительно большими силами, не вывел их все для решительного сражения, а расставил гарнизонами по отдельным городам, рассчитывая защищать их порознь.
Если он и не был блестящим полководцем, то, во всяком случае, обладал большим боевым опытом и для принятия этого решения, кажущегося нам таким несуразным, имел, несомненно, веские причины. Одною из них была, вероятно, боязнь возникновения местничества и неполадок среди отдельных князей – военачальников и нежелания одних подчиниться другим, если бы все войско было собрано вместе. Как будет видно из дальнейшего, именно это впоследствии и погубило Хорезм окончательно.
Так или иначе, но принятый хорзмшахом план обороны значительно облегчил задачу Чингисхана. Все крепости Ма-вераннахра: Бухара, Самарканд, Отрар, Сыгнак, Дженд, Бе-накет, Ходжент и иные, пали одна за другой, и через год вся страна оказалась в руках монголов, которые двинулись теперь на Ургенч.
Растерявшийся шах Мухаммед, покинув остатки своего войска на сына, отправился в Персию собирать новые ополчения. Но узнавший об этом Чингисхан послал за ним в погоню сильный отряд, под командованием своего лучшего полководца Субедея. Уходя от преследованья, Мухаммед едва успел добраться до Каспийского моря и спрятаться на одном из его островов. Там он вскоре и умер. Новым хорезмшахом был провозглашен его старший сын Джелал ад-Дин, против которого сейчас же составили заговор несколько могущественных эмиров. Едва спасшись от них, Джелал ад-Дин с трудом пробрался в Персию, где приступил к сбору нового войска, а татары тем временем взяли сильнейшую крепость Мерв и осадили Ургенч.
Его многочисленный и сильный гарнизон геройски сопротивлялся в течение многих месяцев. Но в конце концов осаждающие разрушили плотины на Амударье, и воды реки хлынули в город. На затопленных улицах несколько дней шла жестокая резня. За исключением небольшого количества ремесленников и женщин, уведенных в рабство, все население столицы Хорезма было перебито, а сама она разрушена.
Вся Средняя Азия оказалась теперь во власти монголов, кроме небольшой части Персии, где находился со вновь собранным войском храбрый и талантливый полководец – шах Джелал ад-Дин. В первом же сражении он наголову разбил врага, казавшегося дотоле непобедимым. Но плоды этой победы были потеряны по вине его военачальников и князей, перессорившихся из-за дележа добычи и начавших покидать войско вместе со своими людьми. Татары, у которых великолепно была поставлена разведка, сейчас же узнали об этом и снова стремительно двинулись вперед. Джелал ад-Дин с остатками своего войска отошел в Индию, где был настигнут и в новом сражении разбит.
Однако, избежав плена, он в скором времени появился в Азербайджане и возобновил борьбу. Но успеха она не имела, потому что грузинские и армянские князья его не поддержали. В ближайшие годы татары последовательно завоевали все страны Закавказья и двинулись в половецкие степи и на Русь.
Глава 21
Из всех разрушенных татарами городов Азии дальнейшая судьба Ургенча сложилась наиболее благоприятно: уже через двадцать лет он был полностью отстроен и восстановил свое торговое и культурное значение. Этому помогли сами завоеватели и в частности Бату-хан, основатель Золотоордынской империи, в состав которой вошел и Хорезм. Еще при нем Ургенч был поднят из развалин и зажил нормальной жизнью, а несколько десятков лет спустя великий хан Узбек совершенно перестроил центр города, украсив его многими величественными зданиями, и столица Хорезма снова заняла почетное место в ряду крупнейших и красивейших городов Азии. Неудивительно поэтому, что на приехавшего сюда Карач-мурзу она произвела неизгладимое впечатление и сразу ему понравилась как своим внешним обликом, так и деловитой оживленностью общественной жизни.
Город был окружен серо-желтой каменной стеной с круглыми башнями и даже по сравнению с Сыгнаком казался огромным. В его центральной части было множество красивых, ютящихся в зелени каменных и кирпичных домов, дворцов, выложенных мрамором и кафелями, и мечетей, соперничавших друг с другом богатством отделки и стройностью своих минаретов. Один из них, снизу доверху украшенный чередующимися поясами лепного и мозаичного орнамента, особенно поражал своей грандиозностью,– его тонкая как игла вершина, казалось, вонзается в самое небо. Позже Карач-мурза узнал, что он имеет в высоту более ста тридцати аришей и является самым высоким зданием Азии.
Внушительное впечатление производила и группа стоявших вместе мавзолеев. Среди них особенно выделялся красотою и легкостью своих архитектурных форм мазар Тюрабек-ханум,– величественное двенадцатигранное строение с высокими стрельчатыми порталами и нишами, увенчанное на редкость изящным куполом, снаружи изукрашенным керамикой и лепным орнаментом, а внутри – исключительной по красоте мозаикой.
*По свидетельству современников, Ургенч был больше Сарая-Берке, в котором насчитывалось около двухсот тысяч жителей.
*Ариш – мера длины, расстояние от сгиба локтя до кончика вытянутых пальцев, примерно полметра. Отсюда наш аршин.
*Мазар – усыпальница, мавзолей.
Поражали также количество и величина караван-сараев, принадлежавших купеческим содружествам различных национальностей. Многие из них занимали целые кварталы и выглядели настоящими крепостями, обнесенными высокой каменной или глинобитной стеной, со сторожевыми башнями над воротами и по углам. В один из них, при проезде Карач-мурзы, как раз втягивался бесконечный караван груженных вьюками верблюдов, и юноша заглянул внутрь. Он увидел огромный, как поле, двор, со всех четырех сторон окруженный сплошной линией двухъярусной постройки из самана. Внизу находились склады товаров, наверху -комнаты, где останавливались купцы и их слуги. Посредине двора стояло несколько громадных, наполненных водою деревянных корыт, из которых пили верблюды; сбоку тянулась длинная, «рытая камышовым навесом коновязь, а за нею ряд груженных сеном и порожних арб, на высоченных неуклюжих колесах. Дюжий караван-баши, в распахнуто» желтом халате и выгоревшей на солнце тюбетейке, стоя по среди двора, распоряжался разгрузкой каравана, то и дел«гортанно покрикивая на нерадивых верблюдовожатых. Не много поодаль несколько человек тут же, во дворе, разбивал войлочные шатры: очевидно, приезжих было много и комнат на них не хватало.
В самом центре города, на скрещении главных улиц, был расположен обширный, крытый куполом рынок, где продавались овощи, фрукты, рыба, мясо, глиняная и деревянная посуда и все прочее, что потребно горожанину в его повседневном обиходе. Рынок был окружен бесчисленными чайхана ми и лавками купцов, торгующих всевозможными реме ленными изделиями и привозными товарами. Это была в-иболее оживленная часть города, где вечно царила толчея, где все шумело, кричало, зазывало, спорило, торговалось и веселилось. Тут улицы были посыпаны галькой или вымощены камнем, местами крыты легкими камышовыми крышами настолько широки, что свободно могли разъехаться две встречные арбы. Но дальше к окраинам они становились причудливо извилистыми и узкими, как щели. В этих кварталах, где жили мелкие ремесленники и городская беднота, зелени уже не было, глинобитные и саманные лачуги тесно лепились друг к другу, на улицах стояла невообразимая грязь и вонь от гниющих отбросов. Чума, холера и другие болезни были здесь частыми гостями.
*Саман – необожженный кирпич, с примесью соломенной трухи.
*Караван– баши -вожатый каравана.
* * *
В Ургенче Карач-мурза не оказался одиноким: в ту пору там находился старый друг его отца, эмир Аслан Суфи-ходжа, при жизни князя Василия бывший тысячником, а позже и темником в Ак-Орде. Но вскоре после смерти хана Джанибека он возвратился к себе на родину, где назревали крупные события: впервые за полтора столетия могущество Золотой Орды явно заколебалось, в Сарае шли смуты и разрасталась кровавая резня ханов за обладание престолом. Это давало Хорезму надежду на скорое восстановление своей независимости, и все живые силы страны объединялись теперь вокруг эмира Хуссейна Суфи, которого единодушно называли будущим хорезмшахом. Аслан-ходжа был его младшим братом и, разумеется, готовился принять деятельное участие в приближающихся событиях.
Приехав в Ургенч, Карач-мурза явился прямо к нему и был принят как родной. Эмир Аслан настоял на том, чтобы сын его старого друга и побратима поселился у него в доме, который по величине и богатству более заслуживал названия дворца.
Здесь царили совершенно иные порядки, чем в Сыгнаке, у хана Чимтая: строго соблюдались правила шариата, женщины жили на своей половине, не в пример татаркам, посторонним мужчинам не показывались, и Карач-мурза редко кого-нибудь из них видел. Но один из сыновей эмира, Хайдар, оказался его сверстником, а вскоре сделался и закадычным другом. При его посредстве Карач-мурза быстро освоился в Ургенче и узнал тех людей, вокруг которых сосредоточивалась умственная жизнь города.
*Шариат – совокупность правил и положений, которыми должен руководствоваться в жизни каждый мусульманин.
В этой среде,– в большинстве своем располагавшей обширным запасом знаний, но весьма скудными средствами,– скромный, богатый и способный юноша был принят благосклонно. Почти пять лет провел он в постоянном и тесном общении с нею и к концу этого срока по праву мог считать себя широко образованным человеком. Овладев в совершенстве языками науки и поэзии – арабским и персидским,– он прочел за это время труды лучших ученых, путешественников, историков и поэтов Востока,– который по культуре своей значительно опережал средневековый Запад,– и сам приобрел солидные познания в основных науках того времени: философии, медицине, математике, астрономии и естествознании.
Все эти занятия, составляя основной круг его интересов, все же не поглощали его настолько, чтобы отрешиться от окружающей жизни и от всего того, что свойственно здоровой молодости. Наряду с увлечением науками, бывали и встречи со сверстниками, веселые пирушки и не всегда скромные похождения, скачки, охоты и даже серьезная любовь. Впрочем, последняя хотя и овладела сердцем Карач-мурзы самопроизвольно,– как овладевает сердцами представителей всех народов мира,– в дальнейшем вынуждена была развиваться в строгом согласии с обычаями мусульманского Востока, а потому, к немалому его огорчению, не могла отнимать у него много времени.
Предметом этого чувства была Наир, младшая из дочерей эмира Аслана. Когда Карач-мурза приехал в Ургенч, ей было всего двенадцать лет, и он не обратил особого внимания на худенькую, нескладную девочку, хотя и встречался с ней гораздо чаще, чем с другими женщинами, живущими в доме: она еще считалась ребенком и пользовалась относительной свободой. Но прошел год, и она перестала, как прежде, открыто разгуливать по дому и по саду. Поглощенный своими занятиями, Карач-мурза если и заметил этот факт, то как-то не осознал его значения. Но в конце второго года, случайно столкнувшись с нею в одной из внутренних комнат дворца, он остановился как вкопанный. Перед ним стояла вполне сложившаяся стройная черноволосая девушка редкой красоты и глядела на него чуть улыбающимися лучистыми глазами. Он был поражен ее внешностью и, даже не осмыслив произошедшей в ней перемены, просто подумал: «Аллах акбар! Как это я раньше не видел, что она такая!» Придя в себя, он пробормотал какое-то приветствие и быстро вышел из комнаты, но с этого дня потерял покой, и мысли его вес время, возвращались к ней.
Если бы Наир была татаркой или, по крайности, не была дочерью эмира Суфи,– Карач-мурза, вероятно, вскоре нашел бы способы тайно встречаться с нею: молодость повсюду умеет брать свое и мусульманский мир не составляет в этом исключения.
*Вся не строго научная литература Востока носила тогда форму поэзии.
Но у хорезмийцев нравы были много строже, чем у татар, а к тому же обмануть доверие эмира, оказавшего ему гостеприимство, Карач-мурза считал недопустимым. И потому он долгое время довольствовался редкими возможностями увидеть девушку издали или, как особое счастье,– обменяться с нею приветствием и несколькими ничего не значащими словами при случайных встречах.
Но когда вынуждены молчать уста,– глаза говорят особенно красноречиво. И если добавить к этому, что Наир влюбилась в Карач-мурзу гораздо раньше, чем он в нее,– успев пролить немало тайных слез за тот долгий период времени, когда он ее не замечал,– то дальнейшее станет ясным: вскоре оба начали понимать, что их чувство взаимно.
Когда языка глаз оказалось недостаточно,– на помощь пришла письменность. Живя под одною крышей, обмениваться записками было не столь уж трудно, тем более что Хайдар очень скоро догадался о чувствах Карач-мурзы к его сестре и охотно бывал между ними посредником. Как требовал обычай времени, послания эти всегда составлялись в стихах,– вначале совершенно отвлеченных по содержанию, где чувства автора облекались в строго аллегорическую форму. Но полгода спустя, в одной из своих газелей, адресованных Наир, Карач-мурза, уже отбросив всякие аллегории, писал:
Прекрасен мир и жизнь так хороша,
Аллаха славит ум мой и душа,
За все, за все, что мудро создал Он,
За то, что синь и ясен небосклон,
За то, что солнце светит в небесах,
За то, что звезды в них зажег Аллах,
За то, что мир так светел и широк,
За то, что розов по утрам восток,
За то, что на земле растут цветы,
За то, что в этом мире я и ты!
За то, что наши встретились пути,
И дальше можем вместе мы идти.
За то, что я теперь живу любя .
Но если 6 в мире не было тебя
Или найти тебя я б не сумел,
– Ничтожен был бы мой земной удел.
*Газель, или, как часто неправильно говорят, -газела, -особая форма короткого лирического стихотворения на Востоке, составленного из рифмованных двустиший, почти всегда любовного содержания.
Наконец настал день, когда произошла их первая и не совсем случайная встреча наедине. Она не была продолжительной, но все же ее вполне хватило не только на то, чтобы каждый из двух получил право причислить себя к счастливейшим из смертных, но и на принятие нужных решений. Во всяком случае, немедленно после этого Карач-мурза приступил к постройке собственного дома в Ургенче, а несколько месяцев спустя отправился к эмиру просить руки Наир.
Суфи– ходжа, давно заметивший несмелые ростки любви, зародившейся под кровлей его дома, тотчас дал свое согласие. Он успел искренно полюбить будущего зятя и лучшей партии для своей дочери не желал.
С этого момента молодые люди получили право встречаться более свободно, а в 764 году мусульманской эры, когда Наир было шестнадцать лет, а Карач-мурзе девятнадцать,– справили свадьбу, и молодые переселились в свой дом, к тому времени уже законченный.
Он был выстроен по указаниям самого Карач-мурзы, обладавшего хорошим вкусом, и потому явился одним из красивейших зданий города. По виду это был небольшой дворец, стиля, близкого к мавританскому,– с рядом украшенных цветным орнаментом колонн по фронту и с выложенным мозаикой круглым бассейном в художественно отделанном портике. И хотя в беспокойной жизни, выпавшей на долю Карач-мурзы, под домашним кровом ему доводилось бывать не часто и не подолгу,– именно этот дом сделался любимым и постоянным очагом его семейной жизни на долгие годы, пока не выросли сыновья. А старший из них, Рустем, родился уже через год после свадьбы, еще через полтора к нему прибавился и второй – Юсуф.
*Магометане ведут свое летосчисление от года переселения пророка Магомета из Мекки в Медину. Это событие произошло в 622 г. христианско эры, но так как в основу мусульманского календаря положен лунный месяи более короткий, чем солнечный,– мусульманское летосчисление за каждые 33 года на один год обгоняет наше. Таким образом, 764 г. магометанской соответствует 1362-му нашей.
Вообще Ургенч навсегда остался для Карач-мурзы родным городом, с которым связывались его лучшие воспоминания и где он имел больше всего друзей. Эта его привязанность к Хорезму послужила поводом к тому, что в Орде он получил полунасмешливое-полуласковое прозвище «Хорезмиец». По жене он приобрел право на титул ходжи, настолько высоко почитавшийся в Средней Азии, что его охотно присоединяли к своим именам даже царствующие ханы, а потому некоторые из упоминающих о нем персидских и тюркских историков называют его Карач-ходжой .( В некоторых персидских источниках это имя искажено в Кара-ходжу)
За те шесть лет, которые охватывают этот период жизни Карач-мурзы, превративший его из юноши во взрослого человека и отца семейства, в мире произошло много событий и перемен.
В 1360 году в Сыгнаке скоропостижно скончался великий хан Чимтай, передав белоордынский престол своему старшему сыну Химтею. Это был пожилой уже человек, по-видимому не обладавший качествами хорошего правителя, однако, так же как и отец его, настроенный мирно в отношении Золотой Орды. Но не прошло и года, как он умер, и на ханство вступил его брат Урус.
Новый великий хан был полной противоположностью своему отцу и старшему брату: он с юных лет был известен как горячий сторонник решительной борьбы с Золотой Ордой и подчинения ее белоордынским ханам. Едва приняв власть, он созвал в Сыгнаке курултай, в течение двух недель устраивал пышные празднества и пиры, раздавая щедрые подарки улусным ханам, эмирам и темникам, а затем объявил поход против Золотой Орды.
Из всех участников курултая один только Мангышлакскии хан Туй-ходжа-оглан, младший брат Уруса, высказался против этого похода и наотрез отказался в нем участвовать. За это, по повелению Уруса, он был тут же схвачен, а несколько позже,– когда это первое выступление против Золотой Орды окончилось неудачей,– казнен по обвинению в измене.
Походом Урус-хана и тяжелым положением Золотой Орды не замедлили воспользоваться в Ургенче: в том же 1362 году эмир Хуссейн Суфи объявил себя независимым государем Хорезма и начал чеканить свою монету.
Девятнадцатилетний хан Тохтамыш, находившийся в начале этих событий в Сыгнаке,– как только Туй-ходжа-оглан был схвачен, бежал в Мангышлак, где Урус-хан его пока не трогал. Но положение его было непрочным и даже опасным: Урус понимал, что племянник не простит ему смерти своего отца, и мог счесть за лучшее отделаться от врага, покуда он не окреп.
Пришлось серьезно призадуматься над всем этим и Карач-мурзе. Он был тесно связан с семьей казненного Мангышлак-ского хана, а потому возвращаться в Сыгнак и служить Урус-хану не мог и не хотел. Но будучи татарским улусным князем, не мог он также без конца оставаться в Хорезме, не принимая никакого участия в жизни Орды и в происходящих событиях. А потому, когда в 1364 году его близкий родственник Азиз-ходжа захватил Сарай-Берке и объявил себя великим ханом Заволжской половины Золотой Орды,– Карач-мурза решил, что будет пока служить ему.
Оставив семью в Ургенче, куда к этому времени приехала из Сыгнака и мать его, Фейзула-ханум,– он отправился к себе в улус, несколько месяцев провел там, наводя порядок и знакомясь со своими людьми, а затем, во главе тумена конницы, явился в Сарай, предоставив себя и этот тумен в распоряжение хана Азиза.
Глава 22
О, стонати Русской земле, поминаючи прежнее время и прежних квязей! Нашего старого Володимира нельзя было пригвоздити к горам киевским! Ныне же врозь веют стяги русских квязей, несогласно их копья поют. Слово о полку Игореве
Когда по утренней зорьке из Фроловских ворот Кремля выехал, в сопровождении двух слуг, статный молодой всадник, в ладно сидящем синем кафтане, со сверкающей самоцветами саблей на боку и в низко надвинутой собольей шапке, -стоявшие у ворот парные стражи, опершись на копья, долг провожали его удивленными глазами.
– Видал, Федька, боярина? – промолвил один из них, когда всадник, миновав пустынную еще площадь торговые рядов, скрылся в одной из боковых улиц посада.
– Видал… Вроде бы не наш, а обличье будто знакомое.
– И мне гребтится… только как же это такое?… А может, то оборотень?
– Где тебе оборотень! Гляди, какая сила храмов-то Божь их округ!
– Ну, коли не оборотень, так не кто иной, как мурза татарский, ханов посол!
– Ахти, батюшки! И впрямь он! Пошто ж это он русским боярином-то вырядился?
– Вот то-то и оно! Как бы не воровство какое умыслил?
– Может, схватить его было надобно?
– Окстись! Ханского посла схватить! Он те хватит! Только и очухаешься, как за хвостом его коня в Орду попехаешь.
– Оно так… А сотника все же упредить беспременно надоть.
– Вот и я мыслю. А ну, бяги!
Карач– мурза, ибо это и вправду был он, в первые часы чувствовал себя довольно неуверенно в русском платье: ему все казалось, что встречные сразу узнают в нем татарина. Но в этом он ошибался. Никому из тех, кто не знал его раньше, глядя на него, и в ум бы не пришло усомниться в том, что он русский. Не отъехав от Москвы и десятка верст, Карач-мурза это понял и сам, по тем лениво-равнодушным взглядам, которыми его провожали в подмосковных селах.
Желая убедиться в том, что его не выдает и речь, он принялся расспрашивать встречных о дороге, стараясь с наиболее словоохотливыми затянуть беседу. Вначале все шло гладко, но вот раз, по привычке помянув Аллаха, он с досадой увидел, что говоривший с ним пожилой крестьянин выкатил глаза от удивления, а потом, пробормотав что-то невразумительное, поспешно зашагал прочь. Поняв, в чем заключалась для него главная опасность, князь тут же мысленно повторил сто раз слово «Бог» и положил себе делать это всякий раз, когда в беседе со спутниками с языка его сорвется «Аллах».
Но тут будет уместно сказать несколько слов об этих спутниках. Ильяс – нукер Карач-мурзы,– крупный мужчина лет тридцати, светловолосый и скуластый, как мы уже знаем, был по рождению русским. Родители его были захвачены татарами при усмирении Твери, лет сорок тому назад, и вместе со множеством других пленных пригнаны в Сарай. Тут, при распределении добычи, оба они достались тысячнику Субут-ходже, который, узнав, что отец Ильяса искусный оружейник, решил оставить его у себя, а жену его, молодую, но некрасивую женщину, назначил на продажу, вместе с другими рабынями. Но, услыхав это, оружейник повалился татарину в ноги.
– Не губи, батюшка, пресветлый князь! – взмолился он.– Оставь при мне женку! Коли явишь такую милость, я тебе за нее втройне отработаю, а нет, вот те Христос, все одно сбегу!
– Погляжу я, как ты сбежишь из ямы глубиной в десять аришей, да еще с бревном, прикованным к ноге,– усмехнулся тысячник, когда ему перевели слова русского.
– Ну, а какой тебе прок меня в яме-то держать? Чай, я тебе на кузне надобен, а не в яме! Пожалей, не продавай бабу, милостивый хан! Она тебе тожеть в хозяйстве сгодится. Ты не гляди, что она с лица рябая, у ей руки золото!
Субут– ходжа был человек богатый и не злой. Посмеявшись и попугав еще немного своего нового раба, он велел оставить ему жену и после об этом не пожалел: оба оказались отменными работниками и людьми почтительными и покорными. Через три года хозяин отпустил их на оброк, и они поселились, среди других пленных умельцев, в ремесленном квартале города, где отец Ильяса жил и работал свободно, ежегодно выплачивая Субут-ходже условленную сумму. Оружие в Орде шло хорошо, и через десяток лет он уже был зажиточным человеком.
Приблизительно в это время родился Ильяс. Рабское состояние родителей, по татарским законам, не распространялось на детей, и он был от рождения человеком свободным. Его окрестили в одной из местных православных церквей, но при выборе ему имени родители проявили мудрую предусмотрительность: пророк Илья столь же высоко чтится у мусульман, как у православных. Таким образом, в семье и среди русских он стал и навсегда остался Ильей, а для татар от рождения был Ильясом.
Подобно имени, с годами раздвоилось и его мироощущение. В семье он говорил по-русски, слышал бесконечные рассказы о матушке Святой Руси, понимал и разделял тоску родителей по утраченной родине и сам ощущал себя русским. Но на улице, встречаясь со своими сверстниками татарам, будучи постоянным участником их детских забав, а позже и воинских упражнений, он попадал в мир преклонения перед памятью «великого Чингиса» и его легендарных походов, сам невольно проникаясь всей этой военной романтикой Орды! Тут уже он мыслил и чувствовал как ордынец. В нем как бы сочетались два разных человека: русский Илья и татарин Ильяс.
*Почти все библейские пророки и патриархи признаются и Коране Так, напр., магометанские Ибрагим – это Авраам, Моса – Моисей, Гарун – Аарон, Сулейман – Соломон, Дауд – Давид, Юсуф – Иосиф, Якуб – Иаков, Нух – Ной и т. д. Великим пророком, под именем Исы, считает Иисус Христос, Богородица, под именем Мариам, почитается святой женщиной.
К работе ремесленника он никакой склонности не имел и, едва возмужав, решительно избрал дорогу воина. Родителей его это, конечно, не обрадовало, но не слишком и огорчило: воинское звание считалось в Орде почетным. Из русских, там родившихся, многие избирали этот путь и достигали высоких постов. Все они были известны под татарскими именами, и потому наша история сохранила о них очень мало сведений. Но мы, например, знаем, что тысячник великого хана Тохты, убивший в сражении мятежного хана Ногая, был по происхождению русским.
В тот год, когда Хорезм отложился от Орды, Ильяс служил в одном из находившихся там золотоордынских туменов. Этот тумен почти сплошь состоял из хорезмийцев и потому целиком перешел на сторону эмира Хуссейна Суфи, а те немногие татары, которые пожелали возвратиться в Орду, были с миром отпущены.
Ильяс еще не решил, что делать, когда случай свел его с Карач-мурзой, который, выслушав его историю, предложил ему остаться у него нукером. Узнав, что Карач-мурза сын русского князя, Ильяс пошел к нему на службу с особой радостью: такой оборот дела как-то вдруг все поставил на место в его сознании, позволив примирить и слить воедино русскую половину его естества с татарской. Он привык жить волею начальника и ломать голову над сложными жизненными вопросами не любил, а потому в этом случае рассудил приблизительно так: «Мой новый князь наполовину русский, как и я, значит, что хорошо ему, то будет хорошо и мне. Он станет думать за двоих, а мое дело – следовать за ним повсюду и делать, что он прикажет». С той поры он неотлучно находился при Карач-мурзе уже шесть лет и был ему верен и предан.
Второй спутник Карач-мурзы, послушник Чудова монастыря Макар Бугаев, был высокий жилистый мужчина лет сорока пяти. Внешний облик его был звероват и угрюм, но глаза глядели из-под косматых бровей умно и беззлобно.
Приглядевшись к нему и понимая, что именно с ним полезно побольше разговаривать в пути, чтобы усвоить особенности русской речи, князь задал ему два-три вопроса. Макар отвечал охотно, и вскоре между ними завязалась беседа.
– Ты что, в Москве родился? – спросил Карач-мурза после того, как проводник обстоятельно рассказал ему историю Чудова монастыря.
– Нет, боярин, – ответил Макар, которому владыка Алексей строго наказал величать ханского посла боярином и в пути не заикаться о том, что он ордынец.– Родом я из Брянска, а в Москву попал лишь ноне, каких два лета назад.
– Пошто же ты свою землю покинул? Али в Москве тебе лучше?
– Эх, боярин, не всякому родная сторона мать, иному и мачеха,– не сразу ответил Макар, и взгляд его помрачнел… – Так, вкоротке, того не обскажешь.
– Зачем вкоротке? Сказывай, как тебе любо. Путь перед нами долгий, времени хватит.
– Ну, изволь. Коли есть охота послухать, я расскажу… Случился, стало быть, у нас на Брянщине мятеж народный супротив князя нашего Глеба Святославича. Вовсе дрянный был князь, не тем будь помянут: войнами своими, поборами да лютостью довел он народ до краю и не стало нам никакого житья. Ну, значит, и порешили его согнать долой, а к себе звать другого князя…
– Кого же хотели вы звать? – быстро вскинув глаза на рассказчика, перебил Карач-мурза.
– А соседнего князя, Карачевского, Василия Пантелеича.
– Что же, хорош был тот князь? – прозвучал новый вопрос, и если бы Макар не унесся памятью в прошлое, он бы заметил, как странно изменился голос спрашивающего.
– Не довелось мне его увидеть, боярин, но слыхивал о нем много. Сказывали у нас, что не было в ту пору на Руси лучшего князя. Даром что был молод, а нужду народную понимал и подданным своим был что родной отец. За то и сгубили его лиходеи бессовестные, царствие ему небесное,– перекрестился Макар.
– Кто же сгубил его? – с трудом скрывая свое волнение, спросил Карач-мурза.
– Да кто же, как не бояре и другие князья, его родичи? Видать, оболгали его перед великим ханом, ну тот и отнял у! него княжение. А чтобы он не поехал в Орду и перед ханом не обелился,– хотели они схватить его да убить, только не на такого напали: не дался он им в руки, еще и сам, обороняясь, смахнул голову Звенигородскому князю, своему набольшему вору. Ну и пришлось ему после того спасаться от ханского гнева. Покинул свою вотчину да и канул, как в омут…
– Куда же бежал он?
– Разное сказывали, боярин. Одни будто видели его в Вятской земле, опосля прошел слух, что жил он за Каменным Поясом, в Белой Орде, где его хан Узбек все же, видать, достал. Говорили и иное, да истину-то один Господь ведает. В одном только нет сумнения: сгиб он в те же самые годы,– инако беспременно воротился бы к нам после смерти ворога своего, хана Узбека. Долго ждал его весь наш народ и не пущал к себе иного князя. Да так и не дождался…
– Ну, ладно, о себе сказывай,– промолвил Карач-мурза после довольно долгого молчания.
– О себе-то? Ну, так вот, батя мой покойный, царствие ему небесное, был кабальным смердом у старого боярина Лутохи. Был тот боярин сущий аспид, человек без совести и без сердца. Людей своих обижал, и сколько на него ни работай,– кабала лишь росла. Другой князь за такие дела ему бы роги обломал, ну, а Глеб Святославич и сам был не лучше… Ну, знамо дело, как только всколыхнулся народ, Лутохе первому пустили красного петуха. За тот случай, уж не знаю – по истине али безвинно, схватили моего родителя, и князь велел его повесить на кремлевской стене…
– Что же после-то было? – спросил через минуту Карач-мурза, видя, что рассказчик умолк и задумался.
– Не было мне в те поры и семнадцати годов, но в семье из мужиков я был старшой, и пришлось мне впрягаться в бать-кино тягло. И ноне еще страшно вспомнить то время! Боярин и без того был собака, а тут еще вымещал мне за отца, и не было такой обиды и неправды, коих бы я от него не претерпел. А податься некуды: уйти к другому хозяину не дает кабала, бежать тоже нельзя: на руках хворая мать да четверо братьев и сестер, из коих младшенькой и пяти годов не было. С такими далече не убегишь! Ну, терпел я эдак без малого шесть лет, и Господь надо мною сжалился: умер старый боярин и вотчина перешла к его сыну, а тот был не в отца,– добр и совестлив. Кабала моя с того дня пошла на убыль, и к двадцати осьми годам стал я слободным человеком. Родительница моя к тому времени преставилась, упокой, Господи, ее душу в селениях праведных, братья и сестры повырастали и зажили своей жизнью. Я же ударил челом той общине, где смолоду робил мой отец, и мир мое челобитье уважил: получил я земельный пай, невдолге оженился и зажил по своей волюшке.
– Трудился я не покладая рук,– помолчав немного, продолжал Макар,– да и мир трохи подсобил, а потому не минуло и пяти годов, как я уже стоял твердо: запахивал боле двадцати четей, имел хорошую просторную избу, пару коров и трех коней. Хозяйство было что надо! Женка у меня была добрая, жили с нею в любви и в ладу, по второму году родила она мне славного мальчонку-сына. Ждали – не пошлет ли Господь и дочку… Счастье, будто ненароком, зашло к нам в избу, да и прижилось. Ан не надолго: грянула вдруг беда,– напали на Брянщину литвины князя Ольгерда.
*Каменным Поясом назывался тогда Уральский хребет.
*Смердами называли крестьян.
Как раз в этом году царь Джанибек посадил на брянский стол Василея Александровича, из Смоленских князей. Князь был неплохой, но с задором. Ольгерду покориться он не схотел, а согнал всех нас, окрестных мужиков, в Брянск, на помогу своей дружине и порешил стоять насмерть. Четыре дня и четыре ночи шла на стенах злая сеча, но Ольгерд привел с собою силу великую, и когда с каждого нашего пятка полегли четверо и пал в битве сам князь Василей, литвины ворвались в город. Ну, тожеть и мы посекли их немало, были они взъярены нашим упорством, а потому предали Брянщину лютому грабежу и угнали в Литву большой полон.
Я остался лежать на стене порубанный,– снова помолчав, продолжал Макар,– не знаю, уж кто меня оттеда снял! и выходил, только пробыл я без памяти много дней. А когда одолел смерть и смог добраться до дому,– увидал на месте своей избы лишь кучу золы. Жена и сын тоже пропали. Стал; распытывать там и сям и вызнал, что видели мою Аришу среди других полонянок, уведенных литвинами, а было ли при ей дите – того никто не приметил. В тот же час пустился я следам полону, в глубь Литвы и шел многие дни, расспрашивая встречных людей. И вот, в одном селе, недалече от Киев поведали мне, что тут литовский отряд, гнавший полоненных брянцев, повстревался с большим татарским караваном, ворочавшимся в Крым, и продал татарам на выбор всех самых молодых и пригожих полонянок. Меня будто обухом вдарили! Ариша моя была красавица, каких поискать, вестимо, думаю, басурманы такую не проглядели… Для верности все же гнал я останки того полону и узнал, что точно была продана поганым моя лапушка…
– Ну и что же ты сделал? – спросил Карач-мурза, что Макар умолк и не продолжает рассказа.
– А что было делать? – глухо сказал Макар.– Тут конец всему. Идти за нею в Крым, так тебя самого по пути сто раз схватят и продадут на каторги. А ежели бы и дошел как-нибудь чудом и не была бы она еще продана в заморские земли,– чем ее выкупишь? Э, что говорить! Тут уж прощай навек…
*Четь – приблизительно полдесятины.
*Каторгами на Руси назывались гребные галеры.
– И ты воротился домой?
– Нет, боярин. Чего бы я стал там делать? Ворошить старый пепел? Не было у меня силы начинать жисть сызнова. Ушел я в бродники.
– Кто это бродники?
– Бродники? Ну, это такие люди, бродяги, что ли, коим не стало жизни в родном краю, и текут они на полдень, в дикие и ничейные степи, в поисках ежели не доли, то, по крайности, хоть воли…
***
Об этих предшественниках, а в известной степени и предках образовавшегося позже запорожского и донского казачества, стоит сказать здесь несколько слов. Дикие степи в низовьях Днепра и Дона спокон веков служили прибежищем и своего рода землей обетованной для всех гонимых, обездоленных и находившихся не в ладах с законом. Уже в десятом – одиннадцатом веках бродничество было заметным явлением, которое в дальнейшем все расширялось притоком новых беглецов из окраинных русских княжеств.
В привольных низовых степях бродники собирались в ватаги и своеобразные общины, промышлявшие чем придется: рыбной ловлей, охотой, грабежом, работорговлей, а иной раз нанимаясь целыми отрядами на службу к половцам, венграм и южнорусским князьям. По дошедшим до нас свидетельствам, были они умелыми и отважными воинами, но жестокостью своей приводили в изумление даже половцев.
Ко времени татарского нашествия бродники уже представляли собой крупную организованную силу, имеющую выборного вождя и прочно завладевшую обширной территорией, что дало основание некоторым историкам той эпохи говорить о них как об отдельном полукочевом народе, наравне с печенегами, половцами и другими .( См., напр., «Историю» византийского писателя Никиты Акомината или переписку венгерского короля Бэлы IV с папой Иннокентием IV )
В исторической битве на реке Калке – первом столкновении русских с татарами – бродники, во главе со своим атаманом Плоскыней, заклеймили себя низким предательством: Добровольно поцеловав крест русскому князю Мстиславу Удалому и обещав ему свою помощь, они вместо того показали татарам скрытые подходы к русскому стану и сражались на их стороне.
После этого случая в летописях мы больше не находили упоминаний о бродниках как о народе, или, точнее – как о независимой воинствующей общине. Очевидно, частью они растворились в татарской Орде, частью были ею истреблены. Но тропы, исстари протоптанные из Руси в приднепровские степи, конечно, не заросли травой: в поисках воли много веков еще тянулся по ним с севера беглый и отчаявшийся люд, которому нечего было терять на родине.
***
– И долго ты пробыл в бродниках? – спросил Карач-мурза, не столько из любопытства, сколько из желания отвлечь беднягу от тяжких воспоминаний, которые, видимо, им всецело овладели.
– Без малого десять годов,– не сразу ответил Макар и вновь погрузился в молчание.
– Ну и как тебе в те годы жилось?
– Эх, боярин, и вспоминать неохота! Ну, да уж раз начал, – доскажу все, приму за грехи мои одною мукою больше… Как жил, спрашиваешь? Паскудно жил, одно слово. Попавши в волчью стаю, по-овечьи жить не будешь! К тому еще и горе мое лютое оледенило мне сердце,– был я в ту пору и впрямь хуже всякого волка. Многим литовским панам в те годы отлились мои слезы кровью. Но пуще всего искал я тогда сотника, что вел из Брянска погон и продал наших баб татарам. И, на беду, сыскал.
Помню, как ночью наша ватага окружила его хутор на Подолыцине. Враз перевязали сонную дворню, а господ прям с теплых постелей выволокли на двор… Дом ограбили и попалили с четырех концов, а сотника,– был он, кажись, ляхов,– посредь грядки с цветами посадили на кол, лицом к дому, и видел он оттеда, как потешались ребята над его женой, а после, раскачавши, кинули ее в огонь. А за нею и всех домочадцев… И вот, слышь, бегит до меня мальчонка годе четырех – сынок того пана – и ручонки тянет, а у самого в глазах семь смертей… И разом вспомнил я своего Мишаку, – вот тако же, думаю, когда избу мою жгли, он к им, свои ручки тянул, а они его… Зажмурился я и пнул того хлопчика ногою в пламя…
Голос рассказчика перехватило, Карач-мурза искоса поглядел на него: Макар был бледен, как труп, губы его тряслись, а может, читали молитву.
– Так вот,– продолжал он, справившись со своим волнением,– с той поры и нет мне покою. Веришь, руки и ноги с радостью дал бы себе отсечь, еще бы и глаза на придачу выколол, чтобы возможно было тому младенцу невинному жизнь воротить! С того дня я боле не злодействовал, а бродил по степу один, как Каин, потеряв счет дням и годам. Все слышалось мне, как закричал он тогда, ровно заяц… И всякую ночь ложился словно на плаху, – наперед уже знал, что мне во снах привидится. В конце порешил идти в монастырь, свой великий грех замаливать. Пришел я тогда прямо в Москву и покаялся во всем самому святителю. Выслушал он меня и говорит: «Страшен твой грех, Макар, но властью, от Бога мне данной, я его тебе отпущаю, ибо вижу: не злодей ты в сердце своем, а заблудшая и замученная душа. Но пострига тебе ноне не дам,– наложу пять годов епитимьи. Ты супротив людей грешил, вот и послужи сперва людям, а там уж и Богу послужишь. А что делать,– я тебе стану указывать».
– Ну, вот, с той поры и живу я в молитвах и в послушании при Чудовой обители, исполняя все, что велит святитель, и чая удостоиться иноческого сана. И тоска меня уже не столь тяжко гнетет, как прежде,– закончил Макар с видимым облегчением.
– Стало быть, со мною тебя послал митрополит тоже в наказание?– спросил через некоторое время Карач-мурза, которому не вполне понятно было – что такое епитимья.
– Что ты, боярин! – воскликнул Макар.– Какое же тут наказание? В службу послал, и тому я поистине рад, ибо вижу, что верит мне владыка и знает, что скорее смерть приму, нежели волю его порушу. А наказал он мне служить тебе верно, яко бы ему самому служил, и оставаться с тобою, доколе ты сам тоже схочешь.
Впрочем, тут Макар сказал не все. Отправляя его с Карач-мурзой и дав общие наставления, митрополит Алексей добавил:
– Тебе верю, Макарий, и говорю: ханский посол, коего надлежит тебе звать боярином либо Иваном Васильевичем, на деле не татарин и не боярин. Кто он,– знать тебе покуда незачем, но помни одно: Руси он надобен. К тому же претерпел и он безвинно от людской неправды,– служа ему, скорее свой грех искупишь, а коли случится за него смерть принять,– чистым войдешь в царство Божье. Вот, возьми эту грамотку, спрячь на себе и береги ее крепко. Путь ваш будет отсюда в Карачев, а после в Звенигород,– есть там у Ивана Васильевича вороги, и они сильны. Всякое может случиться. Так вот, ежели его узнают и схватят,– тотчас отдашь эту грамотку князю Карачевскому либо Звенигородскому. Исполни все в точности, и на том даю тебе свое благословение.
Глава 23
За разговорами время текло незаметно, и путники быстро продвигались вперед. По мере удаления от Москвы сел и деревень им встречалось все меньше; лес, вначале далеко оттесненный возделанными полями и нивами солнечно-янтарной ржи, все ближе подступал к дороге и наконец стиснул ее двумя мощными стенами, ощерившимися темно-зеленой хвоей.
Идущие и едущие навстречу люди стали теперь редки; ниоткуда не долетали уже ни стук топора, ни звон церковного колокола, ни лай собак; природа, как бы осознав свою непобедимую силу, спокойно дремала в первобытной тишине, нарушаемой лишь веселым посвистываньем белок, радующихся солнцу и в блаженном озорстве переметывающихся с дерева на дерево. А вот впереди, прядая обвисшими от летнего зноя ушами и морща горбатый нос, ленивой трусцой перебежала дорогу лосиха, и, видимо почуяв людей, сейчас же метнулся за нею замешкавшийся лосенок.
Карач– мурза был непривычен к лесу. С безотчетно нарастающим в груди чувством приятной, волнующей приподнятости он пытливо озирался по сторонам, примечая все и стараясь проникнуть разумом в тайны лесной жизни. Ему с трудом верилось, что всего лишь несколько часов назад он покинул Москву.
К полудню зеленые стены, окаймлявшие дорогу, снова раздвинулись, и всадники спустились в неглубокую долину реки Пахры. Проехав еще несколько верст вдоль крутого, глинистого берега и миновав два-три невысоких кургана, они увидели перед собою большое село Подол, где решено было подкрепиться и дать роздых коням.
Это село, не теснясь раскинувшееся на просторе, немного в стороне от реки, насчитывало дворов тридцать, что было в ту пору редкостью. В обе стороны от него, по долине, земля была возделана и пестрела золотистыми полосами овса и ржи, кое-где перемежающимися темно-зелеными полями конопли и белесоватыми – гречихи. Внизу, на свежезеленой пойме, паслось стадо коров; у самой реки горел костер, с подвешенным на треноге черным от копоти казанком, а на отмели два подростка-пастуха, сбросив порты и узлами завязав на животах полы длинных рубашек, заводили бредень.
*Нынешний Подольск, районный город Московской области.
** Обычные села того времени насчитывали 10-15 дворов.
И добротные избы, и густо колосящиеся нивы, и красивая бревенчатая церковь, стоящая на площади, посреди села, указывали на то, что народ сел здесь крепко и живет спокойно, в достатке.
Отыскав постоялый двор, по обычаю времени отмеченный конским черепом, вздетым на шест,– путники поручили лошадей заботам хозяина, а малое время спустя уже и сами сидели в тени густой черемухи, за выскобленным добела липовым столом, на котором, среди толсто нарезанных ломтей ржаного хлеба, стояли объемистая крынка молока и миска с печеными яйцами; несколько сырых луковиц да берестяной коробок с солью дополняли это убранство. Окинув эти скромные яства неодобрительным взглядом, Ильяс развязал принесенную с собою торбу и, вытащив оттуда жареный бараний окорок, завернутый в лист лопуха, тоже водрузил его на стол.
– Эка велико ваше село,– заметил Макар, обращаясь к хозяину двора, подошедшему в этот миг со жбаном холодного квасу.– С чего бы это оно столь разрослось?
– Дело известное,– ответил хозяин, кряжистый рыжебородый мужик лет сорока.– Али не знаешь, что все эти угодья князем покойным Иваном Даниловичем отписаны московскому Данилову монастырю, выстроенному его праведным родителем? Допрежь того на Подоле нашем было, кажись, дворов семь. Ну, а с той поры народ сюды, знамо дело, и потек.
– Почто так? – удивился Карач-мурза.
– Да ведь, не в обиду тебе будет сказано, боярин, на церковных-то землях смерду жить не в пример вольготнее, нежели на боярских, а иному и на общинных. Ему оброк платить куды сподручнее, чем робить на барщину, которая рано ли, поздно ли доводит его до кабалы. Ну, а боярину как раз барщина-то и нужна. Что же до вольных смердов,– на тех барщины хотя и нет, но надобно платить подати и число да отбывать князю повинности, а их ноне немало. Глянь, как города-то скрозь ставятся! На них изводят прорву леса и камня, и от всякой общины князь требует людей, лошадей и телеги, чтобы тот камень да лес добывать и свозить куды надобно. Хоша каждый идет в повинность не так чтобы надолго, да иной раз мужику от того чистый зарез: тут подошло, к примеру, самое горячее в хозяйстве время, надобно свое робить, а ты поезжай по наряду либо дай своего коня, а себе хоть свинью запрягай!
*Этот монастырь, просуществовавший до наших дней, был основан в XIII в. первым Московским князем Даниилом Александровичем, причисленным Церковью к лику святых.
**Оброк – уплата за пользование помещичьей землей, продуктами своего труда или деньгами.
***Барщина – уплата за то же самое своим трудом.
****Числом называлась дань, собираемая для татарского хана.
– Ну, а на монастырских землях ничего такого нету. По цареву указу ни числа, ни податей церковные людишки не платят, також и князь их в работу не берет. А барщиной нас святые отцы не донимают,– в кои-то веки стребуется подновить в обители тын, загатить реку либо еще что справить,– так ведь это выйдет какая седмица, много две в году, а на боярина надо робить три дня в седмицу! Платим мы монастырю оброк в натуре, глядя по урожаю, да к праздникам великим посылаем братии кто пару курей, кто гуся, овечку либо свинью, а кто победнее – тот рыбки, а то и лукошко ягод. Ну, а так – робим сами на себя и живем как бы по своей воле. И потому всякий смерд, кому в ином месте затужило, норовит перейти на церковную землю, покуда не влетел в кабалу, ибо знает – опосля будет поздно: беглых братия до себя не принимает.
***
К этому следует добавить, что земельные владения многих русских монастырей того времени были весьма обширны, что дает некоторым историкам основание не совсем справедливо обвинять древнерусское духовенство в чрезмерном любостяжании. Нет сомнения в том, что монастырская братия и многие отцы Церкви нашей не отказывались от земельных приобретений, далеко превышавших нужды того или иного монастыря, и умели извлекать из этого огромного хозяйства немалую пользу. Но, во-первых, история почти не дает нам примеров того, чтобы кто-либо из русских иерархов использовал эти источники для личного обогащения, окружения себя роскошью или ведения расточительной и праздной жизни,– каковыми примерами изобилует история западной хрстианской Церкви. Во-вторых, для увеличения своих угодий монастырям едва ли нужно было прибегать к захватническим действиям, которые если и имели место, то лишь как редкое исключение. Земельные богатства Церкви росли у нас почти исключительно за счет так называемых «вкладов по душе»: у русских князей и бояр существовал обычай завещать особо чтимым или просто ближайшим монастырям некоторую часть своих владений, на вечное поминовение души. И эти вклады зачастую бывали весьма обширны.
*Царем на Руси называли тогда золотоордынского хана.
В таких случаях обычно завещались леса и пустоши, которые монастырь быстро заселял пришлыми крестьянами, охотно селившимися на церковных землях в силу причин, указанных выше. Но нередко жертвовалась и «устроенная земля»,– уже обрабатываемая и населенная. Из подобных фактов те исследователи, которые любят отыскивать в нашем прошлом одно лишь плохое, снова делают ошибочное заключение, что это крестьянское население отдавалось монастырю в рабство или в собственность, вместе с землей. Подобные случаи имели место значительно позже,– когда крестьянство на Руси было уже повсеместно и прочно закрепощено. Но в описываемое время, если крестьянин не был связан с владельцем земли кабальным договором, то есть, попросту говоря, долговыми обязательствами,– он был волен уйти с подаренной монастырю земли и устроиться в другом месте. Это было нетрудно: свободных земель было еще много, а людей всюду не хватало. Если же крестьянин был кабальным и кабальная запись на него передавалась монастырю,– он должен был отработать долг, как отрабатывал бы его прежнему хозяину. И при тех льготах, которыми пользовались все «церковные люди», выйти из монастырской кабалы бывало несравненно легче, чем из боярской.
Насколько можно судить по сохранившимся древним Документам, жертвователь, передававший монастырю «устроенную землю», вовсе не смотрел на сидящих на ней крестьян как на бесправный рабочий скот, до участи которого ему нет дела. В этом отношении чрезвычайно показательна дошедшая до нас дарственная грамота великого князя Ивана Калиты, выданная в 1337 году Юрьевскому новгородскому монастырю на земли по Волоку. Ниже она приводится дословно, некоторыми несущественными сокращениями: «Се аз, князь велики Иван Данилович всея Руси, пожаловал есм, Бога для и святаго Юрия для, архимарита Есифа и братию землями на Волоце. И кто сидит на земли той святаго Юрия, дал есм им волю, не надобе им потягнути к городу ни в какую дань, ни в подводы, ни в кормы, ни в стан, ни в какой протор. А волостелям волоцким тех людей не судити, опричь татьбы и разбоя и душегубства, а то судит их человек от святаго Юрия. А по воле князя великого волостелям волоцким тех людей блюсти и не обижать. А архимариту беглых людей волоцких не примати, также из вотчины князя великаго, из Москвы, не примати.А кто из детей моих и из братьи данье мое порушит, того судить будет Бог и святый Геворгий в страшное свое пиршествие, а князю великому даст сто рубли. А дал есм сю грамоту навеки».
Как видим, жертвователь тут не только не рассматривает население подаренной им земли как рабское или бесправное, но, наоборот,– проявляет заботливую предусмотрительность и старается оградить его от возможного произвола.
Обязанности церковных крестьян по отношению к монастырю также определялись издавна установившимися положениями, которые каждый знал. И если тот или иной игумен начинал требовать с них больше положенного «по старине»,– обиженные жаловались митрополиту, и он их защищал, о чем красноречиво свидетельствует тоже доныне сохранившаяся грамота митрополита Киприана, датированная 1392 годом и вызванная одною из таких крестьянских жалоб.
***
Хорошо отдохнув в Подоле, путники тронулись дальше, часа через два миновали небольшой городок Лопасню, изрядно разрушенный рязанцами, и, когда солнце близилось к закату, въехали в Серпухов.
Этот город, стоящий на реке Наре, у впадения ее в Оку, возник всего за восемьдесят лет до описываемых здееь событий, в качестве сторожевого поста на границе только что образовавшегося Московского княжества. Иван Калита за вещал его своему третьему сыну Андрею, за родом которог с той поры и закрепился Серпуховский удел, позже расширенный присоединением к нему Боровского княжества и некоторыми землями, отобранными у Литвы.
*Одно время Серпуховские князья владели даже городом Козельском, который великий князь Василий Первый отобрал в 1409 г. у Литвы и обменял его Серпуховскому князю на город Ржев. Но в 1445 г. литовцы вновь овладели Козельском.
Нынешний князь, Владимир Андреевич Храбрый, к концу своей жизни значительно расширил и благоустроил Серпухов, обнеся его новыми, очень прочными стенами, но сейчас город был невзрачен и невелик, насчитывая немногим больше двухсот дворов да две деревянных церкви. Центральную часть его окружал невысокий земляной вал, с идущим поверху дубовым тыном. К городской стене, с северной стороны, вплотную примыкала рыночная площадь, окруженная незатейливыми избами посада, да в версте от города высились среди густой зелени бревенчатые, еще не успевшие потемнеть стены Введенского Владычина монастыря, лет пять тому назад поставленного святителем Алексеем.
Въехав в город через единственные его ворота, с примыкавшей к ним сторожевой башней, путники тут же увидели корчму, во двор которой и направили своих усталых коней. Здесь, вопреки ожиданию, Карач-мурза получил хороший ужин и довольно удобный ночлег, а спутники его неплохо выспались и на сеновале.
Едва в небе наметился рассвет, они уже ехали дальше по безлюдной лесной дороге и к восходу солнца, переправившись через реку Протву и оставив справа от себя город Оболенск, а слева Тарусу, взяли путь прямиком на Калугу.
Как и накануне, их со всех сторон обступил густой и высокий лес, но здесь он казался приветливее, светлее: темные ели заметно уступали тут первенство нарядным белоствольным березам, среди сосен повсюду виднелись могучие стволы вековых дубов. Но дорога была значительно труднее, чем вчера: она перебегала с уклона на уклон, то и дело пересекая глубокие овраги с крутыми берегами.
Изрядно заморив лошадей и не встретив по пути ни одного селения, к вечеру путники прибыли к тугой излучине Оки, на высоком берегу которой стоял небольшой укрепленный город Калуга. Возник он совсем недавно: тут спокон веков существовало затерянное в лесах село, о котором шла худая молва, и только лишь четверть века назад великий князь Московский Симеон Иванович его привел в порядок, расширил и укрепил надежными стенами, для защиты своих южных рубежей от всегда возможного вторжения литовцев.
*В 1806 г. этот монастырь был обращен в женский и досуществовал до наших дней.
Переночевав в Калуге и утром переправившись в пятнадцати верстах от нее через широкую реку Угру, путники очутились уже на земле Литовско-русского великого княжества. Проехав еще немного и миновав город Воротынск, они снова свернули к Оке и, придерживаясь ее берега, ехали до вечера. Местность тут была довольно густо населена, часто попадались села, всюду виднелись возделанные поля и нивы. Но о владычестве Литвы ничто не напоминало: край как был, так и оставался русским. Кроме Воротынска, проехав в этот день города Перемышль, Лихвин и большое село Барятино, не считая десятка других, поменьше,– Карач-мурза нигде не увидел ни одного литовца и не услышал литовской речи. Проведя третью ночь в городке Белеве, уже на Карачев-ской земле, снова выехали с рассветом и, лишь на короткое время остановившись на отдых в Волхове, тотчас пустились дальше, чтобы засветло добраться до Карачева. Однако неожиданное происшествие их задержало: при переправе через небольшую речку с крутыми и скользкими глинистыми берегами конь Ильяса споткнулся и сильно захромал. Дорога тут шла густым лесом, ни одного села, где можно было бы раздобыть хоть какую-нибудь лошадь, им не встретилось, и последние двадцать верст пришлось ехать шагом, с частыми остановками.
Когда, по расчетам Макара, до Карачева оставалось не меньше пяти верст, было уже совершенно темно. Поэтому, проехав еще минут десять и завидя в стороне от дороги два-три слабо мерцающих огонька, выдававших присутствие небольшой деревеньки, Макар придержал коня и сказал:
– Пожалуй, надо бы тут заночевать, боярин. Гляди, ночь-то какая! Как бы лошадь Ильи вовсе не скувырднулась: нам где-то тут снова речку переезжать, а в такой темени что увидишь? Да и в городе ночью куды мы ткнемся?
– Ну, что ж, коли так – сворачивай к деревне,– ответил Карач-мурза, выведенный словами проводника из состояния глубокой задумчивости. Сознание того, что он едет по земле своих отцов, по праву принадлежащей только ему, навевало множество разнообразных и беспорядочных мыслей. Весь этот день он был угрюм и неразговорчив.
Глава 24
Свернув с дороги, всадники почти сразу потеряли из виду замеченные ими огоньки, теперь скрывшиеся, очевидно, за деревьями. К счастью, почуяв приближение незнакомых людей, впереди залаяли собаки, и это помогло держать нужное направление. Минут через пять огни показались снова, на этот раз совсем близко, и вскоре путники различили перед собою темные очертанья нескольких изб, разбросавшихся по косогору, у опушки леса. Подъехав к ближайшей из них, Макар слез с коня и, нащупав ворота, застучал в них рукоятью плети.
Прошло немало времени, прежде чем в глубине двора скрипнула дверь, послышались неторопливые, шаркающие шаги и старческий голос за воротами произнес:
– Кто здеся стукотит? Коли добрый человек, назовись, а коли нечистая сила – сгинь: наше место свято!
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – ответил Макар.– Отвори, дедушка, не опасайся: мы люди смирные и худа никому не сделаем.
– А кто такие и отколе?
– Путники мы, едем с далека, с Москвы. Да, вишь, конь у нас охромел, до города едва ли дойдет. Пусти заночевать, сделай божескую милость, а внакладе ужо не останешься!
– А сколько вас?
– Трое. Боярин да двое слуг.
– Боярин?! Где же боярину у нас ночевать-то? Изба тесна, живем бедно. Он нашего духу нипочем не выдюжит!
– А нет ли тут избы получше?
– Все наши хоромины одинаковы: какую хошь нищий сумой прикроет. А вам бы лучше попроситься в господскую усадьбу.
– В усадьбу, говоришь? А где она, та усадьба?
Тут недалече, и полверсты не будет. Вон, гляди вправо: видишь, огонь горит? – Энто она самая и есть.
– Ага, вижу! Это что же – поместье либо чья вотчина'?
– Была тут завсегда вотчина господ Кашаевых, тако и деревня наша, по старым хозяевам, досе зовется Кашаевкой. Но только Кашаевы все перевелись, и ноне правит нами сын боярский Софонов, Михаила Андреич. Господин добрый и гостей любит. Прямо до его и ступайте, там места на всех достанет.
– Ну, спаси тя Христос, старик! Оставайся с Богом.
– Бог для всех. Счастливо и вам!
Во дворе усадьбы, перед одним из боковых строений, где, видимо, помещались дворовые люди, веселым полымем вихрился костер, вокруг которого сидели на корточках несколько ребятишек, молча наблюдая, как бородатый мужик, в рубахе-распояске, пристраивал над огнем вертел со вздетой на него крупной птицей. При свете пламени, которое освещало двор до самых дальних закоулков, путники, без всякой помехи въехавшие в отворенные настежь ворота, увидели справа и слева от себя несколько низких хозяйственных построек и навесов, и в глубине двора – старый бревенчатый дом в три сруба, с широким, крытым тесовой крышей крыльцом, с которого сбегали на землю пять-шесть покривившихся ступеней.
*Вотчинами в то время назывались родовые имения, нормально наследуемые, тогда как поместье давалось в виде вознаграждения за службу и обычно, по окончании этой службы или по смерти владельца, снова отходило в казну.
Чуть поодаль, в тени огромного дерева, виднелся второй дом, поменьше и без крыльца. Если бы не толстые, хорошо подогнанные бревна его сруба и не резные наличники на двух довольно широких окнах,– его можно было бы принять за избу зажиточного крестьянина. По всему было заметно, что усадьба эта принадлежит дворянину средней руки, имеющему средства жить удобно и не теснясь, но недостаточно богатому, чтобы позволить себе какие-нибудь лишние затеи.
Лай собаки, почуявшей наконец посторонних, заставил сидевших у костра обернуться. Прикрыв глаза ладонью и вглядываясь в трех незнакомых всадников, находившихся уже на середине двора, бородатый мужик крикнул:
– Фомка! Опять ты, паскуда, пригнавши коров, ворс не зачинил? А ну, бяги, не то я тебя!…
– Будь здрав, человече,– сказал Макар, подъезжая ближе.– Вижу, у вас тут добрый обычай: когда гости во двор тогда и ворота на запор!
– А что же? – бойко ответил мужик, смекнувший, что бояться нечего.– Добрым людям мы завсегда рады, злы и бешены ноне, сказывают, все перевешаны! А вы кто же такие будете?
– Приезжие мы, из самой Москвы. Господин ваш дома?
– Михаила Андреевич-то? Вестимо, дома!
– А ну, доведи ему, пусть выйдет на миг!
Через несколько минут на крыльце появился высоки! и крепкий мужчина, с красиво вьющимися седыми волосам! и короткой полукруглой бородкой. В левой руке он держал высоко поднятую горящую лучину, правой на ходу застегивал изрядно поношенный синий кафтан. Лица его, наполовину скрытого движущимися пятнами теней, нельзя было как следует разглядеть, но в голосе прозвучало неподдельно радушие, когда он, увидев перед собою трех незнакомцев сказал:
– Никак, Господь послал мне гостей? Добро пожаловать! Что честные люди, то вижу и сам, а как звать-величать, чаю от вас узнать.
– За привет и за ласку тебе спасибо, почтенный хозяин,– выезжая вперед, ответил Карач-мурза.– Я боярин Снежин, Иван Васильевич, и еду со своими слугами из Москвы в Карачев и далее. Да вот, в пути нас настигла ночь и конь, на беду, захромал. Ежели найдется у тебя где переспать да лошадям по охапке сена,– ничего более нам и не надобно, а тебе навеки будем благодарны.
– Все найдется, боярин, милости прошу! Живем не богато, но голодным либо непривеченным отселе, благодарение Господу, еще никто не уходил. Сделай милость, заходи в дом, а о слугах твоих и о конях мои люди позаботятся. Эй, Игнат, слышишь? – обратился он к бородатому мужику, стоявшему у крыльца.– Чтобы все было как подобает, да перво-наперво поднеси людям с дороги по чарке,– скажи Арине Михайловне, что я велел.
– Будь надежен, Михаила Андреич, я, чай, обычай знаю.
– Ну, вот. А ты, Иван Васильевич, может, в баньку с дороги-то? Как раз натоплена, я и сам только что парился. Тем временем и ужин поспеет.
– Благодарствую, боярин,– ответил Карач-мурза, не знавший, как величать собеседника,– от бани не откажусь: четыре дня почти не слезал с седла.
– Ну, вот и добро! Идем, я тебя проведу. А до боярина мне далеко,– зови меня без чинов, Михайлой Андреевичем.
***
Любит русский человек помыться-попариться, и в прежние времена пригласить званого или нечаянного гостя в баню было столь же в обычае, как предложить ему потрапезовать.
На Руси, с самой глубокой древности, баня была неотъемлемой принадлежностью каждого домашнего очага, и мылись в ней по возможности ежедневно, что некоторые западные историки отмечают с иронией, как своего рода блажь или чудачество, тем лишний раз подтверждая достоверность факта, о котором сохранилось немало и других исторических свидетельств.
Древнейшее из них,– записанное одним из греческих авторов третьего века и переведенное на славянский язык нашими первыми летописцами,– принадлежит апостолу Андрею Первозванному, как известно, проповедовавшему христианство в восточнославянских и скифских землях. Вот что он рассказывал, возвратившись оттуда: «Дивно видех аз само, словеньскою землею идучи, бани древенны зело натоплены. И людие тамо совлокут с ся одежды и остануться нази, и облеюти ся квасом, и взяв прутие младое биют ся сами, и тако ся добьют, едва вылезут живы, и облеют ся водою студеною и тогды оживут. И то творят по все дни,– мовение себе, а не мучение».
Некоторые историки склонны считать автором этого свидетельства не Андрея Первозванного, а другого христианского проповедника Андрея, побывавшего на Руси в седьмое или восьмом веке, но даже и в этом случае оно относится седой древности, и уже первый киевский летописец Нестор приводит его в своей «Повести временных лет».
Другое документальное доказательство того, что баня в жизни древних русов имела первостепенное значение, мынаходим в мирном договоре, заключенном киевским князем Олегом с Византией, после победы, одержанной над нею в 907 году. Несмотря на краткость этого договора, текст которого сохранился до наших дней, в нем точно оговаривается, что русским послам и купцам, приезжающим в Царьград, в числе прочих видов жизненного и бытового обеспечения, должны быть предоставлены бани, в которых они могут «мытися елико хотят».
Из того факта, что подобное требованье включается в столь важный государственный документ, логически вытекают два вывода: что в десятом столетии частое мытье в бане русы считали одной из важнейших человеческих потребностей и что в блистательной Византии эту потребность нелегко было удовлетворить.
Можно было бы привести еще много подобных свидетельств. Баня часто упоминается в наших летописях, в целом ряде старинных русских былин и народных сказок, ей посвящены десятки, если не сотни, пословиц и поговорок, среди которых есть и такие: «Мой в церкви душу, а в бане тело», «Без бани нам не живать,– баня вторая мать», «Без бани мы бы все пропали» и т. д.
Эту любовь к чистоте тела русский человек в неприкосновенности пронес через века своей истории, и потому особенного удивления заслуживают попытки некоторых западных историков изобразить наших предков как дикий и грязный народ, тогда как именно они могли служить образцом чистоплотности для других народов.
*По преданьям, апостол Андрей Первозванный водрузил крест на месте нынешнего Киева, а после дошел до Новгорода, где оставил свой жезл. Таким образом, его свидетельство относится именно к тем народам, которые позже приняли имя Руси.
* Для сравнения стоит отметить, что «гигиена» средневекового Запада развивалась в ином направлении и заботилась не столько о чистоте тела, сколько о том, чтобы сделать менее заметной его нечистоту. Сохранились описания всевозможных ухищрений, применявшихся с этой целью в высших слоях западноевропейского общества: натирание различными благовониями, обливание духами, окуриванье комнат сильно пахнущими смолами, ношение под одеждой особых подушечек с ароматическими веществами и даже специальных ловушек для насекомых. Но о банях или о чем-либо подобном мы в западноевропейских хрониках никаких упоминаний не встречаем и легко можем представить себе, на каком уровне находилась, напр., гигиена женщин, закованных в «пояса целомудрия», ключи от которых любящие мужья увозили с собою в годами длящиеся походы.
***
Час спустя радушный хозяин уже усаживал помывшегося гостя за стол, в низкой, но довольно просторной трапезной, которую Карач-мурза при входе окинул внимательным и любопытным взглядом: ему впервые в жизни довелось переступить порог русского помещичьего дома.
Горница была убрана Скромно, но опрятно. На ее стенах, облицованных побуревшими от времени березовыми досками, были развешаны оленьи и лосиные рога, оружие и резные деревянные блюда; в красном углу, возле небольшой божницы, оправленной вышитым полотенцем, перед ликом Архангела Михаила – покровителя Карачевской земли,– теплилась лампада; вдоль одной из стен тянулся высокий дубовый ларь, с резною наклонной крышкой, а над ним – несколько полок с посудой и домашней утварью. У других стен стояли крытые домоткаными коврами лавки, а в центре – широкий стол, уставленный закусками. В медном свечнике, стоявшем посредине, горело несколько восковых свечей, мягкий свет которых придавал помещению особую уютность.
Во всей обстановке этой горницы,– подобных которой на Руси имелись, вероятно, тысячи,– не было ничего особенно примечательного, но при взгляде на нее Карач-мурзой внезапно овладело странное, не поддающееся объяснению чувство: ему показалось, что он уже бывал здесь когда-то и видел все это не раз. Воображение как будто даже подсказывало ему те предметы убранства комнаты, которых он еще не успел заметить. Вот, над входной дверью, за его спиной, должна висеть зачучеленная кабанья голова… Он быстро обернулся, и с губ его едва не сорвалось: «Бисмаллах!» – Голова, действительно, висела над дверью и щерилась на него кривыми желтыми клыками.
Карач– мурзе на мгновение сделалось жутко, но он сейч же отогнал наваждение. «Не может быть,-подумал он. Наверное, я, когда входил в дверь, посмотрел наверх и увидел эту голову или ее тень на стене и не осознал этого, ибо был занят другими мыслями. Ведь я никогда здесь не бывал и не мог того знать… А может быть, это было во сне? – Нет, и во сне не видел такого, а все-таки…»
– Садись, сделай милость, Иван Васильевич,– возратил его к действительности голое хозяина,– да вот, прошу любить и жаловать, сынок мой Павел,– указал он рукою вошедшего в этот миг молодца лет двадцати. «Сынок» был стом в добрую сажень, и заметно было, что по силе он мог потягаться с любым медведем, хотя лицом, на котором начинала пробиваться белокурая бородка, он и впрямь походил еще на мальчика.
– Это мой меньшой,– продолжал Михаила Андреевич, – а старшой мать сопровождает. В отъезде моя жена,– пояснил он.– На минувшей седмице получила весть, что занедужил родитель ее, а ему уже за восемьдесят,– видно, призывает Господь. Ну и поехала к нему в Звенигород, проститься и проводить в последний путь. Так что за хозяйку ноне будет у нас дочка моя Ирина,– сейчас выйдет, должно, на поварне захлопоталась. А пока суд да дело, выпьем по чарочке рябиновой за приятную встречу и во укрепление знакомства! Налей-ка, Павлуша!
Глава 25
Когда Ирина вошла и хозяин представил ее Карач-мурза на последнего снова нахлынуло чувство, испытанное им входе сюда: ему показалось, что он уже где-то видел эту женщину. Но это ощущение было столь мимолетным, что он почти не успел его осознать и сейчас же подумал другое: она ему кого-то напоминает. Но кого,– он не мог вспомнить.
Ирина между тем, поздоровавшись с гостем приветлив но без жеманства, освободила на столе место для блюда с горячими оладьями, которое внесла за нею дворовая девушка поправила фитили на свечах, а затем села рядом с братом, почти напротив Карач-мурзы. Движения ее были неторопливы, пожалуй, даже несколько вялы,– может быть, потому, что под этой нарочитой небрежностью она хотела скрыть свое смущение, чувствуя, что невольно привлекает к себе внимание приезжего боярина.
Карач– мурза действительно поглядывал на нее всякий раз, когда это можно было сделать не рискуя показаться нескромным. По своей натуре и по воспитанию он не был застенчив и робок с женщинами, ибо в мусульманской среде эти чувства были просто несовместимы с достоинством мужчины. Но с русской женщиной он сидел за одним столом впервые и потому с интересом присматривался к ней и к ее положению в семье, чтобы уяснить -как следует себя с нею держать. Ирина была хороша собой, но Карач-мурзе она показалась подлинной красавицей, ибо на Востоке такой тип женщины являлся редкостью и ценился особенно высоко.
На вид ей можно было дать года двадцать три – двадцать четыре. Она была немного полна, но эта полнота скрадывалась хорошим для женщины ростом, который казался еще выше, благодаря высоким каблукам на желтых сафьяновых полусапожках и длинному сиреневому летнику с кружевными зарукавьями, расшитому позументом спереди и по подолу. Голова ее, поверх шитого бисером волосника, была повязана парчовым повойником. По обычаю замужних женщин того времени совершенно скрывавшим волосы, но, судя по большим серым глазам и нежной белой коже,– они были светло-русы. Темные, круто изогнутые брови, прямой, чуть вздернутый нос и небольшой, твердо очерченный рот с едва заметно выступающей вперед нижней губой налагали на это красивое лицо несколько холодное, даже слегка надменное выражение, но лишь до тех пор, пока она оставалась серьезной. Улыбка мгновенно рассеивала это впечатление, совершенно ее преображая и придавая всему ее облику чарующую прелесть.
*Летник – старинная женская одежда, род платья с длинными Рукавами, застегивающегося до горла. Для парадных случаев делался из шелка и расшивался золотом и жемчугом, а также пополнялся пристегивающимися обшлагами – зарукавьями и воротником, или ожерельем.
Пока Карач-мурза накапливал все эти наблюдения и про себя дивился тому, что такая женщина,– способная украсить собою гарем и двор любого из земных владык,– живет безвестно в этой глухой деревушке, трапеза шла своим чередом. Михаила Андреевич оказался словоохотливым, а может просто обрадовавшись редкому гостю, говорил без умолку, все подливая ему и себе крепких настоек.
Карач– мурза, наоборот, был вначале молчалив и так коротко отвечал на вопросы хозяина, что последний наконец обратил на это внимание. Что-то ты будто не весел, боярин? -спросил он.– Либо какая забота у тебя на сердце?
– Не обессудь, Михаила Андреевич. Заботы нет никакой, а притомился в пути изрядно.
– Ну, это пройдет! Испей вот чарочку зверобойной, она всякую истому как рукой сымет! Да поведай нам – что нового у вас в Москве?
– Не знаю, что для тебя будет ново, Михаила Андреевич. Вот каменный кремль поставили, заместо старого, деревянного. Да это, почитай, тебе уже известно.
– Об этом слыхал. Сказывают, стены да вежи такие вывели, каких еще не бывало на Руси. Ну, что ж, поболе бы нам таких городов,– тогда бы не лезли на нас вороги со всех сторон! А истина ли то, что князь великий Дмитрей Иванович собирает рать супротив Орды?
– Отколе ты взял такое, Михаила Андреевич?
Да так, поговаривают у нас… Пора бы уж, не век же Руси дань платить басурманам и плясать под дуду татарского хана!
– Да вам-то здесь чего? Ведь ныне Карачевская земля дани Орде не платит и худа от татар не видит.
– Ну, это как сказать… Нового худа не видим, а старое нам и доселе боком выходит. Да и за другие русские земли душа болит.
– А какое же это у вас старое худо?
– Нешто не знаешь ты, Иван Васильевич, что тут было годов эдак тридцать назад?
– Коли напомнишь, скажу,– может, и слыхал от людей. А самого меня в ту пору еще и на свете не было.
– Были мы тогда еще не под Литвой, а под ханом Узбеком. Ну и согнал он ни за что князя нашего законного, а ярлык дал другому.
– Что-то я о том слышал,– промолвил Карач-мурза, стараясь казаться равнодушным.– Одначе как было дело – не знаю и с охотою тебя послушаю, коли о том поведаешь.
– Изволь, расскажу. Княжил у нас в те годы всеми любимый князь Василей Пантелеевич. Хоть и молод летами, но был он земле своей и народу истинно отец. Усобиц ни с кем не заводил, корысти был чужд, разумом светел и сердце имелдля всех открытое. Словом, другого такого князя не было на целой Руси. И вот поганая собака хан Узбек, по воровскому наговору, не призвав даже князя Василея в Орду, на суд, согнал его с княжения и дал ярлык на Карачев дяде его, Титу Мстиславичу. И с того самого дня по сею пору княжит у нас его паскудный род. Ты вот глядишь на меня и, может, думаешь: не пристало, мол, дворянину говорить такое о своих князьях. Да какие они мне князья? Я смолоду служил в дружине у князя Василея Пантелеича, ему крест целовал и светлой памяти его останусь верен до последнего дыхания. А эти для меня не князья, а воры. Старый Тит был еще чуток получше: его хоть совесть мучила. Ну, а нонешний князь наш Святослав, – аспид и выжига, каких поискать,– этому хоть бы что! А он-то в том подлом деле много более родителя своего повинен.
– Почто так? – спросил Карач-мурза, от рассеянности которого не осталось теперь и следа.
– Да ведь никто как он ездил тогда в Орду, обносить перед ханом Узбеком князя Василея и добывать ярлык своему отцу! Они, вдвоем с князем Андреем Звенигородским, все то цело и обмозговали и сладили. Ну, Андрей-то, по крайности, хоть понес за то должную кару: ты, поди, слыхал, что тогда же казнил его Василей Пантелеич своею рукой. А Святослав вот доселе живет и княжит,– как только Господь его терпит! И хитрющая же это, скажу тебе, тварь: то он перед татарским ханом на брюхе елозил, а едва лишь Ольгерд Гедиминович захватил в Литве великое княжение и почал подбирать под себя русские земли,– тотчас взялся его обхаживать. И что бы ты думал? – Влез-таки ему в душу! Не минуло и года, как оженился на любимой Ольгердовой дочке Феодоре. И через то, как только пришла сюда Литва, наш пройдоха сделался тут первым человеком и стал Карачевским князем еще при жизни родителя своего, Тита Мстиславича, коего без лишних баек сопхнули они обратно в Козельск. И теперь к Святославу не подступись никто: он за спиною тестя своего ровно бы за каменной стеной!
Карач– мурза выслушал этот рассказ с величайшим вниманием: до сего времени он ничего не знал о той гнусной роли, которую Святослав Титович играл в заговоре против его отца, ибо не знал о том и Никита.
– Дивны, однако, творятся у вас дела,– промолвил он, когда Софонов замолк.– Сына сделали великим князем, а отца посадили на удел!
Не вовсе так, Иван Васильевич. Не забудь,– великого княжения у нас не стало с той самой поры, как попали мы под Литву. Ныне над всею подлитовской Русью князь великий лишь один – Ольгерд Гедиминович, а все удельные перед ним и промеж собою будто равны. Но Карачевский удел, вестимо, поважнее Козельского, и народ, по старине, чтит здешнего князя вроде бы за старшого.
– И Тит Мстиславич добром перешел в Козельск?
– А что он супротив воли князя Ольгерда мог сделать, ежели бы и похотел? Только он, пожалуй, и сам был рад такому повороту: сказываю тебе, совесть его грызла за содеянное. И тут, в Карачеве, каждый камешек вопиял ему о его злодействе. А воротившись в свою старую вотчину, он хоть тем себя облегчил, что отошел от ворованного и не стал им пользоваться.
– От совести да от людского проклятия все одно ему некуда было уйти, как волку от своего хвоста,– суровым голосом промолвила Ирина, до сих пор не принимавшая участия в разговоре.
Карач– мурза с любопытством взглянул на нее: брови ее были сдвинуты, лицо излучало презрение. Видимо, не жаловала она Козельских князей.
– А ты, Ирина Михайловна,– сказал он,– хотя и не знала князя Василия, видать, тоже его жалеешь?
– Вестимо, жалею! – ответила она с легким вызовом в голосе, глядя прямо на него.– Память его в нашей земле чтит и малый и старый.
– Ариша родилась, кажись, лета три спустя после отъезда Василея Пантелеича,– пояснил Софонов.– В ту пору едва ли и жив-то он был.
– Как же покинул он свое княжение и что с ним после сталось?
– А ведомо ли тебе, боярин, что приключилось тогда в Козельске?
– Расскажи, Михаила Андреевич, будь ласков.
– Ну, вот, когда у тех воров было уже все готово, вызвали они Василея Пантелеича в город Козельск, вроде бы на семейный совет. Он, знамо дело, ничего худого не опасался и приехал туда налегке, взявши с собою лишь три десятка дружинников да четырех верных дворян. Был средь тех четырех и я. Во дворе у князя Тита узрели мы сотни три воев, обвешанных оружием, и сразу я смекнул, что быть беде. Так оно и вышло. Попотчевали они нас чарочкой, а потом принесли Узбеков ярлык. Князь Василей, хотя и был норовом горяч, прочтя тот ярлык, головы не потерял, а потому повели они дерзкие речи и почали ярить его и так и эдак, дабы завязать ссору и его в заварухе прикончить, а после на него же сложить всю вину. То им было надобно, ибо знали, что все одно поедет он к Узбеку и выведет их на чистую воду. Ну, своего они добились,– возгорелась ссора, только не так она обернулась, как они ждали: хотя было нас в горнице всего четверо, а их душ пятнадцать,– едва князь Андрей крикнул нас вязать.– Василей Пантелеевич в тот же миг положил его саблей на месте; стремянный его, Никита Толбугин,– истинный был богатырь,– так дал кулаком по рылу самому здоровенному из них – княжичу Федору Звенигородскому, что у того и досе нос глядит на сторону; я ухватил со стола ханский ярлык, и выскочили мы во двор, а там на коней да и ускакали, хотя за нами и гнались.
Вот и получилось, что князю Василек» пришлось бежать и скрываться,– помолчав, продолжал Софонов.– Хан бы его за такое, вестимо, не помиловал,– русских князей казнил он смертью за любую малость. Куда уехал Василей Пантелеич, осталось в тайне,– еще и посейчас ходят о том в народе разные слухи. Только лишь немногие верные люди знали истину. Теперь-то уж все едино, давно его нету на свете, и я тебе скажу: ушел он тогда за Каменный Пояс, в Белую Орду, враждовавшую с Узбеком, и нет сумнения, что невдолге там сгиб, инако беспременно воротился бы к нам после смерти того проклятого хана, а умер тот года три спустя.
– А Тит Мстиславич давно ли помер?
– Какое давно, всего в запрошлом году. Был живуч как ворон, далеко за восемьдесят ему перевалило. Видать, не хотелось за грехи-то свои в пекло идти! Не знаю, правда ли это, но сказывают, что однова явился ему с того света родитель его покойный, благоверный князь Мстислав Михайлович, и проклял его навеки.
– Кто же ныне княжит в Козельске?
– Третий сын его, Федор. Второй-то, Иван, что был женат на рязанской княжне, преставился много раньше своего отца. Невдолге отошел и вотчич того Ивана, княжич Роман,– так что из семени его остался лишь сын молодший, Федор, который ныне княжит в Ельце.
– А у Святослава Титовича есть ли потомство?
– Есть двое сынов, Мстислав да Юрий. Первому ноне лет за двадцать перешло, а Юрий двумя годами молодше. Оба покуда при отце. Мстислав, знамо дело, наследует Карачев, а Юрию прочат Мосальск. Этот будто ничего – тихий. Мстислав же уродился в отца: лукав и спесив. И, видать, не дождемся мы от этого племени хорошего князя.
*Вотчич – старший сын, наследник.
На минуту за столом воцарилось молчание. Поглядев в сторону Ирины, Карач-мурза заметил, что она пристально его разглядывала, но сейчас же отвела глаза в сторону, едва взгляды их встретились. И снова в лице ее почудилось ему что-то томительно знакомое.
– Что же ты, Иван Васильевич, за разговорами и о трапезе позабыл? – долетел до его сознания голос хозяина.– Отведай вот гусятинки. Хоть свое хвалить и негоже, а, ей-Бо-гу, хороша, не лгу!
– Благодарствую, Михаила Андреич, невмоготу, сыт уже.
– С чего тебе сытым быть, коли мы только что за стол сели? Вот я тебе налью чарочку, а ты, Аринушка, потчуй дорогого гостя! Да не гляди, что он станет отнекиваться: сказывают, один поп нехотя отказываясь цельного барана съел.
– Откушай, боярин, будь ласков! – подавая ему блюдо, промолвила Ирина и улыбнулась своею завораживающей улыбкой.
– Ежели ты, Ирина Михайловна, потчуя, всякий раз будешь так улыбаться, пожалуй, и я целого барана съем,– ответил Карач-мурза, беря себе кусок.
– Вот и ладно,– обрадовался Софонов.– Не жалей, дочка, улыбок, коли боярин инако есть не соглашается!
Беседа на некоторое время приняла шутливый характер. Михаила Андреевич, слегка захмелевший, рассказал несколько забавных историй, и в том числе одну про карачевского княжича Мстислава Святославича, в потемках принявшего польского попа за девку. После этого разговор снова возвратился к прежнему.
– Стало быть, Ольгерд Гедиминович во всех Черниговских землях оставил прежних князей? – спросил Карач-мурза.
– Почитай что так. Только лишь Брянщину, где русский княжеский род пресекся, поделил он промеж двумя своими сынами: Корибуту дал Чернигов и Новгород-Северский, а Дмитрею – Брянск и Трубчевск.
Ну и как те князья с русским народом ладят?
– Ладят, ништо. Корибут еще чуток мирволит Литве, а Дмитрей Ольгердович вовсе обрусел. Была бы его воля, он бы с большею охотой крест поцеловал Москве, нежели родному отцу. Хороший князь, ничего не скажешь, и народ его любит. Брянщина под ним живет спокойно. Вот Ариша его добре знает и может тебе обсказать, коли есть охота послухать. Ее муж покойный служил у Дмитрея Ольгердовича дружине, доколе не умер запрошлым годом от моровой язвы. И уж после того воротилась она в отчий дом, а то жила в Брянске.
*Князь Дмитрий Ольгердович является родоначальником князей Трубецких, которые прежде писались Трубчевскими.
Карач– мурза сочувственно поглядел на молодую вдову, ожидая увидеть на ее лице выражение скорби, вызванной запоминанием об этом печальном событии. Но, к его удивлею, вид ее был совершенно спокоен.
– А у тебя, боярин, есть ли семья? – спросил Софонов.
– Есть жена и двое сынов.
– Что же, они в Москве остались?
– Нет, покуда я в отъезде, проживают они у родителей жены,– ответил Карач-мурза. Ему было неприятно обманывать этих добрых людей, притворяясь не тем, кто он есть в действительности, и он уже раскаивался в том, что затеял это переодевание. Но до сих пор совесть его в какой-то мере оправдывала: называя себя русским, особенно здесь, на земле своих предков, где по закону ему сейчас надлежало княжить, – он все-таки был ближе к истине, чем если бы назвал себя татарином. Однако теперь, когда разговор явно принял такой оборот, который мог потребовать от него уже подлинной лжи, он поспешил его закончить и поднялся из-за стола.
– Ну, Михаила Андреевич, сколь ни приятна беседа с тобой, а час уже поздний, мне же с рассветом надобно выезжать. Спаси тебя Бог за гостеприимство твое, а тебя, хозяюшка, за отменное угощение,– поклонился он Ирине.– И коли укажете место, где можно мне поспать, иного мне ничего и не нужно.
– Тебе уже приготовлена горница и постеля в малом доме, боярин, там тебя никто не потревожит,– ответил Софонов.– Только никуда мы тебя с рассветом не отпустим! Как это можно натощак выезжать?! И пошто тебе не погостить у нас денек-другой? Нешто такое уж спешное у тебя дело?
– Надобно мне завтра повидать князя вашего Святослава н еще кой-кого в Карачеве, а после ехать в Звенигород.
– Повидать князя Святослава? Да его ведь нету в Карачеве! Он уже с месяц как уехал к тестю своему, в Вильну, и досе не воротился. Что же, ты его на постоялом дворе дожидаться будешь? За что хочешь нанести нам такую обиду? Али тебе тут плохо?
– Что ты, Михаила Андреич! Ласкою вашей и приветом в премного доволен, и на добром слове тебе спасибо. Но все одно надобно мне быть в Карачеве: есть у меня там и иные дела.
– Ну и что с того? Ведь Святослава ты так или эдак ожидать должен, а до города тут четыре версты. Хоть трижды на дню туда езди, а живи у нас!
– Боюсь, не будет ли оно вам в тягость, Михаила Андреич…
– Не обижай, Иван Васильевич, и слышать такого не хочу! Стало быть, решено дело, и тут тебе весь сказ. Павел, возьми свечу да проводи боярина в его горницу!
Глава 26
На следующий день, проснувшись с рассветом и выйдя во двор, Карач-мурза прежде всего увидел Павла Софонова в коротком кафтане, высоких сапогах и с луком за плечами. Воткнув в землю охотничью рогатину, он, что-то бормоча, подтягивал подпругу у оседланного коня; рядом с ним, держа в поводу другую лошадь, стоял коренастый крестьянский парень, тоже в охотничьем облачении. Заметив боярина, оба сняли шапки и поклонились.
– День добрый, Павел Михайлович,– приветливо кивнув, промолвил Карач-мурза.– Никак, на охоту собрался?
Точно, боярин,– ответил молодой богатырь, покраснев как девушка: его впервые в жизни величали по отчеству
– На какого же зверя ты идешь?
– Мыслим, коли будет удача, взять сохатого. А зверя тут всякого много.
– Сохатого? – переспросил Карач-мурза. Он сам был страстным охотником, но на лося ему охотиться не случалось.– Как же ты думаешь его взять?
– А обыкновенно: на него надо идти тихо, без собак. И, подобравшись поближе, пустить в шею стрелу либо две. А опосля добивать рогатиной.
– Нешто он станет ожидать тебя с рогатиной?
– Коли то старый бык, он, раненный, еще и сам норовит на стрелка наскочить,– только не оплошай! Ну, окромя того, там, где мы думаем его брать, ему уйти некуда, ежели бы и схотел: поляна со всех сторон обкружена водой. Выход только один,– там мы и будем стоять.
– Стало быть, он на вас кинется?
– Беспременно кинется. А нам того и надо!
– Эка занятно! Не доводилось мне хаживать на сохатого.
– Так за чем дело, боярин? Езжай с нами! Зараз я тебе всю справу достану.
– Ныне не могу, надобно мне в город съездить. А в другой раз, коли вскорости опять соберешься, с превеликого охотой с тобой поеду.
– Когда пожелаешь, боярин,– скажи только слово! А я ребятам нашим велю поглядывать и упредить меня, когда сохатый забредет на ту поляну.
Охотники выехали из ворот, а Карач-мурза едва успел обойти усадьбу, как его позвали к раннему завтраку.
Ирина была свежа и улыбчива, как то летнее утро. Она, видимо, уже попривыкла к новому человеку и сегодня держала себя гораздо проще и свободнее, чем накануне, а потому показалась Карач-мурзе еще прекрасней. Не прошло и четверти часа, как он почувствовал, что ее красота и женственность мутят его мысли, как крепкое вино, и должен был призвать на помощь все свое благоразумие, чтобы пореже глядеть в ее сторону.
Ирина тотчас заметила, какое впечатление производит на гостя, и, как всякой женщине, это открытие доставило ей тайное удовольствие. По натуре она была чужда жеманства и себе цену знала, но – странное дело: в этом случае ей неудержимо захотелось еще больше нравиться заезжему боярину, хотя рассудок и подсказывал, что эта игра опасна и ни к чему хорошему привести не может.
К счастью, Михаила Андреевич почти сразу оседлал своего любимого конька и, ударившись в воспоминания о князе Василии и связанных с ним событиях, вскоре всецело овладел вниманием Карач-мурзы.
– А вот, Михаила Андреевич,– спросил последний, когда трапеза подходила к концу,– ныне не раз помянул ты воеводу Алтухова. Жив ли он еще?
– Семен Никитич-то? Жив. Господь его милует, хотя изрядно он уже стар и года три как вовсе ослеп.
– Надобно бы мне повидать его. Есть до него одно дело.
– Так чего проще! Его вотчина тут недалече: из
Карачева бери по брянскому шляху, там и трех верст не будет. Спроси любого встречного,– тебе всякий укажет.
– Добро, коли так, сейчас и поеду.
– Ну, что же, с Богом, боярин! Знамо дело, от полдника Семен Никитич не отпустит, а уж к вечере будем ожидать, без тебя за стол не сядем.
– Благодарствую, Михаила Андреич, вернусь беспремен-.– ответил Карач-мурза, покосившись на Ирину. Она глядела на него с легкой улыбкой, в которой он прочел немое, но выразительное подтверждение словам отца.
***
Карач– мурза въехал в столицу своих предков с таким чувством, с каким пламенно верующий мусульманин въезжает в Мекку. Пусть этот город мал и убог в сравнении с другими, которые он видел, пусть его древние бревенчатые стены местами прогнили и едва ли способны теперь выдержать серьезную осаду, но ведь по ним ходили ноги его отца! Пусть эти деревянные дома от времени почернели и вросли в землю, но ведь в каждом из них и теперь живет кто-то, чье сердце дрогнуло бы от радости, если бы знал он, что мимо проезжает сын князя Василия; пусть княжеские хоромы,-возле которых Карач-мурза особенно долго задержался,– не похожи на блистательные дворцы Хорезма, но ведь если бы на свете было больше правды и справедливости, чем зла,– сейчас в них жил бы не подлый и коварный враг, а он сам! Это его хоромы, его город, его земля! И всего этого лишил его татарский хан, такой же, как и тот, которому он сейчас служит. При этой мысли Карач-мурза ощутил почти ненависть к Орде и остро почувствовал свою кровную связь с родной землей. Нет, он не татарин и никого не обманывает, разъезжая по Руси в этом платье,– он и вправду русский. Даже больше того,– он русский князь, отец этого народа, насильственно оторванный от своей большой семьи! И ему почти неудержимо захотелось остановить на площади коня и крикнуть людям, что он сын князя Василия Пантелеевича. Крикнуть и посмотреть – что будет?
Чтобы избежать искушения, он быстро выехал из города, и сопровождавший его Макар очень скоро разыскал усадьбу старого воеводы Алтухова. На крыльце большого, но изрядно обветшалого бревенчатого дома их встретил дворецкий и, почтительно поклонившись незнакомому, но богато одетому гостю, осведомился – зачем он пожаловал?
– Надобно мне видеть боярина Семена Никитича,– коротко ответил Карач-мурза.
– Семена Никитича? – переспросил дворецкий.– Что же, это можно. А как, батюшка, велишь сказать ему о тебе?
– Скажи, что приехал гость из дальних краев, которому он будет рад.
– А как звать-то твою милость, боярин?
– О том я ему сам скажу.
Через несколько минут Карач-мурза был введен в небольшую горницу, по-видимому служившую опочивальней. У одной из стен, на широкой и низкой лавке виднелась закрытая меховой полостью постель, упиравшаяся изголовьем в резной деревянный ларь; в углу, у трехстворчатой божницы, теплилась лампада; несколько потемневших от времени икон висели на стенах отдельно от божницы, придавая горнице вид монашеской кельи, ибо иных украшений в ней не было. У открытого окна сидел в кресле благообразный седой старик, на вид еще довольно крепкий. При звуке отворившейся двери он повернул голову к вошедшим и промолвил:
– Добро пожаловать, батюшка! Не обессудь, не могу тебя признать – темен.
– Да хранит тебя великий Господь, боярин! Вели своему человеку выйти, ибо то, что я стану говорить, не должны слышать ничьи уши, кроме твоих.
– Выдь, Ивашка,– коротко приказал старик вошедшему вместе с гостем дворецкому.
– Семен Никитич! – сказал Карач-мурза, когда дверь за дворецким затворилась и по ту сторону послышались удаляющиеся шаги.– Помнишь ли ты князя Василея Пантелеевича?
– Помню ли я его! – воскликнул старый воевода, весь подавшись вперед и не скрывая овладевшего им волнения.– Вот уже, почитай, тридцать годов нету дня, чтобы я его не вспоминал! И теперь слышу его голос! Ужели же?! Быть того не может! Знаю, погиб он давно… Кто же ты, молви для Бога?
– Я сын его.
– Сын Василея Пантелеича! Да как же так? Вот радость-то послал Господь! Ну, дай обниму тебя,– говорил старик, довольно легко поднявшись с кресла и делая шаг к Карач-мурзе. Они обнялись и троекратно расцеловались.– Как же звать-то тебя, мой княжич?
– Зови Иваном.
– Иван Васильевич! Ну, садись, родной, и сказывай все, с самых начал! Ничего не упусти! Ведь вот радость-то какая! Ровно бы снова с князем моим беседую, как бывало. У тебя голос в точности как у его. Ты, верно, и лицом с ним схож?
– Люди сказывают, что так,– улыбнулся Карач-мурза.– Только глаза у меня синие и бороды не ношу, а то, пожалуй, меня бы тут многие признали.
Больше двух часов длилась их беседа. Карач-мурза расска л старому боярину о смерти князя Василия и Никиты, а также все о себе, ничего не утаив. Алтухов, в свою очередь, ведал ему многое из того, что произошло за минувшие годы в Карачевском княжестве, и о нынешнем положении здешних дел.
– А ты, Иван Васильевич,– спросил он в конце,– так ли просто сюда заехал либо есть у тебя что особое на уме?
– Приехал я поглядеть на землю отцов, благо случилось быть поблизости,– ответил Карач-мурза, – а иного на уме не держу. Доколе Карачевской землей Литва володеет, тут все одно ничего не сделаешь. Пусть бы даже весь народ похотел меня своим князем,– нешто Ольгерд попустит, чтобы согнали со стола его зятя?
– Вестимо, нет. Покуда он тут государствует, и Святослав на своем княжении крепок. Но близится война с Москвой. И ежели князь великий Дмитрей Иванович одолеет Ольгерда. будет иное.
– Это истина. Но едва ли то скоро сбудется: у князя Дмитрея Ивановича, опричь Ольгерда, и иных ворогов много. Доколе не приведет он в покорность Тверь, Рязань и прочих,– ему только бы самому от Литвы отбиться, а не то что у нее земли отымать.
– Уповай на Господа, княже. И коли хочешь послушать моего совета,– покинул бы ты Орду и шел бы в службу к Московскому князю.
– Он и сам меня звал… Может, тем я и кончу, а другом ему поклялся быть навеки. Но порвать с Ордою мне не просто, я в ней родился и всю свою жизнь прожил.
– Да в сердце-то своем ты кто – русский или татарин?
– В том и горе мое, Семен Никитич, что сердце-то надвое раскалывается! Вот здесь, на земле своих предков, русский я, да и только, и Орда мне почти ненавистна. А в то самое время у меня и мать, и жена, и дети татары, и вяжет меня с Ордою моя воинская честь.
– Коли так, надобно ждать, Иван Васильевич. Придет день, и сердце твое само за тебя решит. Только я уже наперед знаю, каково будет его решение… Ты что же, надолго сюда?
– Дня два либо три пробуду, да и в обрат. Больше мне тут делать нечего.
– Опричь меня, не думаешь ли еще кого повидать?
– Думал попервах, сказавшись боярином Снежиным. побеседовать с князем Святославом Титовичем, дабы уразуметь, что он за человек, и кой-что от него вызнать. Но теперь не хочу: от тебя да от Софонова уже знаю, каков он есть, и боюсь, в разговоре, коли скажет он что худое об отце моем,– не сдержу себя, и будет беда.
– Упаси тебя Господь встреваться с ним, княже! Он тебя враз признает и живым отселе не выпустит, хоть ты ему никакого худа и не сделаешь. Это хитрая лиса и глядит далече. Вот он и Ольгердов зять, а перед Дмитреем Ивановичем тоже хвостом метет, дабы на своем столе и тогда остаться, ежели наши земли к Москве отойдут.
– Ну, в том он, может, и просчитается. А скажи, боярин,– спросил Карач-мурза после небольшого молчания,– жив ли еще Лаврушка, дружинник родителя моего, о котором много слыхивал я от Никиты?
– Жив. Только он Святославу служить не схотел и давно перешел отсюда к Брянскому князю Дмитрею Ольгердовичу.
– Ну и как он там?
– Живет неплохо. Двое сынов его старших, Василей да Никита, тоже уже служат в дружине у Брянского князя. Пишут его ныне боярским сыном Клинковым, по его родному селу, и он того заслужил: человек добрый, отважный воин и честь свою блюдет крепко. Раза три в году меня навещает, и мы с ним всякий раз подолгу вспоминаем минувшее и родителя твоего покойного, царство ему небесное.
– Сделай такую милость, Семен Никитич,– промолвил Карач-мурза, вытаскивая из кармана стянутый шнуром кожаный мешочек,– когда придет он сюда, дай ему вот это и скажи от кого. Здесь сотня золотых динаров.
– Сотня золотых динаров! Ты щедр в родителя, Иван Васильевич.
– Он честно служил моему отцу и не жалел для него жизни. Не деньгами бы платить за такую верность, но что иное могу я для него сделать?
– Ништо, Иван Васильевич, ему и золото сгодится. Ведь это целое богатство! А еще дороже будет ему ласковое слово твое, которое я перескажу, и весть о том, что не угас род князя Василея. Коли есть правда на свете, будешь ты еще у нас княжить!
Уже далеко за полдень, простившись со стариком, Карач-мурза тронулся в обратный путь. Вначале он ехал шагом, потом перешел на рысь и, наконец, безотчетно для себя, погнал коня вскачь, к великому удивлению Макара, ибо день выдался жаркий, а спешить было некуда. Вскоре Карач-мурза сам это заметил и, поймав себя на том, что думает об Ирине и ему не терпится ее увидеть,– с досадою перевел коня на шаг.
Странные мысли и чувства возбуждала в нем эта женщина. Он отдавал себе отчет в том, что с каждым часом она становится для него все более желанной, и в этом чувстве не видел ничего дурного или нечестного по отношению к своей жене, даже если бы оно завершилось тем, что у христиан называется изменой.
В мусульманской среде мужчина в этой области был совершенно свободен, и ни закон, ни обычай не обязывали его хранить верность своей жене или женам,– ибо в большинстве случаев их бывало несколько. На него налагалось только одно ограничение: не прелюбодействовать с чужою женой. Это рассматривалось в Орде как тягчайшее преступление и каралось смертной казнью, ибо такой проступок приравнивался к воровству: в данном случае женщина являлась чужой собственностью.
Но ведь Ирина была свободной! И если бы она захотела его полюбить, разве не могла бы она тоже стать его женой? Но нет, ведь она христианка и идти за мусульманина, за «поганого», да еще второй женой, разумеется, не захочет… Впрочем, кто знает? Любовь очень сильна. И, может быть, русская женщина умеет так любить, что…
Он не успел додумать, ибо лошадь его, плевшаяся теперь шажком, вдруг вовсе остановилась, и в тот же миг где-то рядом послышался сдержанный смех. Карач-мурза быстро поднял голову и с удивлением увидел, что находится в воротах софоновской усадьбы, а коня его держит под уздцы смеющаяся Ирина.
Глава 27
Прошло еще пять дней. Карач-мурзе уже не нужен был князь Святослав, но все же он откладывал свой отъезд, сам перед собой оправдывая эту задержку тем, что ему хочется принять участие в охоте на лося, а разведчики Павла Софонова все еще не выследили подходящего зверя. Но на самом деле причина была, конечно, другая: его удерживало растущее с каждым днем влечение к Ирине.
Он виделся с нею по нескольку раз в день, вернее, она была у него на виду с утра до ночи. Обычно тут же присутствовал старик Софонов, Павел или кто-нибудь из челяди, но нетрудно было встретиться с нею и с глазу на глаз и разговаривать совершенно свободно. Если бы Карач-мурза заметил, что она избегает этих встреч или что они ей неприятны, он бы сразу уехал. Но ничто не давало повода это думать, наоборот,– временами ему казалось, что она сама их ищет.
В первый раз он застал ее одну случайно. С каким-то рукоделием она сидела на скамье, за домом, в тени старой липы, тихонько напевая. Не зная, допускают ли это русские обычаи, он не решился подойти и сесть рядом, а лишь задал, проходя мимо, какой-то шутливый вопрос. Она ответила в том же духе, и у них завязалась беседа. Чтобы затянуть ее подольше, он попросил рассказать о Брянске и о князе Дмитрии Ольгердовиче, что она исполнила охотно и отнюдь не стремясь быть краткой. Рассказывала она хорошо, обнаруживая наблюдательный и острый, слегка насмешливый ум.
На следующий день, после обеда, не замечая нигде Ирины, он заглянул за дом и увидел ее на том же месте. Снова они разговорились и беседовали о всяких малозначащих вещах около часа, пока ее не позвали по хозяйству. Было очевидно, что эти встречи и разговоры доставляют ей удовольствие, чего, впрочем, Карач-мурза отнюдь не приписывал какому-либо сердечному влечению с ее стороны: он понимал, что молодая женщина просто скучает без людей в этом глухом углу и теперь рада возможности поболтать с редким гостем. О каких-либо чувствах речь у них пока не заходила.
В этот день, когда большинство обитателей усадьбы погрузилось в послеобеденный сон, он снова направился к старой липе, где, как и надеялся, увидел Ирину. Было жарко; в траве, навевая ленивую одурь, стрекотали кузнечики, и беседа вначале не клеилась. Вскоре, после нескольких сказанных фраз, она и вовсе оборвалась, ибо мысли Карач-мурзы были далеки от тех пустяков, о которых они заговорили. Минуты три он просидел молча, опустив голову и глядя в землю, пока наконец смешок Ирины не возвратил его к действительности. Он поднял голову и взглянул на нее.
– Чтой-то на тебя иной раз будто морок находит, боярин? – со смехом спросила Ирина.
– Какой морок? – не понимая этого слова, отозвался Карач-мурза.
– Да такой. Али забыл, как намедни конь твой прямо ко мне в руки пришел, а ты, на нем сидя, где-то душою витал и ничего округ не видел? Хотела бы я знать, о чем либо о ком ты тогда думал?
– О тебе думал,– почти неожиданно для самого себя сказал Карач-мурза. Ирина, смущенная такой прямолинейностью, в первый миг слегка растерялась и примолкла. Молчал и он.
*Морок – греза, мечта, наваждение.
– Вроде бы женатому человеку не к лицу так крепко о молодых вдовушках задумываться,– промолвила наконец Ирина. Она хотела сказать это насмешливо, но в голосе ее прозвучала скорее грусть.
– Иному женатому, может, и к лицу, Ирина Михайловна…
– Что-то не пойму я тебя, Иван Васильевич,– удивленно вскинула на него глаза Ирина.
– То-то и есть, что не поймешь,– сокрушенно промолвил Карач-мурза.
– А все же хотела бы я знать, какому это мужу к лицу о сторонних женщинах думать? Научи, авось когда-либо сгодится.
– Что бы ты, к примеру, сказала, ежели бы узнала, что жена моя татарка?
– Татарка?!
– Да. И что сам я тоже татарской веры?
– Ты? Татарской веры?! – Ирина звонко расхохоталась.– Сказала бы, что ты отменный шутник, Иван Васильевич! – В жену-татарку она еще готова была поверить, это на Руси бывало. Но русский боярин быть мусульманином, конечно, не мог.
– Ну, а все же, коли бы то была правда, а не шутка?
– Чтобы наш боярин был татарской веры?
– Ну, да. Вот, скажем, не я, а кто-либо иной, кто был бы тебе люб и желанен. Пришел бы и сказал: я, мол, татарской веры и закон дозволяет мне взять вторую жену. Пошла бы ты за него, ежели бы любила того человека?
– Второю женой?
– Вестимо, второй. А куда же ему первую-то девать?
– Не пошла бы за поганого, ни второй, ни первой! – решительно заявила Ирина.
– А чем он поганый? Я же говорю тебе: русский он, только лишь веры мусульманской.
– Коли бы такое могло быть, то он вдвое поганый! Да и как это возможно двух женок зараз любить?
– Ан возможно. Любят же татары.
– На то они и татары, а у нас такого паскудства, благодарение Господу, нет. И женщин татарских я никак не пойму: как это можно мужа своего с другою делить? По мне, уж либо все, либо ничего!
– Значит, не можешь ты крепко полюбить человека? Так крепко, чтобы все прочее стало тебе неважным, только бы его не потерять?
– Ох, не знаю, боярин, можно ли так полюбить-то? – чуть помолчав, ответила Ирина.– Я вот и мужа своего покойного вовсе не любила,– тихо добавила она.
– Как так? – удивился Карач-мурза.– Почто же ты за него пошла? Ведь это, почитай, не лучше, чем пойти второю женой за любимого. Али тебя принудили?
– Жизнь принудила, боярин.
– Не уразумею я что-то. Вижу, родители твои – люди добрые и тебя из дому, наверное, не гнали. Да и достатку у них, видать, хватает.
– То истина. Тут иное было…
– Ты меня прости, Ирина Михайловна: я твою боль бередить не хотел. Коли тяжко тебе о том вспоминать, давай об ином говорить.
– Ништо, Иван Васильевич, я расскажу, а то ты еще что худое помыслишь… Вишь, как случилось-то: было мне в ту пору семнадцать годов и люди сказывали, была я собою очень хороша…
– Клянусь Аллахом, они не лгали! – вырвалось у Карач-мурзы.
– Аллахом клянешься? – изумилась Ирина.
– Ну, да,– нашелся Карач-мурза.– Чем же мне еще клясться, ежели хочу убедить тебя, что я татарской веры?
– Все одно не поверю,– улыбнулась Ирина и продолжала: – Так вот, увидел меня однажды князь Святослав Титович, да с той поры и начал вязаться. Был он, поганец, давно женат, седина в бороде, а туда же! Только не стал он мне, как иные, разводить турусы, что хорошо бы, мол, обратиться в татарина да на второй жениться, а захотел взять меня в полюбовницы. Когда он о том речь завел, я сперва ушам не поверила, а потом ответила ему такое, что другой враз бы отстал, но он не таков: не привык к тому, чтобы ему что-либо не давалось. Чем он только меня не блазнил и не улещал! Родителю тоже сулил и вотчины, и боярство, а когда уразумел, что нас тем не купишь,– перешел на угрозы. Потом будто поотстал, и я уже думала, что он ту дурь из головы выкинул, ан вдруг однова схватили меня княжьи люди у самых ворот усадьбы нашей, на голову накинули мешок да и повезли. Окромя матери да дворовых баб, дома в то время никого не было: отец, братья и еще душ пять приехавших гостей с утра выехали облавой на кабанов. На счастье, в тот самый час ворочались из лесу и меня от тех разбойников отбили…
*Блазнить – соблазнять.
Ну, с того дня,– помолчав, продолжала Ирина,– жили мы под вечным страхом, что снова меня схватят либо еще что похуже удумают. Незадолго же до того случая сватался ко мне из Брянска сын боярский Родион Зыбин. Из себя он был видный и хорошего роду, только не был мне нисколечко люб, и я ему отказала. А тут как раз снова прислал он сватов. И подумала я,– чем эдак-то жить, боясь из дому выйти и с часу на час ожидаючи какой-либо беды,– уж лучше пойти за нелюбимого и уехать отсюда в другое княжество. Ну, вот и согласилась…
– И собака Святослав, да поразит его Ал… Господь позорной смертью, после того от тебя отстал?
– В Брянске он меня, вестимо, достать не мог – руки коротки! Но на батюшке вздумал вымещать. Однова прислал к нему своего дьяка, и тот сказал, что незаконно мы будто бы володеем нашей вотчиной и что князь-де велит отселева съезжать. Вестимо, отец его изругал и велел гнать со двора, но три дня спустя его схватили и бросили в Карачеве в яму. Мать сразу же прислала весть о том в Брянск, и я, не теряя часу, поведала все без утайки нашему князю. Дмитрей Ольгердович человек добрый и Святослава к тому же не жалует. Он меня обнадежил, а сам тотчас поехал в Карачев. Что он говорил Святославу,– не ведаю, но только тот родителя сразу же ослобонил и с той поры нас больше не тревожил.
– А ныне он знает, что ты снова здесь?
– Я отсель никуда не кажусь, но, должно быть, знает: совесть у него кругом нечиста, а потому соглядатаев да доводчиков он завел повсюду. Только минуло с того времени боле восьми годов, и, видать, позабыл он обо мне. Да и стар уж стал, ему ноне под шестьдесят.
– А с мужем своим ты так и не слюбилась?
– Так и не слюбилась, Иван Васильевич. Попервах жили мы ладно, и я было начала привыкать к нему, но крепко он пил и во хмелю бывал мерзок. Однажды, эдак напившись, он меня ударил и с того часу стал мне ненавистен. Хотя он после в ногах у меня валялся и николи больше пальцем не тронул, даже грубого слова не сказал, а забыть того ему не могла до самой его смерти.
Карач– мурзу глубоко взволновал рассказ Ирины, побуждая и его к откровенности. Но в этот самый миг подошел Михаила Андреевич, и разговор их на том прервался.
*Дьяк – чиновник, писец.
**Доводчик – доносчик.
Глава 28
На рассвете следующего дня радостно возбужденный Павел Софонов, разбудив Карач-мурзу, сообщил, что крупный лось находится на той самой, удобной для охоты поляне, о которой он в прошлый раз говорил, и что ежели боярин не хочет упустить случай,– надо выезжать немедля, пока зверь не ушел. Сам Павел и его неизменный товарищ по охоте, молодой крестьянин Евсей, были уже в полной готовности. Карач-мурзу уговаривать не пришлось, а узнав о их сборах, решил ехать и старик Софонов. Через полчаса все четверо, вооруженные рогатинами, с луками и колчанами стрел за плечами, уже выехали из ворот усадьбы и, придерживаясь берега протекавшей поблизости реки Снежети, углубились в лес.
Солнце лишь недавно взошло, и его неяркие, пологие лучи, разбегаясь по верхним ветвям деревьев, оставляли в густой тени вьющуюся сквозь заросли дорогу; справа, между темными стволами и молодой порослью, то и дело проглядывала плотная, белесая стена стоявшего над рекой тумана, а придорожная трава от росы казалась заиндевелой. Утро было свежо и величаво, природа встречала его почтительным безмолвием, которого не нарушали и охотники. Верст пять они проехали гуськом, нахохлившись от утренней прохлады и почти не глядя по сторонам. Наконец ехавший впереди Павел остановился.
– Уже недалече,– сказал он вполголоса.– Тут надобно оставить коней и дальше идти пешки, да потише.
Привязав лошадей к деревьям и соблюдая полную тишину, все четверо двинулись вперед, приближаясь к реке. Пройдя шагов триста, они вышли на опушку, и перед ними открылась широкая речная излучина, как бы петлей охватывающая поросшую кустарником поляну, соединенную с береговым склоном узким, сажен в пятнадцать, перешейком, на котором кое-где стояли одиночные нетолстые березы. Противоположный берег реки был высок и крут,– таким образом, место это было для охоты действительно бесподобным, ибо любому зверю, забредшему на поляну,– даже, как лось, умеющему хорошо плавать,– уйти с нее можно было только через перешеек, на котором ждали его охотники.
Здесь все остановились, и только лишь Павел, пригибаясь к кустам и стараясь ступать бесшумно, двинулся дальше, в глубь поляны. Возвратился он минут через десять, но уже идя во весь рост и не соблюдая особой тишины.
Тут сохатый,– поведал он.– Только нас он уже слышал. Это такая тварь,– пояснил он Карач-мурзе, – что носом и за десять сажен ничего не чует, видит и того хуже, зато ухи у него – будь здоров: за версту услышит, как ты дыхнешь!
– Ну и что он там? – спросил Михаила Андреевич. – Залез, аспид, аж у того края в самую гущину кустов и стоит. Одни роги торчат.
– А стрелой его достать не можно?
– Где там! Я же говорю: только кончики рог видать.
– Что же делать станем?
– Надобно выгонять его оттеля. – А может, там его и возьмем?
– Не выйдет: пока полезем скрозь кусты, он, не будь дурак, махнет сюды, да и поминай как звали!
После короткого совещания решили, что Михаила Андреевич и Карач-мурза останутся стоять на перешейке, а Павел и Евсей отправятся в глубь поляны, выгонять сохатого. Но так как при таком обороте дела не могло быть уверенности в том, что кому-нибудь удастся серьезно подранить его стрелой, а на полном бегу бить рогатиной невредимого зверя, весящего не меньше тридцати пудов, конечно, немыслимо,– через перешеек, на высоте полуаршина от земли, протянули скрытый в траве ремень, концы которого крепко привязали к деревьям. Бегущий лось неминуемо должен был споткнуться об него и упасть, а все знали, что упавший или даже просто лежащий лось с трудом поднимается на ноги и тратит на это довольно много усилий и времени, чем и надлежало воспользоваться охотникам, чтобы его прикончить.
Согласно выработанному плану, Карач-мурза и старик Софонов, с рогатинами в руках, стали в нескольких шагах друг от друга, позади натянутого ремня, а Павел и Евсей, с луками наизготовку и соблюдая тишину, двинулись вперед.
Все дальнейшее произошло с почти непостижимой быстротой: загонщики, обойдя зверя справа, внезапно громко заулюлюкали, и сохатый, ломя прямиком через кусты, стремглав кинулся к выходу. На короткое мгновение Павел увидел в просвете, между кустами, грязно-бурую спину и тотчас пустил стрелу, которая вонзилась животному в холку, доведя его до предела ярости: был конец августа – время спариванья лосей, когда самцы бывают особенно возбуждены и свирепы. Откуда прилетела стрела, сохатый не видел, но как раз в этот миг прямо перед ним показались две стоящие на открытом месте человеческие фигуры. Пригнув к земле голову, вооруженную огромными, колючими лопатами рогов, он ринулся на них.
Это был матерой бык, высотою в загривке не менее сажени и аршин пяти в длину. Он мчался прямо на Софонова, и когда уже готов был поддеть его на рога,– наскочил на ремень и тяжело скувырнулся с ног. Едва он начал падать, Михаила Андреевич,– с ловкостью, которой мог бы позавидовать любой юноша,– подскочил к нему и, приставив к груди острие рогатины, другой ее конец упер в землю. Продолжая падение, лось вогнал в себя рогатину на добрых пол-аршина, но своею тяжестью переломил ее пополам и покатился по траве. Вопреки всем ожиданиям, он почти мгновенно поднялся на ноги и с торчащим в груди обломком бросился на подбегавшего Карач-мурзу.
Увидя в двух шагах от себя стремительно надвигающиеся рога, совершенно закрывшие грудь зверя, и не имея возможности нанести верный удар, Карач-мурза молниеносно отпрыгнул в сторону, чтобы дать лосю проскочить мимо и бить его сбоку. Но в пылу охоты он совсем позабыл о протянутом здесь ремне и, споткнувшись об него, упал навзничь. В ту же секунду страшные рога пригвоздили его к земле,– на том самом месте, где когда-то кабан едва не убил князя Василия.
Сохатый поднял голову и попятился, намереваясь доконать свою жертву вторым ударом, но в это мгновение в грудь его вонзились рогатины подбежавших Павла и Евсея. Рана, нанесенная Софоновым, уже сильно ослабила зверя, и он, задрожав всей своей огромной тушей, в последней попытке опрокинуть двух новых противников,– внезапно обмяк и, истекая хлынувшей изо рта кровью, повалился на землю.
Все это еще успел увидеть Карач-мурза, прежде чем потерял сознание. Но как его подняли и, наскоро перевязав раны, отвезли в Кашаевку, он уже не помнил.
Глава 29
Долго длилось беспамятство Карач-мурзы. Когда его доставили в усадьбу, он уже истекал кровью и если не умер сразу, то лишь потому, что Михаила Андреевич прямо с места охоты погнал Павла в Карачев, наказав ему сейчас же везти в Кашаевку лучшего городского знахаря. И когда сам, с помощью Евсея, довез Карач-мурзу до дому, знахарь был уже там.
Он немедленно остановил кровотечение и осмотрел раненого. Были сломаны два ребра, и острые отростки лосиных рогов в нескольких местах глубоко вошли в грудь и в правый бок. Ни одна из ран, сама по себе, не была смертельной, но все они были чрезвычайно болезненны и загрязнены, что вызвало нагноение и сильную лихорадку, с которой ослабленный потерей крови организм едва мог бороться.
К счастью, в ту пору беспрерывных вражеских нападений и войн необходимость выработала в народе умение искусно врачевать самые страшные раны. По существу, «нестрашных» тогда и не было, ибо все они наносились столь жестоко разящими орудиями, как копье, меч, топор или стрела с зазубренным наконечником. Древние знахари – ведуны хорошо знали обеззараживающие и целебные свойства многих растений, что позволяло им составлять лекарства такой целительной и заживляющей силы, что и сейчас за некоторые их секреты дорого заплатил бы любой дипломированный медик. Всякие же заклинания и нашептыванья, которыми в древности сопровождалось врачевание ран и болезней,– будучи плодами общего суеверия, все же, несомненно, способствовали успеху лечения: больной был убежден, что это стократ повышает действие целебных снадобий, и вера в силу подобного «колдовства» помогала ему справиться с болезнью.
Знахарь, лечивший Карач-мурзу, был мастером своего дела. Вытащив из котомки несколько пучков сухих трав и кореньев, он одни из них истолок в деревянной ступке, смешал с медвежьим жиром и, бормоча заклинания, наложил на раны; другие заварил в воде и велел поить этим отваром больного, которого беспрерывно мучила жажда. Затем, оставив запас трав Ирине и объяснив, что нужно с ними делать, он добавил, что «боярин естеством крепок и кровь у него не квелая, а потому, Бог даст, выживет». И с тем уехал, обещав наведаться на следующий день.
Ирина не отходила от постели раненого. Она была больше всех потрясена случившимся и сама не могла понять,– почему страдания этого чужого человека причиняют ей такую мучительную боль? Ей положительно казалось, что если он умрет, то и ее жизни конец, а потому в уход за ним она вкладывала всю заботу и нежность, на какие только способна любящая женская душа.
Текли полные тревоги дни, а состояние больного не улучшалось. Хотя раны его вскоре перестали гноиться, он ни на минуту не приходил в себя и почти все время лежал неподвижно, хрипло и натужно дыша. Иногда быстро бормотал что-то непонятное, но несколько раз отчетливо произнес имя Ирины, и тогда она,– думая, что он пришел в сознание и зовет ее,– с надеждой наклонялась к нему, но встречала все гот же воспаленный болью и бредом невидящий взгляд, и сердце ее сжималось отчаяньем.
На восьмой день ему стало особенно худо. С утра он метался и бредил, часто поминая Аллаха и Бога, то и дело просил пить, а напившись, приказывал седлать коня, что всякий раз повергало Ирину в суеверный трепет: ей казалось, что он чувствует приближение смерти и готовится в последний путь.
После полудня он замолк и лежал не шевелясь; прерывистое дыхание становилось все медленнее и тише,– казалось, жизнь его быстро догорает в огне лихорадки. Ирина не отрывала от него налитых слезами глаз. Что он – заснул или отходит? «Господи,– в тоске подумала она,– как бы ни называли Тебя люди – Богом или Аллахом,– ведь Ты един, велик я милостив! Ты все можешь,– спаси его!» Опустившись на колени у постели и припав к ней лицом, она всею силою души ушла в горячую молитву.
Прошел час, а может, два или три,– Ирина потеряла нить времени. Очнулась она от легкого прикосновения к своему плечу и, боясь верить, подняла голову: синие глаза больного были широко открыты и глядели на нее тепло и осмысленно.
В грудь Ирины светлым потоком хлынула радость: Бог услышал ее молитву, Он даровал ему жизнь! Скорее понимая, чем чувствуя, что лежащая на ее плече беспомощная рука слабо влечет ее к себе, она покорно подалась вперед и прильнула лицом к его лицу. Оно уже не пылало таким пугающим жаром, как прежде.
– Желанная моя,– услышала она тихий голос,– небесный цветок из садов Гюллистана! Значит, любишь?
Она не ответила, только крепче прижалась к нему щекой. На несколько минут они застыли в радостно-щемящей неподвижности.
– Но как же мы будем? – вдруг заволновался он.– Ведь я не лгал тебе: я и вправду татарин…
Ирина с беспокойством подняла голову: она подумала, что он снова впал в беспамятство, и лишь дивным ей показать, что глаза его глядели на нее умно и пытливо, ожидая ответа.
– Мне все одно, кем бы ни был ты, соколик мой, только бы жив остался и скорее поправился,– промолвила она, в промежутках между словами целуя его лицо и глаза.– Все образуется, а теперь отдохни, не тревожь души понапрасну…
– Нет, прежде я хочу тебе все сказать… Я сын князя вашего, Василея Пантелеича…
Теперь Ирина совсем испугалась: так и есть, у больного вновь начался горячечный бред! Ведь ему и говорить-то еще нельзя, а она…
– Хорошо, хорошо, родненький,– отстраняясь от него, быстро заговорила она.– Месяц ты мой ясный, вестимо, ты князь наш и татарин, так я о тебе всегда и понимала!… Ты только сейчас поспи, наберись сил, а завтра обо всем потолкуем! Спи, солнышко, Господь с тобою, а я пойду…
Проводив ее счастливой улыбкой, Карач-мурза закрыл глаза и почти тотчас заснул глубоким и здоровым сном, который продолжался более суток. Это был перелом в его болезни, и с того часа здоровье его и силы начали быстро восстанавливаться.
*Гюллистан – легендарная страна цветов, не раз воспетая древними среднеазиатскими поэтами.
Глава 30
Четвертый день уже тройка неказистых лошадок тащит лесными дорогами старый возок, с сидящей в нем одинокой женщиной. Ссутулился, дремлет на облучке холоп-возница, забаюкала его летняя марь,– невмочь даже прикрикнуть на лошадей…
Набегает, стелется знакомый путь. Все одно и то же: ползут мимо лохматые зеленые стены, то щедро обрызганные солнцем, то темные и смурые, как осенние тучи; нависают над дорогой цепкие лапы елей, будто хотят выхватить путника из возка и навсегда укрыть его от людей и от солнца в черной своей гущине; пролепечет что-то вдогонку печальная осина,– хотя ветра и нет, а всегда, будто в предсмертном страхе, тихо трепещет ее листва; темными громадами толпятся по обочинам неохватные стволы сосен, да кое-где, словно напуганная девушка, выбежит из чащи березка и встанет у самой дороги, будто молит проезжего защитить ее от злых лесных великанов…
Все одно и то же, родное и грустное… Заросла лесами святая Русь, нет им ни конца, ни краю! Но вот расступилась слева древесная рать, потеснилась,– дала место гречишному полю; за ним – золотое жниво убранной ржи, а там снова лес и под ним деревенька. Это Байково. Еще верст десять и дома! Сын уже давно ускакал вперед,– скучно ему плестись рядом с возком,– теперь уж, поди, в Кашаевке. Зашевелился и возница, обругал нерадивую пристяжную, вытянул ее кнутом. Тоскливо на сердце у Анны Матвеевны. Вот похоронила отца, мать тоже совсем плоха, а там, глядишь, и ее черед… Да не больно и жалко: жизнь прожита и не так она сложи лась, как душа ждала. Истинного-то счастья был короткий миг, а слез сколько!
Откинувшись на спинку повозки и закрыв глаза, она унеслась мыслями в далекое прошлое, стараясь воскресить его в памяти год за годом. Семнадцати лет выдали родители синеглазую певунью Аннушку за боярского сына Данилу Катаева, годившегося ей в отцы. Не любила его Аннушка,– до венца всего раз-то и видела. Но добр и ласков оказался Данила,– только было начала привыкать к нему, как сникла навеки его удалая головушка под татарскими саблями… А потом пришел он, ее светлый княжич, и словно бы солнце немеркнущее зажег над серою равниной ее вдовьей жизни. Счастье пришло такое, что, казалось, его не вместить, но и тогда уже чуяло Аннушкино сердце, что недолгим будет оно. Не бывать серой утице женою гордого лебедя…
Минул год, княжич стал государем-князем, подыскали ему невесту-княжну. Но не спешил он со сватовством,– крепко любил свою Аннушку! И кто знает, как бы дальше-то все сложилось, ежели бы не грянул внезапно гром: все потерял князь Василей злою волею татарского хана, только и успел прискакать проститься, прежде чем бежать в чужие края… В тот день догорело Аннушкино счастье в пламени его последних ласк.
Уехал любимый и как в воду канул, так и не узнал никогда, что оставил здесь дочь… Если бы не это, едва ли она, Аннушка, долго бы прожила,– одолела бы ее злая тоска. Но, понявши, что скоро станет матерью, вновь обрела она волю к жизни, и когда девять месяцев спустя родилась Ирина,– в и как бы воскрес для нее навеки потерянный образ князя Василия.
Потекли дни, полные тихой грустью и радостями материнства. Аннушка никуда не показывалась, и о рождении дочки за пределами уединенной лесной усадьбы не знал никто. О том, что будет дальше, она боялась думать, но втайне надеялась, что возвратится либо подаст о себе весть Василий Пантелеевич,– тогда все и решится, а пока лишь надобно, чтобы случившееся не стало достоянием людской молвы. Но минуло еще два года, а желанных вестей все не было. Стали уже кругом поговаривать, что сгиб, должно быть, князь
Василий на чужбине, только не верила Аннушка этим слухам. И не ошиблась: услыхав однажды за воротами конский топот, выглянула она в оконце и света невзвидела: у крыльца слезал с коня княжий стремянный Никита Толбугин, вместе с ним уехавший. Хотела Аннушка выбежать навстречу, да ноги сделались такие, ровно бы кто из них кости вынул… Что-то сейчас она услышит?
Никита вошел, помолился на образа и, едва глянул вниз, сразу увидел игравшую на полу двухлетнюю Аришу. Хоть и была девочка светленькой, но лицом походила на отца, и Никита без слов все понял. Да от него и скрываться-то не было нужды,– все равно что брат!
Обсказав Аннушке вкоротке, что жив-здоров князь Василий и что ныне гостюет он за Каменным Поясом у белоордынского хана, который их принял ласково,– примолк Никита. Все поглядывал на Аришу и, видать, думал – как лучше сказать то, что еще не было сказано. Наконец решился:
– Вот что, Анна Матвеевна… Знаю, причиню тебе боль, но правду ты знать должна, особливо теперь,– сказал он, кивнув головой в сторону девочки.– Оженился Василей Пантелеевич.
– На ком же? – не сразу пролепетала Аннушка, едва удерживая слезы. Всегда знала она, что этим и должно кончиться, но все же удар был жесток. Никита это понял и, чтобы смягчить его, почел возможным даже слегка покривить душой, чего в ином случае никогда бы себе не позволил.
– На ордынской царевне, на братаничне великого хана Мубарека, государя Белой Орды. Тут, видишь, не столько любовь, сколько надобность. Сама разумеешь, сколь важно ему было породниться с татарскими ханами, дабы воротить свое княжение. И сейчас он на это крепко надеется. Вестимо, коли знал бы он про нее,– снова кивнул Никита на Аришу,– может, и по-иному бы поступил. Но кто мог знать-то? А теперь уже дело сделано и в обрат не повернешь, ежели и захотел бы. И дивное дело: Аннушке сразу стало легче. Хоть и потерян был для нее князь Василий, а мысль, что женился он на другой не по влечению сердца, а по горькой нужде, примиряла ее со случившимся. Она нашла в себе силы довольно спокойно расспросить Никиту обо всем, что было с ними после отъезда из Карачева, и они беседовали более часу. Наконец гость сказал, что ему пора, но, прежде чем уехать, он спросил:
*Братанична – племянница, дочь брата. Но так же называли и дочь племянника.
– Ну, а ты, Анна Матвеевна, что мыслишь дальше-то делать?
– Не знаю, Никита Гаврилович,– с тоской ответила Аннушка.– Что же делать-то остается? Буду доживать свой вдовий век…
– Это ты зря. Теперь ты не о себе, а вот о ней должна думать,– промолвил Никита, целуя девочку, давно уже сидевшую у него на коленях.– Нешто возможно обречь ее на людское злословие? Да и ей самой, коли уж так все сложилось, лучше бы не знать, кто ее настоящий отец… Надобно тебе выйти замуж.
– Что ты, Никита Гаврилович, нешто я теперь смогу…
– Коли любишь ее, так сможешь,– строго сказал Никита.– Перемоги себя, для нее это сделай! Ужели попустишь, чтобы дочь князя Василея люди называли байстрючкой?
– Ой, Господи! – со стоном вырвалось у Аннушки.
– Вот о том я и говорю. И помыслить такого нельзя. А выйдешь замуж, и дело крыто.
– Да кто меня возьмет-то теперь?
– Возьмут, только захоти. Ты еще вон какая красавица! И знаю я хорошего человека, который издавна по тебе томился, только, вестимо, не казал виду, ибо не хотел встревать промеж тобою и князем. Теперь я ему шепну, будто ненароком, что оженился Василей Пантелеевич на другой, и голову готов положить на плаху, коли он к тебе вскорости не посватается. И ты согласись. Еще раз говорю,– человек он достойный и тебя ничем не попрекнет, а ей будет добрым отцом, ибо любит князя Василея, как и мы с тобой его любим.
– А Василей Пантелеич…– начала было Аннушка, но слезы помешали ей говорить.
– Василею Пантелеичу, я покуда ни о чем не скажу, окромя того, что жива ты и здорова.– поняв ее, промолвил Никита, – Зачем понапрасну душу ему бередить,– ему и так несладко… Ну, прощай, Анна Матвеевна, да хранит тебя и дочь твою Господь, и ежели будет на то Его святая воля,– еще свидимся.
С тем Никита уехал, а вскорости и впрямь наведался к Аннушке сын боярский Михаила Софонов, которого она и прежде знала, ибо водил он приятельство с ее покойным мужем, хотя и был лет на десять его моложе. Не прошло и трех месяцев, как они поженились, и Ирина выросла в полной уверенности, как и все вокруг, что она родная дочь Михаилы Андреевича.
*Байстрючка – незаконнорожденная.
Глава 31
Спустя час после приезда домой, сидя за трапезой в кругу семьи, Аннушка выслушивала здешние новости и делилась своими. Любящий взгляд ее то и дело останавливался на лице Ирины,– сразу заметил в нем перемену: расцвело оно какой-то новой красой и будто все изнутри светилось. Рада возвращению матери? И рада, вестимо, да это не то… Ужели приезжий боярин?
– Что же, значит, ныне пошел на поправку наш нечаянный гость? – спросила она, ибо разговор шел как раз о Карач-мурзе.
– Слава Христу и Пресвятой Богородице, теперь поправится,– радостно откликнулась Ирина.– Вчерась впервые меня признал и с той самой поры все спит, а горячки ровно бы и не бывало!
– А что, молод боярин-то?
– Годов, должно, двадцать пять – двадцать шесть, маменька.
– Не только молод боярин,– сказал Павел, дурашливо покосившись на сестру,– но и так собою пригож, что, будь я девкой либо молодой вдовой, присох бы к нему навеки!
– Уймись, непутевый! – огрызнулась Ирина, густо покраснев.
«Так и есть,– подумала Аннушка, не спускавшая с дочери глаз в продолжение этого разговора.– Эх, лихая беда в такие-то годы вдовою остаться. И душа, и плоть своего небось просят!…»
– Вот оно как,– промолвила она вслух.– Ну, что ж, Аришенька, пойдем поглядим на хворого. Теперь и я пособлю тебе за ним ходить.
Встав из– за стола и помолившись, они в обнимку дошли до горницы раненого и, тихонько отворив дверь, приблизились к постели.
Карач– мурза спокойно спал, глаза его были закрыты, лицо за время болезни обросло темной бородкой. Едва взглянув на него, Аннушка почувствовала, что тугая, горячая волна хлестнула ее по сердцу и валит с ног: перед нею лежал князь Василий, точно такой, каким видела она его в последний раз, двадцать девять лет тому назад!
«Господи, что это? Чудо или наваждение?» – успела подумать она, теряя сознание и падая на руки смертельно перепуганной Ирины.
Маменька, светик, ну и напугала же ты меня, говорила Ирина, когда Аннушка, уложенная на лавку в соседней горнице, ее стараниями пришла наконец в себя.– И чего это тебе вдруг примерещилось?
– Примерещилось? Нет, ништо…– слабым голосом ответила Аннушка, начиная припоминать случившееся.– Сама не знаю… Сердце зашлось, должно, растрясло меня в дороге…
– Пошто же ты сомлела в тот самый миг, когда на Ивана Васильевича глянула? Ровно бы его испугалась!
– На Ивана Васильевича? Ах, да… боярин-то наш. Так он, говоришь, Васильевич?
– Ну, да, нешто я тебе прежде не сказала? Иван Васильевич. Али ты его уже где встречала?
– Погоди, доченька, ничего покуда не спрашивай… Муторно у меня в голове. Дай в разум-то войти.
– Испей вот еще водицы, родная,– протянула ей ковшик Ирина.
– Теплая вода,– промолвила Аннушка, отхлебнув глоток.– Ты бы мне кваску холодного принесла из погреба.
– Сейчас, маменька! А ты покуда закрой глазки и полежи тихо, ни о чем не думай!
Едва затихли шаги Ирины, Аннушка была уже у двери в смежную горницу. Может, и впрямь померещилось? Надо было непременно взглянуть на приезжего боярина еще раз.
С трепетом в душе, тихонько отворив дверь, она сделала два бесшумных шага вперед и снова едва не лишилась чувств: на постели лежал человек, похожий на князя Василия, как капля воды бывает похожа на другую каплю. Если бы с той поры не минуло почти три десятилетия, она поклялась бы, что это он! Но этот совсем молод… Васильевич? Господи, ужели такое возможно? А почему бы нет? Ведь он был женат!…
Не в силах отогнать нахлынувших видений прошлого, Аннушка стояла как зачарованная, не отрывая взгляда от дорогого лица. Только раздавшиеся за спиной шаги и тихое восклицание Ирины возвратили ее мысли к действительности. Выйдя из комнаты больного и плотно притворив за собою дверь, она опустилась на лавку и с минуту сидела в задумчивости. Потом подняла глаза на дочь и промолвила:
– Ну, Ирина, теперь сказывай все, как на духу, ничего не тая.
– Да о чем сказывать-то, маменька? – спросила Ирина, стоявшая посреди горницы, с удивлением глядя на мать.
– Расскажи все, с самых начал: как заявился сюда боярин, что о себе поведал и далее, день за днем, слово за словом, все, что было у вас говорено.
– Да ведь мы же тебе даве все обсказали! Ну, коли желаешь, повторю: приехал, значит, боярин ввечеру, попросился ночевать,– конь у него охромел в дороге… Сказал, что едет из Москвы в Карачев, а звать его Иваном Васильевичем Снежиным. Потом стали вечерять, и батюшка уговорил его пожить у нас, доколе не завершит делов своих в городе…
– А не сказал он, какие у него тут дела?
– Говорил, что надобно ему повидать князя Святослава Титовича, да еще кой-кого в Карачеве, а после ехать в Звенигород.
– А за трапезой у вас о чем был разговор?
– О разном… Родитель много ему рассказывал о князе нашем покойном, Василее Пантелеевиче, и о всех тех делах.
– И что же, боярин с охотою о том слушал?
– Вестимо, с охотой, матушка! Еще и сам его все выспрашивал.
– Добро… А наутро что он стал делать?
– Наутро? За раннею трапезой спросил он, жив ли Семен Никитич Алтухов, и, узнавши, что жив, тотчас поехал к нему. Воротился к вечеру.
– Али он и прежде знавал Алтухова?
– Того не ведаю, маменька, он ничего не говорил.
– Сколько же дней он тут прожил, до того как его сохатый боднул?
– Дней семь либо восемь, уж, не помню точно.
– И что делал во все те дни?
– Да ничего, маменька! Раза два-три выезжал в город, а то с нами время коротал.
– И тебе с ним часто доводилось беседовать?
– Да, почитай, каждый день.
– Наедине?
– Бывало и наедине,– помедлив, ответила Ирина и порозовела, что не укрылось от пытливого взора матери.
– И он о себе либо о своей жизни ничего тебе особо не говорил?
– Ничего, матушка!
– Припомни добро. Может, не прямо, а каким обиняком обмолвился он о родителях своих либо о себе самом?
– Нет, вроде и обиняком не говорил… Уже после, в горячке, плел он, правда, всякую диковину… Ну, да ведь в беспамятстве человек чего только не скажет!
– А что он говорил в беспамятстве?
– Да всякую гиль… То возомнил себя татарином, а то вдруг сыном князя Василея Пантелеича. Аллаха тоже поминал… Все ехать куда-то рвался… Я уж всего и не упомню!
– Так… Ну, теперь слушай, Ирина,– помолчав, продолжала Аннушка, и голос ее стал суров: – Сказывай, как перед Богом: что промеж им и тобою было?
– Христос с тобой, матушка! Что же быть-то могло?
– О чем вы с ним наедине беседовали?
– Да о всяком… Нешто теперь все припомнишь!
– Был у вас о любви разговор?
– Да что ты, матушка, ровно на дыбе меня пытаешь? – рассердилась наконец Ирина.– Что я, девка на выданье либо черница? Уже и говорить с человеком нельзя!
– Ирина! Ты его полюбила!
– А хотя бы и полюбила! Кому от того худо?
– Безумная! Ты понимаешь ли, что говоришь?! Ведь ежели промеж вас что было,– тебе теперь только одна дорога: в монастырь! Да и то не знаю, простит ли Господь!
– Царица небесная! – испугалась Ирина, думая, что мать теряет рассудок.– Это за то, что женат-то Иван Васильевич? Почитай, в монастырях и местов бы таким не хватило! Да и не было у нас с ним ничегошеньки, Богом тебе клянусь!
Но Аннушку это не удовлетворило. Расстегнув ворот летника, она сняла с себя золотой нательный крестик и протянула его Ирине:
– Целуй на том крест! На кресте поклянись, что ничего, опричь разговоров, промеж вами не было!
Ирина медлила, но видя, что глаза матери наполняются ужасом, а лицо постепенно белеет, она решилась:
– Целовала я его однажды… в тот миг, когда увидела, что Господь от него смерть отвел. Да едва ли он это и помнит… А больше ничего не было, в том спасением души моей клянусь и святой крест целую!
– Слава Христу и Пресвятой Деве,– с облегчением выдалось у Аннушки. – Не попустил, значит, Господь… Ну, теперь собирайся: поедешь погостить к сестре, в Елец. Сей же час велю закладывать возок. А невдолге, когда можно будет, сама за тобой приеду…
– Маменька, ужели же у тебя сердца нет? – с отчаяньем воскликнула Ирина.– За что ты меня отсюда гонишь?
*Гиль – чепуха, чушь.
**Черница – монашка.
– Не гоню, ласточка моя, а так надобно, нежно промолвила Аннушка, обнимая плачущую дочь.– Когда воротишься, я тебе все расскажу, а пока уезжай и верь, я лишь доброго тебе желаю.
– А за ним кто же ходить-то будет? Ведь он еще как дитя беспомощный,– сквозь рыдания вымолвила Ирина.
– О том не кручинься, донюшка! Я от него шагу не отойду, как мать ему буду, доколе он вовсе не поправится!
– И я его больше не увижу?
– Увидишь, коли сама захочешь, когда узнаешь всю правду. Поклянусь тебе,– никакой помехи в том чинить не стану! И сама скажу: люби его! Только сейчас ни о чем не спрашивай, золотко, а поцелуй меня крепко-крепко… вот так! И собирайся в путь.
Час спустя, полная недоумения, но несколько успокоенная последними словами матери, Ирина уже катила, в сопровождении Павла, по дороге в Елец.
Глава 32
Карач– мурза проснулся, когда уже смеркалось. Прежде всего он почувствовал, что лихорадка его оставила и что мысль работает ясно. Затем к этому присоединились сознание того, что раны почти не болят, и чувство здорового, давно не испытанного голода.
Несколько минут он пролежал неподвижно, наслаждаясь ощущениями возвратившейся жизни, потом повернул голову и увидел сидевшую на обычном месте, неясную в сумерках, женскую фигуру. Он разом припомнил все, что произошло накануне между ним и Ириной, но ему казалось, что спал он совсем недолго, может быть, только забылся на миг, и что разговор их ждет своего продолжения.
– Не уходи, радость души моей, прекраснейшее из творений Божьих,– с чувством произнес он.– Зачем ты мне не веришь? Не думай, что моими устами говорит болезнь: я вправду сын князя Василея Пантелеевича, клянусь тебе!
– Я верю тебе, Иван Васильевич, и знаю, что ты говоришь правду,– ответила женщина, наклоняясь к нему, и Карач-мурзе показалось, что он снова бредит: этот голос был ему незнаком и склонившееся над ним лицо не принадлежало Ирине, хотя и имело с нею много сходства. Может быть, это и была Ирина, но внезапно постаревшая на двадцать лет.
– Кто ты? – почти с ужасом спросил он.
– Я мать Ирины.
– Прости меня… ханум. Я не знал…
– Зови меня Анной Матвеевной. Я сегодня приехала и уже знаю все о тебе.
– Теперь, когда ты услышала то, что я сказал, думая, что рядом со мной сидит другая женщина, ты и в самом деле знаешь все,– не сразу ответил Карач-мурза.
– Я знала и прежде, нежели ты сказал.
– Когда могла ты узнать?
– Я помню, каким был князь Василей Пантелеевич тридцать годов тому назад. И, едва на тебя глянув, догадалась, что ты его сын. А остальное мне сказала Ирина.
– А где… Ирина?
– Она уехала.
– Как уехала? – заволновался Карач-мурза.– Куда уехала?
– К сестре своей, в город Елец.
– И она уехала сама, со мною даже не простившись?
– Нет, не сама… Я отослала ее.
– А, понимаю… Для тебя я поганый татарин! – возбужденно заговорил Карач-мурза.– Но зачем я буду молчать перед тобой о том, что ты уже знаешь? Я люблю Ирину, и она меня любит! Я приму веру своих отцов, вашу веру, и женюсь на ней, если только ты не думаешь, что сын князя Карачев-ского и внук великого хана Белой Орды плох для твоей дочери!
– Вестимо, я такого не думаю. Но ты не можешь жениться на ней, хотя бы и принял православную веру.
– Почто так?
– Иван Васильевич! Светик ты мой ясный! Верь мне, я, как сына родного, тебя люблю, и скоро ты узнаешь почему. И лишь доброго хочу и тебе, и Ирине,– у меня у самой сердце кровью исходит! Но давай завтра о том побеседуем. Ныне ты слаб еще, а то, что услышишь, тебя растревожит…
– Сегодня говори! Ведь это стократ хуже,– ожидать До завтра!
– Ну, хорошо, будь по-твоему… Ты не можешь жениться Ирине потому… что она сестра твоя.
– Бисмаллах! Что говоришь ты, женщина? Ты смеешься надо мной!
– Не смеюсь… Она дочь родного отца твоего, князя Василия. А как это случилось, слушай…
И Аннушка без утайки рассказала ему всю свою историю. Карач-мурза выслушал ее с величайшим вниманием, не прерывая и не обнаруживая особого удивления. Будучи по воспитанию ордынцем,– вопросы семейных отношений он, естественно, рассматривал с точки зрения мусульманина, а потому все услышанное,– хотя и было для него неожиданным,– легко укладывалось в рамки привычных представлений. И он не понимал – что, собственно, так волнует Аннушку и почему она даже как будто стыдится перед ним за свою былую близость с его отцом?
По обычаям Орды, любая женщина, даже рабыня, сделавшись матерью, тем самым обращалась в законную жену отца своего ребенка, кем бы он ни был и совершенно независимо от того – есть ли у него другие жены. Таким образом, узаконивалось и положение новорожденного. И потому, в глазах Карач-мурзы, Аннушка являлась такою же женой князя Василия, какою была его собственная мать, а Ирина – таким же законным его ребенком, каким был и он сам. Да, она оказалась его сестрой, но сестрой по отцу, а в Орде это было далеко не то же самое, что сестра со стороны матери.
Татарские законы разрешали браки между людьми всех степеней родства, за исключением трех: нельзя было жениться на своей матери, на своей дочери и на сестре от общей матери. Но взять в жены мачеху, тетку, племянницу или сестру – дочь своего отца от другой женщины, можно было совершенно свободно. Такие браки даже поощрялись, ибо они сохраняли от разделения семью и ее имущество.
И в силу такого положения то, что в глазах Аннушки и всего христианского мира являлось непреодолимым препятствием к его женитьбе на Ирине, самому Карач-мурзе казалось только лишним к тому основанием. Но увидев, в какой ужас пришла Аннушка при его попытке все это ей разъяснить,– он сокрушенно умолк, поняв, что Ирина, как женщина, для него безнадежно потеряна, и прежде всего потому, что она сама, конечно, смотрит на это так же, как и ее мать.
Когда Аннушка ушла, Карач-мурза долго лежал неподвижно и думал. Ему было нестерпимо тяжело и досадно, что не все люди живут по одним и тем же законам, что они, созданные одним и тем же Богом, толкуют Его волю по-разному, воздвигая между собой множество ненужных, мешающих жить перегородок и окружая себя условностями, которые делают их друг для друга чужими и «погаными»…
Но сквозь боль и горечь утраты, из глубины его души, уже созревающей для восприятия христианства, постепенно рождалось и крепло сознание того, что в области семьи и род ственных отношений русские обычаи возвышенней и правильней татарских, а потому следует отнестись к ним с уважением и покориться судьбе.
И он покорился. Это оказалось не столь трудным, как сам он думал вначале, ибо любовь его к Ирине не успела достаточно созреть и оформиться, и теперь, особенно в ее отсутствие, она легко переплавлялась в братское чувство.
На следующее утро он коротко сказал Аннушке, что все ею говоренное и сделанное накануне он считает правильным и что с этого дня будет думать об Ирине только как о любимой сестре. И после этого каких-либо разговоров о ней старательно избегал.
С Аннушкой, несмотря на то что она ухаживала за ним с заботливостью родной матери, у него не сложилось простых и задушевных отношений, хотя оба этого искренне хотели. Но необычность положения, заставившего их при первой же встрече обнажить друг перед другом самые сокровенные тайники души, создавала неловкость и натянутость, которую трудно было преодолеть! И Карач-мурзу явно тяготили последние дни, проведенные им в усадьбе Софоновых.
После отъезда Ирины он пробыл в Кашаевке еще дней десять и едва почувствовал, что в состоянии сесть на коня,– уехал, сердечно простившись с хозяевами.
Несколько месяцев спустя они имели случай убедиться, что он их не забыл: однажды, под вечер, в открытые ворота усадьбы два татарина вогнали десяток превосходных коней. Заслышав во дворе топот и крики, все семейство Софоновых в полном изумлении высыпало на крыльцо, как раз в тот момент, когда возле него спешивался Илья, стремянный боярина Снежина.
Поклонившись в пояс, он поведал, что господин его шлет сыну боярскому Михаиле Андреевичу Софонову и всем домочадцам его низкий поклон, спрашивает о здоровье и в память дружбы и оказанного ему здесь гостеприимства просит принять этих коней.
– Благодари боярина за память и ласку,– ответил растерявшийся Софонов,– но такого дара я принять не могу ведь этим коням цены нет! Воля твоя,– одного возьму, чтобы было обиды, а прочих гони в обрат!
– Мой господин человек богатый,– промолвил посланный,– у него таких лошадей целые табуны. Он тебя от чистого сердца почтить хочет, и ты его крепко обидишь своим отказом.
– Не могу принять! Что я – разбойник али совести у меня нет?
– Жаль, что не можешь,– невозмутимо сказал Илья.– Коли так, пропадут ни за что хорошие кони.
– Пошто им пропадать?
– Боярин мне велел, ежели ты их взять не схочешь, в обрат не гнать, а пустить на волю, тут же, близ твоего жилья.
– И ты такое исполнишь?!
– Вестимо, исполню! Мне что господином моим приказано, то свято, и гневить его я нипочем не стану.
– Вот задача! Ну, что тут станешь делать? Не пропадать же и впрямь таким лошадям! Ладно, да простит мне Господь,– беру их, но только я теперь Ивану Васильевичу на всю жизнь должник. Кланяйся ему земно, и да будет к нему вовеки милостив Христос! Здоров ли он и где ныне находится?
– Благодарение Богу, боярин здоров и ныне в Орде покупает лошадей. Оттеля он и этих тебе прислал.
– И жена, и детки его здоровы?
– Господь их хранит, боярин.
– А на словах что еще велел он передать?
– Велел сказать, что всех вас вспоминает часто и имеет надежду еще когда-нибудь свидеться.
– А еще что?
– Еще наказывал он тебе довести, госпожа,– ответил Илья, обращаясь к Ирине,– что николи не забудет, как ты его, раненного, выходила, и просит тебя принять вот это, как приняла бы ты от родного брата. – С этими словами он протянул радостно взволнованной Ирине небольшую сафьяновую коробочку, в которой оказался золотой перстень с крупным голубым бриллиантом.
Целый вечер ломал Михаила Андреевич голову, думая, чем бы отблагодарить боярина Снежина за его царские дары, и наконец решил послать ему в подарок единственную свою драгоценность,– оправленную золотом саблю, унаследованную от отца. Но когда, начистив ее как следует, утром он отправился искать боярского стремянного, оказалось, что того уже и след простыл.
Ирина была предусмотрительней. Еще с вечера, отыскав Илью у коновязи, она ему сказала:
– Передай князю своему низкий от меня поклон и скажи ему, что с перстнем, им присланным, доколе жива буду, не расстанусь. А ему дай вот это,– добавила она, снимая с себя золотой нательный крестик,– скажи, что то от сестры и что молитва ее с ним повсюду.
Глава 33
Не отъехав от Кашаевки и десяти верст, Карач-мурза понял, что пустился в путь слишком рано: он был еще очень слаб.
Вначале он этого почти не ощущал и даже довольно долго вел коня рысью; но уже к полудню острые боли в груди и внезапные приступы головокружения едва позволяли ему удерживаться в седле.
Дорога шла безлюдной местностью, и полуденный привал сделали прямо в лесу, на берегу небольшого ручья. Видя, в каком состоянии находится боярин, встревоженный Макар предложил съездить на поиски какого-нибудь села, где можно было бы раздобыть повозку и на ней отвезти его обратно в Ка-шаевку. Но Карач-мурза о возвращении не хотел и слышать. Отлежавшись на прохладной траве и подкрепившись едой, часа через два он почувствовал себя гораздо лучше и снова смог сесть на коня.
Превозмогая слабость и жестокую боль в едва зарубцевавшихся ранах, он продержался в седле до захода солнца, но без посторонней помощи уже не смог сойти на землю, когда, заметив в стороне от дороги одинокую избушку, приютившуюся в гуще деревьев, путники подъехали к ней и попросили ночлега.
Хозяин избы,– высокий старик с белою бородой по пояс,– несмотря на глубокую старость, еще был крепок и подвижен. Молча поглядев на то, как слуги снимали с седла боярина, а потом, уложив его в избе на лавку, расстегнули кафтан, намереваясь перевязывать раны, он выступил вперед:
– А ну, ребята, дайте-кось мне поглядеть. В таких делах я, пожалуй, поболе вашего смыслю.
Внимательно осмотрев больного и не задав ему ни одного вопроса, он присел сбоку на лавку и промолвил: Да… Сохатый добре над тобою поработал, боярин, ехать тебе далее нипочем нельзя: вишь, раны-то снова понабрякли, а одна и вовсе открылась! Лежать бы тебе с этим седмицы две, ну да счастье твое, что сюда заехал. Я тебя в три дня на ноги поставлю. А уж тогда смело скачи в Звенигород.
– Отколе ты знаешь, что еду я в Звенигород? – удивился Карач-мурза.
– Я много чего знаю, боярин,– уклончиво ответил старик. – Проживешь с мое, может, и ты столько знать будешь.
– А сколько же ты прожил?
– Годы мои у Отца небесного записаны. А только князя Мстислава Михайловича я хорошо помню.
– Мстислава Михайловича! Так тебе уже годов девяносто!
– Нет, боярин, как бы за сто не перевалило. Когда преставился князь Мстислав, я уже отцом семейства был.
– А как звать тебя, дедушка?
– Люди зовут Ипатом.
За этими разговорами старик уже приступил к лечению. Достав с полки березовый туесок с темно-зеленой мазью, он толстым слоем наложил ее на раны, что-то пришептывая, перевязал их, а затем, заварив в воде какие-то травы, напоил больного этим отваром. Питье было невероятно горьким, но оказало почти мгновенное действие: боль в ранах исчезла, слабость уступила место бездумно-блаженной легкости. И несколько минут спустя Карач-мурза уже крепко спал.
Проснулся он на следующий день лишь к полудню и, чувствуя себя значительно окрепшим, хотел было встать, но старик Ипат этому решительно воспротивился.
– Э, нет, боярин,– сказал он,– коли хочешь вовсе оздороветь и доехать, куды тебе надобно, лежи три дня, как было говорено. Инако я за твою жизнь не ответчик: не отъедешь отселева и пяти верст, как все раны полопаются. Мое лечение таково, что ежели не довести его до конца,– от него только пуще расхвораешься.
Подождав, пока раненый пополдничает зажаренным на вертеле тетеревом, которого застрелил из лука Илья,– старик дал ему выпить вчерашнего отвара, после чего Карач-мурза, как и накануне, тотчас заснул и спал до вечера, когда все это повторилось снова. И так продолжалось еще два дня: больной просыпался только для того, чтобы поесть, а потом, выпив ковшик горького зелья, вновь погружался в сон. С каждым новым пробуждением он чувствовал себя все лучше, и наконец, на третий день, после ужина Ипат больше не дал ему своего снотворного питья, а, осмотрев его раны, удовлетворенно промолвил:
*Мстислав Михайлович – первый князь Карачевский и Козельский,– сын св. Михаила Всеволодовича, великого князя Черниговского, прадед Карач-мурзы. Он умер в конце восьмидесятых или в начале девяностых годов тринадцатого столетия.
– Ну, вот, княже, теперь ты здоров, ровно бы тебя сохатый и вовсе не бодал. И завтра можешь смело пускаться в путь: доедешь без помехи не то что до Звенигорода, а хоть до самой Орды.
Карач– мурза посмотрел на старика с нескрываемым удивлением. В избе они находились одни,-Илья и Макар предпочитали спать на свежем воздухе, благо время стояло сухое и теплое.
– Почто ты назвал меня князем? – спросил он.
– Зову, как тебя по рождению твоему и по сану звать положено.
– Отколе ты это знаешь?
– Да ведь не за зря же меня все окрест колдуном почитают,– усмехнулся Ипат.– Хотя для этого случая колдовства и не надобно: я тебя враз признал,– больно уж похож ты на родителя своего покойного, на князя Василея Пантелеевича.
– А ты его так близко знавал, что доселе помнишь?
– Я кого раз увидел, того вовек не забуду, княже. А родителя твоего и весь род ваш знаю я добре. Еще деда твоего, князя великого Пантелея Мстиславича, врачевал я от хвори, вот как ноне тебя.
– А отколе знаешь, что путь мой отсюда в Звенигород, а после в Орду? – помолчав, спросил Карач-мурза.
– Иному бы сказал, что мне духи открыли, ну, а тебя морочить не стану: ведь раны-то твои леча, видел я, что креста у тебя на шее нету,– стало быть, ты не русской веры. Да так оно и быть должно: князь Василей-то отселе утек в Белую Орду и в обрат не воротился. Значит, коли есть у него сын,– там ему было и родиться.
– Ну, а Звенигород?
– И тут колдуном быть не нужно, а только лишь иметь разум: не зря же ты из Орды в наши края приехал. Ну, а теперь, к примеру, был бы я на твоем месте,– с чего бы тут начал? Вестимо, допрежь всего, стал бы искать грамоту, украденную у твоего родителя, в коей сказано о твоем праве на княжение в Карачеве. А где же ей быть, той грамоте, коли не Звенигороде?
– Да отколе ты знаешь о той грамоте и о том, что она Звенигороде?! – воскликнул Карач-мурза, пораженный стройностью рассуждений и прозорливостью старца.
– Вот этого я тебе не открою, хотя и тут колдовства никакого нету.
– Коли ты все знаешь, скажи: сыщу ли я ту грамоту и будет ли мне от того какая польза?
– Могу и это сказать… Только здесь уже не обойтись без того, что люди зовут колдовством,– промолвил Ипат. – Ох не люблю я этого,– не легко оно мне дается, – ну, да для тебя сделаю, ибо пред тобою в долгу: согрешил против родителя твоего… Знал я тогда, что вороги супротив него затевают, да, побоявшись их мести, о том не упредил. А он был со мною ласков и щедр… Ну, что же, коли хочешь знать, иди за мною.
С этими словами старик взял с полки свернутый кусок белого полотна, а из угла – стоявший там заступ и вышел из избы. Карач-мурза, с легкой жутью в душе, последовал за ним.
Молча пройдя шагов триста по узкой лесной тропинке, они вышли на небольшую круглую поляну, залитую лунным светом. Здесь старик, передав своему спутнику заступ, опустился на колени, скрестил руки на груди и наклонил голову так, что борода его почти касалась земли. Так он простоял недвижно несколько минут, что-то тихо бормоча. Потом внезапно, весь содрогнувшись, пал на землю, распростершись ниц и раскинув крестом руки. И в этот миг не сводившему с него глаз Карач-мурзе показалось, что вокруг неподвижно лежащего перед ним тела из почвы струится мягкое голубоватое сияние. В суеверном трепете он закрыл глаза, шепча про себя молитву, а когда минуту спустя снова их открыл – странного света уже не увидел. «Наверное, то ветерок пошевелил вокруг старика траву, посеребренную лунными лучами, а мне невесть что померещилось»,– подумал он, не без усилия овладев собой.
Ипат между тем снова встал на колени и, расстелив перед собою принесенный полотняный платок, тихо сказал, не оборачиваясь:
– Теперь копни вот здесь, сбоку и кинь землю на плат! Да крепко думай о том, что желаешь узнать.
Карач– мурза повиновался: нажав ногою на заступ, он вы вернул порядочный ком рыхлой земли и бросил его на разостланный белый холст. Старик тотчас склонился лицом к беспорядочно рассыпавшейся груде, пытливо вглядываясь в ее причудливые очертания.
– Вижу тую грамоту, через минуту глухо и отрывочно заговорил он.– Цела она. Хоть ноне ты ее в Звенигороде и не сыщешь, а будет она в твоих руках… Только не скоро пойдет она тебе впрок… Труден и долог твой путь… И не так судьба твоя сложится, как ноне тебе гребтится. Вижу много битв и много крови… Вот делишь ты ложе и власть с прекрасной царицей, а вот в почете и славе стоишь у самого престола могучего и грозного царя… но сокрушит того царя и царство его другой, гораздо великий и грозный. И ты все потеряешь. Вижу, – скачешь ты один по степи, и волосы твои и борода белы… Сюды скачешь… Здесь доживешь свои годы и ляжешь в землю отцов. Тому верь, ибо так будет!
«А может, и не так,– недоверчиво подумал Карач-мурза.– Где эти великие цари теперь, когда все, что завоевал и соединил Чингис, разваливается, как эта кучка земли? И коли впрямь знает старик грядущее,– было бы ему открыто и минувшее, а он небось и словом о нем не обмолвился!» И в памяти Карач-мурзы в этот миг встала Ирина.
Ипат как будто подслушал его мысли. Взяв платок за углы, он сильно встряхнул его и вновь склонился лицом к таинственной земляной россыпи, принявшей теперь совершенно иные очертания.
– А чтобы не было у тебя сумнений,– промолвил он,– теперь скажу тебе, что невдавне было… Вот лежишь ты, почти без жизни, на постеле, и женщина младая целует твое лицо… вот подняла она голову… сероглаза и собой хороша, как заря утренняя… пожди… сейчас скажу тебе, кто она…
– Не надо, старик, довольно! – почти в ужасе вскрикнул Карач-мурза. – Верю тебе во всем! Открой мне только – кто дал тебе умение видеть минувшее и грядущее? Ты ни разу не осенил себя крестом, не помянул имени Бога либо Аллаха! В избе твоей я не видел ни икон, ни языческих кумиров… Ужели сила твоя от дьявола?
– От дьявола у человека не сила, а слабость,– ответил Ипат.– Источник же силы и мудрости есть Отец небесный, единый для всего живущего. Истинного имени его не дано знать никому из смертных,– ибо не может человеческий разум вместить высшей мудрости,– а потому в разные времена и у разных народов называют его по-разному. И не нужны тому Отцу нашему ни храмы, ни попы, ни иконы, ни выдуманные людьми обряды. Помолись ему, глядя на небо, как апостолы изливались; не по-книжному помолись, а теми простыми словами, что сами просятся у тебя из сердца, и он услышит! А благодать его в Матери-земле,– от нее идет к человеку сила, ибо она породила все живущее, в ней же упокоится всякое дыхание. Коли ты чист душою и телом, не оскверняешь собою Мать свою, а с любовью и верою у нее просишь,– она даст тебе по любви и по вере твоей: чем крепче любовь и вера, больше даст, и нет пределов ее щедрости! Ей же, ко груди припав, исповедуйся во грехах своих, а не попам, кои и сами живут в грехе. Вот теперь и разумей, отколе идет моя сила. Ну, пойдем, одначе,– усталым голосом добавил он, стряхивая с платка землю и поднимаясь на ноги.– Место это свято, и тут тебе долго оставаться негоже.
* Здесь устами Ипата высказаны основные положения секты так называемых стригольников, возникшей на Руси в четырнадцатом столетии и положившей начало многим позднейшим сектам.
И Карач– мурза, не переставая дивиться тому, что он в этот вечер увидел и услышал, молча последовал за старцем в избу, а наутро, совершенно окрепший и бодрый, пустился в дальнейший путь.
Глава 34
Весь следующий день Карач-мурза находился под впечатлением событий минувшей ночи, и в особенности – последних слов колдуна. А в том, что Ипат колдун, у него не оставалось никаких сомнений.
«Отец небесный,– это, вестимо, так и есть,– размышлял он в пути, бросив поводья на шею лошади и предоставляя ей плестись шажком.– Почти все люди верят, что Бог един и что Он живет на небе. Но Мать-земля? Он говорит, что она дает человеку силу и мудрость… В это хорошо верить тому, кто обрабатывает землю и живет ее дарами… Вот как он: сто лет любил ее и лелеял и теперь она открывает ему тайны прошедшего и будущего. Открывает, или он только так думает? В Ургенче я знал одного китайского мудреца, который, глядя в стеклянный шарик, мог увидеть то же, что этот колдун видит в кучке земли. Но он не молился стеклу и не думал, что от стекла зависит его умение проникать в тайны времени. Может быть, Ипат только считает землю источником той силы, которую за долгую жизнь приобрел его собственный разум? Но если земля и вправду таит в себе такую силу,– чего можем ожидать от нее мы, князья и воины, постоянно заливающие ее кровью? Нам лучше не верить в это, иначе страшно будет даже ходить по земле! Наверное, она нас еще терпит потому, что мы тоже ее любим и часто поливаем не только чужой, но и своею кровью…»
Карач– мурза все же был почти уверен в том, что старик действительно видел его будущее и что все случится именно так, как он предсказал, а потому вначале хотел даже отказаться от поездки в Звенигород: зачем терять время и вступать в неприятный разговор со звенигородским князем, если грамоты Мстислава Михаиловича он все равно теперь не получит. Не лучше ли подождать, лучше ли подождать, пока эта грамота сама попадет к нему в руки, как сказал колдун? Но, подумав немного, он все-таки решил ехать: если князь Федор Андреевич отдаст ему грамоту, будет ясно, что старик его попросту морочил; если не отдаст,-меньше сомнений останется в том, что и другим его предсказаниям надо верить.
Он пытался обдумать заранее, что и как скажет князю Федору, но в конце концов решил, что это будет видно, когда они встретятся, в зависимости от того приема, который будет ему оказан. О Федоре Андреевиче все отзывались с уважением, так же был склонен отнестись к нему и сам Карач-мурза, а потому все, что хоть отдаленно походило на обман, казалось ему тут недопустимым. На последнем ночлеге боярин Снежин перестал существовать, и во двор Звенигородского князя Карач-мурза въехал в своем обычном татарском одеянии, сопровождаемый нукером, везшим его бунчук.
Когда дворецкий доложил, что приехал неизвестный татарский князь и просит свидания с ним,– Федор Андреевич недовольно поморщился. Как почти все русские люди, он терпеть не мог татар, а князь, от Орды теперь независимый,– мог позволить себе роскошь не скрывать этого. Однако треххвостый бунчук говорил о столь высоком положении посетителя, что он все же счел нужным самолично выйти на крыльцо, встретить гостя.
Князь Федор был богатырского роста и сложения мужчина, лет пятидесяти. Но в его белокурых волосах седина не была приметна, а бороду он брил и потому казался много моложе своих лет. Лицо его было приятно и было бы даже красиво, если бы не переломанный нос, слегка покривившийся вправо. Заметив эту особенность, Карач-мурза тотчас вспомнил рассказ Софонова, и ему стало смешно: работа Никиты!
На Федора Андреевича гость произвел благоприятное впечатление. Он вовсе был непохож на татарина, и князю показалось, что они где-то уже встречались. А потому неприветливое выражение почти полностью сбежало с его лица, когда он промолвил:
– Будь здрав и благополучен, царевич! И не обессудь: с Ордою мы ныне, благодарение Господу, делов имеем мало, потому не знаю я по-татарски. Но ежели ты нашей речи не разумеешь, велю кликнуть толмача.
– В том нет нужды, князь. Я разумею и говорю по-русски.
– И как еще говоришь! Ровно бы на Руси всю жизнь прожил. И вот, ей-Богу, и голос твой, и лицо будто бы мне знакомы. Как звать-величать твою-то милость?
– В Орде зовут меня Карач-мурзой-огланом. Но есть у меня и другое имя, которое скажу тебе с глазу на глаз, ежели найдется у тебя время и охота меня выслушать. Надолго я тебя не задержу.
– Хотя бы и надолго, милости прошу! Доброму гостю я всегда рад, отколе бы он ни приехал,– промолвил Федор Андреевич, с легким поклоном пропуская посетителя в хоромы.
– Федор Андреевич,– сказал Карач-мурза, когда в приемной горнице Звенигородского князя они уселись на скамьи, по бокам стола, крытого расшитой малиновой скатертью,– не в моем обычае лукавить и ходить окольными путями, да и о тебе слыхал я от людей то же. А потому скажу сразу и напрямик: я сын родича твоего, покойного князя Карачевского, Василея Пантелеевича.
– Сын Василея Пантелеича, убивца моего отца! – вскричал пораженный князь Федор. – Так вот отколе мне твое обличье знакомо! И ты не побоялся сюда приехать?
– Видишь, не побоялся, ибо совесть моя чиста. И мыслю я так: отцы наши давно мертвы и их уже Бог рассудил. Мы же им не судьи и за них друг перед другом не ответчики. А коли ты мыслишь инако,– я в твоей власти: приехал один и неоружный.
– Что же, в том твоя правда,– не сразу ответил Федор Андреевич,– за грехи отцов негоже вымещать на детях. Я зла против тебя не имею и доверия твоего не обману: с миром приехал, с миром и уедешь. Но тоже скажу напрямик: и радости особой от встречи нашей во мне нет.
– Я тебя понимаю, князь,– промолвил Карач-мурза, поднимаясь с места,– а потому…
– Да нет, ты погоди… Скажи хоть о себе,– все же ты мне племянник… Ты что же – русский или татарин?
– Я на то ответить и себе еще не сумел. Родитель мой женился на ордынской царевне и погиб от воровской стрелы, когда мне и году не было. Мой дед – татарин, великий хан Чимтай, меня воспитал и дал улус. Но был у меня и иной наставник,– друг моего отца покойного, Никита Толбугин, который не дал мне забыть, что я сын русского князя,– продолжал Карач-мурза, едва удержавшись от улыбки, когда князь Федор засопел, как медведь, услышав имя Никиты, – ныне зовет меня на службу князь великий Дмитрей Иванович, и, быть может, уже недалек тот день, когда перееду я в Москву. Орда вскормила, но Русь моему сердцу ближе.
– Так… Ну, а ко мне ты почто пожаловал?
– Ты, должно быть, слыхал, Федор Андреевич, о духовной грамоте прадеда моего, а твоего деда, князя Мстислава Михайловича?
– Вестимо, слыхал. Ну и что?
– Я приехал спросить: не у тебя ли эта грамота?
– А зачем она тебе снадобилась?
– Ты знаешь: хранилась она в моем роду, как в старшем, и ныне по праву принадлежит мне, потому и ищу ее. Что в ней написано, тебе, чай, ведомо. У тебя она ничего не отымает и ничего тебе не дает: твой род как володел Звенигородом, так и остается им володеть.
– Нет у меня той грамоты,– после довольно долгого молчания сказал князь Федор. – А и была бы, все одно я бы тебе ее не отдал… Святослава Титовича я сам не люблю: пакостный и подлый он человек. Но не хочу и того, чтобы сызнова начались тут усобицы. С тою грамотой наведешь ты сюда своих татар либо Москву и зальешь наши земли кровью. Я такому не пособник.
– Я и в мыслях того не имею!
– Хотя и так. Сказано тебе: нет у меня той грамоты.
– Коли нет, говорить не о чем. Оставайся здоров, княже!
– Будь здоров и ты,– холодно ответил Федор Андреевич, вставая, чтобы проводить гостя. – Да ежели ты вправду собрался служить князю великому Дмитрею Ивановичу,– поспешай, ныне самое время: утресь прискакал гонец с вестью, что московская рать пошла на Тверь.
Часть 3 Глава 35
Весь долгий путь от Звенигорода до Сарая-Берке Карач-мурза провел в глубоких размышлениях. Из памяти его не выходили слова старика Алтухова, обращенные к нему: «Да в сердце-то своем ты кто – русский или татарин?» И он чувствовал, что правильный и честный ответ на этот вопрос нужен прежде всего ему самому. Но нелегко было найти этот ответ!
В мыслях его беспорядочно вихрилось множество впечатлений, полученных от поездки на Русь, проплывали картины виденного, возникали образы людей, с которыми столкнула его судьба. Вспоминались полные удивительных откровений беседы с митрополитом Алексеем, разговоры с князем Дмитрием и с его соперником, князем Тверским, рассказы старика Софонова о далеком прошлом и все то новое и неожиданное, что он узнал и услышал.
Закрывая глаза, он как наяву видел перед собой бревенчатые стены Карачева, бывшие когда-то оплотом власти и силы его отца, а ныне вынужденные охранять покой и безопасность подлого врага и от времени ставшие черными, как душа их нового хозяина… Но еще чаще память уносила его в Кашаевку, а сердце, тайком от разума, бережно хранило каждое слово, каждую улыбку Ирины… Разве не оказалась она его родной сестрой? Разве ее мать и отчим, тридцать лет живущие воспоминаниями об его отце, или слепой воевода Алтухов,– заплакавший от радости, когда узнал, что перед ним стоит сын князя Василия,– могут быть для него чужими людьми, гяурами?! Тысячу раз нет! А если так,– ответ найден: он русский! Он не Карач-мурза, как его почему-то назвали, а князь Иван Васильевич Карачевский. И под действием таких доводов он не раз бывал близок к тому, чтобы повернуть своего коня в сторону Москвы.
Но сейчас же в мыслях вставали новые видения и лица: мать, жена, сыновья… «Должно быть, дети уже подросли,– c нежностью думал он.– Когда я уезжал из Ургенча, Рустем только начинал ходить, а теперь, поди, на коне скачет… Надо бы повидать их, давно дома не был». И эти образы не исчезали, настойчиво защищая свое законное право на место в его сердце и как бы спрашивая г упреком: «А мы как же? А мы для тебя кто: чужие? Поганые?!» И, понурившись под тяжестью этих противоречий, Карач-мурза продолжал свой путь в Орду.
В конце концов он пришел к решению, которое, хотя и не разрешало роковой вопрос во всей его сложности,– должно было послужить проверкой его чувств и приблизить к выходу из тупика: сделав хану Азизу-ходже доклад об исходе возложенного на него поручения, он отпросится в Ургенч, для свидания с семьей, а там поживет и подумает. И если почувствует, что даже в кругу родных и друзей сердце продолжает звать его на Русь,– заберет жену и детей и отправится в Москву, на службу к князю Дмитрию Ивановичу.
Однако неожиданные и грозные события в Орде не позволили Карач-мурзе осуществить это намерение: доехав до Волги, он узнал, что несколько дней тому назад великий хан Азиз-ходжа был убит в очередной усобице и что на его месте сидит теперь хан Джанибек Второй, из золотоордынской династии', которому передались все темники Азиза, за исключением трех или четырех, ушедших со своими туменами в далекие степные кочевья.
Услышав об этом, Карач-мурза призадумался. Хана Джанибека он совершенно не знал, как белоордынский царевич – ничего хорошего от него ожидать не мог и служить ему не собирался. Но что же делать? Ехать в Сыгнак, к Урус-хану, находившемуся в острой вражде со всей его ближайшей родней, тоже было рискованно и неприятно. Возвратиться в Москву или отправиться в Хорезм, к семье, бросив на произвол судьбы своих людей и боевых товарищей, быть может находящихся сейчас в беде и ждущих его? – Так может поступить лишь жалкий трус, недостойный звания воина!
Самым правильным казалось ему удалиться к себе в улус по примеру многих удельных ханов, не подчиняясь пока никому ожидать установления в Орде твердой и прочной власти.
Но прежде того следовало выяснить судьбу своего тумена, который, уезжая на Русь, он передал старшему из тысячников, Кинбаю. Не предвидя таких событий, Карач-мурза но дал ему никаких особых указаний на этот случай, но он но сомневался в том, что умный и преданный ему старик не польстился на подкуп и добровольно на службе у чужого хана не остался. Но кто знает,– может быть, его к тому принудили силой или даже убили?
*Джанибек Второй был внуком Джанибека Первого, видимо сыном Науруза.
Надо было все это узнать как можно скорее и, в зависимости от полученных сведений, принять то или иное решение. И Карач-мурза, больше не раздумывая, направился к ханской столице.
Из предосторожности он въехал в город в самый людный час, смешавшись с толпой торговцев и ремесленников, спешивших на базар, и остановился в скромной чайхане довольно отдаленного от центра квартала, где его никто не знал. Здесь все открыто судачили о случившемся, но о судьбе отдельных туменов никто ничего не знал, а потому, едва начало смеркаться, Илья отправился на разведку, к тому дому, который Карач-мурза занимал до отъезда,– рассчитывая найти там кого-либо из своих воинов или слуг.
Не прошло и часа, как он возвратился в сопровождении молодого, коренастого и белозубого татарина, который радостно приветствовал своего князя низким поклоном. Это был Рагим, сын тысячника Кинбая, хорошо известный Карач-мурзе и служивший десятником в его тумене.
– Я рад тебя видеть, Рагим,– промолвил Карач-мурза в ответ на приветствие воина.– Надеюсь, что твой почтенный отец находится в добром здоровье и что ты принес от него вести, которых я жду?
– Мой отец, благодарение великому Пророку, здоров и, как всегда, предан тебе, пресветлый оглан. Призывая на тебя щедрые милости Аллаха, он повелел мне, с десятком воинов, ожидать здесь твоего приезда и передать тебе его новости.
– Говори!
– Когда нечестивый хан Джанибек, да поразит его Аллах крымской болезнью, подступил к городу со своим войском, подкупленные им темники сразу убили великого хана Азиза-ходжу и приняли Джанибека как своего повелителя. Только лишь ак-ордынские ханы, родственники Азиза-ходжи, ничего не знали о готовящейся измене. Один из них, благородный Булгай-оглан, находившийся при особе великого хана, пал вместе с ним под мечами убийц. Другие были в степи, при своих туменах. Новый хан сразу послал к ним гонцов, обещая всем свою милость, если они добровольно перейдут к ному на службу. Но никто из них не поверил этой золотоордынской собаке: Ильбани-хан и Алахан отвели свои тумены к низовьям реки Джаика, Хаджи-Черкес откочевал на юг, а хан Айбек, младший брат Азиза-ходжи, пошел к Тоболу. При нем находится и хатунь Тулюбек-ханум, которая чудом избежала участи своего пресветлого супруга и с помощью Аллаха сумела бежать из города…
* Крымской болезнью называли тогда проказу.
– Ну, а наш тумен? – нетерпеливо перебил Карач-мурза.
– Наш тумен кочевал в степи, в шести фарсахах от Сарая. К моему отцу тоже прискакал гонец от Джанибека, обещая ему щедрую награду, если он присягнет новому хану. Но отец сказал, что начальствует над туменом временно и будет ожидать твоего приезда и твоих приказаний. Он сделал вид, что останется на том же месте, но едва уехал гонец,– поднял тумен и ушел вместе с Айбек-ханом, кочевавшим поблизости.
– Куда же они пошли?
– До реки Миаса они решили, ради безопасности, двигаться вместе, а дальше Айбек-хан отправился один; отец же отведет тумен в твой улус и там будет ждать тебя.
– Ну, спаси тебя Аллах, Рагим,– выслушав все, сказал Карач-мурза.– Твой отец поступил правильно и тем еще раз доказал свою мудрость и верность. Я этого не забуду. А ты отправляйся теперь к своим людям и ночью приведи их сюда. На рассвете мы выступим и коней жалеть не будем!
Глава 36
Воет, надрывается холодный осенний ветер,– первый гонец и глашатай всемогущей Белой Царицы,– расчищает путь снежному воинству своей госпожи. Яростно клонит вниз неокрепшие стволы молодых березок, срывает с деревьев последние желтые листья и метет их по темной земле неизвестно куда. В ином затишке упрется, зацепится за кочку жухлый чистик, и тотчас, будто поверив в свою общую силу, начнут к нему лепиться другие, нагромождаясь целою кучей.
Но какая уж сила в единении хилых и обреченных? – Разнится, налетит на кучу безжалостный ветер, завихрит ее лютым смерчем и, вздыбивши высоко в небо, швырнет в разные стороны…
Не спесивясь более, мертвые листья безвольно кружатся воздухе, оседают на плоские крыши и на покрытые осенней грязью улицы городка, прижавшегося к берегу Миаса. Мал и неказист городок,– сотни полторы глинобитных или сложенных из камня домиков да вьющийся вокруг, по земляному валу, почерневший бревенчатый тын. Но и того бы здесь не было, не занеси судьба в этот дикий край, лет тридцать тому назад, чужого, русского князя. Вздумал он строить этот городок, чтобы каким-то делом заглушить злую тоску по родной земле,– построил и в память своего отчего города назвал его Новым Карачевом. Но сколь ни рвался он душою в Карачев старый,– видно, на роду ему было написано оставаться тут вечным жителем: вон, поодаль, чернеет на кургане высокий дубовый крест,– спит под ним князь Василий непробудным сном. Но городок, им поставленный, не умер. Заселили его татары и, чтобы было полегче и попонятнее, стали называть Карачелем.
Мало что изменилось тут со времен князя Василия. Разве что прибавилось дюжины две таких же приземистых, невзрачных домишек, да по повелению нового владетеля улуса, Карач-мурзы-оглана,– лишь однажды заглянувшего сюда на короткий срок,– выросла посредь города скромная каменная мечеть и при ней небольшая школа, где старенький мулла, когда не слишком докучали ему боли в пояснице, обучал грамоте десятка полтора татарчат.
Ничем не взял Карачель,– небогат городишко,– но во многих татарских улусах и такого нет. Величаться ему нечем, да он и не величается, не бьет путнику в глаза никакими затеями, даже и казать-то себя не любит: летом прячется под густою листвой деревьев, а осенью так приладятся его мазаные домишки к поблекшему цвету берега, что только по черному тыну и можно распознать городок.
Так оно было, так оно будет. Но сейчас все тут выглядит по-иному: в один день прибавилось тысяч тридцать жителей,– а было их здесь не более пятисот. Подошли два тумена конницы, за ними обозы с семьями воинов, и маленький каменный городок сразу оброс огромным городом войлочным, раскинувшимся по берегам реки в обе стороны, насколько хватает глаз. Куда ни глянь,– всюду стоят кибитки, шатры и юрты, большие и малые, нарядные и замызганные, белые, серые, желтые, черные…
А одна юрта, что стоит на бугре, окруженная плотным кольцом других,– не юрта, а целый походный дворец: синие войлочные стены ее, расшитые серебряными драконами, плотно натянуты на легкий, но прочный бамбуковый остов.
У входа – высокий шест с золотым полумесяцем наверху, а на нем семь белоснежных конских хвостов: бунчук великой хотуни Тулюбек-ханум. По бокам – парные стражи, в кольчугах и островерхих шлемах, двое с копьями, двое с обнаженными кривыми мечами.
Носится по степи осенний ветер, леденит путнику кровь. Но в роскошном шатре татарской ханши тепло и уютно. Стены его изнутри увешаны драгоценными тканями, пол застелен пышным узорчатым ковром, ласкающим ногу, как соболий мех; по ковру раскиданы шелковые подушки, у боковых стен поставлены низкие диваны – оттоманки; с потолка, на серебряной цепи, свисает масляный светильник золотисто-розового стекла, в виде лотоса; под ним, на полу,– затейливый бронзовый мангал, полный искрящихся червонным жаром углей. Время от времени бесшумно появляющаяся рабыня подбрасывает в него шарики душистых смол и раздувает темнеющие угли пристроенным сбоку мехом.
Тешит глаз богатое убранство шатра, хорошо тут сидеть, когда рыщет снаружи неугомонный ветер! Много золота и много жизней отдано за то, чтобы окружить прекрасную хатунь Тулюбек-ханум всем этим уютом. Сотни воинов сложили свои головы, отбивая у маньчжурского хана синюю юрту с драконами; долгие месяцы, теряя людей и верблюдов, шел через горы и пустыни караван с этими тканями из далекой Индии; не одна бухарская женщина, приступив к работе на заре своей жизни, успела поседеть и ослепнуть, пока был закончен этот огромный ковер. А за розовый лотос-светильник отдал Азиз-ходжа фряжскому купцу столько дирхемов, сколько в том светильнике поместилось.
Но сейчас не радует все это великолепие молодую женщину, лежащую на одном из диванов, закинув за голову руки. Еще месяц тому назад – великая хатунь и любимая супруга могущественного повелителя, сегодня она лишь жалкая беглянка, без спросу поставившая свой шатер на земле чужого улуса. Чего может она ждать от будущего? Положения второстепенной жены в гареме пьяницы Айбек-хана? Ну, пусть Даже не второстепенной, а главной,– уж это бы она сумела…
Фрягами называли тогда итальянцев.
Нет сомнения, что Айбек хочет взять ее в жены не только в силу обычая, – как ближайший родственник убитого Азиза-ходжи,– видно, что он и впрямь потерял от нее голову. Не зря же он всю дорогу ей надоедал и добивался ее согласия, ничуть не считаясь с тем, что до истечения пятидесяти дней вдовства с женщиной и говорить о том не пристало. Пусть так, пусть без ума от нее Айбек, но зачем он ей нужен? Владетель дикого и холодного Тобольского улуса, у которого не наберется и трех туменов войска, даже если он посадит на коней всех своих пастухов и подростков! Разве смеет он помышлять о захвате власти в Сарае, разве сможет он ей когда-нибудь дать хоть десятую долю тех богатств, могущества и блеска, к которым она привыкла? А если нет, то что ей за радость быть женой и утехой этого грубого, пропахнувшего лошадиным потом степняка, с кривыми ногами и с лицом, похожим на перезрелую тыкву? Правда, он помог ей вырваться из рук изменников и убийц, и не стоило его раздражать, покуда нужна была его защита. Но теперь, если только ей не лгут глаза и зеркало, в помощи Айбек-хана, пожалуй, больше не будет надобности…
Упругим движением поднявшись с дивана и отведя назад свои смуглые руки, Тулюбек-ханум потянулась всем телом, как бы желая проверить его безупречную гибкость. Потом с удовлетворением поглядела на маленькие ступни своих стройных ног, схваченных у щиколоток обшлагами розовых шальвар, оправила складки темно-зеленого, шитого жемчугом халатика и приблизилась вплотную к висящему на стене серебряному листу, отполированному до зеркального блеска и лишь по краям, в виде рамы, украшенному резьбой и драгоценными камнями.
Зеркало покорно и беспристрастно отразило прелестное, почти юное лицо, с огромными, завораживающими своей бархатной глубиной глазами, гордым разлетом тонких, черных бровей и маленьким, греховно-чувственным ртом. Нет, зеркало не лжет ей, не лгут и глаза! Тот, кто способен устоять перед ее красотою,– тот не мужчина! И она смело может рассчитывать на лучшего мужа, чем ничтожный и уныло-назойливый хан Айбек…
Но так ли ей нужен муж, даже могущественный и прекрасный? – думала она, снова ложась на диван.– Азиз-ходжа был красив и всесилен, он любил ее и не жалел для нее самых дорогих подарков. Но все же она была только его покорной рабой, его игрушкой. И в тот день, когда бы она ему наскучила, разве не мог он просто прогнать ее от себя, сделав предметом снисходительных сожалений и насмешек, или,– что еще хуже,– запереть в задних комнатах гарема, куда не ступает нога повелителя и где безотрадно доживают свой век нелюбимые и стареющие жены.
И разве всякий другой, кто станет ее мужем теперь, будь он даже великим ханом,– не оставит всю власть и все радости свободы и жизни себе одному, снова посадив ее, как птицу в золотую клетку?
Но ведь на царских тронах сидели и женщины! Разве после смерти Гуюк-хана не правила всей необъятной Монгольской империей его жена, Огуль-Гаймиш? Разве после Бату-хана не повелевала Золотой Ордой, хотя и недолго, хатунь Баракчина? Правда, обе они опирались на могущественную поддержку тех, кого дарили своей любовью… Они были мудры: если бы они согласились сделаться женами тех, чья поддержка была им нужна,– царствовали бы не они, а их мужья! И разве не может так же мудро поступить она сама, Тулюбек-ханум? Ведь она не только жена убитого великого хана,– в ней самой течет кровь Чингиса, она имеет двойное право царствовать!
Конечно, без помощи мужчины, обладающего умом, храбростью и силой, захватить власть в Сарае будет невозможно… Но разве не сказало ей это зеркало, что такой помощник у нее будет? И этим помощником должен стать, разумеется, не глупый хан Айбек, а тот, кого сразу указали ей и сердце и разум, едва только она начала обо всем этом думать…
На этом месте размышления ханши были прерваны появлением пожилой татарки, смотрительницы ее шатра. Низко поклонившись, она сказала:
– Пришел Айбек-хан, великая госпожа. Он желает тебе много лет счастливой жизни и просит позволения говорить с тобой.
– Пусть войдет,– с неудовольствием ответила Тулюбек-ханум, садясь на диване и оправляя халат и волосы.
Айбек– хан вошел. Это был высокий и грузный мужчина лет тридцати. Его некрасивое, побитое оспой лицо, сдавленное висков, и впрямь напоминало попорченную дождями тыкву.
– Привет тебе, прекраснейшая ханум! И да умножит Аллах красоту твою, если только это возможно,– прикладывая Руку ко лбу и к сердцу, вымолвил Айбек заранее приготовленную фразу.
– Пусть и к тебе будет Аллах неизменно милостив, благородный хан. Садись, прошу тебя!
Оглянувшись вокруг, Айбек ногою, обутой в зеленый сафьяновый сапог, подтолкнул к дивану ближайшую подушку и тяжело опустился на нее. С минуту он молча сопел, видимо собираясь с мыслями. Наконец Тулюбек не выдержала:
– Если меня не обманула моя служанка, ты желал говорить со мной? – напомнила она.
– Зачем мы здесь? – вместо ответа пробормотал Айбек.
– Я думала, ты это знаешь, хан.
– Что я знаю? Знаю, что ты этого хотела, и я уступил тебе. И вот мы зря теряем тут время, вместо того чтобы спешить и мой улус, пока нас не захватила зима.
– Я не могла продолжать путь, потому что почувствовала себя совсем больной. И должна была воспользоваться тем, что эмир Кинбай, от имени своего господина, предложил мне приют и отдых. Ты сам пожелал остаться здесь, со мной, но если ты спешишь, я тебя не держу: тут я в безопасности и нахожусь под надежной защитой.
– Но разве ты не будешь моей женой?
– Я уже говорила тебе, что пока не думаю о новом замужестве.
– Ты сказала, что не можешь о нем думать и не хочешь говорить об этом, пока не пройдет пятьдесят дней со смерти твоего мужа.
– Этот срок установлен обычаем, которого я не хочу нарушать.
– Но когда он окончится, ты согласишься стать моей женой?
– Когда он окончится, я дам тебе мой ответ.
– Хорошо. Ждать уже недолго, и, если ты не можешь сейчас ехать дальше, я останусь здесь, чтобы этот ответ услышать.
– Как тебе угодно, хан. Но помни: я ничего тебе не обещаю.
– Если тебе так дороги обычаи, я спокоен, ханум.
– О каком еще обычае ты говоришь?
– Я родной брат покойного Азиза-ходжи, да усладится его душа райским блаженством. И тот обычай, о котором я говорю, повелевает тебе стать моей женой.
– Не совсем так, благородный хан: обычай, о котором ты вспомнил, обязывает тебя взять меня в жены, то есть дать мне приют и защиту, если я в них нуждаюсь. Но никакой обычай не запрещает мне устроить свою жизнь иначе, например, навсегда остаться вдовой и до самой смерти оплакивать своего мужа… Именно это наиболее угодно Аллаху.
– Ты не сделаешь этого! – почти в ужасе воскликнул Айбек-хан.
– Может быть, и сделаю. Подумай хорошо, ханум! Если бы Аллах этого хотел, он не создал бы тебя такой красивой! Ты обидишь Аллаха, если не будешь пользоваться его дарами. Скажи, что будешь моей женой!
*В эту пору всех темников в Орде титуловали эмирами.
– Хан! Я уже говорила тебе много раз…
– Знаю, знаю, ханум! Я подожду. Но ты хорошо подумай!
– Я подумаю!
– Непременно подумай, много подумай, ханум! И ты сама поймешь… Зачем тебе всю жизнь плакать о том, кого все равно не возвратишь и кто теперь ласкает в раю прекрасных гурий? Тебе будет хорошо со мной… Ну, ну, не сердись, ханум, я уйду. Да умножит Аллах твою мудрость и да укажет Он тебе правильный путь!
Глава 37
Без всяких происшествий доехав до своего улуса, Карач-мурза был немало удивлен, увидев здесь такое многолюдное стойбище. Заметная издалека, синяя юрта с драконами была ему хорошо известна, а потому он сразу догадался, кто является его главной гостьей.
Это открытие ему приятно польстило. Он неоднократно видел Тулюбек-ханум в Сарае и раза три даже беседовал с нею на празднествах, которые устраивались во дворце Азиза-ходжи. Она всегда бывала к нему благосклонна, и он платил ей чувством почтительной симпатии. Услыхав от Рагима, что хатунь уехала из Сарая с ханом Айбеком, он был уверен, что она, согласно обычаю, почти не знавшему исключений, решила стать его женой. Почему же теперь она здесь, в Карачеле?
Чтобы получить точный ответ на этот вопрос и узнать все новости, Карач-мурза, не вступая ни с кем из встречных в разговоры и лишь короткими кивками головы отвечая на приветствия узнавших его воинов,– направил коня прямо к тому шатру, над которым развевался бунчук Кинбая.
Старый богатырь,– друг и побратим Никиты,– был еще бодр и крепок. Только лишь веточки морщин у глаз да короткая, почти белая борода говорили о его возрасте. Он знал Карач-мурзу со дня рождения и был его первым наставником в воинской практике Орды, но служба была службой: при виде вошедшего царевича он вскочил с места, поспешно надел на бритую голову тюбетейку и хотел опуститься на колени. Но Карач-мурза, искренне любивший старика, не дал ему этого сделать и, быстро шагнув вперед, крепко его обнял.
*У татар считалось неприличным разговаривать с начальником или старшим с непокрытой головой.
– Да хранит тебя Аллах, атай,– сказал он.– Рад видеть тебя в добром здоровье.
– Аллах велик и милостив, благородный оглан. Пусть же не будет такого дня, когда Он окажет кому-нибудь больше благоволения, чем тебе. Я тоже рад видеть тебя здоровым и веселым. Была ли удачной твоя поездка и не случилось ли с тобой чего-нибудь плохого в дороге?
– Все было хорошо, атай, и поездка моя была удачной. Но вот вижу, что, пока я находился в отъезде, не все шло удачно в Орде.
– Ты говоришь о том, что случилось в Сарае, оглан?
– Да. И прежде всего хочу поблагодарить тебя: ты действовал как мудрый начальник и верный друг.
Твои слова наполняют мое старое сердце радостью, милостивый оглан. Я всегда старался хорошо служить твоему почтенному отцу и тебе.
– Я это знаю, атай, и никогда этого не забуду. Но расскажи сейчас, что происходит здесь? Подъезжая, я видел юрты Тулюбек-ханум и хана Айбека. Для меня это большая честь. Но что привело их сюда?
Ты хочешь знать то, что мне известно, или то, что я думаю?
– И то и другое. Говори сначала, что тебе известно.
– Мне известно, что когда изменники, да покарает их справедливый Аллах, покончили с великим ханом Азизом-ходжой и бросились искать Тулюбек-ханум, – ее во дворце не оказалось. Говорят, что среди вельмож, участвовавших в заговоре, был один, который, зная, что хан Джанибек приказал перебить всю семью Азиза-ходжи, захотел спасти Тулюбек-ханум. В то время, когда другие убивали великого хана, он вывел ее, переодетую воином, из дворца и помог ей добраться до стойбища хана Айбека. На следующий день, пользуясь тем, что в городе шли расправы и грабежи, он сумел отправить туда же ее походную юрту, некоторые вещи и тех слуг, в преданности которых не могло быть сомнений.
– А ты не знаешь имени этого вельможи?
– Не знаю, оглан. Но кто бы он ни был, да воздаст ему Аллах за это доброе дело.
– Да будет так. Но рассказывай, что было дальше?
*Атай (ата) – отец, папаша,– почтительное обращение к старшему по возрасту и уважаемому человеку.
– Я ничего не знал о случившемся в Сарае, пока ко мне не приехал гонец от нового хана. Что он мне говорил и что я ему ответил, тебе уже рассказал Рагим. Как только этот гонец крылся из виду, я приказал тумену готовиться в поход, а сам поскакал к хану Айбеку, чтобы узнать, что он будет делать. Он кочевал в трех фарсахах от нас, и через час я уже был там. Хан мне сказал, что в его стойбище находится Тулюбек-ханум и что он, вместе с нею, решил уходить в свой улус. До Миаса нам было почти по дороге, и мы сговорились двигаться вместе. В тот же день мы выступили, и путь наш, благодарение Аллаху, был благополучен. На походе хатунь два раза милостиво беседовала со мной и расспрашивала о тебе, оглан. Всю дорогу она выглядела совсем здоровой, но когда нам оставался один переход до Карачеля, она позвала меня и сказала, что совсем разболелась, а потому не может продолжать путь с Айбек-ханом. Она выразила желание остаться у нас, пока ее здоровье не поправится, и спросила – думаю ли я, что тебе будет неприятно, если она поставит свою юрту возле Карачеля? Я ответил, что этого не думаю и, наоборот, уверен в том, что ты будешь рад оказать гостеприимство вдове своего бывшего повелителя.
– Ты ответил правильно,– одобрил Карач-мурза.-Дальше!
– Когда она объявила о своем решении Айбек-хану, он казался очень рассерженным и мне сказал, что должен тоже задержаться здесь, со своим туменом, пока хатунь не выздоровеет и не сможет ехать с ним дальше. На следующий день мы пришли сюда и стали лагерем. Вот все, что я знаю, оглан.
– Так… Ну, а теперь скажи, что ты думаешь?
– Я думаю, что хатунь Тулюбек не хочет продолжать путь с ханом Айбеком и не хочет ехать в его улус.
– Как? Разве она не будет его женой? Хан Айбек говорил мне об этом, как о решенном деле, я никогда не слыхал, чтобы хатунь это подтвердила.
– Но ведь, бежав из Сарая, она сама отправилась к нему стойбище!
– А куда еще она могла отправиться? У нее тогда не было выбора: она знала, что Айбек-хан, как брат убитого Азиза-ходжи, никогда не покорится хану Джанибеку и будет уходить. А на верность других темников она не могла надеяться. Это истина. Ну, что же, атай, посмотрим, что дальше. Так ты говоришь, хан Айбек был очень рассержен?
– Да, оглан. Это все заметили, а не только я.
– Я вот что думаю, атай: настают плохие времена, и кто знает, что еще может случиться? О праве и справедливости в Орде забыли, и все теперь решает сила. А потому нам следует как можно скорее собрать второй тумен.
Твоими устами говорит мудрость, оглан. Из одного волоса не совьешь аркана.
– Ты будешь командовать этим туменом.
– Да вознаградит тебя Аллах за эту новую милость, благородный оглан! Я так же верно буду служить тебе темником, как служил десятником, сотником и тысячником.
– Хватит у нас людей и лошадей?
– Лошадей хватит, а людей будет маловато.
– Найдем! Сейчас в Сарае и в степях, вокруг него, есть много хороших воинов, которые не хотят служить новому хану и пойдут к нам. Надо только послать туда надежного и ловкого человека, чтобы вербовать их и направлять сюда.
– Это будет сделано, оглан. Пошлю Рагима.
– Пошли немедля, атай. В помощь себе пусть возьмет десятка два людей по своему выбору. И Рагиму скажи, что если он быстро и хорошо справится с этим делом,– будет сотником в новом тумене.
– Это для него большая честь, пресветлый оглан.
– Он ее достоин.
– А сколько людей он должен собрать, оглан?
– Чем больше, тем лучше. Если будет очень много, составим и третий тумен. Ведь они почти все придут на своих лошадях и с оружием. А пастбищ и запасов у нас хватит.
– Будут ли еще какие-нибудь приказания, оглан?
– Нет, атай, это все. Прикажи ставить мой шатер рядом с шатром хатуни.
* * *
– Я ждала тебя, оглан, и твой приезд принес мне большую радость,– говорила Тулюбек-ханум, когда вечером того же дня, приведя себя в порядок после дальней дороги, Карач-мурза явился приветствовать свою высокую гостью.– Мне нужно о многом поговорить с тобой.
– Я слушаю тебя, благороднейшая ханум.
– Нет, не сегодня. Это будет важный и долгий разговор. Ты пока отдохни и осмотрись… Тогда ты и сам поймешь многое. А сейчас только скажи мне: я не причинила тебе неудовольствия своим приездом?
Ты им осчастливила, ханум, своего верного слугу, недостойного такой высокой чести!
– И ты не оставишь без помощи и защиты бедную вдову? – спросила хатунь, томно прикрывая глаза пушистыми ресницами.
– Приказывай, ханум, и располагай мною. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы угодить тебе и оградить твою безопасность, если кто-нибудь осмелится на нее посягнуть.
– Но ты, оказывая мне покровительство, можешь навлечь на себя гнев нового повелителя Золотой Орды.
– Я никогда не признаю своим повелителем этого подлого шакала и не боюсь его гнева,– с достоинством ответил Карач-мурза.
– Кому же ты будешь теперь служить?
Никому, пока не увижу на престоле великих ханов достойного человека.
– А если достойному человеку нужна будет помощь, чтобы взойти на этот престол?
– Ты говоришь о хане Айбеке, хатунь? – без обиняков спросил Карач-мурза, которому показалось, что он понял, куда клонит Тулюбек-ханум. Но она звонко расхохоталась, вся заискрившись при этом нежной, всепобеждающей прелестью шаловливой девочки.
– Чему ты смеешься, ханум? – с удивлением спросил Карач-мурза, смутно чувствуя, что эта женщина ведет какую-то свою, до конца продуманную линию и вместе с тем почти сознательно, с возрастающей легкостью поддаваясь ее обаянию.
– Как же мне не смеяться, оглан! Это Айбек-то достойный хан?!
– Я назвал его имя, ханум, потому что думал…
– Я знаю, что ты думал и что думают и говорят другие. Но я тебе,– пока только одному тебе,– скажу: я никогда не буду женою Айбек-хана.
– А он это знает, ханум?
– Он надеется на мое согласие. Я ему ничего не обещала, о пока не сказала и «нет». Для того чтобы сказать такому человеку «нет», надо иметь уверенность в том, что он не сможет увезти меня силон. А у меня такой уверенности до сих пор не было.
– А теперь, ханум?
– Теперь она появляется, благородный оглан,– с завораживающей улыбкой ответила Тулюбек-ханум.
***
Карач– мурза хорошо знал Айбек-хана, ибо не раз встречался с ним в Сарае, в то время когда оба они служили у великого хана Азиза-ходжи. Последний, умудренный горьким опытом многих своих предшественников, младшему брату не доверял и, не приближая к себе, держал его на должности обыкновенного темника, так что по положению они с Карач-мурзой были равны. Между ними не существовало дружбы или какой-либо близости, но не было и вражды.
Однако сегодня, когда, выйдя от Тулюбек-ханум, Карач-мурза отправился в шатер к Айбеку, встреча их оказалась довольно натянутой, Айбек, как брат великого хана, считал себя выше Карач-мурзы, но в то же время сознавал, что последний является здесь хозяином, а сам он – незваным гостем. Кроме того, смутно чувствуя, что Тулюбек-ханум не без каких-то своих причин пожелала остановиться в этом улусе и дождаться приезда Карач-мурзы,– он уже начинал ревновать ее.
После разговора с хатунью Карач-мурза, со своей стороны, понимал, что в будущем ему едва ли удастся избежать столкновения с Айбек-ханом, и уже был настроен, по отношению к нему, неприязненно. Но долг гостеприимства обязывал это скрывать, а потому, войдя в шатер, он сказал:
– Да будет к тебе милостив Аллах, благородный хан! Был ли благополучен твой путь сюда и не испытываешь ли ты сам или твои люди каких-либо неудобств или лишений на моей земле?
– Благодарю тебя, почтенный оглан, да не обойдет и тебя Аллах своими милостями! Путь мой был вполне благополучен, и я бы давно находился в своем улусе, если бы не заболела Тулюбек-ханум. Я оказался у тебя непрошеным гостем не по своей охоте.
– Ты оказал мне большую честь, и не будем больше говорить об этом. Надеюсь, что твоим воинам тут отведены удобные места для стоянки, а твоим лошадям хорошие пастбища?
– Эмир Кинбай о нас позаботился, оглан, и мы ни в чем не испытываем нужды. Я надеюсь, что нам не придется долго злоупотреблять твоим гостеприимством: как только выздоровеет хатунь, мы немедленно тронемся в путь.
– И ты, и Тулюбек-ханум мои гости. Каждый из вас может оставаться здесь, доколе захочет, и никто не уедет отсю -да раньше, чем сам того пожелает.
– Что ты хочешь этим сказать, оглан? – подозрительно спросил Айбек, не вполне понявший фразу Карач-мурзы, о почувствовавший в ней какой-то скрытый смысл.
– Я хочу сказать, хан, что законы гостеприимства для меня священны и я в нем никому не откажу, как и удерживать никого не стану против воли.
Айбек– хан, не отличавшийся гибким умом, и теперь не уловил сущности сказанного, но, поглядев на Карач-мурзу и увидев на его лице благодушную улыбку, он успокоился и примирительно сказал:
– Я понимаю тебя, оглан. И если бы не нужно было спешить, я бы и сам с охотою погостил у тебя подольше. Нас гонит отсюда не наша воля, а приближающаяся зима. А потому как только Тулюбек-ханум скажет, что она может ехать,– мы поедем.
– Я рад, что мы поняли друг друга, благородный хан,– с неуловимой для Айбека насмешкой в голосе ответил Карач-мурза.– Я именно это и хотел сказать.
Глава 38
Недели две прошли тихо, хотя под этой внешней оболочкой спокойствия вызревали и крепли страсти, готовые каждую минуту перерасти в события.
Тулюбек– ханум, находившаяся в постоянном общении с Карач-мурзой, все прочнее опутывала его сетями своих тонко рассчитанных чар и по мере того, как он поддавался им,-открывала ему те карты своей игры, которые можно было открыть. Наконец ему стало совершенно ясно, что она думает о захвате ханского престола в Сарае-Берке и нуждается для этого в его помощи.
Исходя из этого открытия, он, как человек умный и умеющий мыслить последовательно, прежде всего заключил, что Тулюбек-ханум, решительно отвергающая все домогательства Айбека, не согласится выйти замуж и за него самого,– несмотря на явно оказываемое ему предпочтение и ее очевидную благосклонность, пусть даже вполне искреннюю: она хотела царствовать и повелевать сама, а при наличии мужа это становилось невозможным.
Желая проверить – так ли это, он при первом же удобном случае довольно открыто дал ей почувствовать, что рад был назвать ее своей женой. Она предпочла не понять этого намека и тотчас перевела разговор на другое, из чего стало ясно, что он в своих предположениях не ошибся.
Понял он также и то, почему она в этом деле решила опереться на его помощь, а не на помощь хана Айбека: захватив Сарай, Айбек, конечно, сел бы на ханский престол сам тогда как Карач-мурза, как сын русского князя и чингисид только по материнской линии, в силу свято соблюдавшегося в Орде обычая, на это не имел права.
Вначале затея Тулюбек-ханум показалась ему простым ребячеством, неосуществимым капризом легкомысленной и избалованной женщины. Но с каждым новым разговором, неизменно обнаруживая в ее рассуждениях много ума и здравого смысла, а одновременно все сильнее подпадая под власть ее обаяния,– он начал изменять свое первоначальное мнение и расценивать ее планы как нечто разумно обоснованное и практически осуществимое.
«Почему бы и нет? – думал он.– Разве это будет первый случай? Ведь и другие женщины правили государствами. И если быть справедливым,– она имеет на золотоордынский престол больше прав, чем все те ничтожные и недостойные уважения ханы, которые теперь будут пытаться выгнать Джанибека из Сарая и сесть на его место. И уж наверное Тулюбек-ханум сумеет править не хуже любого из них,– она, по крайней мере, умна. А если так, почему не помочь ей? Надо только хорошо подумать, как лучше всего взяться за дело, чтобы не провалить его».
Он принимался тщательно перебирать в уме всех заволжских улусных ханов, взвешивая их силы и возможности, учитывая общую обстановку в Орде и все те обстоятельства, которые могли способствовать успеху Тулюбек-ханум. И в свете этих размышлений в нем все тверже укреплялась уверенность в том, что ее намеренья вполне осуществимы и что он сумеет претворить их в жизнь. Грандиозность этой задачи постепенно увлекла его, как азартного игрока увлекает особенно крупная и рискованная игра. Когда все это в нем созрело, он заявил Тулюбек-ханум, что согласен оказать ей необходимую помощь, и они принялись действовать.
Прежде всего, нужно было освободиться от присутствия хана Айбека и сделать это, по возможности, без кровопролития.
Айбек был зол и мрачен, с каждым днем все более накаляясь. Он уже несколько раз говорил с хатунью, торопя ее с отъездом, но неизменно получал ответ, что она еще чувствует себя очень слабой и что если он спешит,– ему лучше продолжать путь, не ожидая ее. Все это казалось ему крайне подозрительным, но до того дня, когда она обещала сказать – согласна ли стать его женой, оставалось уже немного, и он рассудил, что благоразумнее всего подождать, не обнаруживая бушевавшего в нем гнева.
Ревность его тоже постепенно возрастала, но для открытого ее проявления пока не было серьезного повода: при встречах Карач-мурза всегда бывал с ним отменно вежлив и мелких грубостей, срывавшихся иной раз с языка у хана, казалось, не замечал. Шатер Тулюбек-ханум он посещал не чаще, чем сам Айбек, и никогда там долго не оставался.
Таким образом, дурное настроение Айбек-хана пока выражалось лишь в том, что он, разъезжая по стойбищу, с утра до вечера придирался к своим людям и жестоко расправлялся с каждым за самую ничтожную провинность.
Это обстоятельство не укрылось от Тулюбек-ханум и было ею использовано: она тоже начала появляться в лагере, ласково беседуя с людьми, проявляя о них заботу и делая мелкие подарки женам и детям воинов. Несколько раз она, в присутствии других, просила Айбек-хана о прощении провинившихся или о смягчении наложенных на них наказаний. Однажды устроила у себя в юрте достархан, на который, в числе прочих, пригласила всех тысячников Айбека и для каждого из них нашла несколько милостивых слов и обещаний.
Три дня спустя Карач-мурза устроил у себя уже настоящее празднество, на которое тоже позвал всех старших начальников Айбек-хана и угостил их на славу. Скрепя сердце таким же празднеством вынужден был ответить и Айбек-хан, что дало Тулюбек-ханум возможность еще раз беседовать с некоторыми из его приближенных. Затем начали устраивать пирушки тысячники и сотники, по очереди собираясь друг у друга, в больших количествах истребляя кумыс и делясь новостями н воспоминаниями. При этом, когда развязывались языки, все восторженно говорили о Тулюбек-ханум, хвалили Карач-мурзу, а об хане Айбеке, будто но молчаливому сговору, старались вовсе не вспоминать. Вскоре начались затяжные дожди, земля пропиталась влагой, и под тем предлогом, что юрта Тулюбек-ханум была поставлена наспех, на слишком открытом и оплывающем месте, – Карач-мурза отдал распоряжение перенести ее на заранее подготовленную, выложенную камнем и усыпанную песком площадку, в стойбище своего тумена. Свой шатер он приказал перенести туда же, предложив сделать это и Айбек-хану.
*Достархан – угощение сладостями, нечто вроде современной «чашки чаю».
Взбешенный Айбек тотчас отправился к Тулюбек-ханум надеясь, что она не согласится на то, что он считал самоуправством Карач-мурзы. Но хатунь кротко ответила, что здесь она сильно страдает от сырости и сама просила Карач-мурзу отвести ей лучшее место. Таким образом, Айбеку пришлось выбирать из двух зол: остаться на старой стоянке, оказавшись за версту от поставленных рядом шатров Тулюбек-ханум и Карач-мурзы, или оторваться от своего тумена и поселиться в лагере соперника. Он почти без колебаний избрал последнее и велел переносить свой шатер.
Между тем в Карачель начали прибывать люди, завербованные Рагимом. Он повстречал их немало еще по пути в Сарай. В ту мрачную для Орды пору всеобщей разрухи и нескончаемых ханских усобиц степи кишели бродячим людом, выбитым из колеи нормальной жизни: воинами, в силу различных причин оторвавшимися от своих туменов, людьми, уходящими от мести и от преследований, разоренными крестьянами и т. д. Всем им Рагим предлагал службу у Карач-мурзы, сытую жизнь, защиту, а в случае войны – богатую добычу. О Карач-мурзе шла в Орде молва как о хорошем и справедливом князе, улус его жил спокойной жизнью, а потому от такого предложения мало кто отказывался. Конные и пешие люди потянулись к Карачелю, своим примером и рассказами соблазняя по пути других и увлекая их с собой. Кинбай принимал этих пришельцев, каждому из них задавал несколько вопросов, затем приказывал снабдить их всем недостающим, и они поступали в распоряжение опытных десятников и сотников, выделенных из первого тумена. Как только позволяла погода, новичков выводили в степь, на воинские упражнения, в которых, впрочем, не было особой надобности: почти все они имели хорошую боевую подготовку, не говоря уж о том, что каждый татарин был прирожденным воином и с детства умел ездить на коне и владеть оружием.
Все, что нужно было теперь,– это приучить их к совместным действиям и к беспрекословному повиновению новым начальникам. И тут очень скоро поняли свою ошибку те, кто, полагаясь на рассказы о доброте Карач-мурзы, думали, что в этом отношении с них не станут многого требовать. К ним действительно относились справедливо и заботливо, но за малейшее нарушение дисциплины наказывали беспощадно. А одного воина, осмелившегося поднять руку на десятника, Карач-мурза приказал удавить на глазах у всех. После этого случая все подтянулись, и прибывающий в Карачель человеческий сброд начал быстро превращаться в крепкие воинские части.
Вскоре из них уже составились три первые тысячи, а людей с каждым днем являлось все больше. Но независимо от этого Кинбай собрал и вооружил для второго тумена еще пять тысяч воинов в своем улусе. Теперь силы Карач-мурзы почти вдвое превышали силы Айбека.
Наконец закончился и установленный обычаем срок траура Тулюбек-ханум. Айбек-хан с возрастающим нетерпением ожидал этого дня, но все же, чтобы не уронить своего достоинства, выдержал до вечера и, только когда стемнело, отправился в синюю юрту. В карман надетого, по этому случаю, роскошного кафтана, сшитого из драгоценной индийской парчи, он предварительно сунул очень дорогой перстень, который рассчитывал лично надеть сегодня на пальчик прекрасной ханши.
Когда он вошел, хатунь в смиренной позе сидела на диване. На лице ее застыло выражение полной отрешенности от всего земного, бездонные глаза тихо излучали печаль и кротость. Однако не очень тонко разбиравшегося в таких вещах Айбека ее вид явно обрадовал: он решил, что все это лишь внешние признаки той покорности, с которой она приготовилась отдать в его руки свою судьбу.
– Салам алейкум, прекраснейшая ханум! – довольно развязно сказал он, отвешивая положенный поклон.– Пусть Аллах сохранит тебя такою на тысячу лет, а мне позволит всегда любоваться красотой твоей!
– Алейкум салам, пресветлый хан,– тихим и ровным голосом ответила Тулюбек-ханум.– Если ты пришел, чтобы разделить скорбь с неутешной вдовой, прошу тебя, садись…
– Зачем делить скорбь? – возразил Айбек, подсаживаясь на подушку.– Ведь срок твоей печали уже окончился, ханум.
– Моя печаль бесконечна, благородный хан,– с тяжелым вздохом промолвила Тулюбек-ханум.
*«Салам алейкум» – мусульманское приветствие и «алейкум салам» – ответ на него. Пожелание друг другу мира.
– Я понимаю тебя, ханум. Но Азиз-ходжа находится теперь в садах блаженства, а ты осталась на земле…
– Я осталась на земле,– еле слышно повторила хатунь, опуская голову на грудь.
– И ты помнишь, какой сегодня день?
– Помню, хан…
– Тогда ты знаешь, зачем я пришел.
– Знаю, хан…
– Я ждал этого дня, ханум, считая часы и минуты. И теперь хочу скорее услышать то, что ты мне скажешь.
– Моя скорбь сегодня не окончилась, а удвоилась, достойнеший из ханов! – Ибо к печали по возлюбленному мужу,– да соединит нас снова всемогущий Аллах в жизни вечной,– сегодня прибавляется печаль от того, что я должна огорчить тебя: я не могу быть твоей женой.
– Я не верю этому, ханум! Ты хочешь напугать меня, чтобы потом сильнее обрадовать!
– Я не стала бы так жестоко шутить над твоим сердцем, хан.
– Ты не то говоришь, ханум,– растерянно пробормотал Айбек,– Ты, наверное, еще недостаточно подумала…
– Я много думала, хан. И вот повторяю: я никогда не буду твоей женой.
– Тогда я вес понимаю! – вскричал Айбек, побагровев до самой шеи и вскакивая с места.– Это Карач-оглан, да покарает его Аллах в той жизни, как я покараю в этой!
– При чем тут Карач-оглан? – с великолепно разыгранным удивлением вскинула на него глаза Тулюбек-ханум.– И что плохого сделал тебе Карач-оглан?
– Это он обошел тебя! И ты теперь хочешь стать его женой!
– Тулюбек-ханум рассмеялась коротким, почти беззвучным смехом. Потом оказала:
– Не смеши меня, хан, мое сердце умерло для веселья, Карач-оглан и слова не говорил мне об этом, так же как и я ему. И чтобы тебя успокоить, поклянусь памятью моего незабвенного мужа: я никогда не буду его женой, так же как и твоей!
– Что же это значит, ханум?
– Это значит, что я не буду больше ничьей женой. Я решила навсегда сохранить верность своему любимому мужу, которого призвал к себе Аллах… Я до конца дней моих буду оплакивать его память.
– Не говори так, ханум! – горячо воскликнул Айбек, внезапно обретая несвойственное ему красноречие.– За твои слезы Азизу-ходже, который наслаждается счастьем на небе и наверное хочет, чтобы и ты наслаждалась им на земле? Зачем твои слезы Аллаху, который добр и потому желает, чтобы все люди были радостны, а не печальны! Кому же тогда нужно, чтобы ты погубила свою красоту и свою молодую жизнь?
– Это нужно мне самой, добрейший хан. Я все эти дни испытывала себя и теперь убедилась в том, что мое горе неутешно и что только слезами и молитвами можно облегчить его…
– Подумай еще, ханум!
– Чем больше я думаю, хан, тем тверже укрепляюсь в своем решении.
Тогда лучше не думай, ханум! Забудь все, что ты сейчас говорила, и скажи, что будешь моей женой!
– То, что я тебе сказала, благородный хан, уже услышал Аллах. Неужели ты осмелишься оспаривать меня у Аллаха?
Хан Айбек сокрушенно умолк и минуты две надрывно дышал, переминаясь на месте и судорожно сжимая в кармане приготовленный перстень. Потом промолвил:
– Если так, ничего не сделаешь, ханум… Аллах сильнее меня. Но где ты будешь жить? И почему ты хочешь остаться в этом чужом улусе, вместо того чтобы поехать в мой, в улус брата твоего мужа?
– Я очень слаба, благородный хан, и не выдержу теперь такого трудного переезда. Разве ты хочешь, чтобы я умерла в дороге? Я останусь здесь, пока силы мои немного не окрепнут, а потом поеду туда, где тепло… В Сыгнаке у меня есть небольшой дворец. А после, может быть, переселюсь в Мекку…
– Хорошо, ханум, да исполнится воля Аллаха! Завтра я Уеду. Прощай, ханум!
– Да будет твой путь счастливым и да будет счастливой вся твоя жизнь, почтенный хан! Утром я выйду проводить тебя.
***
Когда Айбек ушел, хатунь вытянулась на диване, закинув на голову руки, и долго лежала неподвижно, временами улыбаясь каким-то своим мыслям. Потом, услышав сбоку шаги рабыни, вошедшей, чтобы подбросить углей в жаровню, не оборачиваясь, сказала:
– Лейла! Пройди незаметно в шатер Карач-оглана и скажи ему, что я сейчас же должна говорить с ним. Введешь ого через боковой вход: нужно, чтобы никто не увидел, как он войдет сюда.
Когда вошел Карач-мурза, Тулюбек встретила его счастливой улыбкой. Она казалась радостной и слегка взволнованной. Упуская многие подробности, она передала своему гостю сущность того объяснения, которое у нее произошло с Айбек-ханом, и добавила, что последний утром уезжает.
– Ну, что же, ханум, это хорошо,– выслушав ее, сказал Карач-мурза.– Теперь он больше не будет нам мешать, и мы сможем спокойно готовиться к своему походу. Воистину велика твоя мудрость, если ты сумела сделать так, что все окончилось мирно.
– Еще не окончилось, оглан… Он казался очень рассерженным, и мало ли что может выдумать ночью его глупая голова. К тому же он сейчас, наверное, выпьет с горя целый бурдюк кумыса, а пьяный он совсем теряет рассудок. Я боюсь его, оглан…
– Ничего не будет, ханум, спи спокойно! Я прикажу всем своим воинам быть наготове, и если он утром вздумает что-нибудь сделать…
– Утром не страшно, оглан! Он знает, что у нас людей гораздо больше
– Чего же ты тогда боишься, ханум?
– Я боюсь, что ночью он проберется сюда…– понизив голос, промолвила хатунь, устремляя на Карач-мурзу взгляд, полный смятенья и неги.
– Что ты, ханум! Ведь у входа стоят вооруженные стражи.
– А разве тебя видели эти стражи, когда ты вошел?
– Если хочешь, я прикажу своим воинам окружить твою юрту, ханум.
– Это будет смешно! Что станут говорить о нас люди!
– Что же тогда надобно сделать, чтобы ты была спокойна, хатунь? – спросил Карач-мурза, уже начиная догадываться, что именно надо для этого сделать, и садясь на диван, рядом с Тулюбек.
– Останься сегодня здесь, царевич, и постереги меня сам,– тихо вымолвила хатунь.– С тобою мне никто не будет страшен! – добавила она, обвивая его шею руками и бурно прижимаясь к нему.
***
Наутро Айбек-хана ожидал еще одни тяжелый удар: когда он приказал своему тумену складывать шатры и готовиться поход, к нему приблизились четверо из его тысячников и склонили головы.
– Чего вам еще? – грубо спросил Айбек, похлопывая по сапогу плеткой.
– Да ниспошлет тебе Аллах удачу во всем и да усыплет твои путь цветами радости, всемилостивейший хан,– сказал старший из них,– но наши воины не хотят идти с тобой.
– Бисмаллах! – закричал Айбек-хан, когда сказанное дошло наконец до его сознания.– Может быть, меня обманывают мои уши? Или вы, дети шайтана пришли ко мне пьяными?
– Он говорят не хотят идти?! Говорят, что останутся на службе у великой хатуни, хан. Все десятники и сотники тоже хотят остаться, и мы тоже хотим остаться, пресветлый хан!
– Да не допустит справедливый Аллах, чтобы хоть один на вас дожил до вечера! Вы отказываетесь повиноваться своему хану? Это измена!
– Тут нет никакой измены,– невозмутимо сказал один из молчавших до сих пор тысячников.– Ты был нашим темником, и все мы служили великому хану Азизу-ходже. Теперь Азиз-ходжа убит, да упокоит его Аллах в садах блаженства,– но великая хатунь, его благородная супруга, жива и находится здесь. Мы хотим продолжать службу ей и тебе не обязаны повиноваться, если ты ее оставляешь.
– Я не оставляю ее, бельмес! Это она нас оставляет!
– Ни я, ни вы больше не нужны великой хатуни: она отсюда поедет в Сыгнак и там будет оплакивать своего мужа!
– Мы будем сопровождать ее в Сыгнак, хан.
– Она не хочет, чтобы вы ее сопровождали!
– Если сама хатунь скажет, что не надо, тогда другое дело.
– Я не скажу вам этого, мои добрые воины,– раздался спиной Айбека ласковый голос Тулюбек-ханум, которая, услышав крики, вышла из своей юрты и молча наблюдала за происходившим.
– Путь в Сыгнак далек и опасен, мне нужна будет надежная охрана. А потому каждый, кто хочет служить, может остаться и рассчитывать на мою милость.
– Но это же мои люди, хатунь! – вскричал пораженный и возмущенный Айбек-хан.
– Эти воины говорят, что ты был только их темником благородный хан,– холодно ответила Тулюбек-ханум, – аслужили они моему незабвенному супругу. И я думаю, что служить теперь мне – не только их право, но и долг. Однако, если тут действительно есть твои люди, которые пожелают идти с тобой, я никого из них не стану удерживать.
– Посиневший от ярости Айбек-хан несколько секунд тупо глядел на хатунь, потом швырнул плетку на землю и, круто повернувшись исчез в своем шатре.
Слова великой хатуни мгновенно разнеслись по всему стойбищу, которое разом всколыхнулось и загудело, как потревоженный медведем улей. Теперь каждый волен был сам решать свою судьбу и выбирать между Тулюбск-ханум и Ай-беком, не опасаясь гнева последнего. Еще две тысячи пожелали остаться в полном составе, от других отходили отдельные воины, десятки и целые сотни, присоединяясь к остающимся. Час спустя, когда все эти передвижения закончились и всадники, не захотевшие покинуть Айбека, отъехали в сторону,– все увидели, что их осталось не больше двух тысяч.
Когда хану доложили об этом и сказали, что его люди уже сидят на лошадях и ожидают приказа о выступлении,– он злобно выругался, вышел из шатра и вскочил на поданного ему коня.
– Пошел вперед!! – не глядя ни на кого, заорал он своим всадникам. Потом, ощерившись, как волк, обернулся к синей юрте, возле которой спокойно стояли рядом Тулюбек-ханум и Карач-мурза, и, потрясая плетью, крикнул:
– А тебе, хатунь, и тебе, мурза, я этого не забуду! И когда Аллах столкнет нас на узкой дороге, не ждите от меня пощады!
В ответ на это Карач-мурза презрительно усмехнулся, а Тулюбек-ханум насмешливо помахала удалявшемуся Айбеку рукой.
Глава 39
Вскоре план овладения столицей великих ханов был выработан Карач-мурзой и Тулюбек-ханум во всех подробностях, а к осени следующего года они уже были готовы к его осуществлению.
Весь минувший год прошел для них в кипучей деятельности, которая развивалась по двум направлениям: прежде всего нужно было собрать достаточную воинскую силу, но не менее важно было найти и купить пособников в самом Сарае-Берке.
Первую задачу взял на себя Карач-мурза. С теми восьмью тысячами, которые не пожелали следовать за ханом Айбеком, в его распоряжении оказалось уже почти три тумена, кроме того, Рагим усиленно и успешно вербовал воинов в окрестностях Сарая. Зимою, вследствие дальности и трудности пути, их прибыло в Карачель не много, но весною и летом они начали являться в таких количествах, что к августу набралось еще полтора тумена. Осенью приток людей ослабел, но не прекратился, и это позволяло надеяться к началу похода довести общую численность войска до пятидесяти тысяч всадников, что Карач-мурза считал вполне достаточным.
Чтобы все эти приготовления не бросались посторонним в глаза и не поползли слухи о том, что в небольшом Исетском улусе собирается такая крупная орда. Карач-мурза все пять туменов распределил порознь, по отдаленным друг от друга и скрытым в глубине улуса кочевьям, приказав начальникам не жалеть времени и труда на боевую подготовку подчиненных им людей. Часто он и сам неожиданно появлялся то в одним, то в другом тумене, оставался там но несколько дней, присутствуя на скачках и состязаниях воинов в умении владеть оружием, щедро награждал отличившихся и наказывал нерадивых.
Но если можно было держать в тайне количество собранных в улусе войск, то, разумеется, нельзя было скрыть того обстоятельства, что воины сюда стекаются со всех сторон. На этот случаи был распущен слух, что после ссоры с Айбек-ханом, опасаясь его нападения, Карач-мурза увеличивает свои Силы. Это казалось вполне правдоподобным потому, что о происшествиях в Карачеле все знали, да и сам Айбек усиленно пополнял ряды своего поредевшего воинства.
Рагим, все время находившийся в Сарае и присылавший оттуда людей, теперь получил и другое задание: имея в своем распоряжении несколько надежных помощников и связавшись с другими участниками заговора, завербованными на месте – он должен был наблюдать за всем, что делается в столице, и немедленно сообщать в Карачель все важные новости. Под видом отдельных, кочующих в степи татарских семей по всему пути – на расстоянии тридцати – сорока верст друг от друга – были расставлены посты, на которых сменялись лошади и гонцы, ехавшие с новостями. Таким образом, весть, без малейшей задержки летевшая днем и ночью на предельной скорости коня, пробегала более полутора тысяч верст и обычно доставлялась в Карачель на пятый день.
Тулюбек– ханум тоже не потеряла этого времени даром. Среди влиятельных людей в Сарае оставалось несколько человек, если и не вполне ей преданных, то, во всяком случае, многим ей обязанных в прошлом и могущих, при ее воцарении, ожидать для себя великих выгод в будущем. В их числе находился и дворцовый букаул Улу-Керим,-тот самый вельможа, которому Тулюбек-ханум была обязана своим спасением. Через засланных в Сарай людей хатунь вскоре узнала, что хан Джанибек не очень жалует Улу-Керима, из чего можно было заключить, что и последний не имеет особых причин для чрезмерной преданности своему новому повелителю. Очень скоро с мим была установлена связь, а несколько позже – посланы богатые подарки и даны такие заманчивые обещания, что Улу-Керим поклялся жизни не щадить ради успеха Тулюбек-ханум. Через него удалось приобрести в городе и даже в самом ханском дворце несколько других важных пособников, а самое главное – подкупить двух темников Джанибека, стоявших со своими туменами возле самой столицы.
Теперь все было подготовлено и оставалось только выбрать удачный момент для удара. На этом, главным образом, и строился успех всего дела, ибо у Джанибека войска было втрое больше, чем у Карач-мурзы. Правда, не все тумены были ему преданы. В ту пору нескончаемых ханских усобиц, падения нравов татарской знати и проистекающего отсюда развала Орды многие темники беззастенчиво промышляли тем, что продавали свои тумены тому, кто дороже платил. Собственные силы каждого из тех удельных ханов, которые теперь постоянно сменялись на саранском престоле, обычно бывали совершенно недостаточны для овладения столицей Золотой Орды. Но каждый из таких захватчиков заранее покупая нескольких темников царствующего хана, что и обеспечивало ему победу.
Так обстояло дело и теперь. Но Тулюбек-хавум смогла подкупить только двух темников Джанибека, ибо выяснилось, что прежде нее кто-то уже успел договориться с некоторыми другими. Не подлежало сомнению, что многие улусные ханы мечтали о захвате престола и деятельно к тому готовились.
*Букаул – вообще чиновник, ведающий распределением казенного имущества а добыч». Дворцовый букаул – заведующий дворцовым хозяйством а старшей смотритель дворца.
Тулюбек– ханум даже знала -кто именно, и через подосланных людей старалась быть в курсе действий своих соперников. Из наиболее серьезных таковых было четверо: Араб-шах, Айбек-хан, Ильбани-хан и Хаджи-Черкес. У первых двух сил еще было явно недостаточно, и их можно было пока не принимать в расчет. Ильбани-хан был сильнее: он сидел в городе Сараил-Джадиде и располагал четырьмя или пятью туменами. Но особенно опасным был Хаджи-Черкес. Это был самый крупный из удельных ханов: он владел вторым по значению городом Золотой Орды – Хаджи-Тарханью, который возник рядом с Сараем-Бату, теперь совершенно захиревшим. Заслав туда лазутчиков, Карач-мурза выяснил, что Хаджи-Черкес собрал большие силы и готов к походу. Одновременно Улу-Керпм сообщил из Сарая, что это именно оп подкупает темников Джанибека и через своих людей пытался также подкупить начальника дворцовой стражи и самого Улу-Керима. Получив эти сведенья, Карач-мурза и Тулюбек-ханум призадумалась. Было совершенно очевидно, что Хаджи-Черкес сильнее их и что опередить его едва ли удастся. Да и неблагоразумно было опережать: если бы им удалось захватить Сарай-Берке раньше, то в этом случае,– потеряв часть своих сил в сражении с Джанибеком и не успев еще закрепиться в столице,– им сейчас же пришлось бы выдержать удар хорошо подготовленного Хаджи-Черкеса, который, конечно, не упустит такого случая и не даст им окрепнуть.
Несравненно правильнее было поставить в такое положение самого Хаджи-Черкеса и уступить ему первенство в захвате города. Так и решили сделать. Улу-Керим был оповещен, что хатунь хочет подождать, чем окончится столкновение Хаджи-Черкеса с Джанибеком, чтобы потом внезапно обрушить свой удар на победителя. Всем находящимся в Сарае участникам заговора надлежало блюсти осторожность и против хана Черкеса открыто не выступать, чтобы сохранить свои и в том случае, если ему удастся овладеть престолом. Но в то же время следовало сделать все возможное, чтобы победа досталась ему подороже.
*Сараил– Джадид, называемый в русских летописях Сарайчиком -татарский город, стоявший в низовьях реки Урал, на 60 верст выше нынешнего Гурьева. Арабский путешественник Ибн-Батута, посетивший те места в середине XIV в., пишет, что тут существовал огромный наплавной мост, по которому караваны переходили Улу-Су – «Великую Воду»,называлось у татар нижнее течение Урала (выше эта река называласьДжаиком). Ныне на месте этого города стоит село Сарайчиковское.
**Хаджи– Тархань -Астрахань. Но у татар основная, укрепленная часть города находилась на правом берегу Волги и на несколько верст выше нынешней Астрахани.
В Хаджи– Тархань послали надежных людей, которые должны были наблюдать за всем, что там происходит, и немедленно оповестить Карач-мурзу, как только Черкес выступит в поход. Так как весть об этом важно было получить как можно скорее,-по всему пути расставили посты вестового гона, подобрав для них особенно быстрых и выносливых лошадей ( Такой пост у татар назывался ямом. Отсюда наши ямщики) . Дальнейшее теперь зависело только от действий Хаджи-Черкеса. Но время текло, а он ничего не предпринимал. Наконец в начале октября пришло известие, которое, казалось, опрокидывает все расчеты и предположения: Хаджи-Черкес передал управление улусом своему сыну Каганбеку, а сам, с небольшой группой приближенных и слуг, отправился на паломничество в Мекку. По случаю отъезда хан устроил в Хаджи-Тархани пышное празднество, которое продолжалось три дня, после чего огромная толпа народа проводила своего повелителя до первого ночлега.
В Карачеле, однако, сейчас же поняли, что все это лишь хитрость, рассчитанная на то, чтобы усыпить бдительность Джанибека и обрушиться на него внезапно. Это красноречиво подтверждалось тем шумом, которым хан Черкес постарался окружить свой воображаемый хадж. Карач-мурза ни минуты не сомневался в том, что со второго или третьего дня пути он повернет к тому месту, где уже приказал сосредоточиться своим войскам, и со всей возможной быстротой поведет их на Сарай-Берке.
Эта уловка, как будет видно из дальнейшего, не принесла Хаджи-Черкесу никакой пользы, но зато сильно помогла Карач-мурзе, ибо позволила ему выгадать несколько дней драгоценного теперь времени: от Карачеля до Сарая было почти вчетверо дальше, чем от Хаджи-Тархани, а к месту действии надо было поспеть почти одновременно. Немедленно был отдай приказ о выступлении в поход, и когда неделю спустя прискакал второй гонец с вестью о том, что орда Хаджн-Черкеса движется к Сараю, а впереди нее, на дорогах, ловят и задерживают всех путников, чтобы они не предупредили Джанибека.
*Хадж – паломничество и город Мекку, которое старался совершить каждый мусульманин хотя бы одна раз в жизни. Побывавший в Мекке имел право к своему имени прибавлять слово «хаджи». Его не следует смешивать со словом «ходжа», которое является наследственным титулом потомков первых четырех мусульманских халифов, преемников и сподвижников Магомета.
Все пять туменов Карач-мурзы прошли уже половину того расстояния, которое отделяло их от золотоордынской столицы.
Движение продолжалось быстрыми переходами, и к середине октября шатры Тулюбек-ханум и Карач-мурзы уже стояли на берегу реки Улу-Узень, в трехстах верстах от Сарая. Здесь было решено подождать известий от Рагима, а тем временем дать отдых измученным лошадям, благо вокруг расстилались богатейшие и никем не тронутые пастбища.
Новостей не пришлось ожидать долго. На второй день, под вечер, к шатру Карач-мурзы подскакал покрытый пылью всадник. Это был сам Рагим.
– Да вознесет тебя Аллах превыше всех владык земных, великая хатунь, и да умножит Он твою славу, пресветлый оглан,– едва не падая от усталости, промолвил он, когда его ввели в юрту Тулюбек-ханум. – Я скакал без отдыха, сменив а пути девять лошадей, чтобы вы узнали: вчера Хаджи-Черкес овладел Сараем и объявил себя великим ханом Золотой Орды.
– А хан Джанибек? – спросил Карач-мурза.
– Убит в сражении.
– Оно было жестоким?
– Да, оглан, а обе стороны понесли большие потери. Хаджи– Черкесу не удалось напасть на город врасплох: хана Джанибека кто-то предупредил и он успел приготовиться к защите.
При этих словах Рагима Тулюбек-ханум самодовольно улыбнулась: за год успев хорошо узнать Карач-мурзу и опасаясь, что такое дело покажется ему слишком грязным,– она, втайне от пего, послала гонца к Джанибеку, с предупреждением, что к городу приближается войско Хаджи-Черкеса.
– Расскажи все, как было,– приказала она.
– Хаджи-Черкес подошел к Сараю ночью,– сказал Рагим. – Один из темников, которых он подкупил, обещал открыть ему ворота, а другие заговорщики должны были убить во дворце хана Джанибека, как только услышат, что началась битва. Но ничего этого сделать они не смогли, потому что Джанибек узнал обо всем раньше и ушел из дворца. Когда приблизился Хаджи-Черкес, он уже находился среди верных ему людей, на городском валу, ожидая нападения. Хану Черкесу пришлось брать город приступом. Джанибек храбро защищался два дня и, может быть, отбил бы врага, если бы его не окружали изменники: вчера они впустили в Сарай Хаджи-черкеса. Потом еще резались на улицах до самого вечера, пока не был убит хан Джанибек. Но и Хаджи-Черкес потерял очень много людей.
Что же сейчас делается в Сарае? – спросил Карач-мурза.
В Сарае идет грабеж я пьянство, благородный оглан. Хаджи-Черкес позволил своим воинам три дня праздновать и грабить город.
– А где теперь два темника, которые обещали нам помочь?
– Они живы и помогут нам, оглан. Они заранее отвели свои тумены подальше от Сарая и потому не участвовали в сражении. Но как только Хаджи-Черкес победил, оба вернулись и изъявили ему свою покорность. Так как их тумены совсем не пострадали и не имеют права участвовать в грабеже, им приказано нести охрану на подступах к городу и на валу.
– Спасибо, Рагим! Ты хорошо нам послужил, и я тобою доволен. Получишь от меня двадцать пять коней и завтра примешь начальство над сотней. А теперь иди отдыхай и скажи эмиру Кинбаю, что я жду его.
– Хорошие вести, мой царевич,– радостно сказала Тулюбек-ханум, когда они остались одни.
– Хорошие, ханум-джан. Сейчас я прикажу поднять тумены и со всей быстротой, на какую способны кони, двигаться вперед!
– Сделай меня повелительницей Золотой Орды, и ты навсегда останешься повелителем моего сердца,– тихо вымолвила она, подходя вплотную и кладя ему руки па плечи. Через три дня ты будешь царствовать, ханум!
Глава 40
Кроме участников заговора, в Сарае никто не подозревал о приближении войска Карач-мурзы, потому что все городские ворота охранялись воинами тех туменов, начальники которых передались Тулюбек-ханум. Они задерживали всех, кто подъезжал с этой стороны и мог бы доставить Хаджи-Черкесу какие-нибудь тревожные известия.
На последнем переходе Карач-мурза с двумя десятками всадников выехал вперед, поздно вечером приблизился к Сараю и сам удостоверился в том, что Хаджи-Черкес не ожидает нападения и что все обстоит именно так, как ему доносили. Затем он встретился с подкупленными темниками, и они вместе выработали план захвата города.
Вскоре после полуночи, когда уставшие от трехсуточной грабежа и пьянства воины Хаджи-Черкеса уже храпели возле затухающих костров,– степь вокруг окутанной сном и мраком столицы великих ханов пришла в движение. Два спешенных тумена неслышно оценили город вдоль окружавшего его земляного вала, с тем чтобы не выпустить из Сарая ни одной живой души. За каждыми из городских ворот, на расстоянии полуверсты от них, было поставлено по нескольку тысяч конницы, с приказом ожидать условленного сигнала, по которому всем надлежало ворваться в город и приступить к его захвату, со всех сторон одновременно., поднимая при этом как можно больше шуму.
Когда все находились на своих местах и каждый знал, что надо делать,– через главные ворота въехал, впереди своего тумена, сам Карач-мурза и направился прямо к ханскому дворцу.
Длинная колонна всадников, шагом двигавшаяся во мраке в растекавшаяся но улицам. Чтобы выйти на дворцовую площадь с разных сторон, не вызывав никаких подозрений у тех немногочисленных горожан и воинов, которые в этот поздний час почему-либо не спали. Полупьяные воины полагали, что это просто какое-то передвижение охраняющих город отрядов, о котором знает начальство. Обыватели, напуганные трехдневными бесчинствами, ори проходе свежей, еще ни приобщившейся к грабежу воинской части менее всего склонны были поднимать шум и привлекать к себе внимание.
Лишь в одном месте произошла короткая заминка: уже недалеко от дворца голова тумена вышла на перекресток улиц, освещенный ярко горевшим костром, возле которого, кроме нескольких спавших воинов, оказалось и трое бодрствующих. Один из них, по-видимому десятник, увидев выезжающий из темноты отряд, заподозрил неладное. Он быстро вскочил на ноги и что-то крикнул своим товарищам. Но в ту же секунду шею его захлестнула петля аркана, а две минуты спустя около затоптанного костра остался лишь десяток трупов и и колонна спокойно продолжала свое движение.
Наконец, улица расширилась и вывела всадников на мощенную деревянными торцами площадь, по другую сторону которой высилась громада Алтын-Таша. Края огромной площади тонули во мраке, но возле главного входа во дворец пылал большой костер, при свете которого были хорошо видны десятка три тургаудов, охраняющих дверной портал и ведущую к нему низкую, но очень широкую мраморную лестницу. По бокам этой лестницы, так же как и на башнях дворцовой стены, горели вставленные в железные скобы факелы, красноватым пламенем освещающие фасад дворца.
*Алтын– Ташем шли Аттук-Ташем, назывался дворец великих ханов в Сарае. В переводе это означает приблизительно «3ояотвя Твердыня».
Все это раздосадовало Карач-мурзу, понявшего, что Алтын-Таш не удастся захватит врасплох. Впрочем, кто знает? Может быть, Улу-Кериму удалось подкупить часть стражи и стоящие на лестнице тургауды не окажут сопротивления? Чтобы выяснить это, он приказал головной полусотне следовать за собой, а всем остальным оставаться пока под прикрытием ночной тьмы.
При виде небольшого отряда, мирно выезжающего на освещенную часть площади, никто из дворцовой стражи вначале не обеспокоился. В ту пору ни один уважающий себя представитель татарской знати не выезжал из дому без свиты в несколько десятков нукеров, и это мог быть любой улусный хан или темник, явившийся из степи приветствовать нового повелителя Орды и изъявить ему свою покорность. Но все же, когда неизвестные всадники приблизились ко дворцу шагов на тридцать, старший из тургаудов поднял руку и громко приказал им остановиться.
Карач– мурза, ехавший первым, не обращая внимания на этот окрик, продолжал спокойно двигаться вперед, а за ним и все остальные. Тогда старший тургауд подал короткую команду,-тишину ночи тотчас расколол медный звук гонга, и все караульные, мгновенно сбежав с лестницы, выстроились перед нею в одну линию, ощерившуюся стальными жалами копий.
Почти одновременно распахнулись двери главного входа, и наверху появился начальник дворцовой стражи. Окинув взором происходящее, он, в свою очередь, повелительным голосом крикнул приближавшимся всадникам, чтобы они остановились. На этот раз Карач-мурза повиновался и придержал своего коня. Между ним и вышедшим вперед начальником стражи было теперь расстояние шагов в десять – двенадцать.
– Кто такие и почему лезете сюда ночью?
– Я Карач-мурза-оглан и со мною мои нукеры,– последовал спокойный ответ. – А почему приехал ночью, о том скажу самому хану Хаджи-Черкесу, которого желаю сейчас же видеть!
* Тургауды ханская гвардия.
– Я вижу, что тебе надоело таскать на плечах свою глупую голову,– крикнул вельможа, возмущенный такой неслыханной дерзостью.– Но ты избавишься от нее только утром: – Неужели ты мог подумать, что ради тебя я стану среди ночи будить великого хана, да ниспошлет ему Аллах сладкие сны?
– Никто тебя не просит его будить. Я сам это сделаю!
– Бисмаллах! Ты разбудишь великого хана?!
– Разбужу. И если тебе посчастливится дожить до утра, то ты увидишь, что он совсем не такой великий, как тебе кажется.
– Измена! – крикнул начальник стражи и, вырвав копье из рук ближайшего тургауда, с силою запустил его в Карач-мурзу.
– Вперед! – скомандовал последний, увернувшись от копья и выхватывая саблю. – Пустить огни!
В ту же минуту, разбрызгивая вокруг огненные искры, в черное небо взвились три стрелы, с подвязанными к ним пучками просмоленной и подожженной пакли. Это было сигналом к началу общего приступа. Очень скоро отовсюду, с окраин, уже послышались дикие крики, приближающиеся к центру города: при подобных налетах ордынцы всегда старались этими устрашающими воплями поколебать стойкость противника.
На дворцовой лестнице шла между тем жаркая схватка. На подмогу находившимся снаружи тургаудам выбежало из дворца еще с полсотни других, но значительная их часть сейчас же полегла под градом стрел, сыпавшихся из темноты на хорошо освещенную лестницу. Снизу на нее яростно наседала спешившаяся полусотня Карач-мурзы, действуя копья и саблями.
– Отходить внутрь! – крикнул своим начальник стражи, видя, что вся площадь быстро заполняется всадниками, которые окружают дворец.
Уцелевшие тургауды, под прикрытием небольшого заслона, бросились к дверям, в которых началась толкотня и давка. Когда все протиснулись внутрь, Карач-мурза находился уже в нескольких шагах от двери. Снаружи теперь оставалось не больше десятка сдерживающих натиск воинов. Решив, очевидно, пожертвовать ими, начальник, пятясь задом, собирал-' тоже шагнуть в узкий проем между закрывающимися створками дверей, когда к нему подскочил Карач-мурза.
– Погоди, бек, не уходи! Я еще не вполне насладился мудростью твоих поучений! – крикнул он, взмахивая саблей. Но ее удар обрушился лишь на захлопнувшуюся в этот миг дверь, за которую успел скрыться его противник.
Тотчас по ту сторону послышался скрежет и лязг цепей. Карач-мурза хорошо знал, что это означало: за наружной, окованной серебром дубовой дверью опустилась внутренняя, представляющая собой железную плиту толщиною в вершок. Ломиться сюда было теперь бессмысленно, а потому царевич снова спустился с лестницы, вскочил на своего коня и отъехал на середину площади, чтобы лучше оценить положение и высмотреть – откуда удобнее всего начинать приступ.
Алтын– Таш, хотя и был окружен гранитными стенами трехсаженной высоты, все же не являлся настоящей крепостью и был плохо приспособлен к обороне. Стены его наверху были не толще аршина и вдобавок шли зубцами, так что на них не могли располагаться воины, отражающие врага. Они помещались в небольших каменных башнях с бойницами, возвышающихся над стеной. Расстояния между этими башнями были не одинаковы. Со стороны площади они стояли в каких-нибудь десяти шагах одна от другой и промежутки между ними были хорошо освещены прикрепленными к башням факелами. Но боковые стены были защищены гораздо хуже и к тому же тонули в почти полном мраке.
Учитывая все это, Карач-мурза быстро наметил план дальнейших действий. Большому количеству своих людей он приказал сосредоточиться с западной стороны дворца и поднять побольше шуму, чтобы отвлечь туда главные силы осажденных, а сам, с двумя сотнями спешенных воинов, подошел к середине стены восточной. Здесь между двумя соседними башнями был совершенно неосвещенный промежуток шагов в тридцать. Приказав своим лучникам открыть стрельбу по бойницам обеих башен и приковать к себе внимание их защитников, сам он, с полусотней воинов, незаметно подобрался к подножию стены, в центре промежутка, где мрак был особенно густ.
Минуту спустя наверх взлетело несколько арканов, легко обвившихся вокруг каменных зубцов. И сейчас же по ним бесшумно полезли люди, стараясь не задерживаться на гребне стены, где их могли заметить, а немедленно перебрасывая арканы на другую сторону и спускаясь в темноту одного из внутренних дворов Алтын-Таша. Тут пока было совершенно безлюдно и тихо.
Карач– мурза, перебравшийся через стену одним из первых, очутившись на земле, сразу разобрался в обстановке. Он хорошо знал внутреннее устройство дворца и расположение служебных помещений, и эту часть стены выбрал не зря: тут находились дворцовые поварни и возле них имелись узкие, одностворчатые ворота, через которые вносились продукты с рынка.
Пытаться выломать их снаружи было бесполезно, так как они тоже были надежно защищены опускающейся сзади железной плитой, но отворить их изнутри было нетрудно, а потому Карач-мурза ощупью направился вдоль стены к этим воротам. Он их обнаружил довольно скоро. К его удивлению, железный заслон, который с наступлением темноты стража обязана была опускать, теперь был поднят, а сами ворота, когда он потянул их себе, оказались не запертыми.
«Наверное, Улу-Керим открыл»,– подумал Карач-мурза. Поставив десяток воинов у лестпицы, ведущей на ближайшую башню, и приказав им не выпускать оттуда никого, он распахнул ворота, и его люди, спешившиеся на площади, темным ручейком потекли во двор.
Когда неистовые крики заметивших это стражников, отрезанных в башне, привлекли сюда внимание других и на поваренный двор устремилось десятка три тургаудов с факелами,– тут уже находилось не меньше двухсот воинов Карач-мурзы. Поняв, что надо переходить к открытым действиям, последний выхватил саблю и бросился, впереди своих людей, на подбегавших тургаудов. В минуту они были смяты, и лавина нападающих с леденящими душу воплями хлынула изнутри во дворец, круша и рубя всякого, кто попадался на пути,
Вскоре были открыты и главные ворота, в которые ворвался с площади поток воинов, растекающийся по всем помещениям и дворам Алтын-Таша. Его защитники, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, один за другим бросали оружие и с повешенными на шеи поясами опускались на колени, чтобы этим знаком смирения купить себе жизнь. Карзч-мурза приказал никого зря не убивать, а главное – захватить живым самого Хаджи-Черкеса.
Его окружили в одном из залов дворца, где он забаррикадировался с десятком приближенных и, зная, что в таких случаях хану пощады не бывает, решил защищаться до конца.
Однако когда от имени Карач-мурзы им предложили сдаться,обещая в этом случае жизнь и свободный выезд из Сарая. Находившиеся с ним, за исключением одного, сохранившего верность до конца, заявили, что они сдаются. Им ответили, что Карач-мурза примет сдачу только всех вместе, включая и самого хана, или прикажет перебить всех до единого.
Хаджи– Черкес сдаться не пожелал. Тогда приближенные, пошептавшись между собой, разом набросились на хана и единственного преданного ему нукера и, обезоружив их, передал в руки победителей.
Несколько часов спустя, когда высоко поднявшееся солнце уже искрило ослепительным светом огромный золотой полумесяц, возвышавшийся над главным куполом Алтын-Таша, а в городе были подавлены последние очаги сопротивления,– два незнакомых нукера вывели Хаджи-Черкеса из темного чулана, в котором он был заперт с момента пленения, и привели его в престольный зал.
Стоявший на возвышении трон великих ханов Золотой Орды,– тот самый черный эбеновый трон, с подлокотниками в виде золотых драконов, на который Хаджи-Черкес впервые сел три дня тому назад,– теперь был донизу закрыт опущенным пурпурным балдахином. На верхней из трех ведущих к нему ступеней, покрытых драгоценным персидским ковром, подперев рукою подбородок, сидел Карач-мурза. Он был в белой шелковой чалме, заколотой спереди золотой застежкой с тремя крупными сапфирами, в кафтане из голубого с золотом изербафта и со сверкающей самоцветами саблей на боку,– подарком московского государя Дмитрия Ивановича.
В огромном и роскошно убранном зале никого не было, кроме победителя и побежденного. Они хорошо знали друг друга и даже находились в довольно близком родстве: Хаджи-Черкес, который был лет на двадцать старше Карач-мурзы, приходился последнему двоюродным дядей. Но между ними и их семьями никакой близости не существовало: среди чингисидов, за очень редкими исключениями, никто не доверял ближайшим родственникам, ибо такое родство прежде всего знаменовало собой приблизительное равенство династических прав, то есть особенно жестокое соперничество в борьбе за престол и власть.
Таким образом, Хаджи-Черкесу не на что было надеяться. Он был совершенно уверен в том, что не доживет до вечера и что Карач-мурза его уничтожит, точно так же, как и сам он уничтожил бы при подобных обстоятельствах любого свергнутого им хана. Этого требовало простое благоразумие, а потому Черкес в глубине души не осуждал племянника и приготовился умереть с достоинством.
*Изер – по-персидски золото, бафт – ткань. Так называлась персидская парча из плотной бархатной или шелковой основы, затканной узором из золотых или серебряных нитей.
Оставленный конвоирами посреди зала, он не склонил головы перед своим победителем, лишь мельком глянул на него, а йотом отвел глаза в сторону, с внешним равнодушием ожидая, что ему скажут. Взгляд его на мгновение задержался на толстой зеленой книге, изукрашенной золотою вычурыо и лежащей на высоком столике, в трех шагах от трона. Что это,– Коран так и не убрали отсюда с тех пор, как третьего дня вельможи и военачальники присягали на нем в верности ему, великому хану Хаджи-Черкесу? Или его принесли сюда снова, для того чтобы те же самые люди присягнули теперь Карач-мурзе?
– Я вижу, эта священная книга тебе о чем-то напоминает, хан? – с легкой насмешкой спросил царевич, перехватив его взгляд.– Может быть, о том, что ты плохо сделал, прервав свой хадж, и вместо Мекки оказался в Сарае? Не потому ли тебе пришлось так скоро уступить престол другому?
Терять Хаджи-Черкесу было нечего, а потому он принял вызов и ответил:
– Ты сам боишься того, что у меня отнял. Хоть и три дня всего, но я сидел на троне, а ты сидишь у его подножия, на лестнице. Твоя русская кровь слишком тяжела для того, чтобы ты мог подняться с него на эти три ступени!
– Я сижу там, где мне положено,– спокойно сказал Карач-мурза. – А на троне будет сидеть тот, кто имеет на это неоспоримое право.
– Поиимаю,– кивнул головой Черкес.– Ты хочешь сделать, как Мамай: будешь царствовать, не называя себя великим ханом, а на трон посадишь какое-нибудь чучело, из настоящих чингнсидов, которое будет тебе во всем послушно.
– Ты далек от истины, – возразил Карач-мурза с поспешностью, удивившей Хаджи-Черкеса.– Мамай сажает ханов, которые ему повинуются, я же сам буду первым слугой того хана, которому помог овладеть престолом.
– Кто же это такой? – недоверчиво спросил Черкес.
– Великая хатунь Тулюбек-ханум, да благословит Аллах ее царствованье,– помолчав, промолвил Карач-мурза.
– Тулюбек-ханум! – вскричал пораженный Хаджи-Черкес, – Женщина на престоле великих ханов!
– Если мужчины сделали этот престол предметом нескончаемой вражды и всю землю вокруг него пропитали кровью, то пусть лучше на него сядет женщина!
– И притом очень красивая женщина,– насмешливо подхватил Хаджи-Черкес.– Мне кажется, что теперь я тебя совсем понимаю, оглан.
– А мое кажется, что твой собственный язык не желает тебе добра и говорит то, чего в твоем положении говорить бы не следовало.
– Утопающий не боится промокнуть, оглан. И тому, кто дошел до конца своего земного пути, терять уже нечего.
– Это так. Но ты еще не дошел до конца своего земного пути.
– Как? Разве ты не велишь меня убить? – удивился Черкес.
– Нет, хан, если ты сам не заставишь меня это сделать.
– А, понимаю! Так вот почему здесь оказался Коран! Но тот, кто хоть один день сидел на этом троне, – если он настоящий мужчина, – не станет покупать жизнь ценою унижения и никогда не признает великим ханом другого. Я не присягну Тулюбек-ханум!
– Я не ставлю тебе никаких условий. Великая хатунь Тулюбек-ханум, да укрепит ее Аллах на пути милосердия, находит, что вокруг трона и так уже пролито слишком много крови. Она дарует тебе не только жизнь, но и свободу. Ты можешь возвращаться в Хаджи-Тархань и по-прежнему владеть своим улусом.
– Вы меня отпускаете? – не веря ушам воскликнул Хаджи-Черкес.
– Да, хан. Ты свободен.
– И оставляете мне Хаджи-Тархань? Таково желание великой хатуни.
– Значит, я могу сейчас же уехать? Без выкупа?
– Без всякого выкупа, хан. Я дам тебе пайцзу, с которой тебя выпустят из Сарая и не задержат нигде в пути.
– Если ты не насмехаешься надо мною, оглан, то я теперь не знаю, что о тебе думать. Конечно, это ты, а не Тулюбек-ханум… И мне не следовало называть твою русскую кровь тяжелой: настоящий татарин поступил бы со мною иначе. У нас жестокие обычаи.
– Очень жалко, хан, что мы это понимаем и все-таки делаем не так, как следовало бы делать.
– Это правда, племянник. Но разве это выдумал я, или мои отец, или мой брат? Так уж у нас повелось издавна, и все так делают. Но пусть никто не скажет, что у Хаджи-Черкеса не хватает благородства потому, что в нем нет русской крови! – И с этими словами он подошел к столику, на которой лежал Коран, и, приложив ладони обеих рук к груди, сказал: – Перед лицом Пророка на книге его божественной премудрости клянусь: хоть я и не буду служить Тулюбек-ханум, но пока она занимает престол великих ханов и пока ты будешь ее советником, я не подниму против нее оружия и не приму участия ни в одном направленном против нее заговоре! – Вымолвив это, он поцеловал Коран, поклонился Карач-мурзе и хотел идти.
– Погоди, хан,– сказал Карач-мурза.– Ты хорошо сделал, и если так будут делать другие, то наши города и наши кочевья отдохнут от крови. Теперь, когда я знаю, что ты нам больше не враг, я прикажу возвратить тебе твою саблю и твое личное имущество. Всех пришедших с тобою воинов спросим – кому они хотят служить, тебе или Тулюбек-ханум? И те, которые пожелают возвратиться с тобой в Хаджи-Тархань, будут отпущены, каждый со своим конем и оружием. Но все награбленное в городе и все ваши лишние лошади будут отданы моим воинам, потому что я не хочу подвергать Сарай вторичному разграблению.
– Да воздаст тебе справедливый Аллах за твое великодушие, оглан! И если при мне кто-нибудь скажет о тебе плохо, я уже знаю, как надо будет ему ответить! – с этими словами Черкес еще раз поклонился и направился к двери. Но прежде чем отворить ее, он обернулся и сказал:
– Я помню твоего отца, оглан. Его все любили. Да пребудет с тобою Аллах, оглан!
Когда хан Черкес вышел из зала, складки балдахина раздвинулись, открыв сидевшую на троне Тулюбек-ханум.
– Ну, что теперь скажешь, хатунь? – не без некоторого самодовольства спросил Карач-мурза.– И продолжаешь ли ты думать, что лучше было его убить?
– Может быть, он в сдержит свою клятву, оглан. Но все-таки убить было бы надежнее.
– Нет, ханум. Умертвив Черкеса, мы создали бы, вместо его, другого врага, не менее опасного: его сын Каганбек, оставшигося владетелем Хаджи-Тархани, непременно пытался бы отнять у тебя престол и отомстить за отца. А теперь мы знаем, что с этой стороны можем не ожидать нападения и что тумены Хаджи-Черкеса не усилят никого из наших врагов.
Тулюбек– ханум хорошо понимала правильность всего это и сама удивлялась -почему ей так трудно признать это открыто? Слова Хаджи-Черкеса о том, что царствовать теперь будет Карач-мурза, а на престол сядет во всем покорное ему «чучело», застряли в се памяти как пропитанная ядом заноза. И даже сознавая, что Карач-мурза поступает разумно, ей теперь не хотелось с ним соглашаться, хотя самой себе она едва ли отдавала отчет в том, что ее к этому побуждает. Все же она не позволила темным чувствам восторжествовать над благоразумием, к которому примешивалась и немалая доля искренней признательности. Вспомнив, что обязана Карач-мурзе престолом и что он держит в своих руках ту силу, которая может ее с престола сбросить, она ласково сказала:
– Все это истина. Но для того чтобы за несколько минут врага сделать другом, нужно уметь говорить с ним так, как ты говорил с Хаджи-Черкесом. У тебя золотая голова и благородное сердце, оглан! Ты сдержал свое обещание,– вот, я сажу на том самом троне, на котором сидели великие Бату-хан и Узбек. Я повелительница Золотой Орды! Скажи, чем я могу наградить тебя? Совесть мне говорит, что я должна с этого начать свое царствованье.
– Мне ничего не нужно, ханум, кроме того, чем ты меня уже даришь.
– Сердце и любовь маленькой Тулюбек давно и навсегда отданы тебе, царевич. Но великая хатунь хочет, чтобы ты был ее главным военачальником и первым советником, чтобы, кроме нее, во всей Орде не было человека выше тебя! Она даст тебе много золота и много новых земель и новелит называть тебя великим огланом!
– Пусть наградит тебя всемогущий Аллах, ханум, и пусть. Он сделает твое царствование счастливым и долгим! Я не заслужил таких высоких милостей, но обещаю служить тебе верно, доколе ты сама этого захочешь.
– Я всегда буду этого хотеть, царевич! И пусть Аллах нам во всем поможет, как помогал до сих пор. А сейчас можно звать людей.
– Все уже ожидают, ханум,– ответил Карач-мурза и несколько раз хлопнул в ладоши. Дверь тотчас отворилась, и в зал вошел, с низкими поклонами, богато одетый мужчина средних лет, красивый, но уже начинающий полнеть. Это был Улу-Керим, только что получивший от великой хатуни звание везира.
– Мулла здесь? – спросил его Карач-мурза.
– Здесь, благородный оглан.
– Пусть войдет первым. А потом впускай темников, князей и иных вельмож. Объяви всем, что после целования Корана начнется пир.
Глава 41
Пока в Орде происходили все эти события, на Руси также не затихала борьба между князьями, претендующими на верховную власть.
Тяжела была судьба русского народа: несмотря на природное миролюбие и извечную мечту о тихой жизни «по правде Божьей», всегда он оставался далек от этого своего идеала, ибо жизнь бросала его из одной войны в другую, и только путем многовековой вооруженной борьбы удалось ему отстоять свою независимость и выковать свое прочное государственное единство. Но все же, на протяжении нашей тысячелетней истории, ни одному русскому государю не пришлось воевать столько, как Дмитрию Донскому.
В напряженной борьбе с Суздальскими князьями и в постоянных походах против удельных властителей, не желавших подчиниться Москве, прошло все его отрочество, а с 1368 года, едва достигнув восемнадцати лет, он вступает в пятнадцатилетнюю полосу беспрерывных и часто одновременных воин с великими княжествами Тверским и Рязанским, с Литвой и с татарской Ордой. И только лишь военный гений, несокрушимая воля и умение подобрать себе достойных помощников, а главное,– любовь и доверие русского народа обеспечили Дмитрию победу над всеми врагами и определили дальнейший великодержавный путь Руси.
Не прошло и месяца после того, как князь Михаила Тверской поцеловал крест Дмитрию и был отпущен из Москвы,– как здесь уже стало известно, что он поспешно укрепляет свою столицу и собирает большое войско. Цель этих приготовлений была совершенно очевидна, а потому Дмитрий Иванович, чтобы не дать противнику времени завершить подготовку,– не ожидая дальнейших событий, сам сейчас же послал свою рать на Тверь. Предупрежденный об этом боярином Вельяминовым, Михаила Александрович успел бежать Литву. Узнав о том, князь Дмитрий штурмовать Твери не стал, а простоявши под ее стенами два дня и для острастки разорив посад, отошел обратно к Москве.
Но два месяца спустя тверское войско, вместе с литовским, которое вел сам Ольгерд, вторгнулось в Московскую землю, этому походу Ольгерд приготовился давно, заблаговременно стянув к московским рубежам значительные силы. Но расчет литовского полководца строился не столько на многочисленности его войска, сколько на быстроте действий и внезапности удара. Русская летопись говорит о нем следующее: «Бе Ольгерду обычай: егда пойдете на войну, тогда убо никому же не ведомо, ни воинам его, ни воеводам, когда и на кот хощет вести свою рать, да не услышана будет дума его ушьми опришными, ни иноземными, ни гостьми, да не изыдут вести си в ту землю в нюже рать ведяше. И такс хитростью Ольгерд многи земли поймал и многи грады и страны полонил. Не токмо силою, елико умением воеваше».
Ольгерд и на этот раз действовал так же, а потому о его походе в Москве узнали слишком поздно, и Дмитрий Иванович, не ожидавший так скоро ответного удара, не был к нему подготовлен. Он немедленно разослал по своим городам грамоты с повелением спешно собирать войска, но к нужному сроку с этой задачей успели справиться, кроме Москвы, лишь Коломна и Дмитров. Составленный из этих ополчений «сторожевой полк», под начальством воевод Дмитрии Минина и Акинфа Шубы, был выслан навстречу неприятелю, а сам Дмитрий, вместе с митрополитом Алексеем и князем Владимиром Серпуховским, за этим слабым заслоном стал поспешно готовиться к обороне Москвы.
Ольгерд между тем приближался быстрыми переходами, захватывая по пути слабо укрепленные местечки и города. Но и они защищались упорно, стараясь дать Дмитрию Ивановичу возможность выиграть время. Жестокое сопротивление оказал врагу князь Семен Дмитриевич Стародубский, с небольшими силами укрепившийся в Хохле; не менее стойко оборонялся и город Оболенск, при защите которого пал славной смертью князь Константин Юрьевич Оболенский.
Встреча главных сил Ольгерда с московским сторожевым полком произошла 21 ноября, у реки Тростны. Москвичи сражались мужественно, но силы были слишком неравны: оба воеводы, множество бояр, дворян и рядовых воинов полегли на поле брани, но полк был разбит, и литовско-тверское войско подступило к Москве.
По решению боярской думы князь Дмитрий повелел сжечь московский посад и ближайшие села, чтобы лишить осаждающих укрытия, а все окрестные жители нашли убежище в новом каменном кремле, помогая его обороне. Попытавшись взять город приступом и встретив жестокий отпор, Ольгерд понял, что для овладения Москвой потребовались бы долгие месяцы осады, а к ней, между тем, со всех сторон шли подкрепления. И потому, к большому неудовольствию своего союзника, князя Михаилы Тверского, простояв под стенами города трое суток, он ушел обратно в Литву, грабя и разоряя по пути все что возможно, а жителей угоняя в плен.
Следующий год был для Ольгерда трудным. Ему пришлось отбивать на западе тевтонских рыцарей, вторгнувшихся в Литву и захвативших город Ковно, а затем – усмирять Смоленского князя Святослава Ивановича, который, воспользовавшись затруднительным положением Ольгерда, сделал попытку восстановить свою независимость. Все это позволило Москве собраться с силами и даже перейти в наступление.
Весною 1370 года князь Владимир Андреевич Серпуховский отбил у Литвы город Ржев, а Дмитрий Иванович двинулся с войском в Черниговские земли и захватил там ряд городов, в том числе и Брянск, который, впрочем, быстро оставил, обязав князя Дмитрия Ольгердовича ни в каких походах против Москвы не участвовать.
Осенью того же года московское войско вторгнулось в пределы Тверского княжества, о чем боярин Вельяминов снова успел предупредить князя Михаилу Александровича, который тотчас поехал к Ольгерду просить помощи. Но москвичи на Тверь не пошли, а, захватив Микулин в несколько других городов Тверской земли, основательно их ограбили и увели большой полон. Слухи о том, что приближается Ольгерд с огромным войском, заставили Дмитрия Ивановича отвести свою рать к Москве.
Ольгерд и в самом деле собрал на этот раз небывалые силы. Помимо его собственного войска и тверичей, в походе участвовали литовские князья Кейстут и Витовт, Смоленский князь Святослав Иванович и много других подвластных Литве князей со своими ополчениями. Но теперь о приближении неприятеля в Москве узнали вовремя и успели подготовиться к встрече.
Первое большое сражение произошло у Волока Ламского, Куда Ольгерд подошел 26 ноября. Три дня тут шла упорная битва, в которой пал главный московский воевода, князь Василий Иванович Березуйский, но все же Ольгерду взять города не удалось. Не желая тратить время на долгую осаду, он оставил Волок и двинулся прямо к Москве. Ее обложили со всех сторон и безуспешно осаждали одиннадцать дней: все приступы были отбиты Дмитрием, который лично руководил обороной.
Обстановка снова складывалась скверно для Ольгерда. Было очевидно, что Москву можно взять только измором, а к ней между тем отовсюду спешила подмога: из Переяславля-Залесского с крупными силами двигался князь Владимир Серпуховский; из Пронска выступил со своею ратью князь Владимир Ярославич, в Нижнем Новгороде заканчивал сбор большого войска митрополит Алексей. Все это заставило Олыерда вступить с Дмитрием в переговоры. Он предложил Москве «вечный мир», но великий князь на это ответил:
– Коли ищешь со мною вечного мира, допрежь вороти все поятые тобою русские земли. А доколе не воротишь, миру тебе от нас все одно не будет!
Таким образом, было заключено лишь перемирие, и Ольгерд отвел свое войско в Литву,– на этот раз тоже ограбив и опустошив все окрестности Москвы. Летописцы отмечают, что этими двумя походами литовцы принесли Руси столько зла и разорения, «аще лишь от татар бывало».
Отчаявшись одолеть Дмитрия при помощи Литвы, князь Михаила решил действовать через Орду и попытаться добыть ярлык на великое княжение над Русью.
Это дело представлялось ему не очень трудным: в ту пору в Орде все решали деньги, к тому же в ней существовало прочно утвердившееся двоевластие, стало быть, если не удастся поладить с одним ханом,– думал князь Михаила,– это только побудит другого быть сговорчивее. Оставалось решить – с какого из них начать? Михаила Александрович знал, что в Правобережной части Орды, на место умершего недавно хана Абдаллаха, Мамай возвел на престол столь же послушного ему Магомет-Султана, а в Сарае-Берке, – вовсе небывалое дело,– ханствует женщина, Тулюбек-ханум.
Ярлык Мамая на Руси имел больше веса, ибо его орда была сильнее и находилась ближе, но князь Михаила хорошо понимал, что если его и удастся получить, то лишь с великим трудом и за огромные деньги, потому что Дмитрий Иванович исправно платил Мамаю дань, а при вступлении на престол Магомет-Султана послал ему богатые подарки и закрепил свое право на великое княжение. Сарайской же ханше он, по слухам, ничего не дааал, полагая, что она слаба и на престоле долго не удержится. А потому Михаила Александрович решил отправиться на поклон именно к Тулюбек-ханум.
«Гляди, оно еще и лучше получится,– размышлял он.– И очень может статься, что московские умники дали тут маху: за Азизов стол дралось небось с полдюжины ханов, и ежели она всех их одолела, значит, есть за нею немалая сила. Чего доброго, еще и Мамаю накладет! Беспременно надобно с нею поладить, поколе не забежал наперед Дмитрей»
Весной 1371 года, едва реки вошли в берега и подсохли дороги, князь Михаила, в сопровождении своего старшего сына Ивана, тронулся в путь. Чтобы произвести в Орде должное впечатление, он захватил с собою большую свиту приближенных и сотню отборных дружинников. Не были, разумеется, забыты и богатые подарки – меха и золото,– едва уместившиеся на спинах шести вьючных лошадей.
* * *
Приехав в Сарай и остановившись в православном епископском подворье, находившемся в ту пору в полном запустении, Тверской князь от русских купцов и духовенства очень быстро узнал все, что его интересовало.
Сведенья эти сводились к следующему: за год царствования Тулюбек-ханум к ней не было от Московского князя ни послов, ни дани; ханша на престоле крепка, правит она разумно и твердо, но в том заслуга не столько ее, как первого при ней советника, царевича Карач-мурзы,– по всему видать, ее полюбовника, который добыл ей Сарай и ныне ворочает в Орде всеми делами, чему все рады, ибо человек он справедливый и напрасной обиды от него никто не видит.
Это известие весьма неприятно поразило князя Михаилу. Он хорошо помнил свою встречу с Карач-мурзой, когда тот приезжал в Москву ханским послом и заставил его поцеловать крест Дмитрию Ивановичу. Навряд ля он и теперь пойдет против Московского князя, да и подарками его не возьмешь,– это Михаила Александрович тоже знал по опыту, и оттого совсем было приуныл. Но разом ободрился, когда ему сказали, что Карач-мурзы сейчас нет в Сарае: два месяца тому назад он уехал в Хорезм, где проживает его семья, и до сой поры еще не вернулся, хотя и ждут его в обрат со дня на день. «Коли так, надобно обладить дело немедля, доколе не воротился царицын хахаль»,– решил князь Михаила и принялся действовать. Узнав, что большим влиянием при ханском дворе пользуется везир Улу-Керим, он на следующий же дань отправился к нему, в сопровождении толмача и двух слуг, нагруженных подарками.
Улу– Керим благосклонно принял дары и внимательно выслушал Тверского князя. Михаила Александрович рассказал о том, что великое княжение над Русью исстари принадлежало его роду и всякими неправдами было захвачено Московскими князьями. Коснувшись затем нынешнего положения, он особо подчеркнул, что князь Дмитрий Иванович получил свой ярлык от Мамая, которому за то и отсылает всю собранную в русских землях дань.
*Хахаль– древнерусское слово, означавшее – ухажер, волокита, гуляка.
– Вот ты и разумен, почтенный эмир,– закончил он. – Воровской хан укрепил на Руси воровского князя, и теперь течет к нему в сундуки русская казна. Где же тут польза законной царицы нашей, Тулюбек-ханум, да сохранит ее Господь! А ежели бы захотела она порадеть о правде, давши мне ярлык на великое княжение, было бы иное: всю русскую дань я бы ей одной посылал!
С этими доводами Улу-Керим не замедлил согласиться и обещал Тверскому князю свое полное содействие. Это дело представлялось ему настолько выгодным для Тулюбек-ханум, что в ее согласии он ни на минуту не сомневался, в то же время рассчитывая этой услугой укрепить и свои собственные позиции в той осторожной, но настойчивой борьбе, которую он исподволь вел против Карач-мурзы.
На следующий день Улу-Керим доложил великой хатуни о цели приезда Тверского князя и красноречиво распространился о той огромной пользе, которую принесет выдача ему просимого ярлыка. Далее, ловко дав понять, что это дело столь выгодно обернулось только благодаря его умелому посредничеству, Улу-Керим убедительно советовал назначить русскому князю прием как можно скорее и милостиво удовлетворить его просьбу.
Тулюбек– ханум выслушала своего везира, в его доводы показались ей вполне разумными. Но всякое проявление поспешности в таких делах она считала несовместимым со своим ханским достоинством и потому ответила:
– Пусть русский князь подождет. Я над этим подумаю и, когда мое решение созреет, объявлю ему свою волю.
– Если разум обыкновенного человека подобен свече, то твоя мудрость сияет как солнце, великая госпожа,– с низким поклоном промолвил Улу-Керим. – Но если ты захочешь выслушать совет твоего преданного слуги, то я скажу – здесь лучше не думать долго. Тверской князь может поехать к Мамаю.
– Зачем он туда поедет? Не сказал ли ты сам, что Мамай дал ярлык Московскому князю?
– Это так, благороднейшая ханум. Но разве ты не знаешь Мамая? Если Тверской князь заплатят больше, Мамай передаст ярлык ему. А Тверской князь может заплатить очень много: он привел с собою шесть коней, нагруженных золотом.
– Если Тверской князь уже приехал сюда, то он не уедет, пока не узнает моего решения. Но даже если бы он получил ярлык от Мамая, не значит ли это, что ко мне приедет за ярлыком Московский князь? И может быть, это будет для меня выгодней. Прежде чем ответить что-либо Тверскому князю, я подожду возвращения Карач-оглана. Никто не знает русских дел и русских князей так хорошо, как он.
– Это истина, мудрейшая из повелительниц! – не сморгнув глазом, ответил Улу-Керим, которому именно этого хотелось избежать. – Карач-оглан должен все это знать, потому что среди русских князей у него есть друзья и родственники, к которым принадлежит и Московский князь. Но кто знает, когда вернется Карач-оглан? Все, кто видели его жену, говорят, что это прекраснейшая из женщин Хорезма, и он, наверное, не очень спешит ее покинуть…
– Ты уже слышал все, что тебе надлежит знать, и больше я не хочу сегодня говорить об этом,– сухо промолвила Тулюбек-ханум, слегка изменяясь в лице, что не укрылось от зорких глаз везира.– Передай Тверскому князю: он будет извещен о дне, когда я пожелаю объявить ему свое решение. А теперь можешь идти!
– Пятясь к двери и отвешивая поклоны, Улу-Керим покинул великую хатунь, очень довольный тем впечатлением, которое произвели его слова о Карач-мурзе.
В тот же день он сообщил князю Михаиле Александровичу, что скоро ему будет назначен день приема, и заверил в том, что ярлык ему будет дан.
Глава 42
Тулюбек– ханум очень скоро пришла к заключению, что Улу-Керим прав: зачем долго тянуть? Если даже Карач-мурза вернется скоро,-его совету в этом деле доверять нельзя, потому что он будет заботиться о выгоде своего друга и родича Московского князя. Но кто знает, когда и какая польза ей от Москвы? А Тверской князь уже здесь, в Сарае, только и ждет ее слова, чтобы пересыпать в дворцовую сокровищницу кучу привезенного с собой золота…
Четыре дня спустя она решила на завтра назначить день приема в послала за Улу-Керимри, чтобы через него уведомь о том Тверского князя. Но к тайной ее досаде, к которой, впрочем, непроизвольно примешалась и некоторая доля чисто женской радости,– вместо Улу-Керима в комнату вошел Карач-мурза. Он казался усталым и хмурым, глаза его почти не потеплели даже тогда, когда, отвесив ей почтительно низкий поклон, он поднял голову и, взглянув на нее, промолвил:
– Салам алейкум, великая ханум! Я надеюсь, что за время моего отсутствия Аллах был к тебе неизменно милостив.
– Алейкум салам, царевич. Да будет благословен Аллах, ибо Он и в самом деле не оставляет меня, когда меня оставляют мои друзья.
– Ты знаешь, ханум, почему я должен был тебя ненадолго покинуть.
– Да, тебя захотела видеть больная мать. Но, кроме матери, тебя там ожидала жена. Говорят, она очень красива, и ты, конечно, не спешил с нею расстаться.
– Я выехал из Ургенча на следующий день после того, как похоронил мать, ханум. А если говорить о жене, то она могла мне сделать такой упрек с большим правом, чем женщина, которая назваться моей женой не пожелала. Но она понимает, что упрекать меня – это все равно что роптать на Аллаха за то, что Он создал ее женщиной, а меня мужчиной.
– Фейзула-ханум умерла? – пробормотала Тулюбек, не ожидавшая столь твердого отпора.– Да приблизит Аллах ее душу к своему престолу и да пошлет ей вечное блаженство! Мне жаль, что я тебя огорчила, царевич.
– Не будем больше говорить об этом, ханум. Скажи, все ли тут было спокойно, покуда я ездил, и не случилось ли чего-нибудь, что требовало моей помощи или совета?
– Все было тихо, оглан. А если бы и случилось что важное, то неужели ты думаешь, что с помощью Аллаха я бы и сама не смогла принять правильных решений?
– Ты хочешь сказать, мудрейшая ханум, что я тебе не очень нужен?
– Я хочу сказать, что если тебя не бывает здесь, когда нужно принимать важные решения,– я умею принимать их сама.
– Это хорошо, ханум. Позволено мне будет узнать, какие важные решения были тобою приняты в мое отсутствие? Я спрашиваю об этом только для того, чтобы получить образцы истинной государственной мудрости, которыми я мог бы руководиться в будущем.
– Ты знаешь, что сюда приехал Тверской князь и ожидает у меня приема? – помолчав, спросила Тулюбек-ханум.
– Тверской князь! – воскликнул Карач-мурза.– Что же ему тут нужно?
– Он просит у меня ярлык на великое княжение над Русью.
– И что ты решила ему ответить, ханум?
– Завтра я дам ему ярлык.
– Он уже знает об этом?
– Еще нет. Я как раз хотела послать к нему Улу-Керима, когда ты вошел.
– Значит, я вовремя вошел, ханум. Тверскому кннзю нельзя дать такой ярлык.
– Это почему?
– Над Русью по праву княжит Московский князь Дмитрий. Повелительница Золотой Орды не может идти против закона и помогать обманщику.
– Московский князь получил свой ярлык от Мамая и ему посылает дань. А я хочу поставить над Русью такого князя, который будет платить дань мне.
– Ты ошибаешься, ханум, еще прежде Мамая ярлык на великое княжение дал князю Дмитрию твой почивший супруг, великий хан Азиз-ходжа, да не омрачится ничем его райское блаженство! И если даже изменник Мамай с уважением отнесся к его воле, то неужели нейдешь против нее ты?
– А если Московский князь сам обманул покойного Азиза-ходжу? Тверской князь имеет больше прав на великое княжение!
– Может быть, это сказал тебе тот, кто получил от Тверского князя хороший подарок, ханум. А я сам был в Москве в тот день, когда Тверской князь на кресте клялся в верности Московскому князю и признал себя его младшим братом.
– Аллах! Что значат клятвы этих неверных? Русские князья только и делают, что клянутся на своем кресте и потом нарушают эти клятвы! В их правах и в их старшинстве также трудно разобраться, как в куче песка отыскать самую большую песчинку. И потому с ними надо поступать иначе: Для них единственным законом должна быть воля повелителя Золотой Орды. Законным великим князем будет тот, кому я дам ярлык. А длам его Тверскому князю!
– Если ты это сделаешь, ханум, то уронишь свое царское достоинство перед целой Русью, потому что русский народ не примет этого князя и ты не сможешь заставить его никакой твоей воле.
– Это говоришь ты, оглан?
– Да, ханум. Это можно было бы сделать только силою оружия. Но ты знаешь так же хорошо, как и я, что если мы пошлем войско на Русь, то не пройдет и месяца, как на твоем будет сидеть Магомет-Султан, Айбек или еще какой-нибудь хан.
– У Тверского князя есть собственное войско, и он сам справится с теми, кто посмеет ослушаться моей воли. И ты напрасно теряешь время, оглан, я не изменю своего решения.
– Мне все понятно, ханум, оставаясь твоим первым советником, я, как ты мудро заметила, лишь напрасно теряю время. А потому позволь мне сложить с себя это ставшее ненужным звание и возвратиться, с моими людьми, к себе в улус.
– Лицо ханши вспыхнуло гневом, но лишь на одно неуловимое мгновение. Эта спокойно сказанная фраза, а особенно слова «с моими людьми» сразу напомнили ей истинное положение вещей: если уйдет отсюда Карач-мурза, со своими пятью туменами,– дни ее царствования сочтены. Повелительница Золотой Орды, получившая престол в подарок от любовника, без него она беспомощна и беззащитна, как дитя без няньки! Нет, чтобы избавиться от его опеки и стать настоящей царицей, нужно сначала отыскать другую, более удобную опору и создать силу, повинующуюся только ей. Л пока надо смириться. Быстро пробежав все это в уме, она вскинула на него глаза, полные кроткой укоризны, и сказала:
– Я не верю, что ты меня покинешь, царевич! Ведь ты для меня не только советник… И я не только великая ханум, но и любящая женщина. Если нужно отказаться от моего решения, чтобы удержать тебя,– я отказываюсь от него, хотя и считаю его правильным.
– Я не хочу принуждать тебя, ханум, я хочу, чтобы ты поняла. Слушай, ханум, какой тебе расчет поддерживать Тверского князя? Он вероломен и слаб, на Руси его не любят. А Московский князь силен и любим. Хочешь ты этого или не хочешь,– он все равно останется великим князем потому, что этого хочет весь русский народ, который уже перестал бояться татар. Ведь ты сама знаешь,– Орда теперь не та, что прежде. И потому нам лучше быть в дружбе с Московским князем.
– Я это понимаю, оглан. Но он нам ничего не дает, а Тверской князь предлагает за ярлык много золота и обещает нам платить дань.
– Он не сможет платить тебе никакой дани, потому что на Руси ее собирает и будет собирать Московский князь.
– Чтобы посылать ее Мамаю!
– Сейчас он посылает ее Мамаю, потому что власть Мамая прочна, а у нас в Сарае каждый год менялись ханы. Но раньше князь Дмитрий платил дань Азизу-ходже и тебе будет платить, ханум, когда узнает, что ты утвердилась на престоле своего почившего супруга.
– Хорошо, оглан, я верю тебе. Я не дам ярлыка Тверскому князю. Но мне не хочется самой говорить ему это.
– Если ты повелишь, ханум, я ему скажу. – Скажи, оглан.
Когда князю Михаиле Александровичу сообщили, что с ним, по велению великой ханум, будет говорить Карач-мурза, только что возвратившийся в Сарай,– он сразу почувствовал, что дело его принимает скверный оборот. Все же, еще не теряя надежды и желая узнать, что произошло, он без промедления отправился к Улу-Кериму. Но хитрый царедворец, понимая, что еще не настало время показать себя открытым врагом Карач-мурзы, Тверского князя не принял, сказавшись больным.
Делать было нечего, и на следующий день, в назначенный час, князь Михаила явился во дворец и тотчас был проведен в малый приемный зад, где ожидал его Карач-мурза.
– Будь здрав я благополучен на многие годы, царевич,– поклонившись почтительно, но с соблюдением достоинства, промолвил Тверской князь.– Не ждал я такой радости, что доведется мне повстречаться в Орде со старым знакомцем. Чай, ты меня помнишь?
– Помню, князь. Будь здрав и ты. Я тоже не ждал тебя здесь увидеть. Почто пожаловал?
– Перво-наперво, прознавши о том, что кончилась в Сарае замятия и воцарилась великая супруга благодетеля моего, покойного хана Азиза, почел я долгом своим приехать поклониться нашей царице самолично, дабы знала она, что я ее верный слуга. Здорова ли матушка наша Тулюбек-ханум, да будет к ней вовеки милостив Господь?
– Великая ханум здорова, и Аллах не оставляет ее своими милостями. Ей будет приятно услышать твои слова, и она их от меня услышит. Но сейчас другие дела не позволяют ей принять тебя, и она повелела, чтобы это сделал я. Если у тебя есть какая-нибудь жалоба или челобитье, я готов их выслушать.
– Хотел бы я довести о том царице лично,– помолчав, промолвил князь Михаила,– но если того не можно, что делать? Скажу, как она велит, тебе: да, есть у меня и жалоба, челобитье!
– Говори, князь.
– Ты небось помнишь, царевич, как, назад тому три года, насказали тебе в Москве, будто сею я на Руси усобицы и смуту? И как ты, поверив тем наговорам, обязал меня поцеловать крест Московскому князю, Дмитрею Ивановичу?
– Помню, князь. Я был послан великим ханом, чтобы рассудить вас и наладить промеж вами мир. И сделал это так, как мне повелевала совесть.
– Ты не домысли, что я тебя в чем виню, царевич. Я ведь понимаю,– на всех разом и Бог не угодит. Но вот знай: не минуло с того дня и трех месяцев, как Московский князь, со своим войском, напал на Тверь. Первым напал! Теперь разумеешь, каков он есть и можно ли ему было верить? Небось и волк скажет, что коров дерут зайцы, а на него лишь поклеп!
– Умный человек, когда видит, что над его головой занесен меч, не ждет, пока он опустится, а первым наносит удар. Так поступил и князь Дмитрей.
– Мой меч был в ножнах, царевич!
– Но он был уже хорошо отточен. Если бы ты не готовился к походу и задолго не сговорился о том с князем Ольгердом,– ваши войска не смогли бы тотчас оказаться под стенами Москвы.
– А что мне было делать, коли он сам на меня напал? Я лишь дал ему острастку, и на том стали квиты. Однако он, малое время спустя, снова пограбил мои города, и вот уже четвертый год льется, по его вине, русская кровь и нет в наших землях ни покою, ни мира.
– Чего же ты теперь хочешь?
– Челом хочу бить царице на него, на моего ворога! На Руси нет от него жизни ни одному честному князю, а и ей, царице нашей Тулюбеке, храни ее Бог, какая с того радость и польза, что княжит оп по Мамаеву ярлыку и ему, вашему лиходею и вору, дань платит? И дала бы она ярлык на великое княжение во Владимире мне. Тверскому князю, чей род честнее и старше, московского! Тогда бы и на Руси был порядок, и она, царица, исправно получала бы законом положенную дань. А за ярлык я, вестимо, дал бы богатый выход, да и тебя, царевич, не оставил бы в обиде.
– Везир Улу-Керим уже довел великой ханум твое челобитье. И она повелела мне ответить: великое княжение во Владимире надлежит Московскому князю Дмитрею Ивановичу, который получил свой ярлык от ее покойного супруга, великого хана Азиэа-ходжи, чью волю почитает она священной. А тебе, князю Михаиле, княжить в Твери, с Московским князем жить в мире, с князем же литовским, Ольгердом дружбы не водить, поелику он есть наибольший ворог и Руси и Орды.
*В то время город Владимир официально еще считался столицей Руси и князь, получающий ярлык на Владимирское княжение, тем самым приобретал верховное старшинство.
Выходом называлось особое обложение, которое вносил в ханскую казну князь, получивший ярлык.
– Так,– растерянно пробормотал Михаила Александрович, выслушав этот ответ, не оставлявший ему никакой надежды. – Вот и выходит, что правда-то прежде нас померла.
– Я передал тебе ответ великой ханум,– холодно промолвил Карач-мурза,– а теперь от себя скажу: тебе тот ярлык все одно без пользы, лишь пропали бы зря твои деньги. Тебе не одолеть князя Дмитрея.
– Почто ты так мыслить?
– Потому, что он перед Русской землею чист, а ты кругом замаран. Он с тобой своею силою воюет и татар небось в помощь не зовет, хотя и мог бы. А ты, что ни год, литвинов на Русь приводишь. Нешто она тебе такое простит?
– Москва татарами весь мой род извела,– Русь это тоже знает, почтенный царевич!
– Дмитрей за дедов своих не ответчик, князь. И коли хочешь послушать доброго совета,– покорился бы ты ему с чистым сердцем, как другие князья покорились, ибо выгода ваша не во вражде с ним, а в дружбе.
– За совет спасибо, только уж не обессудь, я второй раз по доброй воле в крапиву не сяду! Мало ты знаешь Дмитрея, от него дружбы да правды дождешься не прежде, чем солнце к нам задом оборотится. За то с ним и бьюсь!
– Что же, бейся, коли хочешь быть битым,– промолвил Карач-мурза.– И на том разговор наш окончим, ждут меня иные дела, а тебе добрый путь!
Спустя два дня расстроенный своей незадачей и проклиная Карач-мурзу,– «ведь мог же московский радельщик, если уж он маленьким не издох, припоздать из Хорезма лишь на день, и все было бы ладно»,– князь Михаила покинул Сарай-Берке. Переправившись, со своей свитой, на правый берег Волги, он полдня шел прямой дорогой на Русь, потом круто свернул на север н направился прямо к ставке Мамая.
Карач– мурза, которому о том сразу же было доложено, минутку подумал, а потом вызвал к себе Рагима.
– Возьми вот это,– сказал он сотнику, протягивая ему серебряную пайцзу и кожаный мешочек с деньгами, – и скачи в Москву. Доведи самому князю Дмитрею, и никому иному: Карач-мурза шлет поклон и спрашивает – здоров ли он, великий князь Московский, и здоров ли аксакал Алексей? И еще скажи: только что был в Сарае Тверской князь Михаила и домогался ярлыка на великое княжение над Русью, и в том ему здесь отказано. И чтобы князь Дмитрей знал: отсюда Тверской князь поехал не в обрат, на Русь, а прямо в ставку Мамая. Это все. Запомнил?
– Запомнил, пресветлый оглан. Мне одному скакать?
– Возьми с собою двух надежных воинов из твоей сотни и по паре самых быстрых коней на каждого. Лети как стрела из лука, и да сопутствует тебе Аллах!
* * *
По пути в ставку правобережного хана князь Михаила Александрович успел всесторонне обдумать все, что следует сказать Мамаю, чтобы склонить его па свою сторону. Но все ухищрения его ума оказались тут ненужными: вероломного и жадного временщика столь же мало интересовали вопросы старшинства русских князей, как и соображения справедливости. Его отношение к Руси определялось лишь одним желанием – выкачать из нес как можно больше богатств, а потому он считал, что право на великое княжение всегда имеет тот князь, который может дороже заплатить за ярлык. Выслушав Тверского князя, он сказал:
– Московский князь заплатил за ярлык десять тысяч рублей серебром. Если заплатишь пятнадцать тысяч, я дам ярлык тебе.
– Пятнадцать тысяч рублей! – воскликнул князь Михаила, которого названная сумма кинула в жар.– Помилосердствуй, почтенный эмир, эдакая прорва денег! Ведь ярлык-то еще полдела: может и такое статься, что князь Дмитрей от великого княжения добром отступиться не схочет и надобно будет сгонять его силою.
– Это уж твоя забота,– невозмутимо промолвил Мамай.– А если хочешь, чтобы я дал тебе войско, за каждый тумен плати еще десять тысяч рублей.
*Реальная ценность рубля XIV вв. равняется приблизительно восьмидесяти рублям начала XX в, так что сумма эта действительна была очень велика.
Сколько ни торговался Михаила Александрович, Мамай цены не спустил и лишь согласился отправить вместе с ним своего посла Сары-ходжу, который объявит князю Дмитрию ханскую волю и заставит владимирцев принять нового государя.
С собою у князя Михаилы набралось всего пять тысяч рублей. Отдав их Мамаю и за недостающее оставив в залог сына своего, княжича Ивана,– он получил вожделенный лык и вместе с ханским послом направился ко Владимиру.
Глава 43
В лето 6879 выиде из Орды князь Михайло Александрович Тферький с ярлыком на великое княжение и иде к Володимерю и хоте сести тамо, но не приняше его люди. Не токмо не не приняше его, но и по многим путем гоняшеся за ним и тако едва утече восвояси. Московская летопись Благодаря гонцу, присланному Карач-мурзой, дальней shy;шие события не застали князя Дмитрия Ивановича врасплох. Он успел принять свои решения и приготовился к действиям, раз и навсегда порывая с обычаем, в силу которого город Владимир рассматривался как столица Руси, в то время как она уже давно, по существу, являлся вотчиной московских князей. Теперь все его население было приведено к целованию креста на верность великому князю Дмитрию, а потому, когда Михаила Александрович и Мамаев посол Сары-ходжа, с небольшим отрядом войска, подошли к Владимиру, город shy;ские ворота перед ними негостеприимно закрылись. *Это был на Руси первый случай приведения к присяге всего рядового населения. Прежде присягали лишь военачальники, бояре и дружина. Подъехав вплотную, князь Михаила крикнул стоявшим на стене боярам и старшинам, чтобы впустили ордынского посла в его, Михаилу Александровича, верховною ханскою волей ныне поставленного великим князем во Владимир и над всею Русью. – Допрежь чем к хану соваться, почто ты о нашей воле поспрошал? – ответили со стены.– Мы своим князем премного довольны и другого не ищем! Езжай к себе! Не вступая в пререкания, князь Михаила приказал одно shy;му из своих приближенных громко прочитать ханский ярлык. Выслушав чтеца, владимирские старшины недолго потолкова shy;ли между собой, потом одни из них подошел к самому краю стены и сказал: – Видим, что брехать ты здоров, ежели сумел вылгать у хана ярлык на владимирский стол. Только проку тебе от того не будет: нашим князем как был доселева Дмитро Иванович, так им и наперед останется, а ты уходи отсель, покуда цел! – Жаль, что, отнявши у тебя разум, Господь оставил тебе язык, дерзкий охальник! – крикнул Михаила Алек shy;сандрович, наливаясь кровью.– Забыл, что твою крамольную речь ханский посол слышит? – А пускай слушает, нешто мне жаль? Ханский посол нам не более надобен, нежели ты сам! Сдерживая кипевший в нем гнев, князь Михаила все же попытался еще образумить владимирцев, угрожая им своим войском и ханским гневом. На это со стены отвечали лишь насмешками, но когда Тверской князь, уже вовсе озлившись, крикнул, что если ему добром не отворят ворота, он сумеет открыть их силою,– владимирский воевода Андреи Борков сверху прокричал: – Ин ладно, княже, уговорил! Сей же час мы тебе от shy;ворим ворота, даст Бог, останешься нами доволен! Действительно, ворота через несколько минут распах shy;нулись, и из них стремительно вырвался наружу отряд кон shy;ницы, вооруженной мечами и копьями. Дружинники Твер shy;ского князя стойко приняли удар, и у ворот завязалась ярост shy;ная рукопашная схватка. Рубился с другими и князь Михайла, отводя на случайных противниках возмущенную душу, но в то же время он не забывал поглядывать по сторонам и быстро понял, что дело его плохо. Из городских ворот, как бурный по ток сквозь прорванную плотину, валил наружу вооруженный конный и пеший люд, обходя тверичей и отрезая им путь от shy;ступления. Видя, что продолжение битвы неминуемо приведет к тому, что он будет схвачен и выдан Московскому князю, Михаила Александрович приказал своим дружинникам от shy;ходить. Но теперь и это нелегко было исполнить: с большим трудом и немалыми потерями им удалось избежать окруже shy;ния, но оторваться от противника оказалось невозможным: рассвирепевшие владимирцы пустились в погоню и до самых тверских рубежей по пятам преследовали незадачливого Мамаева ставленника, несколько раз едва не захватив его в плен. Ханский посол Сары-ходжа был благоразумен: он удержал своих нукеров от участия в стычке у стен Владимира и потому был впущен в город. Отсюда он тщетно посылал гонцов в Москву, именем великого хана Магомета-Султана повелевая князю Дмитрию явиться во Владимир, чтобы здесь, в стольном граде Руси, выслушать из уст посла ханскую волю и прочесть ярлык. Дмитрии Иванович на это коротко и решительно ответил: – К ярлыку не еду, на княжение во Владимир никого не пущу, а тебе, ханскому послу, путь отсюда чист!( Подливные слова князя Дмитрия, приводимые летописями) С тем Сары-ходжа и отбыл в Орду, а князь Михаила, тем временем разослав по своим городам приказы о спеш shy;ном сборе войска, сам отправился в Литву, договариваться с князем Ольгердом о новом совместном походе на Москву. Одновременно он послал гонцов к некоторым русским удель shy;ным князьям, недовольным Москвой, прося их помощи в «правом деле». Готовился к обороне и князь Дмитрий Иванович, хорошо понимая, что на этот раз над Москвою сгущаются особенно грозные тучи. Было очевидно, что князь Михаила Тверской попытается силою оружия осуществить купленные у Мамая права на великое княжение и что в этом его, как всегда, поддержит Ольгерд. За нарушение ханской воли и оскорбление ордынского посла можно было ожидать и татарского наше shy;ствия. А сверх всего этого, Рязанский великий князь Олег Иванович, видя, что Дмитрий поглощен ежегодными войнами Литвой и с Тверью,– вновь осмелел и стал открыто по shy;хваляться, что скоро отберет у Москвы не только Лопасню, но и Коломну, тоже когда-то принадлежавшую Рязанскому княжеству: «А что, ежели все четверо – Михаила Тверской, Ольгерд, Мамай да Рязанский князь,– договорившись промеж собой, навалятся разом? – с тревогою думал Дмитрий, – ведь тогда Москве конец, и все, что здесь нами поднято, все наши труды, отцов и дедов наших, снова обратятся во прах! Такого допустить нельзя. Любую чашу горечи и беды без ропота выпью,– только не пить бы этой!» Чем больше размышлял обо всем этом Дмитрий, тем становился мрачнее. Наконец он не выдержал и поделил shy;ся своими тревогами с митрополитом Алексеем, государствен shy;ная мудрость которого уже не однажды вызволяла Русь из беды. – Не кручинься, княже,– выслушав его, промолвил святитель.– Бывало у нас и похуже, да Господь пособлял. Он и на сей раз не оставит нас своею милостью. – Я на то крепко уповаю, отче. Однако не зря говорит shy;ся: Богу молись, а в делах не плошись. Что-то надобно и самим делать. – Надобно, чадо... Я так мыслю: лишь бы не пришлось нам со всеми разом биться. А потому наиглавная наша забота ныне в том, чтобы не позволить себя к тому прину shy;дить. – Денно и нощно думаю я о том, как бы это сделать, чтобы им всем порознь накласть... Да вот беда: за одного возьмешься, а тут тебе другие в спину ударят! – Подведем так, чтобы не ударили... Чтобы тот, кто схочет нас ударить, сам бы в то время боялся кого-то иного. За спиною каждого своего ворога отыщи друга и вложи ему в руки меч. – С Мамаем так оно и вышло, владыка: за его спиною стоит друг и доброхот наш Карач-мурза, а у него немалая сила. Сказывают, что саранская ханша ему во всем покорна и на деле царствует там не она, а он. И потому я крепко уповаю на то, что Мамай, сколь ни был на меня взъярен, на Моск shy;ву идти побоится, доколе не изживет своих ворогов и не станет в Орде единым хозяином. Это однажды будет,– но до тех пор надобно нам беспременно сломить Тверь и Ря shy;зань, да и Ольгерда отвадить. – От Твери да от Литвы отобьемся, чай, не впервой. А чтобы им не помогла Рязань, надобно князю Владимиру Ярославжчу Пронскому погромче побренчать там оружием. Он друг наш, и с ним договориться о том не трудно. Пусть Рязанский князь думает, что выступи он в поход на Москву,– пронцы тотчас нападут на Рязань. А вот как отобьем Ми shy;хаилу Тверского и Ольгерда, надо будет выбрать удобный час да поучить Олега Ивановича уму-разуму. – Истинно, владыка, по слову твоему и сделаю! -вос shy;кликнул Дмитрий Иванович,– У меня на этого татарского прихвостня давно плечо зудит. Согнать бы его вовсе с большо shy;го стола да посадить на рязанское великое княжение Влади shy;мира Пронского! Да вот счастье Олегу; каждый год надобно с Литвой и с Тверью воевать, а до него все руки не доходят. Ну ништо, свое он получит... Только ныне меня иное заботит, отче. – А что, княже? – Ярлык ханский. Хоть мы Михаилу во Владимир и не пустили, а все же право ему Ордою дано, и тот ярлык сотворяет ему на Руси немалую вагу. И когда он пойдет на нас походом, промеж моих удельных беспременно сыщутся такие, что супротив него не встанут, а то еще и ему пособят против Москвы. Как же, скажут, вперекор ханской воле на ро shy;жон-то лезть? Вот и выйдет перед народом, что он, Михаила, вроде бы в законе, а я смутчик... Да и Мамай всякий час может нагрянуть на нас за ослушание, ежели это дело так ос shy;тавить. Начнется, к примеру, в Сарае новая замятия,– вот у него и ослобонятся руки. Неладно это получается, с ярлыком-то... -Вижу, ты что-то надумал, Дмитрей Иванович? -Кажись, надумал, владыка... Благослови ехать в Орду к Мамаю да спробовать с ним поладить. – Христос с тобою, княже! Только что прогнавши князя Михаилу, с ханским ярлыком, и ордынского посла,– ехать к Мамаю, покуда он хоть малость не поостыл? Да ведь это самоубийство! Сюда он сунуться побоится, а там схватит тебя и велит казнить. – Может и такое статься, да только едва ли. Для Мамая наиглавное – это деньги. С Тверского князя он уже за ярлык получил, поди, немало, а теперь, ежели я дам больше,– он по корысти снова мне его вернуть может. Знаю, дорого это станет, да что сделаешь? Надобно дать, инако несдобровать Москве. А что до случившегося с Михайлой, – буду верить Мамаю, что не допустил его во Владимир потому, что к ярлыку его веры не имел, ибо невдавне ярлык на великое княжение мне самому был даден. Вот, мол, и думал я, что и ярлык и посол ханский – все это лишь Михайлин обман. Мамай, хотя в душе тому и не поверит, да, чтобы получить денежки, притворится, что поверил и что гневаться на меня не за что. Глядишь, все оно и обойдется ладом,– возвернусь, даст Бог, не только живым, но и с ярлыком. – Оно так,– промолвил святитель после довольно долгого молчания.– Мысли твои разумны, тако же и мне думается. Но все же татарская душа – потемки. Может, и схватят тебя... *Вага – вес, значение. Отсюда слово «важный», имеющий вес. – Все в руках Божьих, отче. И мне ли за Русь не поставить голову на кон? Коли надо, так надо. – Подумай еще, сыне. Ведь ты надежда Руси! – Потому мне и надобно ехать! Благослови, отче! – Коли так, езжай, княже. Благословляю тебя на подвиг, молитва моя будет с тобою денно и нощно. Всею Русью станем за тебя молиться, и верю: Господь ту молитву услышит и тебя сохранит! Понимая, на какой риск он идет, Дмитрий Ивано shy;вич перед отъездом написал духовное завещание и сделал все нужные распоряжения на случай своей смерти или пленения в Орде. На время своего отсутствия управление всеми государственными делами он оставил в надежных ру shy;ках митрополита Алексея, а военную власть передал князю Дмитрию Михайловичу Боброку-Волынскому, недавно женившемуся на его сестре Анне и с той поры ставшему верным сподвижником и одним из лучших воевод князя Дмитрия Ивановича. Покончив с этими делами, пятнадцатого нюня 1371 года князь Дмитрий выехал из Москвы. Чтобы внушить Мамаю должное уважение и сразу дать ему почувствовать разницу между собой и Тверским князем,– он обставил свою поездку небывалой пышностью. Не считая бесчисленного количества слуг, его сопровождала свита, насчитывавшая больше сотни зависимых князей, бояр и приближенных дворян, соперничавших друг с другом роскошью нарядов, великолепием коней и богатством вооружения; сзади, на могучих гривастых лоша shy;дях ехал охранный отряд,– тысяча воинов-богатырей, подобранных с особым тщанием, вес в шлемах-шитаках и в кольчугах с ярко начищенными зерцалами. «Погляди, пога shy;ный Мамай, на Святую Русь да семь раз подумай, прежде чем посмеешь посягнуть на ее государя!» До реки Оки великого князя провожало множество москвичей и сонм духовенства, во главе с самим владыкой Алексеем. Тут, на переправе, был им отслужен торжествен shy;ный молебен за успех трудного дела и дано было последнее благословение уезжающим. После того святитель возвратился в Москву, а князь Дмитрий продолжал путь в ставку Мамая, куда и прибыл вполне благополучно месяц спустя. *Д. М. Бобров-Волынский, зять Дмитрня Донского,– обрусевший князь литовского происхождения. Он был сыном Кориата Гедныминовича (в крещении Михаила), княжившего на Волыни. Неизвестно, почему Бобров покинул свое княжество, но с середины семидесятых годов XIV столетия он уже находился на службе у Дмитрия.
Глава 44
На ту же осень князь великий Дмитрей Ивановичь выйде из Орды милостию Божкею все по добру и по здорову, такоже бояры его и слуги. А княжения великого под собою покрепил, а супостаты свои и супроставники посрами. И выведоша с собою из Орды княжича Тферьского Ивана Михайлова, откупиша его в долгу от татар и даша по нему десять тысячь серебра, еже есть тьму рублев, а приведоша его на Москву и седе у Алексея у митрополита дондеже, паки выкупиша его князь Михаило. Симоновская летопись
«И вот этакая мразь завладела Ордою и ныне тщится повелевать Русью!» – думал князь Дмитрий Иванович, стоя в почтительной позе посреди роскошно убранного шатра и с затаенной брезгливостью глядя на тщедушную фигуру Мамая, важно восседающего на высоком квадратном диване, к которому, как к трону, вели две широкие ступени, крытые красно-золотой парчой.
Вид у Мамая и впрямь был далеко не величественный. Он это понимал и сам, а потому убожество своей наружности старался восполнить внешним великолепием и богатством заряда, в котором все было искусно рассчитано на то, чтобы сделать менее заметными его физические недостатки. Но ни высокие каблуки на красных, шитых жемчугом сапогах, ни пышно вздыбленная чалма, из-под которой выглядывало сморщенное личико с приплюснутым обезьяньим носом и с редкими сосульками седеющих усов,– не были в состоянии скрыть его малого роста. А нарочито просторный, сверкающий драгоценностями халат, только лишь пока эмир сидел, не позволял заметить, что левое плечо у него гораздо ниже правого.
Однако под этой невзрачной оболочкой таились качества, которые позволили Мамаю не только приобрести в Орде господствующее положение, но и сохранить его в течении двадцати лет беспрерывных кровавых смут, стоивших жизни нескольким десяткам ханов.
Он, хотя и не был чингисидом, принадлежал к одному могущественных княжеских родов, что позволило ему жениться на дочери великого хана Бердибека, который в конце своего царствовании сильно болел, а потому все дела управления постепенно очутились в руках Мамая. В начавшейся после смерти Бердибека, смуте он сразу показал себя человеком решительным, коварным, мстительным, а главное,– всюду имеющим свои глаза и уши, что позволяло ему вовремя обнаруживать все направленные против него заговоры и беспощадно расправляться со своими врагами.
*В старину десять тысяч назывались на Руси тьмою. Отсюда и «темник» – начальник десятитысячного отряда.
Сам не имея права на престол, он сажал на него своих ставленников, во всем ему покорных; если же подобный хан начинал проявлять строптивость, Мамай его уничтожал и заменял более покладистым. Но свое политическое значение он, может быть сам того не сознавая, особенно укрепил тем, что в разгоревшихся усобицах показал себя последовательным и непримиримым врагом белоордынского династического начала. Это невольно объединяло вокруг него большую часть уцелевших потомков и родичей хана Узбека, а также всех приверженцев и ставленников ханского рода, исстари царствовавшего в Золотой Орде, а теперь вытесняемого белоордынскими ханами.
Мамай и Дмитрий сегодня впервые видели друг друга. И если татарский сатрап вызвал у русского князя чувство презрения, граничившего с гадливостью, то рослая и статная фигура Дмитрия в Мамае прежде всего пробудила зависть, смешанную с совершенно непроизвольным, подсознательным уважением. Оно подкреплялось еще и тем бесстрашием, с которым Московский князь не побоялся, после всего случившегося, лично явиться в Орду, хорошо зная, что здесь легко может найти свою смерть.
Сознание того, что достаточно будет одного его слова, чтобы эта крепко посаженная удалая голова слетела с плеч, несколько примирило Мамая с физическим превосходством Дмитрия, и он вызывающе сказал:
– Ты умно сделал, что сам приехал сюда, Московский князь. Иначе я бы приказал своим воинам опустошить твою землю и привести тебя на аркане!
Дмитрия передернуло. С языка его готов был сорваться резкий ответ,– он ощущал в себе достаточно мужества и гордости, чтобы смерть предпочесть унижению, как сделал это при подобных обстоятельствах великий князь Михаил Черниговский. При складе его характера это было, пожалуй, легче, чем безропотно снести оскорбление. Но что тогда станет с Русью? – Снова распадется она на бесчисленные, враждующие между собой уделы, и распылится русская сила, почти созревшая для свержения ненавистного ига… Нет, что угодно, но только не это! Для нее, для Матери нашей, надобно стерпеть сегодня обиду, а уж после прядет час, за все рассчитаемся с проклятым татарским недоноском! – подумал Дмитрий и, склонив голову, смиренно ответил:
– Я знаю, что велико твое могущество, почтенный эмир, но знаю, что велика и твоя справедливость. Потому и приехал сюда по своей доброй воле и без боязни, ибо суд праведный мне не страшен: я против тебя худого не умышлял и из воли твоей выходить не мыслил. А ежели не пустил во Владимир Тверского князя, так от того тебе одна лишь польза.
Почтительная покорность Дмитрия польстила Мамаю, и потому он сказал скорее насмешливо, чем гневно:
– До сих пор я думал, что и сам понимаю, в чем моя польза. Но, кажется, ты это знаешь лучше меня, если осмеливаешься идти против моей воли, да еще полагаешь это себе в заслугу! Объясни же, какая мне польза от того, что ты дерзнул пренебречь нашим ярлыком и отказался принять ханского посла?
– Польза такая, что ежели бы я уступил великое княжение Михаиле Тверскому, ты бы с Руси не получал и половины той дани, которую получаешь от меня, ибо князь Михаила николи бы столько собрать не сумел: ему Русь не верит и его не любит. Ты, чай, знаешь,– от Владимира не я его отогнал, а сами володимирцы его впустить не схотели. А ежели бы он вокняжился, могло бы для тебя дело обернуться и вовсе скверно: окрепнув чуток, не преминул бы он столковаться с зятем своим, с Ольгердом Литовским, и, перейдя под его руку, совсем не стал бы давать Орде дани, как не дают ее иные русские князья, землями коих завладел Ольгерд.
– Я бы разорил его город и заставил бы его платить! запальчиво крикнул Мамай, стукнув детским маленьким кулачком себя по колену.
– Вестимо, ты мог бы это сделать, великий эмир. Только зачем тебе такое беспокойство, ежели от меня ты и без войны получаешь все, что тебе положено?
– Если это так,– после небольшого молчания сказал Мамай, который почувствовал, что доводы Дмитрия его обезоруживают,– ты мог бы приехать сюда. Я бы тебя выслушал и рассудил дело иному. Но ты начал с того, что нарушил волю великого хана!
То, что Мамай сказал «волю великого хана», а не «мою», сразу ободрило Дмитрия Ивановича: было общеизвестно Мамай имеет обыкновение все свои неудачные действия сваливать на хана, именем которого он правил. И в этом случае, как бы отмежевываясь от хана, он тем самым готовил себе возможность пересмотреть вопрос об ярлыке без ущерба для своего достоинства. Поняв это, Дмитрий, с видом полнейшего простодушия, ответил:
– Да коли хочешь знать истину, великий эмир, так я в правде Тверского князя сперва крепко усомнился. Нешто могу ему верить после того, как он мне на кресте солгал? Нот и подумал я, что нет у него никакого ярлыка, да и быть не может, поелику ярлык на великое княжение хан Магомет-Султан всего лить запрошлым годом дал мне самому, и с той поры и дань, и выход платил я исправно и ни малой вины за собою не знал. Но после, когда уж стало мне ведомо, что ярлык ему и вправду даден, – тотчас выехал я сюда с повинной, полагаясь на мудрость твою и на то, что сумеешь ты отвести от меня гнев великого хана и порадеть о справедливости.
– Ты мог не верить Тверскому князю,– хотя мне кажется, что он не больший лжец, чем другие русские князья. Но ты должен был поверить ханскому ярлыку! – назидательно, но почти спокойно сказал Мамай,
– Ежели бы князь Михаила, как подобало, приехал прямо в Москву и показал мне тот ярлык, было бы иное дело,– возразил Дмитрий, к которому теперь возвратилась вся его уверенность.– Но он поступил как разбойник: пришел в вотчину мою, к Володимиру, и хотел сести там силой. Коли его володимирцы принять не схотели, нешто моя в том вина? Я сам о случившемся узнал уже после того, как они загнали его аж за тверской рубеж. А ханского ярлыка так наколи и не видел.
– Пусть так. Но потом тебя вызывал во Владимир ханский посол, чтобы прочитать тебе ярлык. Ты же приехать не пожелал и посла принять отказался, – снова повысил голос Мамай. – За много меньшие дерзости не столь еще давно с русских князей в Орде снимали головы! Может быть, ты думаешь, что я побоюсь это сделать сегодня!
– Я этого не думаю, великий эмир, но я думаю другое: за такое дело надо бы снять голову с ханского посла, а не с меня. Ежели он был послан ко мне, так и надлежало ему самому приехать в Москву, а не звать меня к себе, куда ему любо. Стало быть, это он не выполнил ханской воли, а не я! Нешто я обязан ехать ко всякому, кто назовется послом, даже вовсе не видя его пайцзы и еще не зная – верно ли он посол али, может, просто какой шутник? А пайцзы его я тако же николн не видел, как и ханского ярлыка!
– Бисмаллах! Я вижу, что хан Магомет-Султан послал тебе глупца и ты действительно не так виноват, как мне сказали.
– Я знал, что ты это сразу уразумеешь, эмир. Потому и приехал к тебе без боязни, как к праведному судье.
– Чего же ты теперь хочешь?
– Хочу, пресветлый эмир, чтобы ты замолвил свое мудрое слово хану и присоветовал бы ему вновь укрепить меня на великом княжинии. Так для него же будет много спокойнее и лучше. А ежели надобно за ярлык что приплатить, так за тем дело не станет.
Мамай задумался. Спрашивать о чем-либо «великого» хана, который был не более чем игрушкой в его руках, он, разумеется, не собирался, а думал лишь о своей собственной выгоде. В это утро он уже получил от Дмитрия богатые дары и за возвращение ярлыка мог получить еще. Но в то же время ему не хотелось потерять и те десять тысяч рублей, которые остался должен Тверской князь. Ведь теперь, если великое княжение останется за Дмитрием, он этих денег платить, наверное, не захочет и в том будет прав. Конечно, задержав его сына, можно эти десять тысяч все-таки получить, но тогда все скажут, что он, Мамай, поступил как простой разбойник и взял с Тверского князя не долг, а выкуп. Ронять до такой степени свое достоинство Мамай не хотел, а потому, поразмыслив, сказал Дмитрию:
– Я могу уговорить хана, чтобы он оставил ярлык за тобой, если ты приплатишь еще пять тысяч рублей. Но кроме того, ты должен выкупить у нас Тверского княжича, которого его отец оставил в залог, за десять тысяч рублей. Ты этих денег ни потеряешь потому, что можешь держать княжича у себя, пока князь Михаила его не выкупит. Но мы, ежели возвратим ярлык тебе, с Тверским князем не хотим больше иметь дела.
– Согласен! – сказал Дмитрий Иванович после короткого раздумья. Он сразу понял истинное положение вещей и даже обрадовался возможности наказать Михаилу Александровича за его происки: пусть теперь пропадут зря его десять тысяч, которых он мог бы Мамаю и не заплатить!
– Сейчас и возьмешь княжича? – спросил Мамай. Сейчас и возьму, эмир. И чтобы видел ты разницу Московским князем и Тверским, который, по малости достатков своих, должен раздавать под деньги родных детей, – сей же час велю отсчитать тебе пять тысяч рублей за ярлык и десять тысяч за тверского княжича!
Глава 45
Ставка Мамая в ту пору находилась верст на четыреста выше Сарая, на правом берегу Волги, где стоял большой и оживленный татарский город Укек. В нем временно, как здесь говорили,– покуда не будет очищен от мятежных ханов Сарай-Берке,– проживал Магомет-Султан со своим гаремом; Мамай же,– отчасти по привычке к походной жизни, а больше из присущей ему осторожности,– жил в юрте, за городом, в становище особо преданного ему тумена. В полуверсте от его ставки, также в шатрах, расположился лагерем великий князь Дмитрий Иванович, со своими людьми.
В течение месяца, пока Дмитрий ожидал приема у Мамая и у хана, его приближенные, из которых многие находились в Орде впервые, с любопытством присматривались к окружающему и почти ежедневно наведывались в Укек. А в нем было на что поглядеть и чему подивиться.
Город, насчитывавший несколько десятков тысяч жителей, был расположен на самом берегу Волги, у подножия невысокой горы, по мере своего роста взбираясь все выше на ее глинистые склоны. Внизу стояло много больших каменных зданий, красивых мечетей и караван-сараев; на уступах горы лепились глинобитные домики поменьше, по только самые невзрачные и жалкие лачуги были, казалось, достаточно легки и проворны, чтобы вскарабкаться почти до самой ее вершины.
С тех пор как в Орде пошли нескончаемые усобицы и Сарай стал подвергаться частым разграблениям, множество искусных умельцев и простых ремесленников начало переселяться оттуда в Укек, способствуя росту и процветанию города. Но богател он, главным образом, своей торговлей. Это был первый татарский рынок на водном пути, по которому шли из Булгар и из северных областей Руси всевозможные товары, предназначенные для продажи на юге: меха, кожи, шерсть, кузнечные в шорные изделия, мед, воск, а также моржовая и мамонтовая кость, а главное – соль с Урала.
*Этот город, упоминаемый в русская летописях под именем Содома, находился на девять верст выше нынешнего Саратова. В конце XIV в. он был до основания разрушав Тамерланом, а сейчас на его месте находятся села Увек и Ивановское. Археологи находят здесь много интересных вещей, свидетельствующих о том, что Укек был крупным промышленным и ремесленным центром.
**В северных областях России, а в особенности в Сибири, и до наших дней находят большое количество мамонтовых бивней, которые ранее служила ценным предметом торговли. Вполне заменяя слоновую кость, и стоили гораздо дешевле последней.
В обратном направлении двигались по Волге ткани, оружие, хлеб, вино, ковры и драгоценная утварь. Многие иноземные купцы, прежде совершавшие все торговые сделки в Сарае, теперь приезжали со своими товарами в Укек, чтобы здесь с большей выгодой поменять их болгарским купцам на собольи и горностаевые меха. Кроме того, и сам Укек славился своими резчиками но кости, искуснейшими гончарами, а в особенности – мастерами по выделке кожаных татарских доспехов, имевших широкий спрос во всей Орде.
В силу всего этого город жил напряженной деловой жизнью, и рыночные площади его всегда были полны всевозможных товаров, иной раз и вовсе не виданных на Руси, а потому люди князя Дмитрия Ивановича не упускали случая потолкаться по этим базарам, поглядеть, а то и закупить, что приглянется.
Однажды, в день большого торга, боярин Иван Васильевич Вельяминов, который тоже находился в свите великого князя, прохаживаясь в сопровождении нескольких слуг по рыночной площади города, был остановлен диковинным зрелищем: на плотно утоптанной земле, под стеной караван-сарая, сидел, поджав под себя ноги, изможденный старик с очень темным высохшим лицом и желтовато-серой бородой,-точно под цвет его заношенного халата. Старик, приложив к губам коротенькую камышовую дудку, наигрывал что-то жалостливое, а прямо перед ним, в середине большого круга, образованного толпой зевак, стояла на хвосте, покачиваясь из стороны в сторону, большая черная змея, с головою, раздутой как пузырь.
Вельяминов глядел на это довольно долго, так что даже начало клонить ко сну, и он сам, подобно той ученой змее, начал легонько покачиваться туда-сюда. Но тут старик, панно оборвав жалостливую мелодию, задудел что-то веселое и змея, тотчас приподняв голову-пузырь, начала приплясывать на хвосте, ровно бы приноравливалась. Малое время спустя, заметив, что и сам он притопывает ногами в лад музыке, боярин с досадою отвел глаза в строну и, чтобы прогнать наваждение, оглянул лица стоявших вокруг людей. Одно из них, красное и широкое, как лопата показалось ему знакомым, но Иван Васильевич не успел вспомнить, где его видел, так как внимание его снова привлекли действия темнолицего старика, который, перестал играть, сунул дудку за пазуху и протянул вперед поросшую седым пухом руку. Змея, голова которой сделалась теперь маленькой, как у обыкновенной гадюки, тотчас полезла к нему в рукав и скрылась под халатом.
Ее хозяин, не торопясь и не обращав никакого внимания на собравшуюся вокруг толпу, вытащил из-за спины небольшой горшочек с землей, воткнул туда какое-то зернышко, полил водой из стоявшей рядом тыквенной баклаги и что-то забормотал, легонько поводя сверху руками.
Не прошло и пяти минут, как земля в горшке зашевелилась, из нее выбился тонкий бледно-зеленый побег, который на глазах стал расти и ветвиться, покрываясь узкими, блестящими листьями. Изумленный Вельяминов незаметно подергал себя за кончик уха,– но нет, он не спал и действительно видел все это наяву.
Диковинный кустик между тем вырос уже высотою в пол-аршина, и теперь на его верхушке набрякала и топорщилась розовая почка, вдруг открывшаяся пышным красным цветком. Боярин, в нос которому внезапно ударил сладкий, дурманящий запах, не знал, что и думать, по самое удивительное все же ждало его впереди: старик сорвал со стебля столь чудесно выращенный им цветок и, не переставая бормотать, подбросил его вверх. Все задрали головы и остолбенели: цветок неподвижно повис в воздухе, на высоте шести или семи аршин над землей.
Иван Васильевич не отрывал от него взора долго,– пока не заболела шея. Затем, чтобы передохнуть, опустил голову и поглядел на землю. Тут уже не было ни растения, ни горшка,– на его месте стояла деревянная плошка, в которую люди кидали мелкие монеты, а старый колдун укладывал свое немудреное хозяйство в торбу, явно собираясь уходить. Иван Васильевич снова посмотрел вверх, но цветка там уже не увидел,– он исчез неведомо куда, а что не упал па землю, в том боярин был готов поклясться Богом.
Зрители, поняв, что представление окончено, начали расходиться, восторженно цокая языками и громко обсуждал виденное. Только лишь краснорожий, ранее замеченный Вельяминовым, широко расставив ноги и запрокинув бороду, рыжую, как лисий хвост, продолжал шарить глазами по небу, отыскивая, куда улетел цветок. Наконец, ничего не обнаружив в безоблачной небесной синеве, он опустил голову, восхищенно крякнул и шагнул вперед, видимо намереваясь продолжать путь, прерванный интересным зрелищем. Но едва он сделал второй шаг, как стоявший тут же высокий татарин неожиданно толкнул его в грудь, отпихнув на прежнее место.
– Ты что, сдурел, шайтан долговязый? – крикнул рыжебородый, казалось не столько рассерженный, и удивленный выходкой татарина,-А ну, дай дорогу, не то сейчас полетишь в небо, как тот цветок!
– Закон запрещает тебе выйти из круга,– спокойно ответил татарин, передвигая на живот ятаган, заткнутый за пояс и прежде находившийся на его спиной. – Погляди вниз, тебя очертил мой господин, Касим-аль-Авах. И если ты перешагнешь черту, мне велено тут же убить тебя.
Рыжий быстро нагнул голову, и лицо его внезапно побелело. Он находился в центре круга, поперечником в сажень, выведенного на земле толстой меловой чертой.
– Матерь Божья! Ну, теперь пропал! – простонал рыжий, убедившись, что очерченная вокруг него белая линия плотно замкнута. Ноги его подкосились, он в изнеможении сел на землю, охватив голову руками, и замер, будто окаменев.
В этом коротком разговоре только последние слова рыжебородого были сказаны по-русски, но Вельяминов знал татарский язык и отлично понял суть всего происшедшего: в Орде исстари существовал закон,– хотя многими и позабытый, но еще сохранявший силу,– согласно которому неисправный должник, если заимодавцу удавалось очертить его кругом, обязан был оставаться в этому кругу, доколе не поладит с заимодавцем. В противном случае последний получал право обратить его в рабство, а за попытку выйти из круга – убить.
Из толпы между тем выступил невысокий толстый человек, в чалме и в полосатом халате, и подошел к самому кругу. Его лоснящееся лицо, отороченное черной, холеной бородкой, выражало злорадство и презрение.
– Ну, что теперь скажешь, сын верблюда и гиены? – обращаясь к сидевшему на земле пленнику.– Будешь платить или хочешь, чтобы я продал тебя в Кафу, на галеры?
Рыжый поднял голову и с тоской посмотрел на говорившего.
– Смилуйся, почтенный Касим-ата,– проникновенно произнес он,– Пожди еще малость! Вот завершу одно дело, тогда все тебе отдам сполна и еще полстолька. Богом клянусь! Но для этого беспременно мне надобно быть на воле!
*Кафа – нынешняя Феодосия. Эта древняя греческая колония в Крыму, в середине XIII в. захвачена генуэзцами н пробыла под их властью 250 лет, после чего перешла к туркам.
– Что значит клятва человека, который закопал в землю свою совесть? Все это я уже слыхал от тебя не один раз. Но теперь ты в моей власти, и время лживых обещаний для тебя прошло. Плати или будешь продан!
– Да ты сам помысли: нешто за меня выручишь, сколько я тебе задолжал? А оставишь меня на воле,– не только свое получишь, а еще и наживешь немало!
– Ты лжешь, и если я с тебя что-нибудь получу, то не раньше, чем хвост моего верблюда дорастет до земли! Пусть фряги дадут за тебя только половину того, что ты мне должен, и я скажу, что сделал хорошее дело. А когда я буду вспоминать о второй половине, мне послужит утешением то, что на галерах ты получишь в десять раз больше плетей, чем я потерял дирхемов!
– Смилуйся, почтенный Касим-ата! Ведь сам знаешь, как мне не потрафило. Потерпи еще маленько! Я обернусь!
– Ты не обернешься потому, что тебе больше никто не верит, и ни один глупец не даст тебе в долг товаров. Ведь ты даже собаке своей задолжал кусок мяса!
– Пожди хоть до осени, Касим-ата, не губи! Ведь беда со всяким может приключиться!
– Если беда пришла к тебе, то у меня нет охоты показывать ей ворота своего дома. В последний раз спрашиваю: будешь платить?
– Вестимо, заплачу! Ты только теперь отпусти меня, дабы я мог…
– Не истощай моего терпения, презренный обманщик! Сейчас, когда я заключил тебя в круг, ты больше от меня не уйдешь! Но мои люди могут сходить за деньгами, куда ты укажешь, или отвести тебя в ставку русского великого князя. Если в своей стране ты и вправду такой важный купец, как говоришь,– он за тебя заплатит.
– Не заплатит за меня этот князь,– сокрушенно промолвил рыжий.
– Почему не заплатит?
– Во вражде мы с ним.
– А, понимаю: ты и его успел обмануть! Ну, если так, пеняй на себя. Эй, люди! Надеть на него ошейник!
*Ошейник, на котором было выгравировано имя хозяина раба, служил знак он рабства.
Слуги Касим-аль-Аваха кинулись было исполнять приказ своего господина, но тут Вельяминов, сразу насторожившийся при последних словах пленника, неожиданно для всех выступил вперед.
– Сколько тебе должен этот человек? – спросил он у Касима.
– Две тысячи серебряных дирхемов,– почтительно ответил купец, сразу оценив по достоинству барскую внешность и богатый наряд незнакомца.
– Добро. А фрягам ты его хотел продать за половину того?
– Мне бы, наверное, заплатили больше половины, благородный господин,– промолвил Касим, смекнувший, куда клонится дело. – Этот урус еще не стар и силен, как медведь, в Кафе на таких всегда есть великий спрос…
– Ну, так вот, почтенный, мне тут долго разговаривать недосуг: раз ты сам сказал половину,– тысячу дирхемов за него даю, и ни единого больше! Ежели согласен,– получай деньги, а нет,– вези своего медведя в Кафу или куда тебе любо.
– Тысячи мало. Меньше чем за полторы не отдам.
– Ну, тогда бывай здоров! Он мне и за тысячу не надобен. То я сказал лишь для того, чтобы поглядеть – сам-то ты как свое слово держишь? И теперь вижу, каков ты есть: другого за обман коришь, а и сам не лучше,– промолвил Вельяминов и с достоинством зашагал дальше. Но не отошел он и десяти шагов, как Касим закричал:
– Остановись, сиятельный господин! Я согласен!
– Ну, то-то же,– сказал Иван Васильевич и добавил, уже по-русски, обращаясь к своему дворецкому: – Заплати, Степка, татарину тысячу дирхемов, а этого человека возьми к себе, ежели он голоден,– накорми, а вечером, как стемнеет, приведешь его в мой шатер.
Глава 46
Не знаю, как и благодарить твою милость, батюшка боярин,– низко кланяясь, говорил рыжебородый, когда несколько часов спустяя его ввели в богато убранный шатер Ивана Вельяминова.– Не ведаю я, почто ты меня купил, однако почитаю за истинное счастье быть хош бы холопом у своего русского господина, заместо того чтобы гнуть хрип на каторге, под фряжскими плетьми.
– Как звать тебя и откуда родом? – спросил Иван Васильевич, сидя на постели, покрытой собольей полостью, и пристально разглядывая свою живую покупку.
– Некомат я, сурожанян, батюшка. И скажу не хвалясь: род ной знатен своею торговлею еще с тех времен, когда наш Сурож был под Тмутараканью. Я и досе храню серебряный ковш, даренный пращуру моему Парамону самим Князем великим Олегом Святославичем.
– Как же ты до того дошел, что какой-то поганый нехристь ныне продает тебя на базаре, ровно вола?
– Эх, боярин, не иначе как по судьбине моей пьяный черт бороной прошел! Началось с того, что пограбили меня фряги, когда, назад тому шесть годов, повоевали они наш Сурож. Ну, немало все же у меня осталось, и спустя год нагрузил я три больших будары всяким товаром и поплыл с ними в Трапизону, думая там хорошо расторговаться. Ан и тут ждало меня лихо: уже возле самого грецкого берега потопила нас буря,– сам едва спасся! Воротился в Сурож, соскреб какие были остатки, повез на Русь, только и там мне не потрафило. С той поры торговал помалу в Орде, и все шло ладно, да ведь эдакая безделюжина не по мне,– я обвык вершить большие дела. И вот нонешней весною попутал меня бес: набрал я в долг всяких товаров у тутошних купцов и повез в Булгар. Там хорошо их распродал и закупил на всю выручку пушнины. Плыву в обрат и думаю: ну, теперь сызнова стал на ноги! Только, видать, беду не водою, ни сушею не объедешь: отколь ни возьмись, наскочили в пути новгородские ушкуйники, и вот, я опять ни с чем… А купцам, у которых я взял товары, нужды до того нет,– плати, да и только!
*Нынешний Судак. Это бывшая греческая колония Сугдея, возникшая в III v. на побережье Крыма, позже завоеван славянами и превратившаяся в русский Сурожок. Его торговое значение, особенно в областях, прилегающих к Азовскому морю, было настолько велико, что само море это получило название Сурожского. В X-XII в. этот город входил в состав Тмутараканского княжества, потом был захвачен половцам и, а в 1365 г.– генуэзцами, которые назвали его Сольдаей. Сто десять лет спустя его завоевали турки. В дальнейшем, под властью крымских ханов, Сурож захирел, утратил всякое торговое значение и России достался в виде развалин.
Тмутараканское княжество, или Тмутараканская Русь,– столицей которого был город Тмутаракань, находившийся на Таманском полуострове, напротив Керчи,– охватывала Северный Кавказ и восточную половину Крыма. Существовала уже в IX в., а может быть, и раньше. В XI в. вошла в состав великого княжества Черниговского, и в двенадцатом была захвачена половцами.
*** Князь Олег Святославич Черниговский, умерший в 1115 г.,– внук Ярослава Мудрого,– создатель великого княжества Черниговского, к которому он присоединил Рязанско-Муромскую область, Новгород-Северскую землю, земли вятичей и Тмутараканскую Русь, где он княжил до овладения Черниговом.
**** Трапезунд. Он в то время был столицей небольшого, отделившегося от Византии греческого государства, носившего незаслуженно громкое название Трапезундской империи, которая просуществовала с XII в. до 1461 г., когда была захвачена турками.
– Как же ты эдак оплошал, что дал тому басурманину обвести себя кругом? Раз уж такое дело, надобно глядеть в оба! Не случился бы тут я, и быть бы тебе гребцом на каторге.
– Я во как стерегся, боярин! Да ведь ты сам намедни видел, чего тот колдун разделывал. Чудеса! Загляделся я и забыл все на свете, а треклятый Касим того и ждал. Он наверняка со змеиным стариком загодя сговорился, чтобы меня уловить.
– И то может быть,– согласился Вильяминов и, чуть помолчав, добавил: – А скажи, ты, часом, в Москве не бывал? Твое обличье мне будто знакомо.
– Случилось и в Москве побывать, – с видимой неохотой ответил Некомат.– Три тому года наезжал я туды с другими нашими сурожанами.
– А, помню я тот караван! Сам покупал тогда у вас оскамит и узорочье. Почто же ты в Москве не остался? Иные ваши гости у нас прижились и богатеют.
– Не было мне удачи… Подкатили меня тогда завистники мои, Васька Капица да Тимошка Весяков.
– Знаю их. Оба ныне в деньгах и ворочают на Руси большими делами. – Мог бы и ты. Да погоди: не тебя ли тогда повелел государь наш, Дмитрей Иванович, бить батогами и гнать из Москвы за то, что спустил ты его приказному гнилое сукно для дворцовой стражи?
– Меня, боярин… А в чем моя вина? Всякий купец хочет продать свой товар, будь он добрый, будь он худой. Его силком не навязывал,-надо было глядеть. На то покупщику и глаза дадены, чтобы он видел, что берет. И коли я оказался в торгу сильнее и сметливее, так за то меня батогами бить?!
*Булгар – столица Волжской Болгарин, находился при впадении Камы в Волгу, где ныне находится село Болгары.
**Оксамит – рытый шелковый бархат. Узорочье – драгоценности.
***Гость – иноземный купец или русский, торгующей с заграницей.
– Ну, это как сказать. По мне, сметливее оказались те твои земляки, кои торговали по совести и с того в Москве забогатели. У нас это ныне легко, – только почни да не плошай! Тебе же туда пути заказаны… До поры, вестимо, покуда княжит над Русью Дмитрей Иванович.
– Коли так, мне Москвы больше не видать: но летам князь ваш мне в сыны годится, он меня вдвое переживет. А жаль. Все же тогда успел я купить близ Москвы сельцо и добрую пустошь. Думал – сгодится, ан теперь пропадет зазря.
– Как знать? Не редкость люди и в молодых годах помирают, особливо князья. Наипаче когда есть охотники в том им помочь,
– А что? – насторожился Некомат.– Нешто Москве не люб этот князь?
– Москва – это тебе не один человек. Кому люб, а кому и не люб. Немало есть таких, которые втайне держат сторону Михаилы Тверского. То вельми понятно: Дмитрей Иванович, по себе знаешь, норовом крут и многих достойных людей изобидел зря. А князь Михаила сердцем кроток и, к тому, щедр.
– Вот ему бы на Руси и княжить, – вздохнул Некомат.– Можно было бы вершить Дела. Дай-то Бог!
– Будешь плох, не даст и Бог. А коли есть догадка,– на Москве денег кадка,– усмехнувшись, промолвил Вельяминов и, помолчав, добавил: – Небось рад, что не угодил на каторгу?
– Век не забуду того, милостивец, как ты меня от погибели спас! И коли оставишь меня на воле, вот те крест святой: не минет и года, как возверну тебе все сполна, что ты отдал за меня татарину. А ежели велишь остаться у тебя в холопах,– на то теперь твоя воля, и я ее должен исполнить.
– Холопов у меня и без тебя хватает,– небрежно сказал боярин.– Я тебя откупил лишь по жалости,– обидно мне стало, что поганый басурман на русского человека надевает ошейник, ровно на пса. Ты свободен, как и досе был, а той тысячи дирхемов можешь мне вовсе не отдавать,– для меня это безделица. Я еще и другое сделаю: дам тебе взаем сколько потребно, дабы снова ты стал на ноги, как подобает купцу столь старого рода. Расторгуешься – отдашь, а то и просто отслужишь. Мне здесь, при Мамае, верный человек надобен.
– Да воздаст тебе Господь сторицею за доброту и за ласку твою, боярин! А уж во мне не сумневайся. Когда тебе то потребуется,– только скажи! В лепешку расшибусь, руки и ноги себе узлами позавязываю, а сделаю все, как надо! У меня тут лазейки есть повсюду.
– Вот и ладно. Когда будет надобно, пришлю гонца. Коли он тебе покажет серебряный дирхем Узбековой чеканки, с дыркой посредине,– ему верь во всем и сделай, что он скажет, И помни крепко: мне в моих делах пособишь,– себе путь в Москву откроешь. А там денег кадка… Смекаешь?
– Лучше некуды, боярин! Я ведь тоже не на руки обувки надеваю! За меня будь надежен.
Глава 47
Рязанци же гордомысленни на рать идучи рекоша друг другу: не емлем братья, с собою доспехов, ни щитов, ни копья, ни иного коего оружия, токмо ужища и ременье емлем, было бы чем взять москвичей, понеже суть страшливы и не крепки. И бысть им сеча лютая на Скорнищеве, и поможе Бог князю Дмитрею одолеша рязанцев, а князь Олег едва убежа. Вологодская летопись
Пока Дмитрий Иванович ездил в Орду, князь Михаила Тверской тоже не терял времени даром. В Литве он без особого труда договорился с князем Ольгердом о новом совместном походе на Москву. Но сколько он ни настаивал на необходимости действовать немедленно,– пока его ярлык на великое княжение еще сохранял свою законную силу,– осторожный Ольгерд, привыкший тщательно готовиться к таким походам, до следующего лета выступить не соглашался. Тогда Михаила Александрович, чтобы использовать отсутствие Дмитрия и хоть чем-нибудь ему досадить, тою осенью сам вторгнулся в северные московские земли и захватил и разграбил Бежецкий Верх и Углич, откуда погнал гонца к Ярославскому князю Василию Васильевичу, предлагая ему отложиться от Москвы и действовать сообща от Дмитрия. Но князь Василий ответил решительным азом н стал готовить свой город к обороне, призывая на помощь соседних князей,– Ростовского и Белозерского. Однако Михаила Александрович, у которого войска было немного, на Ярославль не пошел, а, повернув на север, захватил врасплох город Мологу, разграбил его и сжег. Оттуда он двинулся на Кострому, но, не дойдя до нее пятидесяти верст, получил известие о том, что Дмитрий Иванович возвратился из Орды в Москву. Это заставило Тверского князя прекратить поход и возвратиться в свои земли.
*Бежецкий Верх – ныне Бежецк, город в Тверской области. Первоначльно он принадлежал Великому Новгороду, потом Москве.
Тем временем Ольгерд, усиленно готовясь к новой войне с Московской Русью, по своему обыкновению хитрил и прикидывался другом Дмитрия. Он прислал в Москву большое посольство, заверяя Дмитрия Ивановича в том, что вмешиваться в московско-тверские распри больше не станет, и даже предложил закрепить мир и дружбу с Москвой браком своей дочери Клены с князем Владимиром Андреевичем Серпуховским. Его предложение было принято, состоялось обручение молодых, назначили и день свадьбы. Теперь все, по видимости, складывалось для Москвы благоприятно: отношения с Ордой были налажены, со стороны Литвы в ближайшем будущем опасность не угрожала, было очевидно я то, что Михаила Александрович не возобновит своих нападений, пока сын его находится в Москве заложником. Но Дмитрий Иванович знал по опыту, что такое затишье не будет долгим, и потому решил не упускать времени, удобного для того, чтобы разделаться с Рязанским великим князем Олегом Ивановичем.
Перед самым Рождеством на Рязань выступила московская рать, под начальством воеводы князя Боброка-Волынского.
Рязаяцы, еще не имевшие серьезных боевых столкновений с Москвой и помнившие лишь свою легкую победу под Лопасней, семнадцать лет тому назад одержанную над слабым и нерешительным отцом Дмитрия,– узнав о приближении московского войска, сейчас же выступили навстречу, весело зубоскаля и похваляясь, что, не обнажая сабель, прогонят москвичей плетьми и навсегда отобьют им охоту соваться в Рязанскую землю.
Встреча произошла у села Скорнищева, и в завязавшейся битве разянское войско потерпело страшное поражение. Князь Олег Иванович, преследуемый по пятам, едва спасся в Орду, а на великое княжение в Рязани Дмитрий Иванович посадил своего ставленника, Владимира Ярославича Пронского.
Лишь спустя год, заручившись поддержкой Мамая и выдав свою дочь Анастасию за влиятельного татарского темника, мурзу Солохмира,– ставшего с той поры его правою рукой, – князь Олег Иванович с его помощью прогнал из своей столицы Владимира Пронского и вновь утвердился на великокняжеском столе в Рязани. Но перед Дмитрием он все же счел за лучшее смириться и обещал ему свою дружбу.
В мае следующего года Михаила Александрович Тверской, вместе с Андреем Ольгердовичем Полоцким, Дмитрием Друцким и другими литовскими князьями, снова напал на московские земли. Он захватил город Дмитров, взял с него откуп и увел оттуда большой полон, а затем осадил Псреяславль-Залесский. Но этот город был сильно укреплен, взять его приступом не удалось, а потому, опустошив его окрестности и прослышав о приближении московского войска, князь Михаила и его союзники повернули на север. По пути они ограбили город Кашин и привели в покорность Твери Кашинского князя Михаила Васильевича, склонявшегося к Москве, а после того подступили к Торжку, откуда новгородцы, считая этот город своим, незадолго до того прогнали наместника, поставленного Тверским князем. Отсюда Михаила Александрович отправил в Новгород посла с требованием немедленно сдать Торжок и выдать воевод, осмелившихся посягнуть на его наместника. Новгородцы это требование отказались исполнить и выслали против князя Михаилы большое войско, которое в первом же сражении с тверичами было разбито наголову. После этого Михаила Александрович взял Торжок приступим, разграбил его и сжег.
Все эти действия Тверского князя имели целью отвлечь внимание Дмитрия Ивановича от Ольгерда, который в это время, с огромным войском, быстро двигался на Москву, как всегда, стараясь подойти втайне и напасть врасплох.
Но на этот раз его расчеты не оправдались: князь Дмитрий, на опыте двух предыдущих войн хорошо изучивший тактику литовского полководца, через своих лазутчиков вел за ним неусыпное наблюдение и вовремя был предупреждав об опасности. Едва перейдя русские рубежи, передовой ряд литовского войска столкнулся с московским сторожевым полком и был разбит. Это сразу окрылило москвичей и обескуражило Ольгерда, который увидел, что его игра разгадана и что дальше надо воевать в открытую. Все же он продолжал двигаться вперед, и встреча главных сил произошла возле города Любутска, куда, на соединение с Олъгердом, подошло из-под Торжка и войско Тверского князя.
*Мураз Солохмир, в крещении Иван Мирославич,– рязанский боярин, от сыновей которого идет целый ряд русских дворянских фамилий: графы Апраксины, Вердеревские, Базаровы, Шишкины, Ханыковы. Крюковы, Дувановы, Ратаевы, Кончеевы н Пороватые.
Противники остановились один против другого, по сторонам глубокого оврага, в лесистой и сильно пересеченной местности, где не приходилось и думать о каком-нибудь обходном движении, засаде и прочих военных хитростях, в которых был так силен Ольгерд. Прямых же действий он не любил и потому стоял на месте, не начиная сражения. Не начинал его и Дмитрий, знавший, что к нему отовсюду идут подкрепления и что с каждым новым днем увеличивается вероятность его победы. К битве не располагала и погода: шел нескончаемый холодный дождь, промокшие до нитки воины не имели даже возможности развести костры и обсушиться.
Так прошло несколько дней. Наконец, заметив в своем войске признаки нарастающего уныния и боясь окружения, Одьгерд вступил в переговоры. Он дал Дмитрию клятвенное обещание впредь не выступать на стороне Тверского князя против Москвы и в русские усобицы не вмешиваться. Михаиле Александровичу, крайне недовольному таким оборотом дела, ничего не оставалось, как возвратить Москве все захваченные им города, после чего Дмитрий согласился отпустить Тверского княжича Ивана, получив за него предварительно десять тысяч рублей, уплаченных Мамаю.
На том был заключен мир, в скором времени закрепленный торжественно отпразднованной свадьбой Владимира Андреевича Серпуховского и княжны Елены Ольгердовны.
Глава 48
В 1373 году, впервые за много лет, русские города и веси встретили весну в тишине и мире.
Князь Михаила Александрович, но надеясь больше на помощь Ольгерда, -с наступлением тепла не пошел, как стало у него обычным, разорять окраинные московские земли, а сидел дома и, согнавши в Тверь множество смердов из окрестных селений, обновлял одряхлевшие стены своей столицы.
Князь Дмитрии Иванович, хотя и успокоенный известиями, приходившими из Литвы и из Твери, все же держал наготове большую рать: ему уже не верилось, что будет в его жизни хоть один такой год, когда она не понадобится. Сейчас более всего опасался он непокорности Новгорода, где предстояло собрать дань за несколько последних лет. Но и тут все обошлось ладом: князя Владимира Серпуховского, посланного Москвой, новгородцы приняли с честью и дань заплатили сполна.
Но войско пригодилось Дмитрию для другого: едва наступило лето, пришли вести, что князь Олег Иванович чем-то прогневал Мамая, а потому на Рязанщину нагрянула татарская орда, которая, разоряя все на своем пути, приближается к московским рубежам. Когда слухи эти подтвердились, Дмитрий Иванович сам вывел свою ратную силу на Оку и простоял там все лето, преграждая путь татарам, покуда они, разграбив Рязанскую землю, не повернули назад.
Вскоре стало очевидным, что если бы не предусмотрительность Дмитрия, – Москва разделила бы участь Рязани. Мамай бросил в этот поход почти все свои тумены, чего не сделал бы ради одной Рязанщины. И это известие встревожило великого князя больше, чем та опасность, которой он только что избежал: если Мамай так осмелел, значит, он уже не опасается за свой тыл,– иными словами, чем-то нарушено то равновесие сил, которое только и позволяло Москве успешно отбиваться от своих многочисленных врагов. Что же случилось в Сарае и почему бездействует Карач-мурза?
Долго ломать над этим голову Дмитрию не пришлось, вести, в конце лета пришедшие с Волги, все ему разъяснили.
Еще несколько месяцев тому назад в Орде, как и на Руси, все было тихо. Левобережное ханство, под властью Тулюбек-ханум, вот уже три с лишним года жило мирной и спокойной жизнью. Хаджи-Черкес крепко держал клятву, данную Карач-мурзе, а более мелкие улусные ханы, чувствуя силу Сарая, не отваживалось на восстания и заговоры. Ничто извне, казалось, не предвещает беды, но неотвратимая угроза родилась и зрела в стенах самого Алтын-Таша, где Тулюбек-Хануы, ослепленная этим видимым благополучием, деятельно готовила свою собственную гибель.
С того самого дня, когда ей пришлось уступить Карач-мурзе в споре о ярлыке для Тверского князи, она, – подогреваемая Улу-Кертимом и другими завистниками,– неуклонно старалась урезать власть и значение своего первого советника, а главное – оттягать ту воинскую силу, на которую он опирался. И постепенно в этом преуспела. Путем всевозможных перемещений, подкупов и иных хитроумных ходов в точение двух лет она добилась того, что в трех туменах из пяти, приведенных Карач-мурзой, все темники и тысячники готовы были повиноваться только ей. Такое положение позволяло ханше все меньше и меньше считаться с Карач-мурзой в делах правления и возвышать Улу-Керима, который почти открыто пользовался теперь се милостями и приобретал в Сарае решающее значение.
Карач– мурза довольно скоро начал замечать эти перемены и без труда понял их истинную причину, а также и то, к чему они ведут. Но он питал отвращение ко всякий интригам, а к тому же был горд и потому долгое время делал вид, что все это совершается в согласии с его собственными желаниями или же ему безразлично. Л позже, когда дело зашло уже слишком далеко, он молча от всего отстранился, перестал проявлять какой-либо интерес к государственным делам и все реже стал показываться в Алтын-Таше.
Однако самолюбие его жестоко страдало. К тому же, хорошо зная Улу-Керима, он понимал, что жизнь его теперь находится в постоянной опасности, а потому твердо решил уехать из Сарая и ждал лишь случая, когда это можно будет сделать без открытой ссоры с Тулюбек-ханум и без ущерба для своего достоинства.
Такой случай представился раннею весной 1373 года: из улуса Карач-мурзы прискакал гонец с известием, что Айбек-хан разграбил Карачель и угнал с собою много коней. Гонец добавил, что, по слухам, в улусе Айбека собрана большая орда, для которой ему, очевидно, и понадобились лошади. Выслушав эти новости, Карач-мурза тотчас отправился к ханше.
– Я Думаю, ханум,– добавил он после того, как вкратце изложил полученные новости,– что мне теперь следует поехать туда, потому что в моем улусе почта не осталось воинов и никто не помешает Айбеку повторить набег и забрать все, что там еще уцелело. Здесь же я больше не нужен: в Орде все спокойно, а в делах у тебя есть теперь и другие советники, которые вполне заменят меня. Из своих воинов я возьму с собой только два тумена, а три оставлю тебе.
Выслушав все это, хатунь на минуту задумалась. Какой-то внутренний голос ей говорил, что не следует отпускать из Сарая Карач-мурзу и что он уезжает лишь потому, что несправедливо ею обижен. Если так,– это еще можно поправить, ведь он был ей искренне предан и в душе, наверное, не перестал любить ее… Но ревность к власти и мстительное за унижение, испытанное ею в деле Тверского князя туже заглушили этот слабый голос благоразумия. И она холодно сказала:
– Я слишком многим тебе обязана, царевич, чтобы теперь, когда твой улус находится в опасности, удерживать тебя здесь, хотя бы мне этого и хотелось. Поезжай, и да сопутствует тебе милость Аллаха!
Карач– мурза уехал. Он пробыл два месяца в Карачеле, который, как выяснилось на месте, не столь уж сильно пострадал от нападения Айбек-хана, а потом отправился в Хорезм, к семье.
Уже почти два года не видел он жены и сыновей. Наир, которой едва минуло двадцать восемь лет, была еще очень красива, но несмотря на радость свидания с горячо любимым мужем, с которым так редко доводилось ей видеться, – на лице ее лежала тень какой-то внутренней перемены. Когда она думала, что муж на нее не смотрит, взгляд принимал выражение покорной грусти,– он тотчас это заметил и понял, что таково теперь привычное состояние се души. Заметил он и скорбные складки, появляющиеся в уголках ее рта, едва лишь с него сбегала улыбка, и ему стало ясно: душа ее старится раньше тела. Он знал – почему, и сердце его наполнилось жалостью и нежностью к ней. Но разве он виноват, что такова жизнь и что Аллах захотел создать ее женщиной? Разве он хуже других мужей и делает что-нибудь такое, чего не дозволил Пророк? И сам не предпочел бы жить все время дома, если бы не родился воином и улусным князем?
Желая ободрить жену и сказать ей приятное, оп привлек ее к себе и промолвил:
– Не грусти, птичка! Теперь я долго останусь с тобой, а если поеду в улус, то и тебя возьму с собой, и сыновей. Им уже надо привыкать к походной жизни.
Наир покорно прильнула к нему, лицо ее осветилось благодарной улыбкой, глаза молодо вспыхнули. Но сейчас погасли: она уже изверилась в возможности такого счастья.
На Рустеме, которому было почти одиннадцать лет, взгляд Карач-мурзы часто останавливался с заметной гордостью. Это был рослый мальчик, с большими карими глазами, похожий на мать. Черты его лица были еще по-детски расплывчаты, но уже и теперь можно было сказать с уверенностью, что он будет очень красив. Ловкий и наделенный природной грацией, он был предприимчив, смел и любознателен. Для него не было большего удовольствия, чем слушать рассказы отца о его походах, о полководцах других стран и о великих завоевателях прошлого.
Девятилетний крепыш Юсуф был, наоборот, застенчив и медлителен, он долго дичился отца, и склонности его еще трудно было определить.
Вскоре после приезда Карач-мурза купил сыновьям по маленькой, но настоящей сабле, в нарядных, изукрашенных черненым серебром ножнах. Дарить мальчикам оружие, чтобы они с детства приучались владеть им, было у татар в обычае.
При виде такого подарка глаза Рустема вспыхнули радостью. Почтительно поблагодарив отца, он тотчас вынул саблю из ножен и как зачарованный впился взором в светлый, волнистый узор, растекающийся но темному грунту клинка. Потом, упершись острием в пол, попробовал саблю на гибкость, щелкнул по ней ногтем и, прислушавшись к мелодичному, медленно замирающему звуку, востороженно воскликнул:
– Настоящий табан!
– Верно, сын,– с удивлением промолвил Карач-мурза.– Я вижу, ты уже хорошо разбираешься в оружии.
– Я без ошибки отличу табан от гинды и от хорасана,– с гордостью сказал Рустем.– А ну, покажи твою,– обратился он к Юсуфу, который, не в пример брату, отнесся к подарку довольно равнодушно.– Ну, это нейриз, сразу видно: у него узор почти такого же цвета, как основа!
Весь день Рустем не расставался со своей саблей. Прежде всего он старательно принялся ее оттачивать и удовлетворился только тогда, когда она стала легко перерубать подброшенную в воздух тряпку. Затем ушел в сад и там до темноты рубил развешенные на нитках глиняные шарика и прутья, которые вставлял в особую, видимо уже давно служившую ему подставку. Ложась спать, он положил саблю к себе под голову.
*Табан, хорасан, гнида и нейриз – сорта среднеазиатской булатной стали. Особенно высоко ценился табан, нейриз был качеством ниже остальных трех.
Утром, проснувшись рано в подойдя к открытому окну, Карач-мурза остановился как вкопанный: в саду, на низкой каменной стене сидел тощий кот, весь поглощенный созерцанием стайки воробьев, опустившихся на соседнее дерево, сзади, с саблей в руке, бесшумно подходил к нему Рустем. Еще миг,– сверкнуло серебряное пламя клинка, и голова кота завертевшись в воздухе, упала па землю.
– Зачем ты убил кота? – строго крикнул Карач-мурза, несмотря на овладевшее им возмущение, подсознательно отмечая про себя мастерство удара.
– Как зачем? – удивился Рустем.– Чтобы научиться!
– Учиться надо так, как ты учился вчера. Ты учишься быть воином, а не мясником!
– На войне надо будет рубить головы. И я хотел попробовать, как рубится настоящая голова.
– Вот на войне и будешь пробовать! Там каждый, рубит чужие головы, может потерять свою, и каждый имеет возможность защищаться. А ты убил беззащитное животное.
– Это чужой кот,– пробормотал смущенный Рустем.
– Все равно. Он тебе ничего плохого не сделал, и Аллах дал ему жизнь не для того, чтобы ты ее отнял.
«А разве тем людям, которых я буду убивать на войне, жизнь дал не Аллах?» – хотел возразить Рустем. Но, вспомнив, что с отцом нельзя спорить, он покорно ответил: Хорошо, отец, я больше не буду рубить котов.
– Ну, а ты? – спросил Карач-мурза у Юсуфа, который, стоя сбоку, молча наблюдал за происходившим, -Тебе не жалко кота?
– Нет,– подумав, ответил мальчик,– Кот убивает птичек, а Рустом убил кота. Так ему и надо!
– Гм… Это не одно и то же: кот убивает птичек, чтобы их съесть, потому что Аллах определил ему питаться птичками и мышами. А Рустем убил кота зря. Ну, а птичек тебе жалко?
– Птичек жалко. Они хорошо поют и никого не убивают.
– Значит, ты понимаешь, что нехорошо убивать без необходимости?
Но необщительный Юсуф,– то ли был иного мнения, то ли полагал, что он и так уж чересчур разоткровенничался, замолчал и в ответ на все попытки отца продолжить с ним разговор только посапывал носом и смущенно переминался с ноги на ногу.
Глава 49
В лето 6861(1373г.) бысть в Орде великая замятня и мнози князя ордынскиа межу собою избиени быша, а татар без числа паде, тако убо гнев Божии приде на них по беззаконию их. Полн. собр. русских летописей.
В середине лета к Карач-мурзе прибыл гонец из Сарая-Берке и привез чрезвычайные известия: месяц тому назад город врасплох захватил Айбек-хан и устроил там страшную резню. По его приказанию Тулюбек-ханум, перед тем пробывшая три дня его наложницей, была завязана в мешок с живыми кошками и брошена в Волгу, а Улу-Керим на крюке, поддетом ему под ребра, повешен на степс Алтын-Таша.
Но торжество Аибек-хана было недолгим: две недели спустя к Сараю подступил с большим войском царевич Араб-шах и после кровопролитной битвы взял город, подвергнув его еще более беспощадной резне и новому разграблению. Все же Айбек-хан спасся и с остатками войска ушел к себе в улус, поклявшись, что скоро возвратится и не оставит в живых ни одного человека из тех, которые признали Араб-шаха великим ханом и стали ему служить. Теперь многие жители, в особенности купцы и ремесленники, доведенные до отчаянья постоянными грабежами, бегут из Сарая в другие города, но на дорогах их ловят воины Араб-шаха, грабят и убивают. В народе же все громче говорят, что уж лучше бы скорее пришел Мамай со своим ханом,– у него, по крайности, есть достаточно силы, чтобы надолго удержаться в Сарае и прекратить бесчинства.
Карач– мурза выслушал эти новости с содроганием в душе. В памяти его, как живая, встала Тулюбек-ханум, он на мгновение представил себе ее прекрасное, еще недавно покорное ему тело, терзаемое под водой обезумевшими кошками и почувствовал почти физическую боль в сердце. В мыслях мелькнуло, что во всем происшедшем есть доля его вины. Если бы он остался в Сарае, этого бы, наверное, не случилось… Но ведь она не хотела, чтобы он остался, она сама отняла у него ту силу, которая служила ей надежной защитой, и если бы он не уехал -очень скоро позволила бы Улу-Кериму подослать к нему убийц. Нет, видно, так хотел Аллах поразивший ее безумием,– подумал он и, снова овладев собой спокойно отпустил гонца.
Осень и зима прошли спокойно, Карач-мурза безвыездно жил в Ургенче, В кругу семьи и старых друзей. Снова помолодевшая душой, Наир горячо благодарила Аллаха, услышавшего наконец ее молитвы. Но в ту суровую пору счастье женщины редко бывало продолжительным: однажды, весенним утром, к воротам их дома подъехал, в сопровождении десятка нукеров, богато одетый и стройный всадник, со смуглым, надменно-красивым лицом. И сердце Наир, тотчас узнавшей в нем царевича Тохтамыша, сжалось от тяжелого предчувствия.
Друзья детства, не видевшиеся несколько лет, встретились сердечно и долго беседовали с глазу на глаз,– обоим было что порассказать друг другу. Впрочем, о жизни Карач-мурзы п о том положении, которое оп занимал при Тулюбек-ханум. Тохтамыш был хорошо осведомлен. Сам же он все эти годы жал в своем улусе, не принимая никакого участия в ханских усобицах и ничем себя не проявляя, что не раз удивляло Карач-мурзу, хорошо знавшего характер и честолюбивые мечты своего двоюродного брата. Но теперь всему этому нашлось объяснение.
– Ты видишь сам,– говорил Тохтамыш, гневно сверкая своими черными, слегка навыкате, глазами,– Орда перестала быть любимой дочерью Аллаха! Прежде у нее бывал один повелитель, перед которым трепетало все, от Джунгарских гор до берегов Узу. А теперь что? Вот уже много лет десятки улусных ханов по очереди вырывают друг у друга власть, но ни у кого из них нет и не будет достаточно силы, чтобы эту власть удержать! Я давно это понял, потому и не пробовал. Что с того, что я захвачу Сарай или Сыгнак и объявлю себя великим ханом? По-настоящему великим я от этого не стану продержусь на престоле лишь несколько месяцев, пока кто-нибудь другой не подкупит моих темников и не отправит меня в сады Аллаха. Нет, тут нужна такая сила, которая сломила бы всех и которую не мог бы перекупить никто из ханов!
– Где ты найдешь теперь такую силу? – с сомнением молвил Карач-мурза.
– Такая сила есть! И если мы не сумеем обратить ее в нашу пользу, очень скоро она всех нас раздавит. Что же это за сила?
*Уз у – татарское название Днепра.
– Это Тимур-Ленг! Я наблюдаю за ним давно и вижу то, чего еще не видят другие. Десять лет тому назад о нем говорили как о простом разбойнике, грабившем караваны. Но четыре года спустя он стал эмиром и правителем Кеша. А теперь ему повинуется весь Мавераннахр! Но он на этом не остановится, запомни мои слова! Это второй Чингнс. Он будет продолжать свои завоевания, и если к тому времени, когда он сможет броситься на наши земли, Орда не будет снова сильна и едина, мы станем его рабами!
– Я тебя плохо понимаю, брат: если Тимур-Ленг хочет, как ты говоришь, завоевать Орду, он не станет помогать ей усилиться.
– Нет, но ему нужно другое: Тимур любит действовать наверняка и потому он не пойдет на нас, пока не покорит всех более слабых соседей. Но чтобы мы ему в этом не помешали, ему будет выгодно, если власть над Ордой получит такой человек, на дружбу которого он может рассчитывать. Понимаешь теперь?
– И этот человек…
– Этим человеком буду я, если Аллах захочет мне помочь! У меня все равно нет выбора: собака Урус-хан, да поразит его Аллах моей рукой, захватил мой улус и приказал убить меня,– я едва успел бежать в Хорезм. И теперь еду в Самарканд. Возле Тимура у меня есть свои люди, и он уже обо мне знает. В Орде он больше всех боится Урус-хана, который сильнее других и сидит у самых границ Мавераннахра. А потому я, как враг Уруса, могу надеяться на хороший прием у Тимура.
– Но если ты при помощи Тимура получишь власть над Ордой, тебе придется повиноваться ему в будущем.
– Пусть он пока так думает, но он никогда этого не дождется! Когда я стану великим ханом Белой Орды, подчинить себе Золотую будет не трудно. Ты сам знаешь, что у них делается! За один минувший год в Сарае сменилось три хана. Сейчас Айбек снова выгнал оттуда Араб-шаха; Хаджи-Черкес, Ильбаии и Ала-хан тоже, все сразу, объявили себя великими ханами,– каждый из них чеканит свои деньги, один в Хаджи-Тархани, другой в Сараил-Джадиде, третий просто у себя в стойбище!
*Тимур– Ленг(что в переводе значит «Железный Хромец») -прозвище, искаженное европейцами в «Тамерлан»,– один из величайших завоевателей Азии, в те годы начавший свое возвышение.
**Кеш – город и небольшое княжество в Средней Азии.
**Самарканд Был в то время столицей Мавераннахра и резиденцией Тимура.
Есть еще Мамаев ишак – Магомет-Султан. Сразу пять «великих» ханов, из которых, даже если сложить их вместе, не получится и половины по-настоящему великого! Справившись с Урусом и овладев Белой Ордой, за один год я их всех передушу, как котят! И буду единым повелителем Великой Орды, как был Бату-хан. Я сделаю первые шаги при помощи Тимура, но потом я должен стать сильнее его, иначе он раздавит Орду, как гнилой орех, и через какой-нибудь десяток лет все мы будем у него простыми пастухами!
– Я тоже много слышал о хромом Тимуре,– задумчиво промолвил Карач-мурза. – Говорят, что когда он захватывает какой-нибудь город или страну, из ста человек остается в живых десять. Он жесток и умен. И я думаю, ты прав: если мы не хотим, чтобы наши жены стали наложницами Тимура и наши дети – рабами, нужно не теряя времени объединить Орду под властью одного, решительного и сильного повелителя. До сих пор я не видел, кто мог бы им стать, но теперь вижу и говорю: да поможет тебе Аллах!
– Раз ты говоришь так, значит, и сам мне поможешь, Ичан! – не скрывая радости, сказал Тохтамыш. Он один, кроме матери и жены, называл Карач-мурзу этим, данным ему при рождении, но не привившимся именем.– Я знал это и потому за тобою приехал. Будем вместе! Ведь мы, с тех пор как научились ходить, всегда, когда бывало нужно, думали и действовали как один человек. Теперь же впереди такая борьба и такие дела, что одних моих сил недостанет. Мне нужна помощь друга, который не покинет меня в беде, не изменит, даже если ему обещают гору золота, сумеет дать хороший совет там, где моей головы не хватит. Кроме тебя, я такого человека не знаю и из всех людей только одному тебе верю. И наблюдал за тобой все эти годы и восхищался тобой. Ты, самый слабый из всех улусных князей, сумел захватить Сарай для Тулюбек-ханум и, смирив всю Орду, три года держал на престоле великих ханов эту бабенку, имевшую в голове не больше ума, чем любая из тех кошек, вместе которыми ее утопили, едва ты ее оставил! Помоги же теперь мне! Если ты пойдешь со мной, мы победим. А когда я буду ханом Великой Орды, проси у меня все, что захочешь, и пусть порозит меня Аллах всеми бедами и болезнями, если я тебе чем-нибудь откажу!
Высказав это, Тохтамыш умолк и зашагал по комнате, изредка поглядывая на сидевшего на диване Карач-мурзу. Он понимал, что последнему нужно подумать, прежде чем принять решение, от которого будет зависеть вся его дальнейшаяя судьба.
Но Карач– мурза думал недолго. Он был молод и деятелен, любил жизнь, связанную с движением и борьбой, требующей отваги, ловкости и изощренной игры ума, теперь же -после целого года праздной и однообразно-спокойной жизни в Ургенче,– все это влекло его с обновленной силой. К тому же он искренне любил Тохтамыша, ценил его ум и способности и планам его сочувствовал. А если так, можно ли отказать в помощи брату и другу, не потеряв уважения к самому себе? – подумал Карач-мурза и тут же дал свое согласие.
Неделю спустя он и Тохтамыш, во главе сотни отборных нукеров, выехали в Самарканд.
Глава 50
По великом заговений с Москвы прибежа во Тферь ко князю Михаилу Иван Васильев, сын тысетского Вельяминова, со многою лжею на христианскую напасть. Се же писах того ради, понеже от толе возгореся огонь. Пермская летопись
Весною 1374 года умер в Москве старый боярин Василий Васильевич Вельяминов, по обычаю того времени приняв перед смертью пострижение и схиму. В течение последних семнадцати лет он занимал пост московского тысяцкого, и теперь все с любопытством ожидали, кого князь Дмитрий Иванович назначит на его место.
Должность тысяцкого была весьма важной: по своему значению, уступая лишь великому князю и митрополиту, он являлся третьим лицом в государстве и, за исключением Церкви и постоянного княжеского войска, все городское и окрестное население находилось от него в тесной зависимости. Он ведал сбором всех воинских ополчений и в то же время, будучи градоначальником Москвы, держал в своих руках суд и расправу над горожанами, распределение повинностей и сбор торговых пошлин. Все это создавало тысяцкому широкие и прочные связи с верхами всех городских сословий, а если он бывал честолюбив и стремился к власти,– позволяло ему приобрести такую силу, с которой вынуждены были считаться не только бояре, но и сам великий князь.
Разумеется, на эту должность могли претендовать лишь знатнейшие из бояр, и в Москве она, со времен Ивана Калиты, фактически сделалась наследственной, закрепившись в роду Вельяминовых. Только однажды, в княжение Ивана Ивановича Кроткого – отца Дмитрия,– назначения тысяцким добился боярин Алексей Хвост. Но вскоре он был убит, как полагают, не без участия Василия Вельяминова, который после того и принял этот пост.
Такое положение позволило Вельяминовым стяжать огромные богатства и вознестись очень высоко. Сам Василий Васильевич являлся ближайшим советником и доверенным лицом великого князя Дмитрия Ивановичаю. Его жена, боярыня Мария, была крестной матерью княжича Константина Дмитриевича. Брат его Тимофей Васильевич был окольничим Дмитрия и главным воеводой, а оба сына – Иван и Микула – ближними боярами, причем второй из них, будучи женат на старшей сестре великой княгини Евдокии Дмитриевны, доводился свояком самому государю.
Теперь, после смерти старого Вельяминова, многие ожидали, что тысяцким будет поставлен его старший сын Иван. Конечно, последний и сам был убежден в своем праве на это, ведь тысяцкими были и отец его, и дед, и прадед. Этим создавался обычаи, а на Руси обычаи часто приобретали силу неписаных законов. Но чувствуя скрытое недоверие к себе великого князя, а главное, понимая, что он стремится к единовластию и потому едва ли не попытается упразднить эту должность вовсе,– Иван Васильевич не очень рассчитывал добром получить ее от Дмитрия и делал ставку на его соперника в борьбе за верховную власть над Русью – великого князя Михаилу Александровича Тверского.
Все же сейчас, когда помер отец, у него возникла надежда на то, что князь Дмитрии не рискнет так круто порвать со стародавним установлением и, может быть, слегка ограничив а правах, все-таки назначит его тысяцким. Но прошла неделя, прошел и месяц,– тщетно Иван Васильевич набивался на глаза великому князю и даже исподволь заводил о том речь,– Дмитрий Иванович упорно не хотел понимать его намеков и сейчас же переводил разговор на иное. Наконец Вельяминов не выдержал и отправился к брату Микуле, прося его, на правах родства с государем, замолвить ему слово, а в крайности хоть вызнать – каковы его намеренья?
Микула Васильевич, искренне преданный Дмитрию и не одобривший в душе происков брата, принял поручение неохотно, но все же его выполнил. Ответ он принес неутешительный: на Москве больше тысяцким не бывать. Тогда Иван Васильевич решил оказать давление на Дмитрия, пустив в ход обширные связи своей семьи. Но среди бояр он встретил мало сочувствия, почти все они завидовали исключительному положению Вельяминовых и вовсе не были склонны его укреплять. Зато недовольное растущими пошлинами купечество, которому Иван Васильевич, в случае назначения его тысяцким, посулил всевозможные послаблении и льготы, почти целиком оказалось на его стороне. Этому способствовало и еще одно обстоятельство, на котором Вельяминов тоже искусно играл: для успешной и прибыльной торговли московским купцам нужны были открытые пути на Восток, иными словами, мирные отношения с Ордой, а Дмитрий Иванович последнее время их постоянно нарушал. Московское купечество в ту пору было уже хорошо организовано, и благодаря большим богатствам, сосредоточившимся в его руках, оно представляло собой значительную силу, которой не мог пренебрегать великий князь, особенно в периоды войн и смут.
Для того чтобы использовать эту силу наилучшим образом, именно такое положение нужно было теперь создать боярину Вельямипову. И общая обстановка в этом ему благоприятствовала; летом какой-то ордынский отряд учинил грабежи и насилия в Нижегородском княжестве, вследствие чего в Нижнем Новгороде произошло возмущение, во время которого было перебито около двух тысяч находившихся в городе татар, и в том числе Мамаевы послы. В скорой времени пришли вести о том, что Мамай готовится в поход, чтобы наказать нижегородцев, и это заставило Дмитрия Ивановича немедленно приступить к сбору большого войска.
Таким случаем не преминул воспользоваться Иван Васильевич: он тотчас же отправил гонца к Тверскому князю, извещая его, что Дмитрий лишь прикрывается нижегородскими событиями, а на самом деле готовит поход на Тверь. В заключение он советовал князю Михаиле не ждать, пока его противник закончит сборы, а первым ударить на Москву, где ныне у него имеется немало доброхотов, которые изнутри пособят взять город.
Получив эти известия, Михаила Александрович всполошился и, в свою очередь снарядив гонца к великому князю Ольгерду,– в надежде, что он и на этот раз не откажет в помощи против Москвы,– принялся спешно собирать войско.
Но одному ему ведомыми путями обо всем этом прознал московский боярин Федор Андреевич Кошка, давно подозревавший Вельяминова, и на обратном пути перехватил его гонца.
Гонец не знал, что было написано в грамоте, которую он отвез Тверскому князю, но и того, что он рассказал под пыткой, оказалось достаточно, чтобы выявить измену Вельяминова. В страшном гневе князь Дмитрий приказал немедленно схватить «вора», но, предупрежденный кем-то из своих сторонников, Иван Васильевич успел бежать в Тверь.
* * *
– Сейчас вода течет на твою мельницу, Михаила Александрович,– говорил боярин Вельяминов Тверскому князю, поведав ему прежде обо всем, что произошло в Москве,– и ты этим пользуйся. Дмитрей хотя и готовит на тебя поход, а должен ныне оглядется на Орду,– не ударила бы ему в спину. Сам разумеешь, как Мамай-то распалился на него за дела в Нижнем! Стало быть, допрежь чем идти на Тверь, надобно ему как-то улестить Мамая. А это будет нелегко, особливо ежели мы сами не оплошаем.
– А что нам делать-то? Я так, вдруг, ударить на Москву тоже не могу: надобно собрать побольше войска, да и Ольгерд Гедиминович еще не готов.
– Ныне дело так повернулось, что малость обождать, пожалуй, и лучше: одно, что без помехи соберешь большую рать, а другое, что тем временем снова добудем тебе от хана ярлык па великое княжение. Это ведь тоже сила. С ярлыком ты перед Русью будешь в полном законе,– иду, мол, взять свое, а не то что позарился на соседскую вотчину! И при эдаком повороте не все удельные князья встанут за Дмитрея.
– Э, нет, боярин, знаю я уже Мамаевы ярлыки! Зазря продадут только деньги. Сперва я возьму Москву и Володимир,– тогда небось ярлык он и сам пришлет!
– Сейчас не то, что прежде было, Михаила Александрович. Говорю тебе,– Мамай на Дмитрия лют, как николи еще не бывал, и еще не так взъярится, когда мы ему доведем, В Нижнем побили татар по наущению Московского князя. Ты это на меня оставь. Есть у меня в Орде верный человек, сурожский гость, по имени Некомат. Было время, вызволил его из большой беды, и теперь он мне душою предан. Через него мы все это обладим в лучшем виде и ярлык тебе добудем без того, чтобы за него вдругораз платить. Разве что пошлем Мамаю два-три сорока бобров либо соболей в подарок.
– За тем дело не станет, можно и больше послать. Только так ли надежен человек твой Некомат? Не продаст он нас Дмитрею?
– Не сумневайся, княже. Готовь войско, а о прочем оставь заботу. Коли на то пошло, заместо того чтобы посылать в Орду гонца, я сам поеду и, если Господь поможет, к Рождеству Христову буду в обрат, с ярлыком.
– Ну, ежели так, действуй, Иван Васильевич, и я твоей службы вовек не забуду! Коли наша возьмет, будешь на Руси чем сам захочешь. Правься, с Богом, а я тем временем тоиже съезжу в Литву и столкуюсь обо всем с Ольгердом.
***
Свое обещание Иван Васильевич выполнил, хотя и не в столь короткий срок, как предполагал. Но в том была не его вина: ему пришлось потерять порядочно времени, покуда в Орде все успокоилось после небывалого по дерзости набега новгородской вольницы, которая, спустившись сверху на девяноста ушкуях, все лето бесчинствовала на Волге.
Сперва ушкуйники захватили и разграбили Великий Булгар, а потом двинулись вниз по реке, грабя прибрежные города и встречные караваны. Благодаря тому что они предусмотрительно сжигали за собой все причальные сооружения, верфи, суда и плоты, а сами все время оставались на плаву,– ни добраться до них, ни преследовать было не на чем, и, благополучно доплыв до Сарая-Берке, они ночью напали на него врасплох. Находившийся там Айбек-хан, менее всего ожидавший нападения с реки, не знавший ни сил противника, ни кто этот противник,– в панике бежал из своей столицы, которая была дочиста разграблена новгородцами, не пощадившими, разумеется, и ханского дворца, с его бесценной утварью.
Только поздней осенью ушкуйники, с богатой добычей, возвратились восвояси, но татары еще долго не могли успокоиться. Мамай был вне себя, и лишь после того, как посланный им отряд, в отместку за все, опустошил окраинные земли Нижегородского княжества,– сколько успел до наступления зимы,– Вельяминов, при помощи Некомата Сурожанина, смог добиться у него приема.
Но зато теперь дело решилось быстро и с легкостью, даже удивившей Ивана Васильевича: считая Дмитрия, как великого князя, ответственным и за избиение татар в Нижнем Новгороде, и за набег ушкуйников, Мамай не только сразу согласился передать Михаиле Александровичу ярлык на великое княжение, но еще и сам предложил отправить с Вельяминовым своего посла Ачи-ходжу, дабы он ханским именем помог Тверскому князю принять верховную власть над Русью и пресечь все попытки сопротивления со стороны Москвы.
В марте 1375 года Иван Васильевич, вместе с Некоматои Сурожанином и послом Ачи-ходжи, прибыл обратно в Тверь и вручил ханский ярлык князю Михаиле. Последний тоже не потерял минувшего времени даром: у него было собрано большое войско и он был готов хоть сейчас идти на Москву, во, как всегда, медлил и оттягивал поход Ольгерд. Наконец сговорились на том, что, как только кончится половодье, Михаила Александрович начнет военные действия на окраинах Московского княжества, чтобы выманить туда Дмитрия с войском, после чего Ольгерд, до последней минуты ничем не выдавая своих намерений, внезапно ударит на Москву. В апреле Ачи-ходжа послал к Дмитрию Ивановичу гонца, именем великого хана повелевая ему передать город Владимир и великое княжение над Русью Тверскому князю. Одновременно о том были оповещены все удельные князья, которым, под угрозой разорения их земель, запрещалось оказывать какую-либо помощь Дмитрию. А в мае Михаила Аександрович выступил в поход, захватил города Торжок и Углич и, почти не продвигаясь дальше, принялся грабить окрестности, в ожидании подхода московского войска. Но случилось не то, чего ожидал князь Михаила: Дмитрии Иванович знал о приготовлениях Твери и теперь решил раз навсегда покончить со своим соперником. По его распоряжению во всех подчиненных ему удельных княжествах уже сами собирали войска, а получив грамоту Ачи-ходжи, он обратился ко всем русским князьям с открытым призывом, в котором говорил: «Колико раз уже князь Тверской Михаила приводил ратью на Русь зятя своего, литовского князя Ольгерда Гедиминовича, и много зла христианам сотвориша. А ныне сложился он с безбожным Мамаем и со царем его, и со всею поганою Ордой. Мамай же яростью дышет на нас и аще сему попустим, имат нас всех покорити» ( Никоновская летопись) . И на этот призыв откликнулось около тридцати русских удельных князей, ибо все уже устали от усобиц и понимали, что именно Москва олицетворяет грядущее воскресение Руси. В этом списке, кроме подчиненных Москве князей,– Суздальского, Нижегородского, Ростовского, Ярославского, Белозерского, Стародубского, Муромского, Моложского, Оболенского, Тарусского и других, мы видим также трех князей, дотоле подчиненных Литве: Смоленского, Брянского и Новосильского, и даже близкого родственника Михаилы Александровича и его же удельного князя Кашинского. Двинулось на помощь Москве и войско Великого Новгорода.
В июле Дмитрий Иванович выступил с этой огромной ратью в поход, но пошел не к Угличу, где ждал его князь Михаила, а прямо на Тверь, захватывая и разоряя по пути тверские города.
Убедившись в том, что князь Ольгерд, осведомленный о силе Дмитрия, предпочитает пока воздерживаться от вмешательства в войну, и видя, что враг его без помехи двигается вперед, Михаила Александрович с войском спешно возвратился в свою столицу.
Первого августа московское войско овладело вотчиной князя Михаилы – городом Никулиным, который был разграблен и разрушен, а пятого осадило Тверь.
Глава 51
Князь великии Дмитрий Ивановнчь собра вои много и поиде к Тфери, а с ним князи мнози со своими полки. А князь Михаила затворися в городе. А после прикатиша к городу туры и примет приметаша и зажгоша стрельницу, тверичи же огонь угасиша, туры разсекоша, а сама бишася добро. Устюжская летопись
С юго– западной башни тверского кремля, возвышавшейся па повороте крепостной стены, весь город был виден кап на ладони. Он, не теснясь, занимал обширный угол суши, образуемый впадением в Волгу реки Тверцы, разливавшейся тут сажен на шестьдесят вширь. В самой высокой его части, ближе к Тверце, стояли княжеские хоромы, не уступавшие своим великолепием дворцу Московских князей. Чуть в стороне, на краю широкой площади, окруженной хоромами бояр, высился белокаменный собор святого Спаса,-усыпальница и гордость тверских государей: по отделке и по внутреннему убранству не было в ту пору на Руси другого столь богатого храма. Величествен и красив был также собор святого Микулы.
От Соборной площади во все стороны лучами разбегались неширокие улицы, сперва прямые, но чуть дальше начинавшие причудливо извиваться и петлять среди беспорядочной россыпи деревянных домов и изб. Над бесчисленными гребнями и спадами тесовых крыш, будто скалы из волн разбушевавшегося и разом одеревеневшего моря, тут и там вырывались верху острые, увенчанные крестами верхушки церквей, которых насчитывалось в городе около сотни.
Тверь, стоявшая на западном рубеже Руси, связанная с Литвой и с Ганзой множеством бытовых и торговых уз, не избегла идущих оттуда влияний; зелени тут было меньше, чем в Москве, улицы были чище, крыши круче, линии прямее, украшения вычурнее. Показной стороне здесь явно отдавалось предпочтение над добротностью.
*Устюжский летописный свод в числе участников этой коалиции называет даже князя Туровского.
Город окружала поставленная на земляном валу пятисаженная стена из заполненных землею бревенчатых срубов – городниц, снаружи, для предохранения от огня, обмазанных толстым слоем глины. Над стеной, по всему ее протяжению, через каждые тридцать – сорок сажен высились приземистые плосковерхие башни, с прорезанными на все стороны бойницами.
На одной из таких башен и стоял сейчас великий князь Михаила Александрович, окруженный группой своих бояр и воевод. Но он смотрел не на город, – сегодня такой же, как и всегда,– а на то необычное и жуткое зрелище, которое открывалось с внешней стороны стен; вокруг городского кремля, охватывая его почти замкнутым кольцом, бушевало море огня,– то горел подожженный москвичами тверской посад. Когда временами налетавший ветер на мгновение рассеивал дым, но ту сторону пожарища, всюду, куда ни глянь, виднелись неприятельские станы, раскинувшиеся вокруг города.
Спереди, между крепостной стеной и берегом Волги, где построек было сравнительно мало, пожар уже кончился; лишь чуть правее, у речных причалов, догорало несколько больших стругов. Огромные лошадиные и птичьи головы, завершающие их высоко поднятые носы, будто искаженные болью и яростью, иногда показывались из облаков зеленоватого дыма. С этой стороны, на расстоянии, чуть превышающем дальность полета стрелы, кипела работа: пользуясь сложенным на берегу лесом и другими материалами, которые воины носили сюда со всех сторон, тут мастерили тараны, сколачивали туры, лестницы и передвижные щиты – заборала. Чуть поодаль наводили наплавной мост через Волгу, которая в этом месте была не шире восьмидесяти сажен.
*Гнза – торговый союз вольных германских городов, интенсивно торговавший с западными областями Руси, в особенности с Новгородом и Псковом
**Струги – большие гребные суда. Тогда их делали с высоко поднятой кормой н носом, причем последний завершался обычно бушпритом из головы какого-нибудь животного или птицы.
На том берегу Воши тоже было немало строений, но их осаждающие не жгли: там разместился их главный лагерь. Со стены был хорошо виден поставленный на пригорке и окруженный шатрами других князей большой белый шатер великого князя Дмитрия. Возле него, на высоком древке развевался желтый стяг с изображением святого Георгия Победоносца.
Правее, у моста через речку Тьмаку, будто вылизывая небо языками оранжевого пламени, факелом пылала стоявшая здесь сторожевая башня. Она была хорошо укреплена, и засевшая в пей полусотня тверичей успешно отбивала все приступы, покуда озлобленные столь упорным сопротивлением москвичи не подожгли ее, обложив предварительно сухой соломой. Черные фигурки защитников метались теперь по единственной стене, еще не охваченной пламенем, как муравьи, выползали из бойниц и прыгали вниз.
Самого кремля штурмовать еще не пробовали,– мешал полыхавший вокруг огонь. Но к Волжским воротам, вокруг которых уже все выгорело,– под прикрытием нескольких сот лучников теперь начали подводить законченные туры и таран. Однако князя Михаилу больше беспокоило сейчас другое: с западной стороны пламя бушевало у самых стен, от жара их глиняная обмазка местами растрескалась и начинала опадать,– того и гляди загорятся городницы!
– А ну, Гаврила Юрьевич,– обратился князь к стоявшему рядом боярину Бороздину,– пойди-ка туда да пригляди… Вели поднять на стену, какие вблизи сыщутся, чаны и кадки да подавать наверх воду, чтобы, чуть где займется, тотчас и залить. На тебя полагаю.
Бороздин, поклонившись, ушел, а князь и остальные снова обратили взоры в сторону Волжских ворот. К ним по-черепашьи медленно, но неуклонно приближался огромный таран, подталкиваемый сотней воинов, скрытых под передвижным дубовым навесом, а по бокам двигались две туры, верхушки которых достигали уровня городских стен. Пока остановить их было невозможно, ибо катившие их люди были надежно защищены от стрел. Оставалось ждать, когда расстояние позволит проломить навес, прикрывающий таран, заготовленными наверху тяжелыми камнями, а туры попытаться опрокинуть, упираясь в их верхушки длинными шестами. На стене, под личным наблюдением самого тысяцкого, боярина Тараса Шетнева, ужо готовились к действиям: к тянувшемуся вдоль внешнего края деревянному заборалу подкатывали каменные валуны и бревна; четыре десятка дюжих молодцов стояли наготове с крепкими пятисаженными шестами,– по четыре человека на шест; у бойниц заняли места воины в кольчугах и шлемах, вооруженные кто луками, а кто черпаками на длинных рукоятках, чтобы поливать осаждающих горячей смолой, которая тут же, на стене, кипела в нескольких железных котлах.
* Тура – высокая деревянная башня, передвижная и полая внутри, на особых катках или колесах находящиеся внутри люди подкатывали ее к крепости, перебрасывали на стену мостки и бросались на приступ.
Москвичи, со своей стороны, придвинули шагов на тридцать к стене переносные щиты-заборала, готовясь из-за этого прикрытия поражать стрелами всякого, кто покажется наверху.
– Пойди, Афоня, скажи там, чтобы получше были готовы,– сказал Михаила Александрович находившемуся при нем сыну боярскому Коробову.– Тарас Никитич пусть прикажет, чтобы подали наверх десятка три соломенных снопов да побольше пакли. Как подойдут туры ближе, – метать в них стрелы с горящей паклей да валить солому,– авось подожжем.
– Тура что? – заметил боярин Вельяминов, сопровождавший князя.– Она хоть и присунется, пусть даже мост перекинет на стену,– людей с него посбрасывать не столь уж трудное дело. А вот ежели учнет эдакий таран бить по воротам, им, пожалуй, не устоять. Они у тебя как, каяже?
– Дубовые ворота, обшитые железом,– ответил князь Михаила.– Все помышлял заказать литые, из цельного Железа, да, вишь, не успел.
– Эх, Михаила Александрович, не гневайся, а только все у вас в Твери так… Прежде портков пояс покупаете, да не какой-нибудь, а золотом шитый! Ну, что бы тебе сперва скрепить свой город, как подобает, а уж тогда поделать медные с серебром двери для твоего дворца и для Спасова храма да повыкладывать мрамолем полы? У Дмитрея не так.
– Думал я тоже каменный кремль поставить, да ведь времени не улучишь: всякий год война. Начнешь разбирать старую стену, новой еще не подымешь, а тут Москва и нагрянет!
– Вот она и нагрянула. И коли Тверь против нее не выстоит, сам знаешь, что будет.
– Небось выстоит! – бодрясь, ответил князь Михаила.– Людей и запасов, в городе много, коли надобно будет, в месяц, и два продержимся. Но еще прежде того беспременно подойдет Ольгерд Гедиминович, а может, и Мамай на Москву ударит. Ачи-ходжа обещался о том просить.
– Дай-то Бог, чтобы так,– вздохнул Иван Васильевич, у которого скверно делалось па душе при мысли, что он может попасть в руки Дмитрия.
Между тем Коробов успел передать приказание князя, и вскоре со стены, над воротами, полетели стрелы, обернутые возле острия просмоленной и зажженной паклей. Но крыша тарана и обе туры былп густо обмазаны мокрой глиной и не загорались. Орудия москвичей медленно ползли вперед, но, приблизившись к стене саженей на пять, вдруг остановились. До тарана, стоявшего прямо против ворот, теперь уже долетали со стены камни, но недостаточно тяжелые, чтобы проломить его крышу,– они отскакивали от нее, как горох, не причиняя вреда. До тур тоже нельзя было дотянуться шестами.
Так прошло довольно много времени. Осаждавшие не двигались с места, и только их лучники метко били снизу по бойницам, едва в них кто-нибудь показывался. На стене уже было несколько убитых и раненых,– первых значительно больше: почти все бойцы были в кольчугах и единственным уязвимым для стрелы местом оставалось лицо.
– Что за притча? – промолвил наконец князь Михаила.– То не просто они остановились. Видать, чего-то ждут.
Кажись, я знаю, чего они ждут,– отозвался Вельяминов, уже несколько минут не отрывавший глаз от берега,– Погляди сюда, княже – видишь, разбирают они поделанные утром лестницы? А вон, сбоку, угадываешь, что подымают?
– Вроде бы заборало, только больно уж велико…
– То не заборало, а другая крыша на таран! Вот как они ее сюда поднесут, он и пойдет вперед. Покуда мы ему первую крышу разобьем, они по воротам раза три ударить успеют, а после прикроются второй крышей,– которая, видать, будет покрепче, да и доконают ворота! Много ли им, деревянным-то, надо? и туры придвинутся к стенам, когда подбегут воины с лестницами и повсюду разом полезут наверх,– ведь тогда, в сумятице, опрокинуть их будет куда труднее.
– Ах, дуй их пузырем! – вскричал князь Михаила.– И в самом деле? Но только не на таких напали. Беги вниз, Андрей Ярославич,– обратился он к стоявшему рядом воеводе Яхонтову,– готовь людей к вылазке. Сам поведу! Три головных сотни поставишь с копьями и мечами, а сзади две с топорами и с огнем. И при этих ты находись. Лишь оттесню москвичей, ты за нашими спинами круши и жги не мешкая все, что они тут понаставили. Да чтобы со стен не жалели стрел, когда мы ворота отворим!
Малое время спустя ворота распахнулись, и вырвавшийся оттуда отряд копейщиков разом кинулся на воинов, приставленных к тарану. Удар был так внезапен и стремителен, что в одно мгновение они были смяты и побежали. Михаила Александрович,– в вороненом немецком панцире и в шлеме с опущенным забралом,– лично руководивший вылазкой, не давая москвичам опомниться, бросился, впереди своих воинов, на засевших за укрытием лучников и тоже обрати их в бегство. Преследованье продолжалось до самого берега, где все заготовленные осаждающими лестницы, щиты и запасная крыша на таран мигом были изрублены в куски.
Только теперь князь Михаила оглянулся и с удовлетворением увидел, что воевода Яхонтов тоже не потерял даром времени: таран и обе туры лежали опрокинутыми и две сотни топоров быстро обращали их в щепы.
«Добро искрошили, не надо и жечь»,– подумал князь, но в эту минуту с полдюжины стрел почти одновременно Ударили в его шлем и панцирь, не причинив ему вреда, но показывая, что обстановка на поле боя изменилась. В самом деле, московские лучники, к которым отовсюду спешила помощь, уже оправились от неожиданности и, обернувшись, начали засыпать стрелами тверичей. Задача последних была полностью выполнена, и Михаила Александрович приказал им отходить к воротам. Но на полпути, явно намереваясь отрезать им отступление, сбоку ударил подоспевший сюда сотни три пеших воинов, которых вел московский воевода Семен Добрынский.
Завязалась яростная сеча, длившаяся, впрочем, недолго: у стены сразу заметили опасность, угрожавшую князю, из ворот на выручку хлынул поток тверичей.
Понимая, что его сейчас оттеснят, воевода Добрынский,– узнавший Тверского князя и вознамерившийся захватить его живым,– вопреки благоразумию, сделал последнюю попытку, во главе десятка воинов, прорубиться к Михаиле Александровичу. Но это было нелегко: воины его падали один за другим и только сам дюжин воевода, мастерски действуя саблей, не глядя ни на что, продолжал ломить вперед. «Взять в полон самого великого князя! Ведь этакий случай однажды в жизни выпал, ужель упущу?» – почти с отчаянием думал он, круша всех на своем пути. До цели ему оставалось каких-нибудь три шага, и князь Михаила, уже заметивший опасность, сам оборотился к нему с саблею в руке, когда вдруг набежавшие от ворот тверичи снова их разделили,
– Аркан! – закричал своим воинам Добрынский, хватаясь за последнюю надежду,– Набрасывай издаля аркан на князя и разом волоки его к себе!
– Покуда еще будет твой аркан, испробуй вот этого! – задыхаясь от бега, крикнул сын боярский Коробов, с ходу пробивая грудь Добрынского копьем.
– Эх, сорвалось,– падая и захлебываясь кровью, прохрипел воевода, и сейчас думавший не о том, что умирает, а лишь о том, что так и не взял он великого князя…
– У тебя сорвалось, зато у меня не сорвалось,– промолвил Коробов, вырывая из груди мертвого копье.– Ты не ранен, княже? – обратился он к Михаиле Александровичу,– Негоже тебе эдак-то не оберегаться. Ведь могли мы и не поспеть!
– Ништо, Афоня, Господь не выдаст. Жаль, что ты его так-то… насмерть. Добрый был воин!
– Чего его жалеть-то, княже? На то война. Погляди, сколько он наших накрошил! Одначе поспешаем-ка теперь назад,– добавил Афоня, – вишь, снова москва подваливает со всех сторон!
Тверичи благополучно отошли в кремль и вовремя успели затворить ворота. Подбежавших во множестве московских воинов со стены встретил град стрел и град насмешек.
Эта вылазка заметно подняла дух осажденных и научила осаждающих действовать осмотрительней. В ближайшие дни они приступа не повторили, но город обложили крепко, со всех сторон, обнеся его тыном и всюду понаставив такое множество шатров и шалашей, будто собирались остаться тут навсегда.
Глава 52
И учиниша рати московская все волости тферьские пусты и села все пожогоша, а городки поимаша Зубцов, Бел городок и инии. А людеи в полон поведоша, а имения их разграбиша, в жита потравише, многие же тферичи язвлени быша от нахождения ратных и мнози оружием падоша. Московский летописный свод
Потекли дни и ночи, полные напряжения и тревоги, к которым вскоре прибавился и голод. Запасов в городе было немало, но в первые две недели,– со дня на день ожидая, что подойдет со своим войском Ольгерд,– их особенно не берегли, да и ртов набралось много больше, чем рассчитывал князь Михаила: пришлось дать в кремле убежище не только посадским, но еще и немало смердов сбежалось сюда из окрестных сел, прознавши о том, что москвичи каждого пятого уводят в полон.
После двух приступов, которые были тверичами отбиты с немалым уроном для осаждающих, князь Дмитрий Иванович их больше не повторял, решив, очевидно, взять город измором. Войско его стояло лагерем вокруг Твери, совсем близко от стен, расположившись привольно, словно на отдыхе. Воины играли в рюхи и в козу, горланили песни, а то вступали в соленую перебранку с теми, кто показывался на стенах; жгли костры, на них готовили себе хлебово и тут же, на глазах голодных тверичей, не спеша его поглощали. Иногда какой-нибудь шутник, привязав к стреле обглоданную кость или кусок падали, с озорными прибаутками пускал ее в город. Но много чаще прилетали стрелы с подвязанной к ним горящей паклей, и осажденным все время приходилось быть начеку, чтобы вовремя тушить начинающиеся пожары. Видя, что осаждающие не очень бдительны, однажды ночью князь Михаила попробовал сделать вылазку, но потерпел неудачу: вышедший из ворот отряд был сразу замечен обращен в бегство,– на его плечах москвичи едва не ворвались в город. Михаила Александрович от этой вылазки никакой существенной пользы не ждал, а лишь хотел ею поднять дух своего воинства. Но получилось обратное, и впредь попытки пришлось оставить, ограничиваясь зорким наблюдением за противником и постоянной готовностью отразить возможный приступ.
В начале третьей недели, ночью, подплыв по Тверце на лодке, в город сумел пробраться сын боярский Родион Чагин, за два дня до начала осады посланный князем с поручением в Торжок. Он привез плохие вести: новгородцы, захватив Торжок, наместника князя Михаилы, боярина Зюзина, вымазали дегтем и, осадив верхом на козла, водили по всему городу, а потом убили. По всей Тверской земле рыщут московские отряды, грабят города и села, множество смердов угоняют в полон, а там, где им пытаются оказать хоть малое сопротивление, выжигают все дотла. Михаила Александрович и сам не ждал иного, но все ж каждое слово Чагина, будто капля горячей смолы, падало ему на сердце.
– А про Ольгерда Гедиминовича что слышно? – хмуро спросил он.
– Ольгерд Гедиминович шел сюда со своею ратью, княже,– ответил боярский сын,– и был уже в одном переходе от Твери. Но тут, сведав о том, какую силу привел с собою Московский князь, в тот же час повернул обратно и ушел в Литву.
– Быть такого не может! – крикнул князь Михаила, потрясенный этим известием.– Так мог поступить лишь трус, никогда не слыхавший о чести, а Ольгерд славный волн и князь! Тебе солгали, а ты и доверил!
– Вестимо, сам я литовского войска не видел, княже, но другие видели, и ты тому верь. Мне сказывали люди надежные, на их правде я крест целовать готов!
– А о татарах тебе довелось ли что услышать? – спросил присутствовавший при этом разговоре боярин Вельяминов, пользуясь тем, что Михаила Александрович замолчал и погрузился в тяжелое раздумье.
– Слыхал лишь то, что в Сарае спова замятия,– ответил Чагин.– Сказывают, будто хана Айбека убил Арапша, но только и его самого сразу же согнал с царства еще какой-то хан.
– Да я не о них тебя пытаю,– с досадою промолвил Вельяминов,– Эти пускай себе режутся! Ты мне о Мамае скажи.
– О Мамае ничего не слыхал, боярин. Надо быть, стоит на Волге. Говорят, нонешним летом там вновь озоруют ушкуйники.
– Ладно, коли ничего больше нет, ступай отдохни,– устало сказал князь Михаила.– А за службу твою спаси тебя Христос.
*Арапшой на Руси называли царевича Араб-шаха.
Чагин поклонился и хотел идти, по тут к нему снова обратился Вильяминов;
– Погоди, молодец, еще слово; ты даве сказал, что подплыл к кремлю на челноке?
– Точно, боярин.
– А что ты с тем челноком сделал?
– Схоронил его недалече, в камышах. Может, еще сгодится.
– Вельми разумно ты поступил, за это хвалю! Ну, иди теперь с Богом.
– Пошто тебе дался челнок? – вяло спросил Михайла Александрович, когда они остались одни.
– Может, в нем теперь наше спасение, княже.
– Это как же так?
– Надобно тебе, нимало не медля, посылать гонца к Ольгерду.
– К Ольгерду?! Да будь ему трижды анафема, литовской собаке! Нешто ты не слыхал, что Чагин сказывал?
– Слыхал, Михаила Александрович. И все же нам не на кого больше надеяться. Надо уговорить его, или Твери конец.
– Где его уговорить, коли он уже тут был и от одного духа московского убег, как заяц!
– Ты не всякому слову верь, княже. Может, то не сам он был, а кто-либо из его сподручных князей или воевод, с невеликим войском. А такому что оставалось делать, когда увидел он, какая у Дмитрея сила?
– А и правда, Иван Васильевич, так оно, наверное, – воскликнул князь Михаила, с легковерием обреченного отдаваясь этой повой надежде,– Не верится мне, чтобы Ольгерд Гедиминович мог меня, своего зятя и друга, столь подло предать!
– Я и говорю, Михаила Александрович, тут что-то такое было. И нам теперь надобно если уж не поднять Ольгерда, по крайности, хоть разведать все толком, дабы знать, что дальше-то делать.
– Сдаваться ли Дмитрею али еще стоять?
– Так, княже? Только о сдаче помышлять тебе рано. Коли за Ольгерда с умом взяться, он выручит.
– Кого пошлешь-то? Надобно, чтобы человек не убоялся голову поставить на кон, а к тому был бы ловок и мудр.
– Меня пошли. Я сделаю.
– Тебя, боярин?!
– Ну, да, меня! Нешто я тебе не добыл ярлык от Мамая? И Ольгреда обломаю не хуже. Я уж знаю, что и как ему сказать.
– Да я не к тому! Сам ведаю, что лучше тебя такого дела никто не сделает. Но ведь супротив кого иного ты не гораздо худшее идешь, пробираясь сквозь московский стан. Другого, ежели заметят и возьмут живым, – продержат в железах до мирного ряда, и только. А тебе Дмитрей голову велит ссечь, это уж как пить дать!
– То истина, княже. Но ведь так меня еще словить надо, а коли останусь я здесь и придется тебе просить у Дмитрея миру,– он допрежь всего потребует, чтобы ты мепя выдал.
– Я тебя не выдам, боярин,– с достоинством ответил князь Михаила.– Я не Иуда!
– Знаю, что ты не схочешь выдать, Михаила Александрович, да ведь принудят. За меня, за одного, целый город губить негоже. Такого я и сам не попущу.
– Может, еще и не придется сдавать город-то…
– Коли я не приведу литовцев, беспременно придется, княже. Кто еще поможет? На татар надеяться нечего,– кабы они сюда шли, давно бы о том вся Русь знала и Дмитрей не стоял бы тут столь спокойно. Сам видишь: как ни поверни, а надобно мне ехать.
– Ну, что ж, Иван Васильевич, коли так,– с Богом! – помолчав, сказал князь Михаила.– На тебя возлагаю последнее упование мое. А учить тебя нечего: сам знаешь, что надо говорить Ольгерду и чем его улестить можно.
– Будь спокоен, князь. Дал бы только Господь добраться! Коли я счастливо миную московский стаи, почитай дело сделанным. Я так мыслю, что в Вильну мне ехать не придется, ибо Ольгерд Гедиминович ныне беспременно находится при своем войске, где-то подле наших рубежей. Он осторожен и, покуда Дмитрей отселе не ушел, будет стоять наготове, дабы, в случе чего, не пустить его в Литву. А ежели так, я его борзо сыщу.
– Помоги тебе в том Христос, боярин. Так когда же в путь?
– Завтра днем Чагин покажет мне со стены – где схоронен челнок, а в полночь спустите меня на веревке вниз.
– Добро. Только как узнаю о тебе?
– Да ежели меня схватят, небось шум подымется,– стоя на стене, услышишь. А коли все будет тихо, значит, я ушел.
– Это так, Иван Васильевич, да я не о том: после бы получить от тебя весть,– как дело-то обернулось с Ольгер-дом?
Вельяминов немного подумал, потом сказал:
– Коли он окажется поблизости и я с ним столкуюсь, почто к тебе и весть посылать? Сам увидишь: не минует седмицы, сюда подойдет Ольгердово войско,– ведь от литовского рубежа до Твери нет и восьмидесяти верст. Ну, а ежели выйдет какая заминка, к примеру, придется мне в Вильну ехать либо литовский князь нам в помощи откажет,– тогда я тебя упрежу. Начиная с восьмой ночи, от завтрашней, бдите на стене, точно где я спущусь: мой человек кинет наверх камень с подвязанной грамоткой. Чтобы он то место нашел, загодя сбросьте под стену три лошадиных черепа. Для верности пошлю двух вестников, через ночь.
– Добро, Иван Васильевич, стало быть, все у нас обговорено. Авось Господь над нами сжалится и не попустит погибнуть вольной Твери! Каждый день станем возносить о том молитвы, а теперь надобно и соснуть: уже петь бы вторым петухам, кабы мы их всех не съели.
На следующую ночь Иван Васильевич, переодетый простым воем, пустился в опасный путь. Сын боярский Родион Чагин сам проводил его до челнока и час спустя, возвратившись обратно, сказал, что боярин благополучно миновал неприятельский стаи.
Глава 53
Видев же князь Михаиле Александрович яко не бысть ему от Литвы помощи, и град свой видя изнемогающь послаша владыку Еуфемея и старейших бояр своих к великому князю к Дмитрию Ивановичю с покорением и с челобитьем, прося миру и даяся на всю волю великаго князя Московская летопись.
Не вельми изобильно ныне на столе у великого князя Тверского: вяленая рыба, хлеб с половой да овсяная каша,– и все, что подано к вечере, да и того помалу. Месяц уже длится осада, и все в городе съедено,– не то что лошади либо собаки,– почитай, крысы ни одной не осталось. Еще два-три дня, от силы седмицу, на корье да на полове продержаться можно, а потом? Помощи нет ниоткуда, Вельяминов как в воду канул. Три ночи сряду уже, как было условленно караулят люди на стене, а вестей все нет
Оторвавшись с усилием от этих невеселых мыслей, Михайло Александрович поднял голову а оглянул сидевших за столом. Кроме его семьи да ближних бояр Евстафия Свечина и Романа Щербинина, тут никого не было,– до гостей ли теперь? Хмурый взгляд князя потеплел, остановившись на любимце его, малолетнем княжиче Василии.
– Что не ешь, Василек? – ласково спросил он,– Пожуй вот кашки. Ею на Руси все богатыри были вскормлены.
– Муторно мне от нее,– опуская голову, ответил семилетний княжич.
– Тогда рыбки возьми.
– Я ел, батюшка, а еще не могу, больно солона.
– Ну, коли есть не хочешь, отгадай загадку. Что оно такое: в воде родится, а воды боится?
– Соль!
– Верно! Ну, это ты, должно быть, знал. А вот другую: какая сила любого воеводу да и лучшую рать повалит?
Мальчик задумался. Потом вскинул на отца серьезные серые глаза и, будто чего-то испугавшись, снова потупился.
Что же ты, Василек? Спробуй отгадать.
– Москва, батюшка…
– Эко сказал! – с неудовольствием промолвил князь Михаила.– Москву мы сколько били, и еще побьем. А сила та – сон. Пойди-ка, брат, спать, я вижу, ты давно носом окуней ловишь.
Маленький княжич, помолившись на божницу, ушел, и за столом на некоторое время воцарилось угрюмое молчание.
– Голодует народ,– сказал наконец боярин Свечин.– Намедни иду я по Микулинской улице, а навстречу гость Кузьма Саларев и на кукане три лягухи несет. «Вот, говорит, разжился белорыбицей, теперь попирую!» Да неужто же, спрашиваю, станешь ты такую погань есть? А он в ответ: «Лягуха-то? Прежде и верно была погань, а ныне по рублю за каждую отвалил!»
– Да, дела,– протянул боярин Щербинин, после чего снова все надолго замолчали… Час был уже поздний, сквозь открытые окна в трапезную вливалась ночная тьма, черной жутью заполняя все углы и закоулки, куда не достигал немощный свет восковых свечей.
– Минувшего ночью снова видели Настасью Юрьевну, – промолвила княгиня Евдокия Константиновна, тревожно вглядываясь в проем, открытый в смежную комнату.
*Князь Михаила Александрович был женат на своей двоюродной сестре, дочери Тверского князя Константина Михайловича.
– Кто видел? – вздрогнув, спросил князь Михаила.
– Девки мои, Дашка да Улька. Не знаю что,– прежде коли со мною такого не бывало, а вечорм что-то боязно стало одной, я им и наказала сидеть в опочивальне, покуда не усну, а уж тогда тихо уходить. Долго мне не спалось, уж близко к полуночи они вышли… Ну и тут, внизу, в переходе меж большой трапезной и передней горницей, ее и увидели. Бгелая, сказывают, и светлая вся, лик скорбный, ровно мученицы… Как глянула на них, они так и упали ничком, будто бы им кто ноги перебил. А когда пришли в память, ее уже не было.
– Ну, может, и врут твои девки,– пробормотал Михаила Александрович.– Они у тебя мастерицы языками кружева плести.
– Чего бы им врать-то? Они о том и сказывать не хотели, чтобы меня не растревожить. Сама я заметала, что Дашка весь день не в себе, стала выспрашивать,– она и туда, и сюда,– еле дозналась от нее правды. После уж и Ульку допросила,– она слово в слово сказала тоже.
– Давно уже покойница не являлась,– промолвил старик Щербинин.– В последний раз видели ее, кажись, перед кончиной родителя твоего, годов тому с тридцать. А ныне вот снова… Не иначе как быть у нас беде
– Глупости все это,– резко сказал князь Михаила.– Глупости и бабья брехня. Эдак, коли всякой сказке давать веру, можно и впрямь довести себя до беды. Пошли лучше спать, утро вечера мудренее! Да чтобы о Настасье Юрьевне никакой болтовни не было, и без того люди слабнут.
Все, помолись, разошлись, только сам князь еще задержал в трапезной. Подобно всем своим современникам, он был суеверен, и хоть другим того показывать было нельзя, -взволновало услышанное. Он хорошо знал историю этого дворцового призрака Тверских князей: прадед его Ярослав Ярославич, – брат Александра Невского и первый удельный князь Тверской, – попал как-то на свадьбу к одному новгородскому боярину, в тот самый час, когда дочь его обряжали к венцу. Невеста с первого взгляда так полюбилась князю, он силою увез ее и против ее воли на ней женился. Брак несчастлив, молодая княгиня вскоре умерла, и с той поры призрак ее появляется во дворце Тверских князей, всегда предвещая беду или чью-нибудь смерть.
«Вот и ныне второй раз уже ее видят,– с тревогой подумал Михаила Александрович. – Да дела-то и вправду такие, что в самую пору ей теперь появляться…»
Гул шагов за дверью оторвал князя от этих печальных размышлений. Вошел воевода Яхонтов и, протягивая ему небольшой камень, обернутый полоской серой бумаги, сказал:
– Вот, княже, в сей час забросили это на стену, где ты велел ожидать. Сам поднял и сразу к тебе.
Плохо повинующимися от волнения пальцам князь Михаила развернул бумажку и, приблизив ее к пламени свечи, прочел:
«Помощи не жди. Ольгерд крепко стоит на том, что обещался Московскому князю руку Твери не держать. Лучше теперь покорись, а живы будем – свое возьмем».
«Нет, брат, уже не возьмем, это конец»,– с горечью подумал Михаила Александрович и, выронив грамотку, опустил голову на ладони.
– Что, княже, плохие вести? – спросил Яхонтов, видя, что князь молчит и не двигается.
– Хуже некуда,– глухо промолвил князь Михаила, не поднимая головы.– С рассветом упреди владыку и бояр, чтобы собрались… будем думу думать. А теперь иди… Хочу один быть.
На следующее утро тверскою боярской думой было принято решение просить мира. Михаила Александрович соглашался признать свою зависимость от Москвы и отказаться от всяких прав на великое княжество Владимирское, но при условий, что Дмитрий не потребует сдачи Твери и отведет от нее свои войска.
В тот же день тверской епископ Евфимий и четверо старейших бояр вышли за ворот осажденного города и были проведены в шатер Московского князя.
Дмитрии Иванович принял послов сурово и, выслушав их челобитье, сказал:
– Тверь могу взять хоть сегодня, а взявши, предать разграблению и обратить ее в пепел, с вами ни о чем не рядясь. Но я не басурман и не литовец: ни людям вашим, ни городу зла не хочу и рать свою готов увести, ежели покорится князь Михаила на всю мою волю да выдаст мне головой вора моего, Ивашку Вельяминова!
– Волю твою, княже великий, мы готовы выслушать и довести ее нашему государю,– ответил владыка Евфимий. – Но Ивана Вельяминова в городе нет, а потому выдать его тебе не в нашей власти.
– Куда же он подевался?
– Дней тому с десять бежал он ночью на челноке.
– Как узнаю я, что в том нет обману?
– Коли мне веришь, княже, крест на том поцелую.
– Добро. Тебе верю, отче. Оставим это,– рано или поздно, я его все одно словлю, А воля моя такова:
– Князь Михаила повинен признать себя моим молодшим братом,– равным Серпуховскому князю,– и крест мне целовать, аки государю веся Руси; великого княжения над Русью ему боле не домогаться, а ежели хан пришлет ярлык,– не брать; княжества Володимирского, которое есть моя вотчина, ему ее искать и наместничества в Великом Новгороде не искать же. Во всем том должен он на кресте мне поклясться навеки, за себя, за сынов своих и за всех потомков; целование же свое литовскому князю Ольгерду Гедиминовичу должен он немедля сложить и дружбы его либо ратной помощи николи не искать; город Торжок и иные понятые им волости Великому Новгороду воротить, а Кашинскому князю дать полную волю и вотчину его тверским уделом боле не числить.
Без моей воли ни войны, ни мира ему ни с кем не брать; а пойду я против татар либо против Литвы,– и ему со мною идти. А нападут на него татары, либо Литва, либо еще кто,– мне, как государю всея Руси, его боронити, тако же как великого князя Смоленского нам вместе от Литвы боронити и всех прочих князей Русской земли, и Великий Новгород тож. А дань татарам платить нам вместе либо вместе же не платити.
На том мир с князем Михайлой возьму навеки и войско свои от Твери отведу, не причинив ей никакого худа. А ежели когда случится промеж нас спор либо неразумение,– третейским судией у нас Рязанский великий князь.
Что и сказал, от того не отступлюсь, а сроку князю Михаиле кладу до завтра.
Тверскому князю ничего не оставалось, как полностью приять эти условия. На следующий день, восьмого сентября года, мирный договор был подписан и московское войско из пределов Тверской земли.
Торжество Дмитрия было полным: самый опасный его противник был окончательно сломлен. Тверское великое княжество, хотя и просуществовало еще сто лет, никогда уже серьезно не помышляло о каком-нибудь соперничестве с Москвой, и его князья вскоре смирились со своим зависимым положением.
Одновременно была одержана крупнейшая и на этот раз бескровная победа над Литвой. В течение двух десятилетий полностью подвластное ей княжество Смоленское ныне перешло в подчинение Московскому великому князю. Номинально еще зависимые от Литвы, ему же повиновались теперь княжества Новосильское и Брянское, несмотря на то, что в этом последнем княжил родной сын Ольгерда, Дмитрий.
Вся Русь была отныне послушна воле государя Дмитрия Ивановича, и можно было приступить к освободительной борьбе с Ордой.


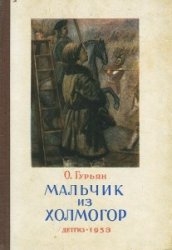


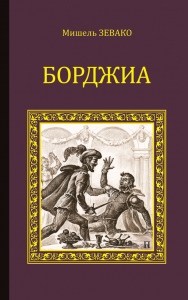
Комментарии к книге «Карач-Мурза», Михаил Дмитриевич Каратеев
Всего 0 комментариев