Валентин Саввич Пикуль Янычары
ЯНЫЧАРЫ
В предыдущих комментариях, чтобы окончательно не запутать читателя, я умышленно не касалась данного романа. На титульном листе написано: начат 26 апреля 1989 года. С этого момента невозможно ответить — над чем конкретно работал Пикуль. Я привыкла, что у Валентина Саввича в параллель шла работа над двумя или даже тремя вещами. Но в последний год его жизни творилось что-то невообразимое. Представьте, что после «Ступай и не греши», которую он написал за пятнадцать дней (!), отрешившись на это время от всего остального, дальнейший перечень его интересов включал одновременно: вычитку и редактирование только что законченного «бульварного» романа, работу над «Барбароссой», работу над «Янычарами», работу над серией новых миниатюр для третьего тома. В конце перечисления я не поставила союз «и», ибо его нужно отнести к роману о нефти, который, еще не отложенный Пикулем в сторону, лежал на столе, продолжая «мозолить глаза». Да и «Янычары», как увидим ниже, не простой роман, а — трилогия.
Трудно даже представить себе, как можно держать в голове сразу столько нитей, довольно мало связанных между собой повествований.
Писать о романе «Янычары» весьма затруднительно, точнее — очень сложно, поскольку надо проследовать за мыслью Пикуля теми же извилистыми, запутанными, порой невообразимо труднообъяснимыми путями. Не буду долго интриговать читателя, сразу скажу главное: публикуемый здесь отрывок должен дать представление о произведении, в котором Валентин Саввич решил объединить давно задуманные, но по отдельности так и не реализованные романы — «Янычары», «Пирамиды» и «Лицо жестокого друга».
Чтобы быть абсолютно честной, я должна некоторые абзацы этого комментария начинать словами: «по всей видимости…» или им подобными, несущими вполне конкретную смысловую нагрузку.
Дело в том, что на различных этапах творческих исканий Валентин Саввич делился со мной планами написания каждого из названных романов. Но подробный разговор о том, как и почему он решил слить их воедино, у нас состояться не успел.
Поэтому к некоторым умозаключениям я пришла самостоятельно в результате кропотливого изучения всех записей и пометок Валентина Саввича, относящихся к этим романам, — работы, похожей на следовательскую, когда версии требуют документального подтверждения. Впервые слово «янычары» я услышала от Пикуля в 1983 году, когда под его диктовку записывала один из планов. Я попросила пояснить малознакомое слово и, если можно, коротко рассказать о романе. Валентин Саввич с охотой выполнил просьбу. Из его очень доходчивых объяснений мне стала понятна и основная сюжетная линия романа, и я узнала, в частности, что янычары — это особая часть турецкой армии, представляющая собой профессиональное войско, свободное от семейных забот. Создано оно было в 14 веке. Первоначально оно комплектовалось из пленных юношей, позже путем насильственного набора мальчиков из христианского населения Османской империи. Они были прекрасно обучены военному делу, воспитаны в духе мусульманского фанатизма, отличались большим мужеством.
Спустя некоторое время я вновь услышала упоминание о янычарах, но в контексте восторженного рассказа Валентина Саввича о делах и смерти Байрактара. Тогда же неоднократно прозвучало и название — «Лицо жестокого друга».
Сначала я подумала, что Валентин Саввич пишет миниатюру, так характерно было название и концовка рассказа — в миниатюрах Пикуль, как правило, прослеживал путь своего героя до последних дней его жизни.
Короткое, «миниатюрное», но яркое знакомство с пикулевским героем почти всегда вызывает желание узнать о нем побольше, познакомиться с ним поближе. Я попросила Валентина Саввича подсказать, где об этом можно почитать, и он дал мне книгу А. Ф. Миллера «Мустафа паша Байрактар».
В этой интереснейшей книге много познавательных и поучительных уроков из истории Турции периода Селима III и Мустафы Байрактара. По многочисленным подчеркнутым местам было ясно, что Пикуль работал с этой книгой, выпущенной в 1947 году, неоднократно.
Очевидным становилось и то, что миниатюрой здесь не обойтись. Пометки Пикуля высвечивали направленность поисков. Его интересовали не столько сами личности Селима и Байрактара, сколько глобальные исторические вопросы. Главное было — выяснение причин, приведших к развалу, распаду, потере независимости и превращению в полуколонию великой Османской или, как еще встречается, Оттоманской империи. Империи, разбросившей свои владения к концу восемнадцатого века на три материка: территория ее включала средиземноморское побережье Африки от Алжира до Египта, побережья Красного моря и Персидского залива, большую часть побережья Черного моря от Анапы на востоке до Очакова на западе, и простиралась по землям Европы от Молдавии до Албанских берегов Адриатики.
Тайным политическим кружком «рущукских друзей» (это первая в истории Турции, если не партия, то во всяком случае политически оформленная группировка) во главе с выдающимся турецким деятелем Мустафой Байрактаром и была предпринята попытка, как оказалось — запоздалая, спасти империю от расчленения и гибели.
Как я и предполагала, миниатюра не состоялась. Но появился почасовик и постоянно разрастающаяся папка с записями, из которых явствовало это новое будущее произведение В. Пикуля. В голове у него был уже и конец книги, о чем говорят приводимые здесь мной фотокопии.
На записке после зачеркнутых фраз: «Начало, которое можно назвать концом» и «уничтожение корпуса янычар», следует абзац, к которому Пикуль делает пометку — «В конец книги (выделено мной — А. П). Он гласит:
Кемаль Ататюрк, могила Байрактара:
— здесь лежит человек, который хотел того же, чего достиг я, но… я бы не хотел такого конца, каким был конец этого человека».
В папке лежал и следующий листок.
«Так закончилась жизнь этого незаурядного человека, Мустафы-паши Байрактара, и лицо жестокого друга России мы попытались обрисовать в нашей книге по возможности справедливо и полно.
Европа его не поняла, Россия не поверила ему, а соотечественники люто ненавидели этого «знаменосца» (Байрактар в переводе с турецкого означает — прапорщик, знаменосец. — А. П.). Развитие Турции, вновь отданной во власть бандитов-янычар и ханжей-улемов, было приостановлено на долгие годы. Блистательная Порта доживала свой мучительный век в корчах долгой агонии…»
В 1911 году прах Байрактара был разбужен свистком паровоза, которому могила бывшего «знаменосца» мешала свершать путь до Стамбула, и останки великого визиря были перенесены на новое место — за ограду мечети Зейлеб-султан, по соседству с дворцом Топкапу.
На этом и должна была заканчиваться третья, заключительная часть романа «Янычары», названная Пикулем — «Лицо жестокого друга».
Вторая часть романа — «Пирамида» — также замысливалась как самостоятельное произведение.
«Величественная и всегда таинственная тень от египетских пирамид ложилась на все события Европы и всех героев того времени».
Пирамиды фараонов, вечно молчащие, возвышающиеся над людской суетой, стали свидетелями многих радостных и печальных событий, происходящих на этой священной земле.
Об одном из них, связанном с походом Наполеона Бонапарта на Египет и его покорением, и хотел рассказать в своей книге Валентин Пикуль.
В название романа он вкладывал широкий, точнее — двойной смысл. Пирамиды… Памятники старины Древнего Египта…
Их величие неподвластно времени. И это ощущение Пикуль переносил на людей, оставивших заметный след в мировой истории, незабвенная слава которых возвышает их, подобно пирамидам, над бренным миром. Речь в романе должна была идти о трех таких «пирамидах»: Наполеоне Бонапарте, Федоре Ушакове и Горацио Нельсоне и их противостоянии на морских и сухопутных коммуникациях.
Автор на протяжении нескольких лет собирал материал, давно был составлен почасовик, продуман план, определены герои и сюжеты, оставалось уточнить только некоторые детали и факты.
В 1989 году, оформляя заказы на комплектование библиотеки по месту своей работы, просматривая при этом планы издательств на следующий год, я обнаружила информацию о предстоящем выходе в серии ЖЗЛ книги В. Ганичева «Ф. Ушаков». Зная, что Ушаков — один из главных героев романа — его «российская пирамида» — я поделилась своими сведениями с Валентином Саввичем. Он был несколько огорчен этим сообщением, но при состоявшейся вскоре личной встрече с Ганичевым ничем не показал этого и даже участливо порекомендовал главному редактору «Роман использовать в работе „Записки Метакса“.
В характере Валентина Саввича была добродетельная и хорошая черта: никогда «не перебегать дорогу» коллеге по перу. Однажды их творческие дороги уже пересекались при работе над эпохой Екатерины II, когда из-под пера Пикуля вышел сильно нашумевший «Фаворит», кстати опубликованный впоследствии в «Роман-газете», а Валерий Николаевич написал роман «Росс непобедимый», первую книгу которого Валентин Саввич прочитал и высоко оценил.
Поэтому он на время отложил рукопись, пояснив мне:
— Пусть выйдет книга Валерия Николаевича, пусть с ней познакомятся читатели, а потом я допишу свою.
Видимо это обстоятельство также стало одной из причин, по которой роман «Пирамиды», путем смещения и перераспределения акцентов, превратился во вторую главу уже другого романа.
Искусственного в этом ничего не было, поскольку события всех романов приблизительно совпадали по времени, пересекались по географии и имели общих действующих лиц.
Вот одна из большой кипы заметок Пикуля:
«В 1789 году произошли два важных события, и одноиз них — взятие Бастилии французами — заметили все люди, а второе событие — восшествие на престол СелимаIII — заметили только дипломаты.
— Пусть с этим султаном возятся одни русские, — рассуждали политики, — а Европе он пока не учинит бед, ибо султан еще молод, а его любимая сестра Эсмэ уговаривает его заключить мир с Россией, пока русские не… совсем озверели…
Селим опоясал свои чресла мечом Османа как раз в том году, когда Потемкину Таврическому оставалось жить всего лишь два года, а императрице Екатерине Великой оставалось царствовать всего семь лет…
…Султан говорил о французах:
— Они глупцы! Им кажется, что стоит казнить короля и взорвать Бастилию, как народ сразу обретет счастье. Так не бывает. Вот именно сейчас-то и начнутся все несчастия для французов, ибо нет такой революции, которая бы приносила людям облегчение — всегда свергнутая власть оказывалась лучше той, которая стала управлять народом, сидя на обломках Бастилии».
Имеющийся в наличии архивный материал позволяет судить о том, что «Пирамиды» тоже были уже вчерне закончены. Но… вчерне.
В объемистой папке находится детально проработанный почасовик и непронумерованные листы рукописи с многочисленными вставками и заметками. Вот на клочке бумаги его пометка: «Внимание. Пирамиды» закончить 1801 годом, когда последние французы ушли из Египта, продавая женщин».
Есть целые отдельные страницы, содержащие тот или иной законченный смысловой эпизод. Например, такие:
«В десятый день священного мухаррама 1213 года (24 июня 1798 года) в Каире узнали, что три дня назад подошли к Александрии английские корабли и стали спрашивать жителей — не было ли здесь французов? Сеид города Кураим сказал очень грубо, чтобы убирались обратно в море, ибо ему одинаково противны все франки и все инглезы. Англичане вежливо попросили Сеида, чтобы позволил взять на корабли запасы пресной воды, но Сеид даже воды им не дал, говоря такие слова:
— Это страна султана турецкого, а вы уходите прочь!
Как сказано в Коране, «бог свершает дела, записанные в его предначертаниях», — Кураим прогнал англичан с эскадры Нельсона, которые были заняты поиском тулонской эскадры Бонапарта, и, будь Сеид повежливей, история Египта, может быть, писалась бы несколько иначе, нежели мне предстоит писать вам…»
Валентин Саввич перебрасывает мостики от древних пирамид до современности, просматривая не только жизнь героев, но и их потомков. Вот еще одна страница рукописи:
«Исторически совсем недавно — 18 марта 1965 года — в одном из ресторанов Рима полный мужчина в черных очках и с белой астрой в петлице ужинал с дамой легкого поведения. Судя по тому, как он не скупился на изысканный ужин, официант решил, что клиент не знает счета деньгам. Пора уже было расплачиваться за ужин по счету, когда вдруг мужчина судорожно схватился за горло и упал лицом в тарелку с недоеденной пищей, разбрызгивая пикантный соус. Дама, чтобы избежать общения с полицией, тут же встала и торопливой походкой покинула ресторан.
Вызвали полицию и врача, который определил смерть от внезапного инфаркта. Полиция, чтобы установить личность покойного, выгребла все содержимое его карманов. Секретарь записывал:
— Миниатюрное издание Корана в переплете из чистого золота. Пистолет и две обоймы. Две ассигнации по тысяче долларов и одна в пятьсот долларов. Запасные очки со стеклами зеленого цвета. Футляр с лекарственными пилюлями…
Документов не оказалось. Комиссар римской полиции долго всматривался в разбухшее и неприятное лицо мертвеца:
— Узнать его можно — это Фарук, последний король Египта, который умер так, что не стоит удивляться, как не удивились бы мы, узнав, что Черчилль умер на трибуне парламента…
Да, это был Фарук, изгнанный из Каира революцией Нассера и решивший, что жизнь можно доиграть в роли «короля» ночных шантанов, числясь гражданином княжества Монако, где для таких, как он, издавна крутилась безжалостная рулетка. Наследники Фарука объявили розыск сокровищ, вывезенных королем из Каира, но после долгих поисков обнаружили лишь тощую чековую книжку: все уже было пропито, проедено и потрачено на красавиц краткой курортной любви. Так закончил свою жизнь этот пьяница, бабник и мот — потомок того самого человека, который заложил основу процветания угасшей династии».
Много интересного и даже ошеломляющего материала находится в этой папке. Иногда при чтении возникает растерянность: о чем писал Пикуль? О состоявшемся распаде блистательной Порты или о предстоящем развале Союза?
Не будем гадать…
По крайней мере, я знаю, что много устно и письменно высказанных Пикулем мыслей стали пророческими.
В моем дневнике есть такая запись от 25.04.89 года: «Валентин Саввич просит принести стихи Редьарда Киплинга».
Пролистывая на работе поэтический сборник, я пыталась угадать — какие стихи поэта могли бы заинтересовать Пикуля? И вот однотомник Киплинга на столе писателя. Он берет его и быстро перелистывает страницу за страницей.
— Вот они, нашел, — и читает своим выразительным голосом:
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, И с места они не сойдут, Пока не предстанут Небо с Землей На страшный господень суд.— Вот за это тебе спасибо, — довольно улыбается он. — Я возьму эти строчки эпиграфом к новому роману. Помнишь, я сказывал тебе о событиях на Ближнем Востоке в последние годы правления Екатерины II и Павла. Так вот, именно сейчас у меня появилось желание окунуться в ту эпоху. Как ты на это смотришь?
Я напомнила Валентину Саввичу о «Барбароссе», срок сдачи рукописи которой давно истек, о письмах нетерпеливых читателей, жаждущих поскорее прочесть роман «Аракчеевщина».
— Роман об Аракчееве никуда от меня не уйдет, — рассуждал Пикуль, — мне даже не потребуется дополнительного изучения, ибо все еще свежо в памяти после Потемкина. А роман «Янычары» должен занять свое подобающее место между «Фаворитом» и «Аракчеевщиной». Сейчас мне ближе Восток, куда я и отправляюсь в путешествие.
После этих слов он и сел за работу.
Хочу обратить внимание читателей, что все публикуемые в данной книге материалы представлены в том виде, в каком оставил их автор. Я только исправила опечатки и описки, оставив повторы, некоторые длинноты и кое-какие, может быть, неуклюжие фразы, ибо окончательно редактировать рукопись должна рука мастера…
Не на строгий суд дотошных критиков выпускается эта книга. Она для тех, кто хочет вновь прикоснуться к еще далеко не познанной глыбе, имя которой — Валентин Саввич Пикуль.
Антонина Пикуль
ОТ АВТОРА
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы,
И высились, и падали цари,
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.
А. С. Пушкин…Запад есть Запад, Восток есть Восток,
И с места они не сойдут,
Пока не предстанут Небо с Землей
На страшный господень суд.
Редьярд КиплингПриступая к написанию этой вещи, я сознательно не ставил перед собой каких-либо литературных задач, разрешением которых бывает озабочен каждый писатель-романист; напротив, я желал бы даже пренебречь подобными задачами.
Мною владеет совсем иная потребность: выстроить перед читателем обширную панораму давних событий, в которых Запад и Восток противостояли один другому в их трагическом единоборстве, ставшем после гибели Византии традиционным.
Если угодно, читатель может считать эту книгу логическим завершением романа «Фаворит», ибо — после смерти князя Г. А. Потемкина-Таврического русский кабинет продолжал тот же политический курс, какого Россия придерживалась и во времена громкой славы «светлейшего».
Но французская революция внесла в политику Европы особое ожесточение и вновь обострила борьбу за свободу тех славянских народов, которые, принадлежа Западу, издревле оставались под властью Востока…
Ах, как многое мы позорно и безжалостно позабыли!
Не пришло ли время нам вспоминать?
И ОСТАЛАСЬ ОТ НИХ ТОЛЬКО МУЗЫКА
Было очень жаркое лето 1826 года.
14 июня янычарский ага-паша объявил янычарам, что впредь не видать им баранины, пока не изучат строевых порядков по примеру армий европейских гяуров:
— Останется вам одна похлебка! По велению нашего падишаха Махмуда, да продлит Аллах его безмятежные дни, уже приехали египетские офицеры, вызванные из Каира, которые и станут учить вас, как надо маршировать…
Посмотрели янычары, чему их учат, и сразу заметили, что каирские франты нарушают их древние уставы, завещанные от дервишей-бекташей. Из толпы раздались гневные крики:
— Да это похоже на русских солдат!
— Мы не гяуры — и мы не станем позориться!
— Эй, не пора ли тащить из казармы котлы?.. Услышав призыв выносить котлы, разом исчез ага-паша, мигом попрятались и египетские офицеры. Зато на площади Эйтмайдана появились пляшущие дервиши-бекташи, они отрывали рукава от своих лохмотьев, а янычары делали из тряпок головные повязки, крича озлобленно:
— Пусть султан пришлет нам в мешке голову своего визиря и головы семи министров, придумавших «низамдже-дид»… Где котлы? Скорее выносите котлы…
В ожидании котлов они «рассеялись по улицам, грабя и
445
нападая на всех людей, кто им попадался навстречу. Янычарский ага-паша возбуждал в них особую ненависть… они ворвались в дом его, переломали там все, что нашли, и в бешенстве своем дошли до последней крайности, какую может позволить себе мусульманин: они выломали двери гарема и обесчестили всех жен его».
От янычарских казарм в сторону Эйтмайдана уже тянулась странная процессия, увидев которую, не только евреи и христиане, но даже правоверные поспешно захлопывали двери своих жилищ, а прохожие неслись по улицам куда глаза глядят:
— Ени-чери! Спасайтесь… ени-чери несут котлы!
Оркестры играли, не переставая — дико и бравурно! На площади Эйтмайдана янычары перевернули котлы кверху днищами, они лупили в их прокопченные бока, как в боевые литавры:
— Что нам голова великого визиря и его министров! — кричали они. — Мы хотим и глупую голову самого падишаха…
Очевидец вспоминал: «Янычары срывали с себя мундиры и топтали их своими ногами, остальная же часть их одежд была уже изодрана в клочья, чтобы все видели их ярость. Разрушив дворец Порты, они разграбили его, расхитив все, что имело хоть малую цену, янычары истребили даже архивы, в которых искали уставы новых порядков…» Восстание ширилось, охватывая столицу султана. Помимо бекташей, к янычарам примкнули носильщики тяжестей и пожарные, уже начавшие устраивать пожары, чтобы султан не вздумал упрямиться.
В самом деле, сколько уже султанов поплатились своими головами только потому, что не смогли угодить янычарам!
Прослышав о восстании янычар, султан Махмуд II укрылся в мечети; с ним были великий визирь, шейх-уль-ислам — главный духовник Оттоманской империи, топчу-баши — начальник артиллерии, ага-паша янычарский и египетские офицеры, которым султан доверял более, нежели своим, турецким.
— Наймите крикунов, — повелел он, — и пусть они кричат на Эйтмайдане, что я дарую янычарам свою милость, если они унесут котлы с площади обратно в казармы…
С небывалым высокомерием янычары высмеяли крикунов, возвещавших о милости падишаха, и велели передать султану, что в его реформах они не нуждаются, маршировать в строю, как гяуры, они все равно не станут, ибо привыкли ходить толпою, а их ятаганы страшнее любого европейского оружия:
— Саблей добытое царство Османов — саблей и удержится!
Узнав от крикунов, что янычары не желают убирать котлы в казармы, султан Махмуд II сказал своему визирю:
— Янычары возле моего Сачис Счастья — это такие же зажравшиеся мамелюки Каира, которых Махмед-Али Египетский не стал уговаривать, а просто перебил их всех, как собак… Янычары привыкли переворачивать свои котлы, но я, великий султан и падишах, могу развернуть Санджак-шериф, подобный благоуханному кипарису в саду моих неоспоримых побед!
«Санджак-шериф» — легендарное Зеленое знамя Пророка, пошитое, как гласило поверье, из халата самого Магомета. Шейх-уль-ислам сразу пал ниц, умоляя своего властелина не трогать священного знамени, которое жители турецкой столицы не видели уже целых полвека.
— Разве ты забыл, о великий падишах, что последний раз Санджак-шериф они видели, когда русские угрожали нашей империи, хранимой Аллахом, и тогда возникла нужда в созыве ополчения… Разве ты не боишься нашей черни?
— Нет, не боюсь, — отвечал султан. — Я согласен варить для них похлебку и давать им мясо, которое алчно пожирали мои янычары…
Он оказался прав. За много веков жители Константинополя уже столько настрадались от своеволия и жадности янычар, что теперь они охотно пришли на помощь султану. Санджак-шериф, извлеченный из казенных хранилищ, был — при чтении Алкорана — торжественно пронесен на кафедру мечети султана Ахмета. Махмуд II верно учел силу людских предрассудков, и когда народ сбегался к нему, чтобы коснуться складок одежд самого Магомета, он проклял всех тех, кто в этот миг оказался не с ним, а гремел котлами на Эйтмайдане.
— Начинайте, — указал он топчу-баши…
На помощь прибежали с кораблей галионджи-матросы, с ними объединилась и великая армия бостанжи-садовников, все вооруженные. Прямо в ажурные ворота, что были украшены вывеской «Здесь султан кормит своих янычар», с грохотом вкатилась пушка, извергающая лавину картечи. Другие орудия, расставленные по флангам Эйтмайдана, беспощадно расстреливали янычар в упор, и они, стиснутые домами, ограждающими площадь, метались в поисках спасения. Не сосчитать, сколько здесь со времен Сулеймана Великолепного полегло баранов, сожранных янычарами во славу Аллаха, как не сосчитать и того, сколько полегло янычар на «мясной площади» столицы…
Нет, не битва, а подлинное избиение длилось два дня — 15 и 16 июня. Эйтмайдан был завален горами трупов, когда уцелевшие янычары искали спасения в своих казармах, отстреливаясь от народа из ружей.
— Сожгите их, — повелел султан…
Пламя разом охватило громадные здания ветхой постройки, а жители радовались, наблюдая, как с верхних этажей прыгают объятые ужасом янычары, и тех, кто оставался жив, турки безжалостно добивали. Напрасно янычары прятались в подвалах, на чердаках и даже в колодцах — их всюду находили и убивали. Целую неделю подряд палачи султана работали без отдыха: рубили головы, вешали, удушали шнурками, рассекали янычар на множество кусков. Все улицы Константинополя были завалены трупами, среди которых бегали бездомные собаки, отгрызая мертвым янычарам носы и уши. Очевидец писал: «Несколько дней на арбах и телегах вывозили мертвые тела янычар, которые были брошены в воды Босфора. Они плавали по волнам Мраморного моря, а поверхность вод так была покрыта ими, что трупы даже препятствовали плаванию кораблей…»
— Умерщвляйте всех! — повелел султан, стоя под Зеленым знаменем Пророка. — Разгоните пляшущих бекташей, топите пожарных в Босфоре, убивайте носильщиков тяжестей…
По улицам столицы бегали люди, восхваляя Махмуда:
— Слава нашему великому и мудрейшему, нашему могучему и непобедимому, нашему ужасному султану!
Махмуд навеки запретил даже произносить имя янычар, предав их проклятью, он повелел уничтожить на кладбищах все их могилы, украшенные войлочными шапками, по бокам которых торчали острые уши. А после истребления янычар турки взялись за бродячих собак, гигантские стаи которых носились по улицам столицы, вечно голодные, алчущие добычи. Но с собаками поступили гуманнее: их отлавливали сетями, сажали на корабли — и они отправились в почетную ссылку на Принцевы острова, ставшие позже курортом международного значения.
Махмуд II, покончив с корпусом янычар, создавал новые войска, которые велел называть «Силами Магомета». Через несколько лет в Турцию прибыл молодой прусский капитан с орлиным профилем — это был Гельмут фон-Мольтке, будущий знаменитый фельдмаршал бисмарковской эпохи.
Это он, тогда еще не великий, взялся переучивать войска султана на европейский лад. Мольтке водил эти войска в сражения против курдов, он сражался с египтянами в Сирии, он тщательно готовил турецких солдат для войны с Россией…
Кажется, я снова — в какой уже раз! — предлагаю читателю роман о политике, заквашенной на крови народов.
Что был тогда Запад и каким стал Восток?
Понимаю, что писать об янычарах сейчас не принято.
Если о них и вспоминают, так больше музыковеды.
От прошлых времен могущества великой империи Османов нам, читатель, осталась лишь великолепная «янычарская музыка». И теперь, когда в праздничные дни с улицы доносятся бравурные марши военно-духовых оркестров, когда неистово грохочут барабаны и лязгают медные тарелки, мы не догадываемся, что в призывах воинственных маршей невольно оживает то проклятое время, когда при слове «янычар» люди в ужасе закрывали глаза, а матери хватали детей, чтобы бежать прочь, чтобы спасаться…
Все это было! В прошлом многое было…
Наконец, читатель, слушая классическую музыку Глюка, Бетховена, Гайдна или Моцарта, мы распознаем воинственные мотивы тех отдаленных времен, когда от вкуса янычарской похлебки или свежести куска мяса порою зависели многие перемены в восточной политике государств европейских…
Я остаюсь верен себе и стану писать о том, о чем писать ныне не принято! Итак, смелее…
Часть первая НОВЫЕ ВРЕМЕНА (1789-1798)
Не приставайте ко мне со своей Европой, которая всем нам давно надоела! Если мы, мусульмане, и не такие воспитанные люди, какие имеются в Европе, то мы все же не сумасшедшие, как вы о нас думаете…
Сарым-эфендиПРЕЛЮДИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Наступили новые времена, а над просторами Средиземноморья по-прежнему раскручивалась стародавняя «роза ветров» — трамонтане, леванте, маэстро и свирепо задувавший сирокко.
В самом конце 1789 года торговый бриг «Пенелопа» покинул Марсель, заполнив трюмы товарами для французских негоциантов, проживавших в Каире; немногочисленные пассажиры разместились в каютах, средь них были женщины с детьми.
Плавание не сулило особых тревог, а четыре тупорылые карронады, расставленные по бортам, вселяли уверенность в благополучном исходе плавания. Капитан уже не раз ходил до Александрии, и теперь уверенно провел «Пенелопу» между Корсикой и Сардинией. Но пассажиры брига были очень встревожены, когда он избрал путь намного южнее Сицилии, не пожелав следовать Мессинским проливом.
— Пощадите нас и наших детей, — взывали женщины. — Разве вы не извещены, что в открытом море нас подстерегают тунисские корсары? Мы не имеем богатых родственников во Франции, чтобы выкупали нас из мусульманского рабства.
— Ваши волнения напрасны, — утешал капитан робких. — Я нарочно прижимаюсь к Мальте, ибо тамошние рыцари зорко стерегут торговые пути, предупреждая алчность тунисского Хамуда-паши. Поверьте мне, дамы и господа, что ваши жизни не закончатся постыдной продажей на невольничьих рынках…
Да, были причины для страха, ибо Тунис высылал на разбой не менее ста кораблей, и встреча с каждым из них грозила путникам вечным рабством, детей разлучали с матерями, а матерей продавали в гаремы. Впрочем, золоченая грудь «Пенелопы» легко и смело рассекала лазурные воды, а в один из дней, когда миновали утесы Мальты, им встретилась скампавея мальтийских рыцарей, с ее кормы повелительно окликнули:
— Во имя святого Иоанна — остановитесь!
Скампавея несла паруса, но силе ветра помогали гребцы, прикованные к веслам: это были бритоголовые мусульмане, пойманные в недобрый час на морском разбое, и теперь осужденные грести до скончания века — во славу того же христианского Иоанна. Два корабля недолго качались один возле другого. Супрокамито, начальник мальтийского судна, расфранченный, словно придворный Версаля, прокричал в сторону брига:
— Следите за ветром, чтобы вас не отжало к берберийским берегам, а к Александрии спускайтесь лучше от самого Крита, дабы избежать нежелательных встреч с корсарами.
— Мы так и сделаем, благородный супрокамито! — обещал ему капитан «Пенелопы». — Благодарим за добрый совет…
Паруса брига забрали попутный ветер, и он сулил пассажирам, что через три дня покажутся берега древнего Пелопоннеса. Дети, игравшие на палубе, оказались самыми зоркими:
— Корабль! — закричали они. — За нами гонится корабль…
Сближение казалось неотвратимым. Скоро капитан распознал зловещую символику ужасного флага: оскаленный череп в перекрестии берцовых костей, рядом с ними трепыхалось изображение песочных часов, отмерявших краткие сроки человеческой жизни.
— Уберите детей, — хмуро наказал он женщинам. — Укройтесь в каютах и запритесь изнутри. Будем отстреливаться…
«Пенелопа» прибавила парусов, матросы тащили тяжелые карронады в корму, укладывая их в ящики с песком. Капитан, посерев лицом, молитвенно сложил руки, послав мольбу к небесам:
— Именем сладчайшего Иисуса, спасителя нашего, да пусть же все четыре пушки выстрелят на погибель неверных!
В ответ пираты выстрелили поверх палубы брига не ядрами, а связкою базарных гирь, скрепленных звеньями цепей (это был «книппель» для разрывания оснастки). Над головой капитана с оглушительным треском лопнули напряженные триселя — «Пенелопа» сразу смирила свой бег по волнам, лишенная скорости.
— Мы пропали! — разбежались матросы от пушек…
Капитан в ужасе закрыл лицо, когда форштевень корсара с хрустом насел на корму «Пенелопы», безжалостно сокрушая рамы оконных стекол, а в кормовые поручни брига разом вцепились острые крючья абордажных интрепелей.
— Стойте! — закричал он пиратам. — Разве короли Франции не платили дань паше Туниса, чтобы не трогал его кораблей?
Капитан ожидал кровавой ярости абордажа, но — странно! — пираты остались на своем судне, а на борт «Пенелопы» легко перепрыгнул лишь один человек, который, улыбаясь, отвечал капитану с акцентом природного гасконца:
— Стоит ли всуе поминать королей Франции, если в этих краях дань с европейцев собирают старинным способом?..
Корсарам явно не терпелось взобраться на палубу брига, чтобы опустошить его трюмы, но этот «гасконец» удержал их резким повелительным жестом. Его голову украшал тюрбан с высоким пером страуса, из-за пояса коротких штанов торчали рукоятки пистолетов и ятагана, убранные жемчугами.
— Кто вы такой и откуда вы? — спросил капитан, удивленный его речью. — Вы из Алжира или из Триполи?
Пират был босым, но держал себя на палубе «Пенелопы» столь уверенно, словно скользил туфлями по вощеным паркетам парижских салонов. Отвечал же он с явной насмешкой:
— Увы, я с острова Джерба… вы дрожите?
— Дрожу, — честно сознался капитан.
— Слышу стук костей вашего скелета. Да, на этом замечательном острове доныне возвышается пирамида из христианских черепов, в которых когда-то зрели мысли об отмене варварских принципов рабства. Впрочем, в нашей веселой столице собралась компания, для которой религиозные или национальные различия не имеют никакого значения[1].
Капитан вручил победителю свои пистолеты:
— Я… сдаюсь. Но, чувствуя в вас европейского человека, взываю к вашему милосердию. Ваше появление устрашило пассажиров, доверивших мне свои судьбы. Не разлучайте женщин с детьми! Я вас очень прошу… я вас умоляю!
Пират с акцентом гасконца вернул пистолеты капитану:
— Они вам еще пригодятся. Но вы оказались догадливы, взывая о милосердии именно ко мне, ибо тюрбан ренегата накрывает слишком горячую голову человека, воспитанного на рассуждениях Дидро и Вольтера… Ваш скелет спокоен?
— Да! — вспылил капитан. — Но в своих речах вы просто издеваетесь надо мною. Кто вы такой, еще раз спрашиваю я вас?
Корсар выразил желание выпить хорошего вина. При этом он сказал, что окончил парижский колледж Рауля Гаркура, в котором из него хотели сделать добропорядочного кювье.
— Поверьте, коллега, я бы, наверное, исправно поклонялся богоматери, если бы не вмешался дьявол, доказавший мне, что в мире, где царствуют деньги, братство и равенство — это смешная утопия. Дьявол однажды нашептал мне, что все человечество делится лишь на богатых и бедных. Уяснив это, я задержал на пустынной дороге дилижанс, быстро оказавшись под королевской виселицей, после чего и спасался на острове Джерба. Вы, надеюсь, хорошо поняли меня, капитан?
Капитан понял, что с «висельником» лучше не связываться, и покорно отдал ему связку ключей от грузовых трюмов:
— Недаром же вы так настойчиво гнались за нами, чтобы иметь верную добычу… Так я согласен, грабьте!..
— А что у вас в трюмах? — равнодушно спросил пират.
— Сущая ерунда для европейской колонии в Каире — свертки сукна лионской выделки, бочки с желтою охрой, немного бумаги, оконные стекла, две сотни зеркал и мешки с сахаром.
— Не ради же этого я гнался за вами! — хохотал пират.
— Так чего же еще вам надобно от меня, черт побери?
Пират с удовольствием выпил просимого им вина.
— Я настигал вас совсем по иным причинам, более значительным, нежели ваши жалкие товары. Поверьте, моя душа давно жаждет не добычи и крови, а иного… совсем иного!
— Чего же? — удивился капитан «Пенелопы», глянув на рваные снасти и поникшие паруса, лохмотья которых развевал ветер.
В ответ последовало признание пирата:
— Ах, знали бы вы, как тяжко жить без… газет. Если вы плывете из Франции, так скажите — что там за жизнь?
Теперь пришло время хохотать капитану:
— Неужели до вашей Джербы еще не дошло, что в Париже народ штурмовал Бастилию, разбросав ее камни?
— Впервые слышу, — обомлел пират.
— И если вам дороги прежние идеалы юности, так вам лучше покинуть Джербу, а дома для вас, наверное, сыщется дело…
Корсар торопливо допил вино, глянул с опаской.
— Я вам не верю, — произнес он с угрозой. — Не хотите ли вы одурачить меня, желая улизнуть от нас поскорее?
— Что надобно для того, чтобы вы мне поверили?
— Мы на Джербе знаем, что Россия снова воюет с Турцией, так расскажите, кто там побеждает — или султан Абдул-Гамид русскую царицу Екатерину или Екатерина султана?
— Русские уже штурмовали Очаков, — пояснил капитан, — но Абдул-Гамид спятил и умер, пресыщенный излишествами жизни, а престол занял Селим Третий, который, кажется, не намерен продлевать войну с русской царицей, благо в империи Османов даже кошки воют от голода… Может, показать вам газеты?
— Да! Я хочу видеть газеты, — воскликнул пират. — Дайте мне хоть клочок газеты — и я не стану удерживать ваш корабль! Но я перевешаю всех вас на реях, если не сыщете газеты…
Зато как он обрадовался, когда пассажиры вынесли из своих кают целый ворох ведомостей, парижских и гамбургских, и, покидая палубу «Пенелопы», корсар-гасконец шепнул капитану:
— Очевидно, вы столь наивны, что решили попасть в Египет, спускаясь к нему с широты Крита, — так вот, в благодарность за все ваши новости, я хочу предостеречь вас, что Хамуд-паша стережет неверных именно на этих курсах… Мой добрый совет: плывите вдоль берега и будете в безопасности!
— Не знаю, как и благодарить вас за такое предупреждение.
— А я не знаю, как благодарить вас за известие о том, что французы разломали Бастилию…
Два корабля, столь разных, медленно разошлись.
Боже праведный, из-за чего волнуются люди?
Парижане штурмовали Бастилию, требуя свободы и хлеба, а этот пират стрелял из пушек, желая почитать свежие газеты…
Конечно, он узнал, что в мире немало перемен!
1 НА БЕРЕГАХ «КОРОВЬЕГО БРОДА»
Весна 1789 года выдалась ранняя, но Сладкие Воды турецкой столицы не оживляли ни пение бродячих певцов, ни говор беззаботных женщин, ни крики разносчиков сладостей.
Длинные хвосты, остриженные от черных кобылиц, гордо реяли над фасадом Сераля, возвещая правоверным о том, что их великая Оттоманская империя продолжает войну.
С батарей Топ-Ханэ стучали арсенальные пушки, им вторили с Босфора корабли эскадры капудан-паши. Молодой султан Селим III приехал в мечеть Эюба-Джами, где и опоясал свои чресла мечом Османа (этот жест заменял ему «коронацию»).
— Как не слепить сладкой халвы из пресного снега, — сказал он, — так без реформ не возродить былое величие империи османлисов. Закроем же свои рты, чтобы шире открылись глаза… Спящий спящего разбудить не способен. Но если все вы еще спите, так я уже пробудился, и устрашу вас всех, спящих!
В один из вечеров прусский посол Дитц навестил здание «Палэ де-Франс», спрашивая парижского посла:
— Вступление Селима на престол было почти угрожающим. Как вы мыслите, граф, чего следует ожидать от нового султана?
— Кажется, — отвечал Шаузель-Гуфье, — Селим станет для Турции подобен тому, чем был для России царь Петр Великий, и ему предстоит такая же борьба с янычарами, какую вел русский царь со стрельцами. Головы покатятся… Но я боюсь, как бы среди множества голов не затерялась и голова этого реформатора.
— Вы, граф, намекаете на…
— Не бойтесь договаривать, — усмехнулся посол Франции. — В отличие от других султанов, Селим, опоясываясь мечом Османа, прежде не задушил своих кузенов Мустафу и Махмуда, а посему на престоле Османов еще возможны всякие комбинации…
Глубокой ночью прусский посол торопливо писал в Берлин о султане Селиме III: «Этот государь, имея немалые способности и деловитость, будет несомненно стоять выше своих подданных, и, кажется, именно ему предстоит роль преобразователя государства, закосневшего в своем величавом упрямстве…»
Но прежде, читатель, нам предстоит побывать на берегах древнего «Коровьего брода», где минареты мечетей, словно тонкие карандаши, казалось, выписывали на небесах заклинания Пророка.
Первый в мире Осман оставил потомкам-османлисам одну ложку, одну солонку, чалму и рубаху, истлевшую от пота.
Византия была самой памятной жертвой Запада, и пришельцы с Востока отпаивали свою конницу из мраморных гробниц византийских императоров, их раскосые жены заквашивали тесто в торжественных саркофагах былого величия. Победители крошили в труху солнечные изваяния богинь Эллады, выделывая из них известку для побелки стенок в мечетях, а бронзовые бюсты героев античного мира они отправляли на переплавку, чтобы отлить пушки для осады крепостей. Одна из таких пушек весила 700 тонн, ее таскала по грязи сразу сотня волов, она метала мраморные ядра, каждое стоимостью в 1200 ливров.
Первый Осман, счастливый обладатель единственной ложки, не узнал бы своих наследников: на гончих собаках султанов красовались попоны из голубого бархата, а охотничьи леопарды, преследуя ланей, сверкали бриллиантовыми ошейниками. Запад дивился Востоку, Запад восхищался Востоком, он жестоко боролся с Востоком, не раз покоряясь силе его оружия, и Восток привык торжествовать свои победы над «франками» — так мусульмане называли не только французов, но и вообще всех европейцев.
Ослабление Османского государства началось не тогда, когда Россия времен князя Потемкина в двух войнах дважды ставила султанов на колени. Не будем так думать! Нет, сначала Османы испытали разгром на море в битве при Лепанто осенью 1571 года, когда великий Сервантес потерял руку; второй разгром Турция испытала на суше в 1683 году, когда ее гигантскую армию, пожелавшую выйти на берега Рейна (!), полностью уничтожил под стенами Вены польский король Ян Собеский.
Но Турция оставалась великой и мощной!
Кстати, османлисы считали оскорблением, если их называли… турками. В турецком понимании «турок» — это невежда, достойный всеобщего осмеяния, в русском языке синонимом этого слова было бы выражение «сиволапый мужик». Турцию, как это ни странно, сплотило не национальное единство (какого у нее никогда не было), а лишь заветы мусульманской религии, и со времен первых Османов это был сброд различных кочевых племен, туркменов и, как подозревают историки, даже монголов; потом к этим выходцам из глубин Азии примкнули побежденные, уверовавшие в могущество Магомета, и даже те, кого победители силком заставили в него верить. Европейский же тип лица турок сложился по той причине, что их гаремы были составлены из рабынь, купленных на базарах или плененных во время походов на Польшу, Россию, Украину, Венгрию и прочие страны. Перед нами исторический парадокс: турки еще сами не сделались нацией, когда они уже создали необъятную Оттоманскую империю из покоренных ими народов…
XVIII столетие подходило к концу, а великая Османская империя широко раскинулась на трех континентах сразу: в Азии она простерлась до берегов Персидского залива, почти примыкая к Индии; в Африке обладала арабскими странами — от Гибралтара до Красного моря, в Европе она угнетала балканские народы и греческий; султанам принадлежат Крит, славный в древности лабиринтами, в которых обитало чудовище Минотавра; султаны владели и благоуханным Кипром, где нынешние киприоты по сей день показывают то место на пляже, на котором вдруг вышла на берег прекрасная Афродита, рожденная из морской пены…
Итак, читатель, Бастилия пала, но туркам не было до нее никакого дела. Едикюль (Семибашенный замок на берегу Босфора) высился нерушимо, и штурмовать его османы не собирались. Когда же в Порте узнали о провозглашении во Франции республики, турки приняли ее за новую королеву Версаля, а великий визирь Юсуф-Коджа воскликнул:
— Тем лучше для нас! Молодая королева Республика, надеюсь, не выйдет замуж за старого венского эрц-герцога…
Константинополь для историков, Царьград для славян, а Стамбул для турок, — этот город жил своей жизнью, и множество его нищих взывали о милосердии. Все корабли султана были заняты войной с эскадрой русского адмирала Ушак-паши (Ф. Ф. Ушакова), подвоз провизии из провинций нарушился, столицу Османов терзал голод. Обвешанные колокольчиками, на улицах зябко тряслись попрошайки, а бубенцы, громко названивая, предупреждали прохожих (правоверных и неверных), чтобы к ним близко не подходили — это звонят прокаженные.
Томно закрыв глаза, они сами рассказывали о себе:
— По воле Аллаха, что у богатого в мошне, то я вижу только во сне. Чашка моя давно пуста, но я целую ее в уста. В моей похлебке из репы даже редиска кажется маслом…
Я, автор, бросаю нищему свой последний пиастр издалека, не приближаясь к нему, чтобы не заразиться. Я испытываю давний страх перед чернью Стамбула, ибо по сравнению с нею «чернь времен Римской империи являлась собранием мудрецов и героев», — это не мои слова, так о черни турецкой выразился Карл Маркс, и мой пиастр, брошенный издалека, как бросают мясо собаке, очень точно был уловлен в чашку прокаженного. Но тут же к нему подошел молодой янычар, который смело выгреб из чашки нищего подаяние, сложил монеты в карман своих необъятных шальвар и, свистнув, он пошел дальше…
Янычар — это тоже чернь, но — чернь, ставшая элитой!
Еще в первозданной древности мира божественная Ио, возлюбленная легендарного Зевса, опасаясь ревности Геры, однажды превратилась в корову и переплыла Босфор, отчего этот пролив греки называли «Коровьим бродом». Само же имя столицы Стамбул — от феческого «исламбол», что означало «пойдем в город», но турки переводили «исламбол» на свой лад — для них Стамбул звучал как «изобилие ислама».
Константинополь, подобно Риму, возник на семи холмах.
Этот обломок Византии, давшей Руси свет христианства, обмывали воды Мраморного моря, от него начинался узкий Босфор, а бухта Золотой Рог обрамляла Константинополь вроде драгоценного браслета. Прямо в море острым мысом выступал султанский дворец Топкау, возле него высилась громада Айя-Софии, а в глубине улиц громоздился квартал янычарских казарм. Неподалеку от них, на том самом месте, где во времена Византии размещался скаковой ипподром, теперь грозно шумел Эйтмайдан (Мясной базар), а его ажурные ворота украшала гордая и выразительная надпись:
ЗДЕСЬ СУЛТАН КОРМИТ ЯНЫЧАР
Какой уж век — день за днем — тут вырезались стада баранов, чтобы каждый янычар получил в дар от султана большой кусок мяса, истекающий теплой кровью. Как бы ни голодали жители Константинополя, янычар это не касалось: казенную похлебку и кусок мяса они все равно получат! Мимо ворот Эйтмайдана прохожие пробегали с опаской, зато здесь бесстрашно крутились на босых пятках бек-таши «вертящиеся дервиши», давние покровители янычарского войска (ени-чери). Турецкая столица замирала в ужасе, если янычары выносили свои котлы из казармы, переворачивая их кверху дном, что означало их недовольство султаном или визирем.
Люди бежали по улицам, как можно скорее запирали двери своих домов, оповещая соседей истошными воплями:
— Ени-чери! Спасайтесь… ени-чери несут котлы!
Вынос же котлов означал, что янычары требуют крови.
Столице грозили смуты, пожары, грабежи и убийства.
Впрочем, было одно неписанное правило: если сановник султана, уже обреченный на смерть, ухитрялся спрятаться в янычарском котле, он считался невинным, приобретая звание «друга янычар». Только вот вопрос — как добежать до Эйтмайдана и как нырнуть в котел… Мало кому это удавалось!
Подалее от зловещего Эйтмайдана, на берегу Золотого Рога, широко раскинулся обширный квартал Фанар, отстроенный почти европейски, чистоплотный и благоустроенный, в котором из окон не выплескивали помои на головы прохожих. Здесь проживали фанариоты — потомки тех византийцев, которые, не изменив вере предков, изменили своему народу, оставаясь на службе турецких деспотов; фанариоты ценились султанами как превосходные драгоманы (переводчики), необходимые для дипломатических переговоров с иностранцами, ибо сами османы изучением европейских языков никогда себя не утруждали. В квартале Фанар проживал и греческий патриарх — тоже православный.
На другом берегу Золотого Рога уютно разгорались огни торговой Галаты, где во времена Византии селились генуэзские негоцианты. Галата сплошной базар, где можно купить не только драгоценное ожерелье ювелиров Венеции, но даже и соленый русский огурец. Здесь реже слыхать турецкий язык, забиваемый выкриками на албанском, сербском или болгарском наречьях; евреи, чтобы их никто не понял, вообще предпочитали старо-испанский, и, казалось, что на торжищах Галаты хуже всего понимали как раз язык властелинов — османов. А в лавках крытого рынка распродавали пленниц. На вес золота ценились дебелые и жирные, с русыми волосами. Их ставили на весы, как скотину, и, чем больше женщина весила, тем дороже была ей цена. Потом рабыню уводили за ширмы, где покупатели совали ей в рот пальцы, заставляя кусать их, и по силе прикуса устанавливали степень ее любовной пылкости, после чего продавец и покупатель торговались о стоимости «прекрасной альмеи».
Далее, к северу вдоль Босфора, протянулись кварталы Пера, напоминавшего города итальянской провинции; самые лучшие и мощеные улицы здесь были населены европейцами, в Пера находились русское посольство и французское — «Пале де-Франс», издавна враждебные одно другому, как извечные соперники в восточной политике. В закоулках Пера торговали европейские магазины, тут можно было встретить женщин, не скрывавших свои лица. Но чтобы женщин не похитили, их сопровождали наемные кавасы — звероподобные арнауты, не снимающие ладоней с рукоятей пистолей и ятаганов.
В столице Османов чудом уцелели от пожаров и землетрясений редкие дома былой Византии, внешне схожие с теми, что бывали еще в древней Помпее; их отличали балконы, нависавшие над улицами, и узкие щели окон, чтобы удовлетворять потаенное любопытство византиек (такие же балконы потом строили и турки, дабы не скучали их жены, заточенные в гаремах). Под сенью этих балконов всегда нависали гнезда ласточек, а в окнах были выставлены цветы. Мы, читатель, тоже выставляем горшки с геранями на подоконниках, даже не задумываясь о том, что эта житейская привычка досталась нам из подражания Византии, а византийцы перенимали вкус от гордых патрициев Рима…
Но Восток оставался Востоком! Чтобы скрыть свои доходы от налогов в пользу султана, османы нарочно строили свои дома безобразными снаружи, но их нищенские фасады скрывали царственную роскошь внутри покоев. В кривых переулках почти внаклонку, прижимаясь один к другому, стояли развалюхи бедняков, в тупиках улиц догнивали свалки отбросов, на которых кормились сотни тысяч бездомных собак. Собак, лежащих посреди улиц, турки обходили стороной, не трогая их, ибо собака в Турции считалась таким же священным животным, как и корова в Индии. Между домами бродили громадные крысы, остро нюхащие зловоние, порхали над крышами голубиные стаи, а по ночам Стамбул раздирали вопли котов и кошек, жаждущих чего-либо одного — любви или рыбки.
Странно! Уголовных преступлений в Константинополе почти не бывало; жители квартала, в котором преступление случилось, облагались большим штрафом, — так что не только асес-баши (полиция), но и сами горожане следили за подозрительными людьми в своих кварталах. Порядок в ночном Стамбуле тоже был идеальный. По ночам люди по улицам не шлялись, а сидели дома. Если же у кого возникала надобность, то он был обязан ходить с фонарем. Прохожих без фонаря арестовывали и посылали на заготовку дров для общественных бань.
Таких бань в Константинополе было великое множество!
Мусульмане всегда рады помыться, а их жены проводили в банях целые дни — даже не ради омовений, а чтобы посплетничать о своих строгих мужьях. Европеец, давая денег жене, обычно говорит: «На тебе — на булавки!» Мусульманин, одаряя жену пиастрами, скажет иначе: «Вот тебе на баню…»
Чувствую, что осталось сказать последнее.»
На другом берегу Босфора, уже не на европейском, а на азиатском, высилась дивная панорама Сугари, венчанная кипарисами и смоковницами, издалека благоухающая кустами акаций.
Прекрасная лестница, ведущая от пристани в сторону скутарийских кладбищ, называлась «Меит-Искелли» (дорога смерти).
Знатные османы, жившие в Константинополе, на европейском его берегу, всегда помнили, что их далекие предки вышли из Азии, а потому они, их потомки, желали быть погребенными непременно в Скутари — на азиатском берегу Босфора.
Среди множества могил плясали «вертящиеся дервиши», а по пятницам в Скутари играли бравурные янычарские оркестры.
А вот мне, автору, стоит только закрыть глаза, и сразу видится волшебная Ио, которая, превратясь в корову, переплывает Босфор, за которым лежит город новых мифических чудес…
Верить ли мне в чудеса или не верить?
Лучше я стану верить…
2 КТО СКАЖЕТ ПРАВДУ?
Сераль — и фантазия рисует гарем с одалисками, Диван — и нам представляется удобное ложе для отдохновения. На самом же деле Сераль — резиденция турецкого султана, а Диван — это его правительство во главе с великим визирем. Но султан Селим III был одинок в Серале, а в Диване видел сборище своих противников.
— Все мнят себя мудрецами, — жаловался он. — Но если все умные, то где взять дураков, чтобы пасли наших овец?…
Селим III, могучий ростом, был человеком очень сильным, ему бы впору бороться на улицах Стамбула ради «бакшиша», собираемого с ротозеев. На соревнованиях по стрельбе из лука султан не только поражал цель, но его стрела летела дальше всех (на 890 метров). Однажды, желая польстить ему, великий визирь Юсуф-Коджа назвал султана «Самсоном», и получил ответ:
— Если я и Самсон, то уже ослепленный неправдами этого мира, и не лучше ли сразу разрушить храм, чтобы под его обломками погибли и все вы… мои лживые рабы! Как не видел я ног у змеи, так не вижу и мудрости в людях…
Селиму исполнилось 28 лет. Лицо султана, источенное оспой, сохранило отпечаток той утонченной красоты, какой обладала и его мать Михр-и-Шах, украденная в Грузии для гарема отца; горячая грузинская кровь, сдобренная острыми приправами мусульманского фанатизма, часто управляла поступками султана. Впрочем, Селим III был достаточно образован и начитан; он писал недурные стихи; его влекло к мистике, музыке и поэзии. Империя досталась ему в развале хаоса военного, административного, финансового.
Своей любимой сестре Эсмэ он говорил:
— Если бы не война с русскими, мне было бы легче насытить голодных и усмирить недовольных. Но пока Екатерина режет громадный арбуз, мы никак не можем поделить свои жалкие орехи.
— Будь жесток, — поучала султанша брата, — и храни тебя Аллах от избытка слов, ибо сейчас в Стамбуле вязанка дров или ломоть лепешки важнее любых обещаний. Даже нищие устали слышать о наших бедствиях на Дунае… Наконец, избавь страну от визиря Юсуфа, живущего воровством и взятками.
Долгобородый Юсуф-Коджа начинал жизнь с того, что заваривал кофе для матросов, имея лавчонку на кораблях военного флота, а теперь… он и визирь, он и главнокомандующий, он и раб!
— Непойманный вор все-таки намного честнее вора пойманного, — отвечал Селим. — Да и где взять другого с такой длинной бородой, чтобы внушать почтение другим ворам?..
Со времен Сулеймана Великолепного (современника русского царя Ивана Грозного) все турецкие султаны обычно следили за работой Дивана через окошко, вырезанное в стене над седалищем великих визирей. Селим III первым нарушил эту традицию Османов, появляясь открыто — уже не мусульманское божество, а как живой человек, обладающий земной властью:
— Наше будущее осталось в прошлом, — объявил он министрам, — мы отстали от Европы не на год и не на два года, а сразу на полтора столетия, и, как во времена Сулеймана, наши пушки стреляют булыжниками. До сих пор наши книги переписываются от руки — страна не имеет даже типографии. Смотрите мне прямо в глаза, не отворачивайтесь… Я стану вас бить, и вы сами знаете, что битый ишак скачет быстрее небитой лошади… Где же ваша правда?
Правды не было. Один лишь колченогий шейх-уль-ислам, верховный муфтий Атаулла осмелился возразить султану:
— Ты решил оседлать муравья, чтобы, взобравшись в седло, возить на своих руках еще и верблюда… Не гневи Аллаха, о великий султан! Сначала ты раздавишь под собой бедного муравья, нашу империю, а тебе не удержать верблюда…
В воротах Баби-Гумаюн, ведущих к Сералю, перед Селимом высыпали из мешков гору ушей и носов, отрезанных у взяточников, казнокрадов, обманщиков и торговцев, обвешивавших покупателей. На базарах с утра до ночи истошно вопили купцы, уши которых были прибиты гвоздями к дверям их лавок, и эти гвозди из ушей им выдернут только завтра, чтобы наказуемый до конца жизни помнил: торговать надо честно!
Стамбул присмирел, словно мышонок при виде льва.
Облачившись в рубище дервиша, живущего подаянием, Селим III инкогнито появлялся на рынках, в канцеляриях и на фабриках, всюду требуя от людей честности. А телохранители, идущие вслед за султаном, тут же казнили обманывающих и ворующих. На одном из кораблей эскадры, когда отрубали головы офицерам, обкрадывающим матросов, палач султана, занеся меч, просил Селима посторониться, чтобы кровь не обрызгала его одежды.
— А кровь — не грязь, — отвечал Селим, и сам схватил казнимого за волосы. — Так тебе будет удобнее… руби!
Султанше Эсмэ он потом признавался:
— Только один час жестокого правосудия намного лучше ста часов смиренной молитвы.
Обращаясь к заправилам Дивана, султан возвещал: «Страна погибает. Еще немного — и уже нельзя будет ее спасти… мы должны положить конец злоупотреблениям чиновной власти. Я хочу, чтобы мне говорили правду, и только правду!»
Его навестил Татарджик-Абдулла-Эфенди, престарелый мулла из Румелии (так называлась европейская часть Турции).
— Великий султан, твои подданные работают с детьми и женами не для того, чтобы насытить себя, а едино лишь ради того, чтобы уплатить налоги, и не за тот год, в котором живут, а за полвека вперед, когда жить будут не они, а их внуки… Скажи, бояться ли мне своих слов, великий султан?
— Не бойся и говори, — разрешил Селим.
— Зато вельможи строят на берегах Босфора виллы-сахильхане, каких не имеют даже маркизы Парижа, они завозят к Порогу Счастья предметы роскоши, служащие соблазном для других, их окружают сотни бездельников и множество алчных евнухов, гаремы уже не вмещают невольниц, которые так и умирают девственны, ибо не хватает жизни для их искушения. Скажи, я еще не вызвал твоего гнева, великий султан?
— Не бойся. Смело выдави суть вещей из благоуханного сока житейской мудрости, — просил Селим богослова.
— Твоя казна пуста, а вельможи тратят награбленное на свои прихоти, они обвешивают одалык (одалисок) драгоценностями. Так прикажи им носить фальшивые камни, запрети покупать соболей и горностаев, ибо шерсть наших баранов и нежных ангорских кошек — не хуже иностранных мехов. К чему нам шали из Кашмира или шелка Лиона, если в Алеппо или в Дамаске ткутся прекрасные ткани? Наконец, султан, и налоги…
— Говори, мудрый эфенди, не бойся слов правды.
— Налоги таковы, что многие деревни стоят пустыми, люди разбегаются, согласные жить в странах неверных — в Сербии и в Мадьярии, даже в России. Нельзя постоянно угнетать славян, греков и прочих христиан, с которых берут по сто пиастров за воздух, которым они дышат. Священный шариат не велит взыскивать подати со стариков и нищих, а у нас платят даже слепцы, безногие и безрукие. Наконец, только у нас народ обложен налогом «на зубы» чиновникам, у которых во время еды стираются зубы… Я прогневал тебя, султан?
— Нет, эффенди. Я внимал тебя с открытым сердцем. Но что делать, если нам мешает эта война с Россией?
— Так закончи ее! — воскликнул Татарджик-эффенди…
Погруженный в мрачные мысли, Селим III удалился в Эйюб, что возвышался над синевой Золотого Рога, и, поникший, он продумывал услышанное — правда была слишком жестокой. Ему хотелось создавать новую армию европейского типа, чтобы она заменила старое и прожорливое стадо янычар, но…
— Казна пуста, — признался Селим. — И где добыть деньги? Как мне стать ножом, который бы не резал свои же ножны?
Первые Османы, его предки, подобными вопросами не терзались. Для пополнения казны имелось два верных способа. Первый: при обилии жен в гареме дети рождались часто, новорожденных девочек еще в колыбели объявляли невестами богатейших сановников, которые до наступления их зрелости вносили в казну колоссальные налоги на «содержание» будущих жен. Второй способ был еще проще. Все визири, живущие взятками, собирали громадные состояния, а султаны не мешали им воровать. Но, когда их богатство становилось чрезмерным, визирям отрубали головы, а все их имущество поступало в казну султана.
Не оттого ли в старину казна Османов не оскудевала?..
До покоев Эйюба долетал голос бродячего певца:
В тазу золотом разминаю я хну, Зовите ко мне молодую жену…Гарем Селима III оставался бездетен, а сестра Эсмэ заменяла ему всех женщин на свете. Именно для нес султан и выстроил Эйюбский дворец-киоск, щедро украшенный золотыми орнаментами, для нее порхали под сводами райские птицы. Красавица-султанша, под стать брату, была умна и тоже писала стихи. Заняв престол, Селим выдал ее замуж за своего фаворита Кучук-Гуссейна, человека крохотного роста («кучук» по-турецки значит маленький); Кучук был грузинский раб и товарищ детства султана.
Они встретились в Эйюбе втроем. Скинув туфли, мужчины сели, поджав ноги, на тахту. Невольники-нубийцы, опустясь на колени, разожгли им табак в длинных трубках. Султан сказал:
— Тебя, Кучук, я решил назначить капудан-пашой. — Это значило — быть «маленькому» адмиралом флота.
— Но я плавал не далее Родоса, — отвечал шурин, — и, делая меня капуданом, куда денешь старого флотоводца Хассана?
— Наш флот разбил неистовый Ушак-паша, пришло время звать корабли из Алжира и Туниса, а Хассака я пошлю на Дунай, пусть уговорит «одноглазого» (Потемкина), чтобы смирил ярость своего «Топал-паши», — последнее было сказано султаном о Суворове, который хромал после ранения…
Кучук-Гуссейн отвечал, что войска разбегаются:
— А наши янычары бегут с войны первыми. В таборе великого визиря стоит залаять собакам, как они бросают оружие и бегут прочь, крича, что русские их окружают.
— Да, — согласился Селим III, — янычары способны только хвастать, что перевяжут всех русских веревками. А на самом деле их на войну не дозовешься. Просишь четыре тысячи человек голов, но из казармы с трудом выманишь четыреста…
В беседу мужчин вмешалась Эсмэ:
— Не лучше ли помириться с Россией сейчас, пока Ушак-паша не стронул свои корабли к берегам Румелии? Куда нам бежать, если его эскадра бросит якоря напротив Сераля?
Селим сам хотел мира, но боялся мира постыдного:
— Молчи… женщина! — прикрикнул он на сестру. — Пока Измаил неприступен, империя остается непобедима. Я объявлю новый набор мужчин от четырнадцати до шестидесяти лет. Чтобы пополнить казну, я заставлю платить налоги уличных певцов и нищих столицы. От моих налогов не спасутся даже цыгане, которые привыкли шататься без дела. Наконец, христианским женам я велю появляться на улицах только в черных одеждах и босиком, чтобы, непричесанные, они громкими голосами выражали скорбь — на радость всем правоверным…
Длинные ресницы Эсмэ были загнуты и накрашены. Она взяла лютню и стала вслух импровизировать стихи:
Уеду от вас я в далекий Измир, Где сладкий в садах вызревает инжир, Где птицам подам я кормиться с руки, А плакать уйду я на берег реки…— Я женщина, но умнее всех вас, — вдруг сказала султанша, отбросив лютню. — Сразу как началась война с Россией, а русского посла заточили в Едикюле, я каждый день не забывала посылать ему от своего стола свежие фрукты.
— Зачем ты это делала? — строго спросил Кучук.
— Наверное, потому, что я всегда помню о страданиях вашей праматери-Грузии… Разве нам, сидящим в Эйюбе, дано оградить Тифлис от ужасов, которые несут грузинам алчные толпы персидского шаха Ага-Мохамеда, будь он проклят, этот кастрат!
Эсмэ вовремя вспомнила, что не так давно грузинский царь Ираклий II просил Петербург о покровительстве, и Екатерина II сулила грузинам защиту от варварских набегов. Но война на Дунае отвлекла русские войска от Кавказа.
Эсмэ сказала, что империя Осмалов нуждается в переменах.
— Реформы необходимы, — кивнул ей Селим. — Но мне легче проглотить железную лопату, нежели провести в жизнь эти реформы. Лучше пожалей меня, сестра, и, если янычары потащут меня на виселицу, ты не кричи мне вслед, чтобы я не забыл на обратном пути купить тебе новую юбку… Мне страшно!
День угас. Золото Эйюба померкло. Птицы уснули.
— Будем осторожнее с янычарами, не раздражая их новшествами, — тихо сказал Кучук-Гуссейн. — Чтобы измерить глубину колодца, не надо бросать в него ребенка. Я согласен. Пусть плывут к нам эскадры корсаров из Алжира и Туниса, чтобы разбить флот Ушак-паши, и пусть Хассан на Дунае договорится с Потемкиным о мире, столь нужном. Но Измаилу стоять вечно…
Да, молодой султан очень хотел бы разломать старое, чтобы на его обломках возрождать новое. Селим был человеком большой личной храбрости, а если кого и боялся, так, пожалуй, только одних янычар, которые уже не раз играли головами турецких султанов. К сожалению, Селим, всегда зная, что ему делать сегодня, никогда не знал, что ему делать завтра…
Было время начала Французской революции, когда князю Потемкину оставалось жить лишь два года, а императрице Екатерине Великой предстояло царствовать еще долгих семь лет.
Французская революция разбередила весь мир, и только у Порога Счастья оставались равнодушны, не понимая, почему возник такой шум из-за Бастилии, которая в понимании турок ничуть не лучше Едикюля (Семибашенного замка), в темницы которого они привыкли сажать на цепь иностранных дипломатов.
Королевский посол, Габриэль-Флоран граф Шуазель-Гуфье, известный археолог, изучал античные древности, исследуя места, воспетые еще Гомером, а революцию воспринял как национальное бедствие. Впрочем, высокообразованный человек, он никак не мог растолковать туркам, что такое «демократ», ибо в их произношении — демыр кыр ат — означало «белую железную лошадь».
Когда визирь находился при армии, в столице его замещал каймакам с правами визиря, а иностранными делами ведал реис-эфенди, Ахмет-Атиф, окруженный драгоманами-фанариотами, которые и подсказывали ему, как надо ругаться с франками.
— Если ваша Европа когда-нибудь и погибнет, — ругался реис-эфенди, — так только от того, что она много знает такого, чего нормальным людям знать совсем необязательно.
— Ваша правда, — не возражал посол. — Но если империя Османов и погибнет, то, наверное, только по той причине, что она постоянно воевала с Россией, никогда не желая видеть в ней могучую соседку, с которой полезно дружить…
Подобный упрек вызвал в реис-эфенди приступ ярости, и он попросту накричал на графа, как на мальчишку:
— Постыдитесь! Вся ваша беда в том, что мы всегда смотрели на Францию, как на единственного друга в Европе, и не вы ли, французы, толкали нас на войну с Россией? А теперь, когда у вас завелась «белая железная лошадь», вы советуете нам мириться с «одноглазым» и его «хромыми»…
Шуазель-Гуфье отвечал с учтивым поклоном:
— Франция перестала быть королевской, и советую вам мириться с Россией не как посол короля, а, скорее, как честный француз, умудренный опытом в дипломатии… Я не хотел вас обидеть! Просто мне стало известно, что Хассан-паша выехал на Дунай, дабы убеждать Потемкина в том же, в чем осмеливаюсь убеждать вас и я, посол несчастного короля!
Топал-паша (Суворов) уже одержал внушительные победы — при Фокшанах и Рымнике, и мир Селиму III был крайне необходим, чтобы приступить к обновлению своего государства. В конце беседы граф Шуазель-Гуфье утешил турок словами:
— Скоро вам станет легче! Я имею известие из Вены, что там желают выйти из войны с вами, и Потемкин, встретясь с Хассаном, смирит свою гордыню, ибо Россия, покинутая Австрией, останется в одиночестве, имея два фронта сразу: один на Дунае — против вас, а другой на Балтике, где шведские эскадры грозят пушками Петербургу и лично императрице Екатерине…
…1789 год заканчивался, . в этом году жители Корсики (тайком от французских властей) связались с русским послом в Париже, умоляя доложить императрице Екатерине о том, что корсиканцы согласны быть в русском подданстве, лишь бы избавиться от тягостной парижской опеки.
Тогда же генерал Иван Заборовский набирал на Корсике волонтеров, и средь прочих добровольцев, ищущих выгод от русской службы, заявился некий поручик Наполеон Бонапарт — угрюмый, взирающий хмуро, немногословный, скверно одетый и, очевидно, не каждый день обедавший.
— Желал бы служить короне российской, — сообщил он.
— Эге! — свысока отвечал Заборовский. — Да больно уж много вас таких, почему и указ мною получен, чтобы в службу российскую иностранцев всяких брать одним чином ниже.
Бонапарт не соглашался начинать жизнь в России подпоручиком, и Заборовский, рассердясь, указал ему на дверь:
— Коли вы столь высокого о себе мнения, так соизвольте не досаждать мне более своей персоною незначительной.
Наполеон Бонапарт, уходя, пригрозил генералу:
— Тогда я предложу свою шпагу султану турецкому!
— А по мне, — получил ответ, — так хоть дьяволу…
Много позже генерал И. А. Заборовский рассказывал:
«Не видать ли в сем случае движения Вышнего Промысла? Ведь указ о понижении в чине я получил дня за два до того, как Бонапартий сей явился ко мне… Опоздай указ на два дня, и я бы принял сего жалкого поручика в русскую службу тем же чином, а в двенадцатом годе Москве не гореть бы…»
Странный казус истории! С трудом даже верится.
Много позже Александр I, испытав поражение при Аустерлице и пережив позор Тильзита, говорил Заборовскому:
— Дернула же вас нелегкая отказать этому пройдохе в русской службе! Случись такое, и Европа никогда бы не знала императора Наполеона, а наша Россия имела бы еще одного скромного поручика артиллерии по фамилии Бонапарт…
3 В БОРЬБЕ ЗА МИР
Светлейший хандрил. Неприятно, что адьютант его Пашка Строганов — из графов! — замечен в числе штурмующих Бастилию, а рядом с ним была куртизанка Теруань де-Мерикур; теперь же этот Пашка из Парижа извещает отца в Петербурге: «Единого желаю — или умереть или жить свободным…»
— Во, щенок паршивый! — недоумевал Потемкин, ворочаясь на тахте. — Свободы ему захотелось. Чья бы корова мычала, а его бы лучше молчала. Вздумал на стенку лезть, коли перед нами свои Очаковы да Измаилы… чай, еще пострашнее!
Спать расхотелось. Зато вспомнилось нечто. За партией в пикет его Танька, племянница возлюбленная, от дядюшки отвратясь, ногою под столом пылкость свою молоденьким партнерам выражала туфелькой, и в гневе князь кликнул секретаря:
— Розог мне! Да вели Татьяну звать, чтобы явилась.
— Их превосходительство, — подобострастно отозвался секретарь, — уже изволят в галантном дезабилье пребывать.
— Тем лучше! Зови. Чтобы не мешкала…
Разложил превосходительную племянницу поперек тахты и усердно порол ее розгами, а она плакала, вскрикивая:
— Ах, дядюшка, ох, родненький, ай, больно, ой, за что?
Была племянница мягкая, упитанная, метресса зело сдобная, и потому не сразу об нее все розги переломались.
— Ступай вон, — распорядился светлейший.
Стал думать дальше. Очень неприятно, что великий визирь Хассан, бывший капудан-паша, недавно умер — ни с того, ни с сего, и, наверное, без отравы не обошлось. Потому мирные переговоры, едва начатые, прервались. А мужик-то был здоровущий, ранее (сам сказывал) лихо пиратствовал у берегов Алжира, винище хлебал не хуже православных… Поговорили о мире, выпили как следует, а он вдруг помер. «Еще подумают, что я отравил!» — похолодел Потемкин, пирата сего жалеючи.
Утром в ставку светлейшего заявился атаман Платов, с ним казачий конвой доставил янычарский оркестр, плененный при Рымнике — со всеми «погремушками», сваленными на телегу. Но даже сейчас, опутанные веревками, янычары еще рыпались, рыча в сторону неверных. Матвей Платов, молодой ухарь и пьяница, сказал Потемкину, что этих башибузуков отвозить до России боязно: они же по дороге до Тамбова весь конвой передушат. Потемкин велел пленных развязать:
— И пусть разберут с телеги громыхалы свои. Мне, братец, от Моцарта и Сарти скучно бывает, так хоть этих послушаю…
Сам взял медные тарелки, сдвинул их, с удовольствием выслушав звон, завершенный таинственным «шипением» меди.
— Ага! — сказал Потемкин, — Не эти ль турецкие тарелки и употребил Глюк в опере своей «Ифигения в Тавриде»?
Янычар развязали. Один из них засмеялся.
— Или ты понял меня? — спросил его Потемкин.
— У меня бабушка была… калужская.
— Это, небось, твои тарелки?
— Вот как надо! — И янычар воспроизвел гром, в конце которого загадочно и долго не остывало ядовитое «шипение»…
Янычары нехотя разобрали свои инструменты с телеги. Над их головами качался шест с перекладиной, на шесте висели, приятно позванивая, колокольчики. Придворный композитор Сарти еще не пришел в себя «после вчерашнего», а до Моцарта было далеко…
— Ну, — сказал светлейший, — теперь валяйте! Хотя бы свой знаменитый «Марш янычар»… не стыдитесь, ребяты.
Разом сомкнулись тарелки, заячьи лапы выбили первую тревогу из барабанов. Полуголый старик лупил в литавры с такою яростью, словно убивал кого-то насмерть. Звякали треугольники, подвывали тромбоны, звенели триангели и тамбурины. В это варварское созвучие деликатно (почти нежно) вплетались голоса гобоев, торжественно мычали боевые рога, а возгласы трубных нефиров рассекали музыку, как мечи. Янычары увлеклись сами, играя самозабвенно, словно за их оркестром опять двигались в атаку боевые, гневно орущие отряды «байранов»…
«Марш янычар» закончился. Платов спросил:
— Ну, дык што? Опять мне вязать всю эту сволочь?
Потемкин взял нефир, выдувая из него хриплое звучание.
— Не надо, — сказал он. — Лучше мы их покормим, дадим выспаться. А потом в Петербург поедут и пущай наши гудошники поучатся, как надо играть, чтобы кровь стыла в жилах от ужаса, чтобы от музыки шалел человек, не страшась ни смерти, ни черта лысого, ни ведьмы стриженой…[2]
По-хозяйски князь заглянул и в другую телегу, приподняв кошмы, и на него вдруг глянуло страшное, сплошь изрубленное лицо турецкого офицера.
— Ну и рожа! — сказал Потемкин. — Что с ним?
— Да вот, взяли, — пояснил Платов. — Рубился лихо. Мы его тоже не жалели. Думали, живьем не довезти — сдохнет…
Потемкин велел отвезти пленного в госпиталь:
— И накажите хирургам, чтобы вылечили. Ежели не поставят этого злодея на ноги, так я всех лекарей с ног на головы переставлю… Они меня знают, что шутить не люблю!
Вернулся в спальню, обвешанную персидскими коврами, завалился на тахту, обтянутую алым лионским бархатом. Думал.
— Жаль Хассана, жаль, что не успели помириться…
Опять Эйюб, опять звуки лютни в руках Эсмэ…
Известие о внезапной кончине Хассана было огорчительно для Селима III, и султан — как и Потемкин! — тоже подозревал отравление визиря, говоря сестре:
— Тут не обошлось без алмаза, растертого в мелкую пыль, которая умерщвляет человека, не оставляя следов от яда…
Между тем, переговоры на Дунае прервались, и Селим был горестно удручен. Турецкие султаны во всех затруднительных случаях привыкли советоваться с послами Франции, и сейчас султан тоже возымел желание видеть Шуазе-ля-Гуфье.
— Кучук-Гуссейн не спешит выйти в море, откровенно боясь, что его кораблям не справиться с эскадрой Ушак-паши… Что вы, посол, могли бы мне сейчас посоветовать?
Шуазель-Гуфье от советов явно воздерживался.
— Времена изменились! — уклончиво отвечал он. — Сейчас я лишь несчастный заложник взбунтовавшейся черни Парижа. Одно мое неосторожное слово, сказанное у вашего Порога Счастья, и моя бедная жена, оставшаяся во Франции, будет заточена в тюрьме Бисетра. В таких условиях я могу повторить лишь сказанное ранее: ищите мира с Россией, пока ее штыки сверкают на Дунае, и мы еще не видим их под стенами вашего Сераля.
— Может, вернетесь во Францию? — намекнул Селим.
— Я… боюсь, — честно сознался аристократ.
Смерть Хассана казалась дурным предзнаменованием. Лишенный советов от имени Франции, Селим III был вынужден внимать послам Англии и Пруссии, которые в один голос убеждали султана в том, что войну на Дунае следует продолжать, при этом англичанин обещал поддержку Сити, а пруссак говорил, что в Пруссии все готово для нападения на Россию:
— Шведский король и поляки поддержат наши благие намерения, чтобы загнать русских обратно — до гор Рифейских, до лесов Сибири, а вы, великолепный султан, вернете себе Крым, чтобы из тиши Бахчисарая грозить набегами Украине…
Голубой грунт потолка был украшен золотым небосводом, в стрельчатых окнах сияло солнце, отчего в арабесках вспыхивали причудливые картины, возбуждающие фантазию. Эйюбский дворец высился невдалеке от Сладких Вод столицы, и оттуда, со стороны ручьев Кяятхане, звучала музыка, но это была не воинственная музыка победителей-османлисов, а сладкоречивая музыка покоренных ими эллинов. В чередовании свирелей и лир игрался «хасапикос» — танец мясников, в котором угадывались мотивы давно погребенной Византии… Селим, натура художественная, невольно заслушался.
— Благодарю вас, — отвечал он послам. — Спешу обрадовать ваши кабинеты: я распорядился, чтобы алжирские и тунисские беи, подвластные моему Сералю, прекратили заниматься разбоем, их корабли уже плывут сюда, чтобы под флагом Кучука решить исход войны на Черном море.
— В этом случае, — поклонился британский посол, — лондонское Сити не оставит вас своим доброжелательным вниманием.
— Браво, браво! — воскликнул пруссак…
Но случилось то, чего на берегах Босфора не ожидали: шведский король первым из коалиции понял, что в Петербурге ему не бывать, и в августе 1790 года Россия — опять-таки победоносная! — принудила Швецию к миру. Антирусская коалиция потерпела крах, и в банках Сити мешки с золотом остались целы. Здесь уместно напомнить, что адмирал Горацио Нельсон не был еще знаменит и, залечивая тяжелую форму дизентерии, он пребывал на берегу в унизительном забвении, получая лишь половину жалованья, ибо своим отвратным характером и завистью к подчиненным немало испортил свою карьеру…
Селима III навестили дряхлые евнухи:
— Гаремные жены изнылись от тоски и даже стали роптать, отчего столь великий султан не навещает их для услаждения?
— Скажите им, — отвечал султан озлобленно, — чтобы забыли обо мне, пока я не развяжусь с русскими на Дунае…
Селиму было сейчас не до жен, а ропчущих всегда можно зашить в мешок и окунуть в ночные воды Босфора, — нет, теперь совсем иное занимало султана. Неожиданный мир между Россией и Швецией расстроил его планы, но в эти же дни Селима утешило известие из габсбургской Вены: Австрия соглашалась на сепаратный мир с Турцией, она выходила из войны, отдавая туркам сербский Белград — эти главные ворота в Европу, откуда турки много столетий подряд грозили Габсбургам; теперь эти дунайские «ворота» снова были в руках Турции…
Русский посол еще томился в темнице Едикюля!
Но в Константинополе, после заключения мира с Веною, вскоре появился австрийский консул. Нигде так не испугались французской революции, как в Вене, и потому консул сразу стал жаловаться на безобразное поведение французской колонии в Константинополе. Селим III, конечно, его не принял, считая Австрию «побежденной», и потому консул высказал свои обиды реис-эфенди Ахмету-Атифу:
— Накажи Аллах этих сумасбродных французов! — вопил консул. — Если вы не решаетесь снять им головы, так заставьте их снять со своих шляп хотя бы революционные кокарды, которые нам, австрийцам, противно видеть. Наконец, эти лавочники посадили «дерево свободы» и теперь, напившись вина, они отплясывают вокруг него свою бесстыжую «карманьолу», дергаясь членами в судорогах, словно стали припадочными…
Реис-эфенди дал консулу выговориться.
— Ах, дружище! — отвечал он с усмешкой. — Не забывайте, что Оттоманская империя — государство не христианское, и нам, мусульманам, безразлично, каковы поводы для безумия ваших единоверцев. Если франкам захотелось посадить «дерево свободы», так пускай сажают, лишь бы не забывали иногда поливать его. Да и что толку с этих значков на шляпах? Если франки завтра будут таскать на головах корзины для собирания винограда, так мы, османы, даже не станем их спрашивать, зачем им это нужно? Пусть поют и пляшут что хотят, а вы не утруждайте себя и меня подобными глупостями…
Ахмет-Атиф был пьяница, о чем Селим был извещен, но, сам любивший выпить, султан просил рейса выпивать не более ста драхм (одна аптекарская драхма составляла меру около четырех граммов). Выпроводив венского консула, реис-эфенди стал отмерять драхмы, словно аптекарь капли спасительного бальзама, но, чтобы вино получилось крепче, он растворил в нем комок едкой извести. Выпив, он сказал драгоманам:
— Это у франков рухнула королевская Бастилия, зато вечен и нерушим наш твердокаменный Измаил…
11 декабря 1790 года неприступный Измаил пал…
4 ОТ ИЗМАИЛА И ДАЛЕЕ
По всем меркам военного искусства взять Измаил было невозможно, но русские взяли его, и только один янычар из гарнизона крепости уцелел, переплыв Дунай на бревне, — он-то и поведал у Порога Счастья, каков был штурм… Возглавлял этот штурм Суворов (Топал-паша), а первым комендантом павшей цитадели стал Михаил Илларионович Кутузов, который выразительно оповестил жену об итогах штурма: «Любезный друг мой Катерина Ильинишна… я не ранен и бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Кого ни спрошу: всяк либо убит, либо умирает…»
Падение Измаила повергло Европу в изумление.
В турецкой столице воцарилось уныние.
Султанша Эсмэ убеждала Селима III:
— Но теперь-то, надеюсь, ты понял, что нельзя держать и далее русского посла в заточении Едикюля? Выпусти его — и пусть он знает, что мы, как никогда, готовы мириться…
Ближе к весне весь Босфор, между дворцом Топ-капу и азиатским берегом Скутари был плотно заставлен кораблями. Алжирский паша Саид-Али, живший морским разбоем, охотно отозвался на призыв Селима, своего повелителя; не смел ослушаться султана и тунисский Хамуд-паша, приславший флотилию корсарских судов; теперь под флагом турецкого капудан-паши Кучук-Гуссейна собралась внушительная армада, один вид которой вызывал трепет…
Селим III отвечал сестре:
— Твой муж, хотя и очень маленький ростом, но, смотри, какая у него громадная эскадра, над которой ветер развевает флаги сразу восьми адмиралов, подчиненных ему. Да, я выпущу русского посла из темниц Едикюля, но прежде желаю видать грозного Ушак-пашу здесь… вот тут!
— Где? — спросила Эсмэ.
— Перед собой, но опутанного цепями, как это и обещал мне Саид-Али, поклявшийся мне в этом на Коране…
Селим III сказал сестре, что в ответ на падение Измаила турецкий флот ответит разгромом Севастополя. Широким жестом султан обвел гигантскую панораму рейда. Корабли, корабли, корабли… Тысячные толпы морской пехоты, вчерашних корсаров, наводивших ужас на всех мореплавателей — от фортов Гибралтара до памятников Яффы — заполняли трюмы судов, галдели на палубах; в корабельных лавках не успевали варить йеменский «мокко», торговцы не успевали набивать благоуханным «латакия» курительные трубки болтливых «кальонджу» (солдат морской пехоты, набранной из жителей Анатолии).
— Ты молчишь? — спросил султан у сестры.
— Скажу, — отвечала Эсмэ. — Женское сердце подсказывает мне, что я останусь вдовой, и… кто станет моим мужем?
Вторым ее мужем будет тот свирепый янычар, который сейчас в болгарском Разграде торговал скотом на базарах, и, обходя ряды торгующих крестьянок, он пальцем пробовал на вкус деревенское масло.
— Дрянь! — и вытирал пальцы о свои шальвары…
Вот этот человек и станет мужем прекрасной и умной Эсмэ.
Светлейший перевернулся на другой бок. В животе сильно бурлило. Сам виноват. Нельзя же шампанское заедать репой! В покоях князя шумело, будто роились шмели над старой колодой. Это в углу бродили кислые щи, запечатанные в бутылках, и в каждую бутыль была брошена изюминка — для приятного брожения.
— Щей хочу! — капризно крикнул Потемкин. Мигом вбежал казачок, открыл бутыль и в потолок ударила пенная струя фонтана, обрызгавшая светлейшего. Казачок скакал и прыгал, силясь рукою удержать щи в бутыли.
— Где изюминка? — заорал князь, отряхиваясь. — Куда ты, байстрюк, подевал мою изюминку?
— Эвон, — показал мальчишка на потолок. Изюминка прилипла к потолку, вызвав новые эмоции.
— Жаль, — сказал светлейший. — Привык я кислые щи закусывать сладенькой изюминкой…
Снова лег. Прислушался к животному бурчанию. Вспоминал, что сделано, а что предстоит сделать. Дернул сонетку звонка:
— Саблю мне… ту, что с рубином в эфесе.
После чего велел звать из госпиталя янычара, которого недавно привезли на телеге — всего изрубленного. Светлейший с интересом осмотрел его голову, всю в шрамах.
— Хорош! Тебя, братец, казаки, вижу, будто капусту, саблями шинковали… Сознавайся, сколько наших угробил?
— Не помню, — поежился янычар.
— Умен, если не помнишь. Я ведь думал, что ты не жилец на свете… Водку, скажи, пьешь?
Янычар от водки не отказался. В разговоре выяснилось, что по имени он Рашид-Ахмет-ага, сам из племени лазов, живущих в Колхиде, смолоду немало разбойничал, грабя и турок, потом служил султану, у которого и стал «агою» (начальником).
Одинокий глаз Потемкина источал жалкую слезу:
— Возблагодари Аллаха, что наши лекари, почитай, из могилы тебя вытянули. Но казаки сказывали, что драчун ты храбрый, мы таких уважаем, в знак чего и дарю тебе, яко офицеру, вот эту саблю… с рубином, видишь? А теперь — убирайся.
— Куда? — оторопел Ахмет-ага.
— Хоть к султану, хоть обратно в Колхиду, нам все равно…
В самый разгар лета 1791 года Потемкину доложили, что Измаильский отряд Кутузова форсировал Дунай, перенеся боевые действия на его правый берег, он атаковал и рассеял турецкий «табор», захватив немалые трофеи, даже знамена и пушки.
Об этом же вскоре известился и султан Селим.
— Все неприятности со стороны Севера приходят от одноглазых, — сказал он. — Может, именно эти кривые шайтаны и приносят русской царице удачу?..
Флот ушел в море — для расправы над Ушак-пашой.
Над мечетями и банями Константинополя опустился покой жаркого летнего зноя, из дверей кофеен слышалось ленивое звяканье кувшинов с прохладной водой и чашек с черным кофе. Была душная августовская ночь, когда Селим III пробудился от выстрелов с Босфора. Напротив дворцового мыса Сарай-бурну стоял корабль, выстрелами из пушек умоляя о помощи. Султан с трудом признал в нем «Капудание» — алжирского флагмана Саид-Али. В темноте было не разглядеть, что с ним случилось, но вскоре к Вратам Блаженства доставили паланкин, в котором лежал израненный Саид-Али («страшный лев Алжира и любимый крокодил падишаха»). Носильщики опустили паланкин на землю.
— Вижу тебя, — сказал султан, — но где же… флот?
— Прости, султан, сын и внук султанов, — отвечал Саид-Али, — я не знаю, где флот. Корабли раскидало по морю от самой Калиакрии до берегов Леванта… флота не стало!
Адмирал Федор Федорович Ушаков полностью уничтожил его у Калиакрии, что тускло помигивала маяком возле берегов болгарской Варны. «Льву» и «крокодилу» Саид-Али еще повезло — он с трудом дотащил на обрывках парусов своего флагмана до рейдов Босфора, имея на борту «Капудание» полтысячи раненых, а другие корабли… пропали! Эсмэ не плакала:
— Кажется, я стала вдовой и… невестой.
Очень долго не было вестей от капудан-паши Кучук-Гуссейна, который блуждал возле Трапезунда, боясь возвращаться домой, чтобы избежать гнева султана и холодного презрения любимой жены.
Константинополь в эти дни опустел: богатые турки спешно покидали столицу, охваченную ужасными слухами, будто грозный Ушак-паша на всех парусах летит к Босфору, чтобы в ярости пушек оставить от турецкой столицы лишь груду развалин…
Султанша Эсмэ гневно внушала брату:
— Разве ты сам не видишь, что все кончено? Потемкин в Яссах недаром бездельничает, ожидая от тебя новых послов, чтобы они просили его о мире…
Осенью, когда переговоры уже начались, в Константинополе узнали о странной и подозрительной смерти Потемкина.
— Жил, как лев, — сказал о нем Селим III, — а умер вроде бездомной кошки, сожравшей отравленное мясо… Мне жаль его! Это был достойный враг и благородный противник.
29 декабря 1791 года был подписан Ясский мирный договор, который закреплял Крым и Кубань за русскими, Турция обязывалась оградить Кубань от разбойничьих набегов диких ногаев, султан не смел более предъявлять претензии на владение Грузией, а сама Россия, отказавшись от миллионных контрибуций, уступала туркам Молдавию, захваченную ее войсками. Главные цели Второй русско-турецкой войны были достигнуты: Россия утверждала свои права на обладание Черноморьем — это был «русский Левант», широко раскинувшийся от Одессы до кавказской Анапы.
В мрачном настроении султан Селим III навестил прекрасную Эсмэ, и она, чтобы утешить брата, запела ему о стыдливой розе, на лепестках которой по утрам выступает не роса, а капельки пота — священного пота самого Магомета!
Впервые за много лет хвосты черных кобылиц перестали развеваться над Вратами Блаженства султанского Сераля: мир!
Рашид-Ахмет-ага вернулся из плена в столицу султана, снова украсив свою голову шапкой из серого войлока, по бокам которой болтались два лоскута, похожие на волчьи уши. По чину янычара, он сразу начал буянить, в частых драках и ругани требуя для себя особого почитания. Хвастая новой саблей, полученной в дар от Потемкина, он в кофейнях разрубал ковровые паласы, одним ударом сметал с полок ряды медных кофейников и звончатых чашек. Его вязали пожарные, его волтузили стражи порядка, он вытирался от плевков бродячих дервишей, но продолжал буянить, во всю глотку распевая:
Если был бы я лягушкой на болоте,
Неужели не служил бы в нашем флоте?
И, не зная больше горя,
Я бы прыгал на дне моря…
Своего угла у Ахмета не было, ночевать в казармах он не любил, и потому привык проводить ночи на пристани Галаты, с головой завернувшись в янычарскую бурку. Сваленная из плотной верблюжьей шерсти, бурка стояла колом, словно сделанная из жести, и, когда Ахмет закутывался в нее, она принимала форму сторожевой будки, в которой тепло и уютно.
В кругу своих янычар ага охотно показывал голову в шрамах; на Эйтмайдане, стоя в длинной очереди ради получения дармового куска мяса, Ахмет не раз обнажал свое жилистое тело, и ценители чужих подвигов с восхищением насчитывали на нем до полусотни рубцов от сабельных ударов.
— Гяуры лечить умеют, — рассказывал Ахмет, протягивая миску за второй порцией султанской похлебки. — Если бы не русские, я давно кормил бы червей в канаве под Мачином. Когда мне попадались гяуры живыми, я отрубал им головы, а все, что было при них, продавал на базаре, чтобы иметь хороший «бакшиш». Слава Аллаху! Русские, когда я упал, не стали добивать меня. Они долго везли меня на телеге до госпиталя и лечили, как знатного пашу, никогда не оскорбляя моей миски поганой свининой. А их одноглазый шайтан вернул мне оружие… Вот оно! Глядите, как сверкает этот рубин…
Случайно Ахмет-ага попался на глаза капудан-паше Кучук-Гуссейну, который оценил его храбрость, заодно похвалив и мастерство русских хирургов, и спросил у Ахмета, не земляк ли он ему? Воинственный лаз с Кавказа понравился грузину и он оставил его при себе — офицером стражи. Ахмет-ага переселился с Галаты поближе к Сладким Водам, охраняя ворота Эйюба, не переставая открыто восхищаться благородством русских:
— Почему они меня не убили? — не раз удивлялся он. — Почему они еще и лечили меня, словно знатного эфенди? Аллах видит, что я живой и на добро русских обязан платить добром…
Впрочем, не слишком ли расхвастался задиристый янычар?
Он очень любил поговорить, а говорить было не с кем.
Почти вся прислуга Эйюбского дворца, где проживала султанша Эсмэ, была подобрана только из немых, чтобы они слушали и видели, но услышанное или увиденное никогда не станет известно другим. Эсмэ умела хранить свои женские тайны…
По привычке, не любя нависающих над ним потолков, Ахмет стал ночевать у ворот Эйюба, почти незримый внутри своей бурки. И ему снились то родные болота Колхиды, то страшные сечи, когда кровь хлестала ручьями, а он, накурившись гашиша, даже не ощущал боли от сабельных ударов. С далеких ручьев Кяятхане ему поквакивали стамбульские лягушки, они квакали так же приятно, как и те, что остались жить в покинутой им Колхиде…
Временами пробуждаясь, Ахмет вопрошал ночную тишь:
— Кого бы убить, чтобы жилось лучше?..
5 У КОГО ПРАВЕДНЫЕ МЫСЛИ!..
Французская колония в Константинополе образовала «Народное общество», ожидая, что Париж пришлет нового посла, вооруженного идеями революции…
Странно! Турция считала Францию своим верным и давним другом; еще в 1483 году Париж наладил отношения с османами, постоянно науськивая султанов на войны с Россией; теперь, после революции, новая Франция продолжала прежнюю политику свергнутых королей. На смену королевскому послу Париж направил Шарля Семонвиля, которому поручили добиваться от Турции разрыва условий Ясского мира. Чтобы придать поболее пышности своей персоне, Семонвиль отплыл на эскадре из 8 кораблей и 8 фрегатов, имея в наличности 8 миллионов франков — для подкупов в Диване, дабы турки начали новую войну на Дунае. Если же султан или визирь заупрямится, не желая развязывать войну с русскими, Семонвиль был обязан подкупать столичную чернь для устройства народных восстаний.
Об этом стало известно в Серале, и Селим III возмутился тем, что Париж прислал якобинца, желающего въехать в его столицу на «белой железной лошади». Якобинцы же — в понимании султана — были чем-то сродни янычарам, только кровожаднее турецких.
Разгневанный, султан говорил Шуазелю-Гуфье:
— Я способен еще понять янычар, требующих увеличения в котлах мясного приварка. Но как понять ваших голодных якобинцев, желающих, чтобы и все люди на свете голодали заодно с ними? Пусть в Париже утешатся — у нас и без того мало сытых. Нет, — заявил Селим, — я не приму Семонвиля…
Париж не простил изгнания Семонвиля, выместив свое зло на Шуазеле-Гуфье, которого оповестили, что он должен покинуть «Пале де-Франс» и более в него не возвращаться. Впрочем, граф и сам понимал, что его «королевские» полномочия иссякли. Напрасно послы других стран и даже сам Селим III просили графа оставаться на своем посту — Шуазель-Гуфье не соглашался.
— Поймите, — веско доказывал он, — моя жена осталась в Париже вроде заложницы, и стоит мне оказать неповиновение якобинцам, как она будет ими казнена. Лучше уехать…
Великолепный знаток античного мира, Шуазель-Гуфье уехал — не в Париж, а прямо в Петербург, где его знания пригодились. Он стал первым директором императорской Публичной библиотеки (ныне имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде). Его сын был камергером русского двора, а внук полковником русской армии. Шуазель-Гуфье разделил судьбу прочих эмигрантов, искавших спасения от гильотины в России, имя его осталось нам памятно и почтенно, как имена и многих его собратьев по несчастью — Ришелье, Ланжерона, Тулуз-Лотрека, Полиньяка, Поццо-ди-Борго и прочих… Мне иногда даже думается, что Франция, приютившая у себя наших эмигрантов после 1917 года, попросту расплатилась с Россией за устройство судеб своих эмигрантов после 1789 года.
…Над фронтоном «Пале де-Франс» в Константинополе теперь колыхался трехцветный флаг, но великий визирь велел его сорвать, а «дерево свободы» забыли поливать и оно вскоре же засохло, затоптанное прохожими. Еще никто не знал имени Наполеона Бонапарта.
Принято думать, что Екатерина Великая страшно перепугалась французской революции, боясь, что все русские превратятся в якобинцев, потому-то, мол, она все последние годы жизни только и делала, что боролась… с революцией, конечно!
Увы, это легенда. Но правда и то, что весть о падении Бастилии вызвала в русском народе всеобщее ликование, будто не парижане разломали Бастилию, а сами русские по кирпичику разнесли Петропавловскую крепость. На улицах Петербурга обнимались даже незнакомые люди, чиновник поздравлял офицера, кучер от души обнимал лавочника, а сенатор Соймонов даже устроил в своем доме праздничную иллюминацию — и восторга петербуржцев никто не пресекал. Это было непонятно даже французскому послу, наблюдавшему за ликованием народа из окон своего посольства: «Хотя Бастилия, — писал граф Сепор, — никогда не угрожала жителям Петербурга, мне очень трудно выразить энтузиазм, вызванный падением нашей королевской тюрьмы…»
Русские газеты печатали самые свежие новости из Франции, книжный рынок был переполнен революционными изданиями, зовущими к свободе. «С.-Петербургские Ведомости» охотно публиковали «Декларацию прав человека и гражданина»; книготорговцы продавали с лотков карикатуры на монархов Европы и портреты трибунов французской революции. Полиция не вмешивалась. Екатерина была достаточно умна, чтобы понимать главное: если положение государства устойчиво, а народ ест в три горла, всем обеспеченный, тогда никакие зловредные брошюры неспособны потрясти основ той власти, которая существует. С откровенным цинизмом Екатерина говорила княгине Дашковой, которая больше всех других вельмож беспокоилась об удушении откровенной «гласности»:
— Э, милая! Пусть читают что хотят — умнее будут. Но я стану читать мудреца Платона, у коего писано пророчески: «Из крайней степени свободы всегда возникает величайшее и жесточайшее рабство народа». Ныне французы веселятся и пляшут, а вскоре мы узрим, каково они заплачут, когда им головы рубить станут… У нас на Руси страшны не маркизы Мирабо, а Емельки Пугачевы!
Слишком уверенная в нерушимости самодержавия, Екатерина подозрительно часто поговаривала о том, что с революцией надобно бороться сообща — всем монархам Европы. Но при этом сама же она палец о палец не ударила, чтобы участвовать в коалиционной борьбе. Недаром же умнейший Талейран говорил, что русская императрица «боролась против французской революции только своими манифестами». Германский историк Франц Меринг писал, что «Екатерина лишь дурачила немецкие государства», призывая их в крестовый поход на «парижских чудовищ», но сама тихо сидела дома и посмеивалась над глупцами.
— Идиоты! — говорила она. — Кто же пушками с идеями борется? Мой сын Павел истины сей тоже не разумеет…
Императрица даже не скрывала своих истинных целей:
— Я ломаю голову, чтобы своих врагов в Европе обратить против Франции. Это мне нужно, чтобы они завязли во французских делах, не в состоянии мешать мне в исполнении наиважнейших исторических задач России на Востоке. И пусть Европа подольше возится с Францией, а у меня своих забот полон рот…
Таким образом, французская революция была для нее даже политически выгодна, ибо она связывала руки врагам России.
Фельдмаршал Румянцев в эти же дни выслушал от нее такие слова: «Вопрос решен: моя задача — следить за турками, поляками и шведами… Польша полна якобинцев… А демократы из Парижа подстрекают турок к новой войне с нами». Наконец, женщина не забывала, что совсем недавно (в 1783 году) грузинский царь Ираклий II искал покровительства России, и подписанием Георгиевского трактата Россия обязалась охранять Грузию от злодейств персидского Ага-Мохаммед-хана Каджара, о котором Екатерина всегда отзывалась с презрением:
— Кастраты в политике как певцы без голоса! Лишенный важной части тела, этот гадкий евнух озлобился на весь мир, и я чую, что грузинам боязно жить подле такого соседа…
Натравливая немецких принцев и герцогов на войну с Францией, сама Екатерина Великая не дала ни копейки для подавления революции, ни одна капля русской крови не была ею пролита на алтарь борьбы с «парижскими чудовищами».
— Пусть они перебесятся! — говорила она. — Все революции приходят к единому результату народ остается у разбитого корыта, а шайка болтунов и мерзавцев ублажает себя на вершинах власти, и эта власть, — предсказывала императрица, — оказывается для народа во много раз хуже той, которую сам же народ и низвергнул во имя призрачных утопий… Мне смешно!
Наконец, уж совсем пророчески Екатерина Великая предсказала неизбежное появление диктатора. Кто он будет — об этом она, конечно, не знала, но, кажется, уже прозревала Бонапарта:
— Поверьте моим предчувствиям: ОН ПРИДЕТ, и вот тогда нашей Руси-матушке предстоит обнажить мечи для страшной борьбы…
…Сразу же после заключения Ясского мира она стала подыскивать умного человека, который бы занял пост российского посла при дворе турецкого султана Селима III:
— Надобно не только умного, но и такого, чтобы турки его боялись. По моему разумению, лучше Михаилы Ларионыча Кутузова нам и не сыскать. Хотя и глядит он на мир единым оком, да это око суть вещей насквозь прозревает…
Сегодня он решил повидать валиде (это титул «матери султана»). Михр-и-Шах, пленная грузинка, родившая такого богатыря, была, напротив, крохотная женщина, мелко семенящая при ходьбе, быстрая в движениях, а глаза у нее — печальные.
При появлении сына она резко поднялась с дивана.
— Я, — сказал Селим матери-валиде, — решение принял. Буду ждать конца всему, что сейчас занимает Европу; если Франция погибнет в хаосе бунтов, я постараюсь искать союза с Англией, а между делом приведу в порядок финансы и армию.
Михр-и-Шах всплеснула детскими ручонками:
— Мир всем, у кого праведные мысли! — отвечала она, предупреждая сына, чтобы не встревожил янычар своими реформами. — Дальше своего ковра ты ног не протягивай. У нашего мышонка хвостик маленький, а ты к нему метлу привязать желаешь.
Селим отвечал матери, что он все заранее продумал:
— Кто способен затащить верблюда на крышу, тот, наверное, знает, как его с крыши спустить на землю.
Михр-и-Шах, боясь за сына, намекнула ему:
— Ты, как фонтан, струишься очень высоко. Но какова бы ни была высота фонтана, его верхушка все равно вниз загибается. Будь осторожен, слушай, что говорят в народе. Любые ворота можно закрыть, но никогда не закроешь всех чужих ртов…
Мать проводила его грузинскими словами:
— Слава — как муха, которая садится и на розу и в навозную кучу. Десять нищих и на одной рогоже спать могут, но двум царям не ужиться в одном царстве Ты меня понял?..
Селим понял. Положение его было сложным, и допусти он промах во внутренней политике — янычары вынесут котлы на Эйтмайдан. Потому во внешней политике он был гораздо смелее, ибо янычары в дипломатии, слава Аллаху, еще не разбирались. Отношения же Турции с потрясенной Францией становились все напряженнее, ибо Париж желал бы вовлечь султана в новую (уже третью!) войну с Россией. Семонвиль был сознательно отвергнут Селимом — как заговорщик, и его эскадра, пристыженная, покинула Дарданеллы.
Для разведения интриг Конвент нашел другого посла.
Это был знатный маркиз Мари-Луи Сент-Круа, который ради целости собственной шкуры решил из маркиза превратиться в «гражданина Декорша». Новоявленный посол был пронырлив, как подвальная крыса, постоянно лгущий, вероломный и вредный. Декорш соблазнял христиан, живущих в Турции, а заодно обещал славянам, что одна лишь Франция способна принести свободу балканским народам, изнывающим в мусульманском рабстве.
— Ваше счастье и радость детей ваших возможны лишь в том случае, если вы, отвратив свои взоры от Екатерины, проникнитесь смыслом катехизиса нашей великой революции, которая не ограничит себя Францией, а скоро потрясет весь мир…
Прослышав об этом, Селим III дал пощечину реис-эфенди:
— Я понимаю, что с болтунами принято коротать вечера, напиваясь пьяным, но отныне посещать французское посольство я тебе запрещаю. Ста драхм вина — неужели тебе не хватает?..
Декорш вскрыл багажные тюки Семонвиля, оставленные эскадрой, из их запасов он делал подарки знатным туркам, подкупал господарей Молдавии и Валахии, засылал своих агентов в Персию, чтобы тамошний шах-кастрат не медлил с нападением на Грузию, а заодно Декорш обманывал даже… Конвент!
Его ненависть к русским была злобной, Декорш выдумывал о России всякую чепуху, и, не моргнув глазом, нагло сообщал Робеспьеру, что конец России близок, ибо началось восстание донских и кубанских казаков, а скоро подымутся и калмыки…
Селим III ждал посла из Петербурга, чтобы закрепить условия Ясского мира, и потому крикливая суета местных якобинцев раздражала его. Одним махом султан запретил «Народное общество» Константинополя, которое незаметно превратилось в филиал Якобинского клуба, существующего в Париже.
Великий визирь Юсуф-паша был старик хитрущий, а взяточник страшный. Он свою долю из багажа Семонвиля уже получил, и однажды, осчастливив Декорша аудиенцией, все время допытывался зачем парижане разломали Бастилию, если в Париже скоро понадобятся тюрьмы для тех, кто эту Бастилию разломал?!
— Сколько же узников короля из Бастилии освободили?
Декоршу было стыдно признаться, что в Бастилии, взятой штурмом, не оказалось ни одного узника. Но, опытный демагог, Декорш сказал великому визирю, что после взятия Бастилии хлеб в Париже стал дешевле на одно су.
Долгобородый хитрец Юсуф-паша, бывший торговец табаком, долго катался по диванам — от хохота.
— Сумасшедшие! — кричал он, повизгивая, и с его костлявых ног даже свалились остроносые «бабуши». — Неужели из-за одного су надо было устраивать революцию?..
«Гражданин» Декорш совсем испортил свою карьеру, когда в день 14 июля пожелал отпраздновать в Стамбуле взятие народом Бастилии. Такие праздники совсем не устраивали турок.
— Имей голову! — отвечали ему в канцелярии реис-эффенди. — С какой стати мы позволим тебе отмечать день, способный служить дурным примером для нашей черни, и нам, туркам, даже противно думать, что мусульмане захотят штурмовать Едикюль…
Камеры Едикюля, который мрачно взирал на воды Мраморного моря, были теперь пусты. Прежнего посла России давно выпустили из темницы, а теперь Селим III с нетерпением ожидал приезда нового русского посла, — «кто он будет?»
— Мир всем, у кого праведные мысли, — повторял султан слова матери-валиде. — Но стоит ли нам посыпать солью испорченное мясо? А если и соль испортится? Что станет с нашим мясом?..
Селим III жил с оглядкою на янычарский Эйтмайдан, где янычарам каждый день раздавали куски свежайшего мяса.
6 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСОЛ
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов в Первую русско-турецкую войну был тяжело ранен: пуля, пронзив левый висок, вышла из головы возле правого глаза. Он выжил, и Екатерина Великая отправила его на целый год за границу — для отдыха. Кутузов посетил Германию, Англию, Италию и Голландию, присматривался к быту людей, их искусствам и культуре. Посещал инкогнито и лекции в Иенском университете, где однажды профессор медицины — в его же присутствии — говорил, что русские врачи шарлатаны, вводящие научный мир Европы в заблуждение своими россказнями.
— При таком ранении, какое получил их генерал Кутузов, человек выжить никак не может, — заключил профессор.
Михаил Илларионович поднялся со скамьи студента:
— Простите, а я вот все-таки выжил.
— Кто вы такой? Назовитесь.
— Я и есть тот самый генерал Кутузов, который, по вашим словам, выжить никак не может…
При штурме Очакова (во Второй русско-турецкой войне) Кутузов был ранен вторично, и опять — тяжело. Пуля вошла в щеку и вылетела из его затылка. Все думали, что Кутузов едва ли доживет до следующего дня, но генерал снова выжил, обессмертив себя, как воин, еще задолго до нашествия Наполеона. Даже не искусство врачей меня удивляет иное, совсем иное. Кажется, сама великая мать-история пожелала, чтобы Кутузов остался жив, ибо Высшее Предопределение уготовило ему роль спасителя отечества…
В конце 1792 года Екатерина вызвала Кутузова из Польши, где он тогда находился, и сказала, что решила отправить его чрезвычайным и полномочным послом в Порту Оттоманскую:
— Ты, Михаила Ларионович, хорошо управился с татарами крымскими, и гареям указал их сущее место в истории нашей, так, чаю, и Селима сделаешь моим другом. Главное ныне — упрочить союз с султаном, дабы не якшался с французами и Англией, чтобы флоты их не проникали в Черное море, а тако же ты обнадежь славян балканских и греков, что Россия об их страданиях помнит… На моей шее еще и Грузия виснет, да, как сказывают в народе, выше головы не прыгнешь… У меня рук не хватает ото всех отбиваться…
При дворе возникло недоумение, вельможи по углам шептались, что генералы — не дипломаты, а политику едино лишь храбростью не сделаешь. (По мнению же академика Тарле, Екатерина давно разглядела в Кутузове тонкого дипломата, который как никто другой умел «достигать полного успеха, оставаясь с противником в самых дружелюбных отношениях»). Екатерина наделила посла алмазами, серебром и златом, просила не скупиться:
— Не букеты же цветов подносить им, нехристям! Ты уж сам сообразишь, кого подкупать, а кого благодарить, душевно…
Само же посольство Кутузова именовалось «торжественным».
Кутузову исполнилось 48 лет, а по меркам того времени люди в таком возрасте считались уже «стариками».
1793 год сложнейший в истории Европы, и открылся он судом над королем Людовиком XVI: большинством в 383 голоса против 310 голосов король был осужден на смертную казнь, вслед за его казнью нож гильотины рассек и тонкую шею королевы Марии-Антуанетты; дети же осужденных оставались неподсудны.
Летом во Франции утвердилась якобинская диктатура, беспощадная и фанатичная, а в августе 1793 года испанцы и англичане высадились в Тулоне, жители которого восстали против Конвента, и здесь при осаде Тулона — впервые воссияла звезда молодого и безвестного офицера Наполеона Бонапарта;
А 26 сентября Кутузов въезжал в Константинополь…
Селим III, радуясь его прибытию, выслал навстречу послу лошадь из своих конюшен, и она, богато украшенная драгоценностями, гордо выступала под седоком. Янычары, выстроенные вдоль улиц, палили из ружей, их оркестры играли не умолкая. В свите посла ехали знатные турки, его встречавшие, квартирмейстеры, курьеры для посылок, русские гвардейцы и даже швейцары, лакеи и официанты, метрдотель и актариусы с переводчиками, офицеры флота и армии, кавалеры посольства, чиновники и секретари, врачи и лекари, камер-пажи и просто пажи…
Всего же в свите Кутузова насчитывалось 650 человек.
Дабы жители турецкой столицы не усомнились в важности посольства России, турки составили маршрут его «въезда» таким образом, что русским до вечера пришлось колесить по улицам. В одном из проулков из толпы любопытствующих вырвался какой-то нищий оборванец в лохмотьях, крича послу по-русски:
— Ваше превосходительство! Христом-богом прошу, не оставьте несчастного помирать в чужестранной убогости, дабы не позорился мундир офицера флота российского.
— Да ты кто таков? — спросил Кутузов.
Выяснилось, что сей нищий командовал «Марией Магдалиной» в эскадре Ушакова, этот корабль занесло бурей прямо в жерло Босфора, где турки его и схватили.
— Эка незадача! — сказал Кутузов. — Турчины-то пленные, кои в наш полон угодили, в деревнях на печках валяются, блины со сметаной жрут, да и переженились на русских бабах, а ты… Ах, ах! Видеть тебя противно. Ну, ладно, садись в карету, чтобы мундира своего не позорить. Много ль насобирал за день?
— Ныне не соберешь, — прослезился командир «Магдалины». — Чтобы просить милостыню, ныне велено от султана особый патент купить. А что ни сберешь за день, вечером янычары отбирают…
Врата посольства замкнулись за кортежем вечером — уже при свете факелов. Сам же дом посла располагался в кварталах Пера, из окон кабинета Кутузов наблюдал» как разгораются желтые огни в окнах домов, строенных за водами Золотого Рога: там и дворец Топ-Капу, там и торжественное великолепие знаменитой Айя-Софии, там Эйтмайдан, где для янычар режут стада баранов, там, наконец, и Сераль с Диваном… Вдруг стало очень-очень печально.
— Царьград… Константинополь… Стамбул, — вздохнул посол. — Кто бы подумал, что на сем месте гиштория, тетка безжалостная, прикончила царство Византийское, зато возвела величие мусульманской твердыни… Николай Анто-ныч, скажи-ка ты мне, кто лучше всех живет в этом содоме султанском?
Драгоман посольства российского Пизани — сам он родом был из Пизы — охотно растолковал генералу:
— Полагаю, что лучше всех живут здесь… пожарные.
Подобный ответ обескуражил Кутузова:
— С огня-то и с дыма? Какой же доход с головешек?
— С того и живут, что, если пожара давно не было, пожарные сами свою столицу подпаливают, чтобы затем в суматохе людской грабить пожитки погорельцев. Вот и прибыль!
— До чего же хитра экономика, — засмеялся Кутузов… Лакеи снимали с него парадный мундир, а гардеробмейстер терпеливо ждал, дабы уложить его в свои гардероб-шкафы.
— Захороводили меня турки по улицам, — ворчал посол, — не знаю, высплюсь ли? А завтра начнутся дни суматошные…
Кончились те времена, когда иностранных послов часами морили на улице перед Сералем, чтобы помучился, а султанам докладывали в таких выражениях: «О, великий… там, у твоего Порога Счастья, совсем продрог голодный, раздетый и нищий посол гяуров, трясущийся от страха! Скажи, о великий повелитель, явить его тебе или сразу гнать, как паршивую собаку?» Но перед тем, как представить посла пред грозные очи Османов, янычары заламывали ему руки назад, словно преступнику, так что посол, казалось, был способен катить по коврам носом горошину, — и в таком виде, полусогнутый, дипломат являл убогое зрелище унижения всей дипломатии Запада перед владыками Востока…
Слава Аллаху, те времена давно кончились!
1 ноября 1793 года состоялась аудиенция у султана.
Пизани предупредил Кутузова, что этикет Версаля гораздо проще и не столь утомителен, как в Серале.
— Запаситесь терпением, чтобы миновать трое ворот: Баби-Гумаюн — Врата султанские, Баб-эс-Селям — Врата мира и Баб-и-Сеадет — Врата блаженства, за которыми и узрите падишаха.
С пристани Галаты посла на гребном каике перевезли через Золотой Рог, и далее он, несомый в портшезе, был доставлен к Порогу Счастья. Неуютно было возлежать на носилках, когда вокруг галдят толпы янычар, вразброд шагающих под трубные завывания оркестров. Кутузова перед Сералем встретил мрачный чауш-баши — начальник стражей султана.
Сначала он угощал посла сластями и шербетами, потом подвели лошадей и сказали, что первые ворота Сераля отворены для проезда. Поехали верхом, следом за Кутузовым неумело шатался в седле его секретарь, державший в руке грамоту, подписанную Екатериной. Перед вторыми воротами, ведущими из Сераля в Диван, сам великий визирь Юсуф-коджа снова угощал посла различными лакомствами.
От вторых ворот шествовали своими ногами, впереди Кутузова важно выступал чауш-баши, громко стучавший о плиты мостовой тростью из серебра. Справа опять стояли оравы янычар, и как раз в этот момент для них выставили еду — тысячи людей, сминая друг друга, с могучим ревом кинулись к столам, алчно и быстро пожирая султанские яства, так что на миг даже страшно стало, будто попали на кормежку диких зверей.
— Скоро ли, хосподи? — сказал секретарь, неся над собою сверток грамоты императрицы с таким гордым видом, с каким кухарка выносит перед гостями поднос с жареным гусем.
— Терпи, — тихо ответил ему Кутузов. — Гляди, как жрать-то накинулись, будто их целый век не кормили.
— Они давно ждут пшена из Египта, — подсказал Пизани… («Это трагедия Шекспирова, это поэма Мильтонова или Одиссея Гомерова», — в таких словах извещал Кутузов свою жену обо всем виденном в этот день). Массивная трость из серебра в руках чауш-баши ритмично стучала, высекая искры из камней, словно предупреждая всех встречных, чтобы заранее разбегались…
В преддверии аудиенции Кутузова завели в «палату выжидания», из которой Юсуф-паша послал просьбу о представлении посла султану. В ожидании ответа Кутузов был снова угощаем, потом «подавали ему умываться, опрыскали и окурили благовониями». Кутузов покорно омыл лицо и руки, его мундир излучал восточные ароматы. Наконец, открылись последние ворота, где — по турецким обычаям — посла должны обряжать в особую шубу. Конечно, Кутузов знал, что рук ему за спину не заломят — не те сейчас времена, но все-таки его угнетала мысль, что и ныне могут продержать на «скамье поварят», сидя на которой дипломаты обязаны высидеть срок своего унижения…
— Доколе ж мучиться? — страдал секретарь.
Бедный, он держал руки высоко, словно молил о пощаде…
Слава Богу! «Скамьи поварят» не было, для Михаила Илларионовича турки приготовили табурет, накрытый парчой. Кутузову объяснили, что для него прежний церемониал отменяется — по личному указанию Селима III — «из особливого к нему уважения, для успокоения его здесь (табурет) поставлен; посол изъявил за сие отличие свою признательность». Казалось бы, ерунда — на чем сидеть, на лавке или на табуретке, однако в нюансах восточного протокола все имело большое политическое значение.
Наконец, провели посла в аудиенц-палату.
В ней царил загадочный полумрак, здесь же высился трон, а на троне сидел Селим III, одетый, словно рядовой янычар в простое сукно, но в чалме его с высоким пером африканского страуса блистал огромный солитер. Кутузов от порога отвесил три поклона, при этом султан едва шевельнулся, отчего разом вспыхнули бриллианты в пуговицах и…
Кому, как не жене, мог писать Кутузов самое сокровенное?
Так вот, именно жене он сообщил, что Селим III слушал его приветственную речь с большим вниманием, тут же переводимую для него толмачом-фанариотом, и в какой-то неуловимый момент он даже чуть-чуть наклонился к послу России «с таким видом будто, кажется, он хотел мне сказать: „МНЕ ОЧЕНЬ ЕТО ПРИЯТНО, Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ПОЛЮБИЛ; МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НЕ МОГУ С ТОБОЙ ГОВОРИТЬ“ (как говорят меж собой все нормальные люди, которые имеют великое счастье не быть рожденными султанами)».
Что поразило Кутузова в этом молчании Селима?
То, что он отвечал ему глазами, и в его глазах можно было прочесть очень многое, Кутузов — как это ни странно! — прочел в глазах султана даже поклон ему…
Поклон, который султан отвесил опять-таки глазами.
Между ними возникла невысказанная симпатия.
«Вот в каком виде представился мне султан, — заканчивал Кутузов свое письмо для домашних. — Прощайте…»
Возвращаясь обратно в Пера, посол долго молчал, чем-то удивленный, но удивленный не радостно, а тягостно, потом — на переправе через Золотой Рог — спросил советника Хвостова:
— Ляксандра Семеныч, а правду ль сказывают люди знающие, что Селим мужик зело сердитый и даже зловредный?
— Зверь! — отвечал Хвостов, долго не думая.
— А правду ль о нем говорят, будто, восходя на престол, он дал клятву, что не улыбнется ни разу, покедова не узрит свою империю Оттоманов в порядке и довольстве?
— Правда. Только кто ж его рассмешит, супостатину? Когда же узрит он своих турчин в порядке благочестия и сытости? Нет, ваше превосходительство, того не предвидится…
Верно, что Селим III постоянно пребывал в мрачном расположении духа, а причин для веселья не предвиделось. Но посольству российскому султан был рад, искренно желая выразить ему свое уважение. Ради этого он указал отлить для Кутузова золотой сервиз, а для его свиты приготовить тарелки, ложки и вилки, украшенные изумрудами, алмазами, рубинами и яхонтами.
— Если же чего не будет хватать, — повелел Селим, — нужное для убранства стола взять у греков в Фанаре…
Известие о том, что какой-то Бонапарт изгнал англичан из Тулона, Кутузов узнал от курьеров за шесть дней до прибытия в Константинополь. Шут с ним, с этим Бонапартом, но взятие им Тулона придало лишние амбиции местным якобинцам. Однажды к послу посмел заявиться сам Декорш — не от имени Франции, а от говорильни Конвента, чего Михаила Илларионович не стерпел.
— Передайте этому мизераблю, — наказал он Хвостову, — что я всегда приму посла Франции, только не случайного человека, присланного с торжища палачей и разбойников…
Кутузову предстояло бороться с этим наглецом Декоршем, который выдумывая всякие басни, вводил в заблуждение Диван султана. Декорш хвастал, что сто тысяч поляков уже идут на помощь Франции, что французы еще два года будут сражаться за свои «принципы», после чего Европа, устав от кровопролития, признает республику. Декорш врал туркам, что Пруссия уже разбита, а сам прусский король ранен французами.
Все эти выдумки Кутузову приходилось опровергать.
Константинополь частенько жил в нужде, довольствуясь подвозом с дальних окраин Оттоманской империи, управляемых пашами, но эти окраины постоянно бунтовали, делаясь неподвластными султану, ибо каждый паша желал бы стать маленьким султаном в своем пашалыке. Михайла Илларионович невольно сравнивал:
— Ну-ка у нас! — смеялся он. — Возможно ли такое, чтобы губернатор Рязани объявил себя царем рязанским и не выслал бы крупы матушке-Катерине? Только б этого «царя» мы и видели…
Глубокой осенью вернулся в столицу Кучук-Гуссейн из Египта, где он загружал свои корабли пшеном, и Хвостов, поверенный в посольских делах, подсказал Кутузову:
— Сего султанского фаворита следует учитывать, яко весомую гирю на весах турецкой политики.
— Умен? — кратко вопросил Михаила Илларионович.
— Умна жена его, султанша Эсмэ, что доводится Селиму сестрою, и тут, не забывайте, грузинская кровь примешана, так что, они на Тифлис тоже оглядываются…
Кутузов не отказался от званого обеда у Кучук-Гуссейна, о котором отписывал жене в таких выражениях: «Великолепен и мот, три миллиона (пиастров) должен… Слуг у него до тысячи и все в парче; ковры малиновые, бархатные, золотом шитые; софы с жемчугом; на слугах его множество бриллиантов…»
За обедом разговорились. Капудан-паша не скрывал от посла, что Турция обретет покой только в дружбе с Россией и, напротив, новая война с нею завершит оскудение Оттоманской державы.
— Мы, — отвечал Кутузов, — приехали сюда не угрожать вашей милости, а лишь доказывать пользу от добрососедских отношений. Когда двое дерутся, всегда сыщешь третьего, который в сторонке радуется. Подозреваю, как бы расплясались в Якобинских клубах Парижа, если бы мы вновь подрались…
Кутузов докладывал для сведения императрицы: «Был я потчиван необычайно приветливым образом капитан-пашою и я его поступками и учтивостями довольно нахвалиться не могу». А жене сообщал нечто такое, о чем императрице и знать было не надобно: «Дипломатическая карьера сколь ни плутовата, — писал Кутузов, — но, ей-богу, не так уж мудрена, как наука военная, ежели ее делать, как надобно».
Екатерина не ошиблась в своем выборе, заранее уверенная в том, что Кутузов на берегах Босфора окажется полезнее любого дипломата. Кутузов очень скоро разобрался в расстановке гирь на шатких весах политической базара в Серале, и за словами Кучук-Гуссейна он угадывал мнение его жены Эсмэ, а мнение султанши было подкреплено авторитетом самого султана.
В добрую минуту посол спросил капудан-пашу:
— Чего же, скажите, желала бы от вас нынешняя Франция? — Кучук в своем ответе был предельно искренен:
— Не знаю, верить ли пустомеле Декоршу, но Диван получил от него угрожающую ноту, по которой Франция требует принять эскадру адмирала Трюге для… для усиления турецкого флота. Россию пусть это не тревожит, ибо султан, да продлит Аллах его дни, совсем не хочет, чтобы Трюге шлялся в Черном море.
— Благодарю, — отвечал Кутузов. — Пользуясь вашей доверенностью, прошу отменить смертную казнь тем грекам, кои служили на эскадре Орлова Чесменского и на флотилиях славного патриота Ламбро Каччиони. Думаю, сложись ваша судьба иначе, и вы бы, как грузин, тоже пожелали служить в русской армии… Поймите же патриотизм эллинов! Оставьте на плечах их головы!
— Казнить не станем, — обещал капудан-паша…
Но дружба с ним привела Кутузова за стол матери султана, и валиде Михр-и-Шах посол задобрил роскошными подарками, а заодно щедро одарил обитательниц султанского гарема, которым (по местным обычаям) мать Селима III сама и заведовала. Бывшая рабыня из грузинок, валиде не забывала о родине, и, улучив минуту, она спросила посла России:
— Когда же в Тифлисе люди могут спать спокойно, не видя ужасных снов? Где же ваши войска… пусть придут!
Решающим был визит Кутузова во дворец Паши-Капусси, где проживал великий визирь Юсуф-Коджа; кажется, Михайла Илларионович сумел понравиться хитрейшему старцу, который хлопнул в ладоши, и лакеи, под звук тромбонов и грохот литавр — накрыли русского посла шубой из соболей, обшитой золотою парчой. Юсуф снова хлопнул в ладоши — и старшие чины посольства облачились в собольи шубы, но крытые не парчой, а сукном. Еще раз хлопнул старикашка — и десять кавалеров посольства обрели шубы из горностая. Ну, а другие сто чиновников получили от него лишь кафтаны…
— Я давно так не смеялся, как сегодня, — сказал визирь, провожая русского посла. — Думаю, что вы тот самый человек, который способен развеселить нашего великого султана…
Именно в эти дни Хвостов доложил Кутузову, что в Валахии и Молдавии недавно сменили господарей, склонных дружить с Россией, на их посты Диван выдвинул сикофантов, живущих с оглядкою на Париж, вредя России где только можно.
— Видна ли в этом рука Декорша? — спросил посол.
— В черной ночи не видать руки в черной перчатке, — намекнул Хвостов. — На сей раз господарями вертит кто-то иной, связанный с Робеспьером, чтобы разладить наш мир с турками.
— Нельзя ли точнее узнать, кто гадит России из Бухареста, где испокон веков полно продажных бояр? — вспылил Кутузов.
— Узнать можно, — усмехнулся Хвостов. — Но парижский Конвент справок о своих тайных агентах не выдает…
Помог случай! Кутузова пригласили на праздник «джи-рид» , когда турки верхом на лошадях изощрялись в метании дротиков. Высматривая капудан-пашу, Кутузов в свите его разглядел янычара, всего в шрамах. При этом янычар исподтишка озирал русского посла, и вскоре они стали улыбаться один другому.
— Кто этот янычар в свите Кучука? — спросил Кутузов.
— Впервые вижу, — шепотком ответил Пизани…
Обоюдное внимание двух людей, столь разных по воспитанию и положению, легко объяснимо — и тот и другой были страшно изранены в голову, но судьба пощадила обоих: выжили!
Жестоко изуродованные войной, они, конечно, встретились — и на этот раз не ради улыбок. Ахмет-ага сам явился в русское посольство, заявив, что желает «расплатиться» с Россией.
— За что? За эти вот шрамы? — усмехнулся Кутузов.
— За добро, — отвечал янычар. — Я ваших пленных обирал до нитки, я отрубал им головы, как баранам. А ваш Потемкин-паша не только излечил меня, но и наградил мою храбрость оружием. Потому и готов добром платить за добро ваше.
— Я, мой друг, — осторожно намекнул Кутузов, — совсем не желаю, чтобы ты подводил своего благородного господина. Но мне известно, что Кучук-Гуссейн не слишком-то жалует якобинцев, лезущих со своей ложкой в чужую похлебку. Потому меня волнуют лишь французские козни в придунайских пашалыках…
Доверенный капудан-паши, Ахмет-ага вскоре же сообщил Кутузову имена тех парижских агентов, что возбуждали валахов и молдаван против России, он предупреждал посла о засылке шпионов в Херсон и Николаев, где строились корабли для молодого Черноморского флота.
— А кто вредит нам в Бухаресте? — спросил Кутузов.
— Константин Филипеско — тамошний боярин…
Имя этого Филипеско придется запомнить, ибо он еще встретится нам. В его красавицу-дочь имел несчастье влюбиться один известный наш генерал. Но это произойдет гораздо позже… А сейчас султан Селим III прислал Кутузову великолепный подарок: преподнес большой таз… снега!
— Снег! — обрадовался Кутузов. — Ах, как приятно видеть снег в этом пекле и сразу поминается родина в сугробах…
Николай Пизани подсказал, что этот снег необычный:
— Турки доставляют его в Константинополь с горных высот легендарного Парнаса, как драгоценное средство для охлаждения шербетов, а гаремные жены Сераля лепят из него снежки.
— Опять штучки гиштории, — помрачнел Михайла Илларионович. — Куда подевались парнасские боги и сам Аполлон в сонме прекрасных муз? Не стало богов, а снег с Парнаса прошу отослать на кухню… Пусть охладят для нас бутылку шампанского.
7 ПРОТИВОБОРСТВО
«Слова республика, свобода, равенство, братство были написаны на всех стенах домов Парижа, но того, что соответствовало этим понятиям, нигде найти было нельзя… Все было насильственно, и, следовательно, ничто не могло быть прочно», — таково было впечатление Талейрана от Франции того времени. Странно, что, выписав эту фразу из его мемуаров, я в своих черновиках обнаружил запись, схожую с высказыванием Талейрана: «Режим, созданный насилием и существующий лишь ради насилия; такой режим не может быть долговечный…» Между тем, за руинами павшего Тулона, где молодой Бонапарт уничтожил тысячи людей, ни в чем неповинных, а сам город отдал на разграбление, таилось многое.
Якобинская диктатура, уничтожив дипломатов старой французской школы, не дала миру своих дипломатов, но дипломатия у якобинцев все же была — наглая, развязная, враждебная ко всем, со всеми несогласная, бравирующая силой, крикливая и… пустая, как барабан.
Эта дипломатия не церемонилась с другими народами, полагая, что война — самый убедительный довод в политике. Париж хотел бы воевать со всей Европой сразу, низвергая престолы, после чего — по разумению якобинцев — возникнет всемирная «Республика Человеческого Рода», объединенная главным девизом утопии: «Свобода, равенство, братство». Якобинская «школа» дипломатии уповала на массовый шпионаж и на то, что с помощью провокаторов, засылаемых в другие страны, можно возбуждать общественное мнение к выгоде якобинских принципов…
Кутузов догадывался, что Дунайские рубежи уже становятся опасны для его Отечества, ибо там начали свою агитацию тайные агенты парижских клубов, — и он еще раз возблагодарил судьбу, что она свела его с янычаром Ахмет-агой, который подсказывал ему адреса этих агентов… «Взятие Тулона и успехи французов на Рейне, — докладывал посол в Петербург императрице, — произвели важную над Портою перемену». Одновременно он отправил другое письмо, в котором выразил тонкое понимание того, как Запад влияет на дела Востока: «Кажется, — депешировал Кутузов, — Порта избрала себе за градусник хорошие или плохие события, происходящие у якобинцев…»
Он рассуждал перед своим поверенным Хвостовым:
— Османы уже сколько веков взирали на Францию, яко на своего лучшего советника, и при этом не возникало поводов для взаимных конфликтов, ибо империя Османов и королевская Франция никогда не имели общих границ, кои порождают подобные конфликты. Я вот почасту не сплю и думаю: как изменится их сердечный альянс, ежели изменятся границы между Востоком и Западом, и что скажут в Серале, если вдруг — в недобрый час! — турки окажутся соседями якобинцев?..
Слова Кутузова оказались пророческими.
В это время Декорш делал все возможное, чтобы возбуждать турок против России, утверждая, что условия Ясского мира оскорбительны для всего мусульманства. «Через софизмы Декоршевы, — докладывал Кутузов в столицу, — духовенство турецкое уверено, что истребление (якобинцами) закона христианского во Франции сближает якобинцев с мусульманами…» Вывод о духовном братстве мусульманского мира с якобинской идеологией выглядел анекдотично, но в нем заключалось немалое зерно истины.
Ахмет-ага пришел в мрачном настроении, известив Кутузова, что пропаганда Декорша имеет успех:
— В кофейнях теперь толкуют, что якобинцы стали для турок братьями, ибо они отвергли заповеди Христа, а храмы свои разрушили, что мусульманам очень приятно. А наши министры, ослепленные их победами в Тулоне и на Рейне, не мешают Декоршу…
От болтовни Декорш вскоре перешел к делу, предложив союз якобинской Франции и султанской Турции — опять-таки против России! Наконец, местные якобинцы, французы и улемы, стали толпами шляться перед русским посольством. Они выкрикивали угрозы по адресу посла Екатерины, глумились над Россией, иногда швыряли камни в стражей, однажды разрядили свои пистолеты в окна посольства… Этого снести было нельзя!
Протест Кутузова противу беснующихся якобинцев возымел силу стараниями великого визиря, и вскоре Селим III повелел всех якобинцев-французов выслать из турецких пределов.
Быть послом великой державы, особенно в стране, которая побеждена этой державой, — задача архисложная: с одной стороны, следует быть твердым, чтобы отстаивать условия мира, с другой стороны, следует быть и мягким, дабы излишне не ущемлять самолюбие страны, и без того униженной. Михайла Илларионович знал, что быть в Турции любимым — совсем не надобно, но быть авторитетным — он обязан! Потому-то его искренне порадовало мнение султана, которое он высказал визирю Юсуфу, а тот передал Кутузову: «Странно видеть этого русского посла, столь свирепого в баталиях с нами, который способен покорять нас своей любезностью…»
Сейчас пираты беспокоили Михайлу Илларионовича.
— Николай Антоныч, — указал он Пизани, — ну-кось, зачти седьмую статью трактата Ясского мира, что там сказано о корсарах берберийского берега?
Пизани внятно зачитал 7-ю статью договора, по которому Турция обязалась, чтобы ее паши Алжира или Туниса русских судов в Средиземном море не трогали и не грабили.
— А коли корабль какой и захватят, — заключил Пизани, — так все убытки России должна уплатить казна султана турецкого.
— Вот то-то! — сказал Кутузов. — Даже негоцианты Венеции, уповая на эту седьмую статью, стали плавать под флагом великороссийским, а пираты не унялись, в Архипелаге греческом бесчинствуя, так не пора ли Селиму своей мошной потрясти?..
С этим он навестил дворец Эйюб, где застал «маленького» капудан-пашу пребывающим в неге. Кучук-Гуссейн был, пожалуй, добрым союзником Кутузова в отрицании якобинства, через него, мужа султанши Эсмэ, посол мог влиять на самого Селима III. Выслушав о пиратских разбоях, капудан-паша сказал, что грабеж в Средиземноморье — беда общая:
— Бербейские паши и беи грабят не только вас, но суда греческие, голландские и прочие. Что тут можно сделать, если, в час грабежа зачатые, между грабежами рожденные, они без грабежа и жизни не видят, убеждать корсаров не грабить — это все равно, что им сказать — не дышите.
Кутузов был готов к уклончивому ответу:
— Ранее французы от корсаров тамошних страдали, горестно на весь мир завывая, а ныне французы, став якобинскими, сами пиратами заделались… Вот в чем беда! — сказал посол. — Теперь и якобинцы грабят русские корабли с товарами. По сей веской причине, коли вы, турки, сами с пашами Туниса и Алжира справиться не способны, государство Российское вправе от вас требовать, чтобы вы пропустили через Босфор наши боевые фрегаты для охраны русской торговли в Архипелаге.
Кучук-Гуссейн сказал, что министры сего не дозволят:
— Если в древности цари византийские Босфор цепями перегораживали, чтобы никто не залезал в Черное море, так и султаны турецкие всегда берегли Босфор, чтобы из Черного моря тоже никто не плавал мимо твердынь мусульманских. Знаю, что скажут наши министры: пустить русских в воды турецкие — это все равно, что пустить их в гаремы наши.
Кутузов обозлился, но отвечал спокойно:
— Мы, русские, в вашем «гареме» уже не раз побывали, и если вы не пускали нас в Архипелаг, через проливы свои, так мы туда через Гибралтар все равно заглядывали. Надеюсь, вы нашего Орлова Чесменского не забыли, а его эскадра не только в Ливане и не только в Египте, но даже в Тунисе побывала…
Новые заботы одолевали посла российского.
— Ляксандра Семеныч, — спросил он Хвостова, расстроенный, — откель взялся фальшивый слух, будто Турция внове крови алкает, готовая к нападению на Русь-матушку?
Поверенный растолковал: Дунайские княжества, возбуждаемые агентами якобинских клубов Парижа, бурлят слухами, будто бы Суворов грозится пройти маршем до самого Босфора, почему, якобы, султан и решил упредить нападение своим ударом.
— Чушь какая! — фыркнул Кутузов. — Бухарест сплетни разводит, язык тянет: ради чего я тут сижу и беды новой не вижу?..
Екатерину он успокоил, что в ближайшие годы войны ожидать не следует: финансы Турции расстроены, в налогах даже цыган обобрали до нитки, крепости разваливаются, флот гниет на приколах, а новые корабли еще на верфях, паши живут всяк по себе, султану не подчиняясь, мятежи в Аравии и Румелии, Каир бурлит возмущением… Где им тут воевать с нами?
— Паче того, — диктовал он в конце письма, — как турки на войну могут решиться, ежели близ Дуная стоит наше войско, предводимое Суворовым — тем славным мужем, который уже не раз наносил жесточайшие раны честолюбию мусульманскому… Точка! Курьер выспался? Тогда готовь новую почту…
Миссия Кутузова близилась к завершению.
Уже повеяло весной 1794 года, когда он неожиданно получил большое удовольствие. Как раз в эти дни Париж прислал в Константинополь своего агента Энена, чтобы помогал Декоршу баламутить турок принципами свободы, братства и равенства. Декорш почувствовал, что ему, бывшему маркизу Сент-Круа, не слишком в Париже доверяют, и потому два посла стали выяснять насущный вопрос, — кто из них подлинный «друг народа», а кто является скрытым «врагом народа». Не выяснив этой истины, дипломаты просто передрались, после чего в кофейнях Стамбула немало потешались над ними турки — как эти два «гражданина», еще ничего не сделав, не могли поделить власть. Но этим скандалом якобинская дипломатия дезавуировала сама себя и своих послов, а посему следовало ожидать, что вскоре Париж отзовет их домой, чтобы скандалами не позорились.
— Туда им и дорога! — в сердцах произнес Кутузов. — Этим головам давно пора скатиться в мешок гильотины…
Вскоре он получил странную информацию, будто Конвент, удаляя Энена и Декорша, прочил в послы Бонапарта — того самого…
— Поглядим, каков сей молодец, — говорил Кутузов.
Но близился срок его отъезда, и Бонапарта он не дождался.
Екатерина очень высоко оценила заслуги Кутузова, пожаловав ему две тысячи крестьян в Волынской губернии, а в Петербурге его ждало новое назначение — быть директором Сухопутного кадетского корпуса. Из генералов он стал дипломатом, а теперь из дипломатов его делали воспитателем юношества. В ту пору жизни, жестоко израненный, но преисполненный сил, Михайла Илларионович еще не прозревал будущего безвестного Бонапарта, что штурмовал Тулон, и предначертаний своей великой судьбы в истории любезного его сердцу Отечества он не предвидел.
Чрезвычайным послом в Константинополе — после отбытия Кутузова — стал Виктор Павлович Кочубей, которому исполнилось лишь 24 года, а начинал он службу капралом гвардии. Впрочем, молодые люди того времени — не в пример современным балбесам — обладали немалым интеллектом, и, как указывают историки, Кочубей на своем посту дипломата «успел приобресть доверие султана Селима III, доставив этим немалые выгоды нашей торговле в Греции и смежных с нею восточных странах».
К слову сказать, и Бонапарту, когда он штурмовал стены Тулона, тоже было 24 года. XVIII век тем и хорош, что люди рано вступали в жизнь, они быстро становились самостоятельны, а ответственности за содеянное никогда не страшились.
Невольно вспоминаются бессмертные слова Грибоедова:
«Вы, нынешние, ну-тка!..»
8 ПУШКИ ДЛЯ СЕЛИМА
Екатерине Великой оставалось жить один год, когда на Кавказе, извечно страдавшем от нашествий персов или турок, произошло событие, почти незаметное тогда для Европы, но больно ранившее политический авторитет Петербурга…
Ага Мохаммед-Каджар, этот кастрат, озлобленный на весь мир, не мог смириться с тем, что грузинский царь Ираклий II просил покровительства от России. Весной 1795 года шах предпринял набег на Тифлис, оставшийся в памяти грузинского народа «страшнее Страшного Суда». Поганый евнух никогда не знал жалости к людям, и когда ему приносили мешки с глазами ослепленных, он не ленился пересчитывать их тысячами, каждый глаз отбрасывая лезвием кинжала, взвешивал вырванные глаза на весах — пудами! Именно этот изверг во главе армии набросился на беззащитный Тифлис, предав город разорению, мужчин он ослеплял, детей забирал в рабство, а всех женщин — независимо от их возраста — велел своим воинам изнасиловать, что ему, кастрату, доставило приятное волнение.
— Теперь, — велел Ага-Мохаммед, — каждой разрезать поджилки ног, чтобы они на всю жизнь остались хромыми, и, хромая, никогда не забывали этого дня и мое священное величие.
Екатерина приняла грузинского посла князя Герсевана Чавчавадзе (это дед Нины Грибоедовой); теперь, после страшной трагедии Тифлиса, грузины не просили о покровительстве, согласные навек воссоединиться с Россией, и Екатерина — сразу! — послала войска, чтобы «восстановить мир и спокойствие». Дербент, Шемаха, Ленкорань (и Баку, конечно) считались воротами в Персию. Когда эти «ворота» заскрипели, уже отворяемые штыками русских солдат, Ага-Мохаммед-Каджар быстро занял Шемахинское ханство, откуда призвал Дагестан и Чечню к газавату — священной войне против русских (вот, кстати, откуда и началась будущая кровавая эпопея имама Шамиля и его мюридов). Русские солдаты штурмом взяли Дербент, они топали уже на Баку, но…
Осенью 1796 года скоропостижно скончалась Екатерина Великая, и насколько блистательно и феерично было начало ее царствования, настолько печально и даже убого было ее увядание. Громкая эпоха «екатеринианства» закончилась — на престол взошел ее сын Павел I, который, боясь испортить отношения с Англией, дружественной Персии, велел русским войскам отойти назад.
Османская империя в эти события на Кавказе не вмешивалась, ибо султан был всецело поглощен другими заботами, о чем мы и расскажем, но жестокая хронология, этот главный ускоритель истории, принуждает меня обратиться к Франции.
Якобинская диктатура раскручивала маховик массовых репрессий. Если улик против человека не находили, его все равно объявляли «подозрительным» — и тащили на гильотину. Робеспьер и его подручные, желавшие кровопролитий, еще не сознавали, что этот кровавый молох, убивающий «врагов народа», скоро оторвет головы и тем, кто любил называть себя «друзьями народа». Диктаторы уничтожили даже Академию, чтобы ученые не смели выделяться из общества, ибо этим нарушался принцип «равноправия». Все старое должно быть разрушено, чтобы на его развалинах созидать не только светлое будущее Франции, но и всего Человечества, — так провозглашали они на стогнах Парижа. Богатых быть не должно — пусть отныне все станут бедными, зато верующими в их идеалы. Имущество людей было поставлено вне закона, зато санкюлотам Парижа платили по 40 су в сутки — за их умение высиживать на собраниях, где им проповедовались самые правильные «принципы» (свободы, равенства и братства).
Я, автор, хорошо понимаю причины, породившие Французскую революцию, но, мне думается, не было причин превращать Францию в общественную «живодерню». Революцию во Франции делали все-таки не французы, а только санкюлоты Парижа, и вся Франция не могла думать так, как думали санкюлоты, возлюбившие сорок су за присутствие на собраниях и митингах.
Франция объявила войну… Парижу.
Париж объявил войну… Франции!
Вандея всем известна! Но мало кто знает, что в этой провинции Робеспьер указал сжечь не только дома и заборы, но даже леса, велел убивать даже скот, собак и кошек… как тут не вспомнить помешанного Ивана Грозного, который, убив людей и животных, никогда не забывал спустить из прудов водичку, чтобы передохла и вся рыба!
Инакомыслящие во Франции расстреливались. От массовых расстрелов, желая разнообразить сцены убийств, якобинцы скоро перешли к массовым затоплениям. Жителей городов, не согласных с принципами Парижа, заколачивали — вместе с детьми — в речные баржи и, прорубив их днища, топили на глубине. Фантазия палачей, как доказал опыт истории, неисчерпаема. Якобинцы додумались связывать мужа с женою веревкою и бросали их в воду (этот вид смертной казни именовался даже игриво — «республиканская свадьба»). Когда же восстал Лион, богатый и дивный город, против него послали целую армию. Всех жителей истребили (опутанных веревками, их расстреляли картечью из пушек), все здания Лиона взорвали порохом, оставив лишь жалкие лачуги нищих, а потом с небывалым цинизмом переименовали Лион в «Город Свободы», который и лежал в руинах и трупах… Вот вам «свобода»!
Европа ужасалась, но Европа и глумилась над Францией.
Разве так уж нужно для процветания свободы свергать древние памятники, зачем осквернять народные святыни, не глупо ли старинным городам и улицам присваивать новые названия, всем чуждые? Якобинцы запретили отмечать воскресные дни и праздники, взамен которым придумали позорные капища, почти языческие, где роли «богинь разума и скромности» играли уличные проститутки. Наконец, глупцам казалось, что приказом свыше можно одним махом ликвидировать старую веру в бога, чтобы народ обратился в новую веру.
Робеспьер, тщеславный и недалекий человек, издал декрет, гласивший, что религия вообще отменяется, а вместо нее учреждается новая «религия разума». При этом он сам объявил себя «Высшим Существом», и в уличной процессии предстал перед народом, как божество, охотно воспринимая похвалы публики, и даже не догадываясь, что все это было уродливым фарсом, разыгранным от нехватки ума и полной деградации скромности…
Примерно такой (лишь примерно!) была голодная, запуганная, окровавленная и все-таки побеждающая Франция, когда начиналось быстрое выдвижение Наполеона Бонапарта. О чем он думал тогда, о чем смел мечтать? Читатель, наверное, будет удивлен: Бонапарт грезил о… Египте (уже тогда!), говоря близким:
— Европа — это затхлая крысиная нора, и только страны Востока еще таят в себе неразгаданные пространства, а шестьсот миллионов ждут смелых завоевателей.
Кстати, он не валялся бесхозным — приходи и бери!
Египет был давней (с 1517 года) провинцией Османов, он платил дань султанам Турции, которые слали в Каир своих наместников-пашей, а чтобы паши не вздумали сами сделаться султанами Египта, Порта делила их власть с мамелюками — это были преторианцы, очень схожие с янычарским сбродом Константинополя; и как янычары не раз душили своих султанов на берегах Босфора, так и мамелюки не раз резали и травили своих пашей на берегах волшебного Нила…
Селим III правил империей уже пять лет, желая спасти ее от гибели, осведомленный в том, что дипломаты Европы говорят о Турции не иначе как о «больном человеке», после смерти которого можно смело приступать к дележу гигантского наследства.
Селим III хлопнул в ладоши:
— Исхак-бей… пусть войдет!
20 лет назад Исхак не был еще беем, и, пойманный на мелком воровстве, бежал во Францию, где нахватался верхушек знаний из жизни Европы, чем и приобрел дружбу Селима, когда вернулся домой, а Селим еще не был султаном. Потом Селим, уже ставший султаном, снова послал Исхака в Париж — с письмом к королю, и с ответным письмом Людовика XVI он вернулся на корабле, на котором плыл в Турцию граф Шуазель-Гуфье… Исхак вошел.
— Сядь, — разрешил султан. — Кого мне бояться?
— Только не революции во Франции, — торопливо заверил его Исхак-бей, — она чувствительна для наших греков или сербов, но только не для нас. Французы решили измерить глубину колодца, для чего и бросили в него своего ребенка.
— Оставь! — сказал Селим. — Разве бесплодной женщине дано знать о муках деторождения? Тебе ли, нищему с деревенского базара, судить о столичных ценах на розовое масло?
— Прости, о великий султан, — повинился Исхак-бей. — Ты меня мудро спросил — я очень глупо тебе ответил…
— Конечно, — продолжал Селим, думая о своем, — сирота вынужден сам обрезать свою пуповину. Так и французы… Но ты боишься ответить мне — кого мне бояться?
Сказать Султану, что он способен кого-то бояться, на это смелости у Исхака не хватало. Селим, не вставая с дивана, ударил его длинным чубуком, сковырнув с его головы тюрбан:
— Трус! Мне могут угрожать только ени-чери…
«Ени-чери» — так в турецком произношении звучало грозное слово «янычары». Турецкий дом был слишком громадным для турок и слишком тесен для тех, кто насильно был помещен под турецкою крышей: арабы, славяне, румыны жаждали строить свой дом. Реформы были необходимы — следовало сначала укрепить централизацию власти, чтобы кровообращением великой страны управляло одно сердце — сердце султана. Понятно, что без реформ Турция обречена, и Селим III уже давно провозгласил «низам-и-джедид», что означало «новый порядок». Однако провозгласить начало реформации легко, а как подступиться к преобразованиям в стране, если в этой стране никто перестраиваться не желал, ибо какая же лягушка скажет, что ей надоело ее любимое болото?..
— Уходи, — сказал султан Исхаку. — Не терплю трусливых.
Но, выслав трусливого, Селим остался наедине со своим страхом, который давно угнетал его. Что бы ни замышлял султан для блага Турции, его новшества всегда грозили возбуждением в янычарских казармах, а на Эйтмайдане, где раздавали мясо, янычары уже не раз переворачивали котлы — верный признак близкого мятежа… Селим сказал султанше Эсмэ:
— У нас легче всего расправиться с женами гарема — зашей любую в мешок и топи, когда стемнеет. Нельзя тронуть только янычар и стамбульских собак, которых мы, турки, считаем священными, как в Индии боготворят своих коров…
Неожиданно Селим рассмеялся. Эсмэ удивилась.
— Будь я твоим мужем, — сказал султан, — я давно бы зашил тебя в мешок, воды Босфора давно бы вынесли тебя в Эгейское море. Не притворяйся невинной! Я-то ведь знаю, что ты, женщина, завела для себя мужской гарем, который составила из музыкантов своего домашнего оркестра… Ты не боишься Кучука?
Эсмэ никого не боялась, и, пожалуй, она была единственной женщиной в мусульманской стране, которая вела себя чересчур свободно. Зато как долго хохотал Селим III, ее братец, когда узнал, что в ту же ночь, после их разговора, воды Босфора приняли тела всех музыкантов ее оркестра.
Селим свою сестру ни в чем не упрекал. Другие заботы угнетали его, и он все чаще возвращался в мыслях к янычарам. Пытаясь задобрить их, он уже не раз увеличивал порцию бесплатного мяса, велел варить похлебку жирнее, но…
— Но, — говорил султан, — сколько ни кипяти воду, она сытнее не станет. У меня, надо признать, нет армии, а есть только янычары.
Здесь (да простят мне историки!) я проведу опасную аналогию, едва намеченную пунктиром, между Петербургом и Константинополем. Если покойную русскую императрицу вполне устраивали раздоры в Европе, отвлекавшие силы недругов России на борьбу с Францией, то и Селим III тоже радовался передышке, во время которой политикам стало не до Турции, этого «больного человека», и он, султан, использовал это время для устройства «низам-и-джедида» — нового порядка.
Человек острого ума, Селим не высказывал громко своего личного отношения к французской революции, считая ее «глупостью», а если и говорил, то больше намеками:
— Кажется, эти франки роют яму, забыв сначала измерить свой рост, и примеряют могилу к росту своих соседей. Впрочем, никто не дразнит собаку, если она взбесилась. Будем мудрее и, покорные воле Аллаха, выждем ее смирения…
Селим ошибался, полагая, что Парижу стало не до него. В самый канун смерти Екатерины II на берега Босфора высадилось новое французское посольство, более похожее на боевой десант, прибывший на покорение турецкой столицы. Новый посол, генерал Жан-Батист Обер-Дюбайе, доставил в дар султану артиллерию, с ним приехали офицеры, чтобы служить инструкторами той армии султана, которую он создавал наперекор янычарам. Здесь уместно сказать, что Обер-Дюбайе никак не напоминал демагога и врунишку Декорша или скандалиста Энена, — это был волевой и знающий дело солдат французской революции.
Однако, первые же его слова, сказанные великому визирю, отражали мнение заправил якобинских клубов Парижа:
— Франция всегда готова помочь султану, чтобы он одержал решительную победу над зарвавшейся Россией…
Лучше бы он не напоминал об этом! Как раз в это время Турция терпела новое поражение — не от великой России, а от крохотной Черногории, которая никак не мирилась с турецким гнетом. Селим послал туда янычарское войско — столь большое, которого вполне хватило бы для завоевания европейской страны. Но маленький народ перебил всех, янычары бежали, а черногорцы отрубили голову Махмуду-паше, их начальнику, и она догнивала в Цетинье, насаженная на кол перед конаком Петра Негоша, черногорского владыки… Стамбульские янычары, узнав об этом, горланили:
— Дайте нам камней и мы побьем всех черногорцев!
— Дайте им… мяса, — отвечал Селим.
Он понимал, что борьба с Черной Горой невозможна, и кусок за куском отваливался от несуразного и громоздкого монолита Оттоманской империи, созданной его предками на крови и костях угнетенных народов. Селим сказал визирю:
— Нам не покорить это племя, в котором даже мальчик, впервые надев штаны, хватается за ружье. Разве можно покорить народ, живущий духом свободы, а жених в Черногории не сыщет невесты, пока не подарит ей голову янычара…
Свершилось! Черногория — первая из славян — отстояла свою независимость, и с горной кручи Цетинье она светила всем славянам маяком надежды… Помните, как писал Пушкин:
Черногорцы, что такое? —
Бонапарте вопросил. — Неужели племя злое
Не боится наших сил?..
9 ВЫДВИЖЕНИЕ
Давно ли, кажется, безвестный поручик Бонапарт заискивающе предлагал свою шпагу России, впрочем, согласный сложить ее и к ногам турецкого султана… После памятного разговора с генералом Заборовским, отвергнутый Россией, он стал в гарнизоне Баланса секретарем «клуба друзей конституции». Париж он навестил в те дни, когда народ штурмовал дворец Тюильри, и лишь одна фраза Бонапарта, сказанная им тогда, как будто уже предрекала будущее великого тирана:
— Мне хватило бы даже одной пушки, чтобы картечью сразу и навсегда разогнать эту парижскую сволочь…
Как видите, это был настоящий «друг конституции»!
Бонапарт делал свою карьеру на благо революции не ради революции, а лишь ради того, чтобы его в революции заметили. Ради этого он даже сочинил плюгавую брошюру, в которой патетически воспел заслуги якобинских вождей перед народом, за что и был обласкан в Конвенте. Когда же Тулон восстал, призвав на помощь испанцев и англичан, Наполеон был послан в числе других «освобождать» Тулон!
У нас в стране больше знают о том, как тактически грамотно велась осада Тулона, но при этом умалчивают о том, что пушки Бонапарта мало что оставили от самого Тулона, не упоминают и того, что Бонапарт велел расстрелять всех пленных, он хладнокровно казнил четыре тысячи рабочих, конфисковал в пользу Конвента имущество горожан, ограбив даже сирот, и Робеспьер, благодарный ему, не замедлил придумать для Тулона новое название — «Город возле горы» {согласитесь, какая богатая фантазия у этого человека!).
В январе 1794 года генерал Дюгомье, ходатайствуя за капитана, писал в Париж: «Смело выдвигайте этого молодого человека, ибо, если вы останетесь ему неблагодарны, то он выдвинется с а м!» — Что-то роковое чувствуется в этом признании.
Бонапарту был присвоен чин бригадного генерала!
Зная, что якобинцы не могли прокормить народ, Бонапарт развил перед Робеспьером план покорения Италии, из которой легко можно выкачать немало всякого добра. Робеспьер радостно утвердил план ограбления итальянцев (для прокормления французов). Казалось, карьера обеспечена, но тут Робеспьера отвезли на гильотину, чтобы он «чихнул в мешок», а Бонапарта — его соратника — оттащили в тюрьму форта Карре.
Будущий император, не будь дураком, сразу отрекся от принципов якобинства, судьям он говорил, что привык исполнять приказы, но ничего не ведал о тирании Робеспьера:
— Если бы я только знал об этом, — пылко защищал он себя, — я, не задумываясь, вонзил бы кинжал в сердце кровожадного злодея. Даже если бы он был моим братом…
Бонапарта выпустили из тюрьмы, разжаловав, из артиллерии перевели в пехоту генералом сверхштата. Без гроша в кармане, униженный, он был очень жалок в своем нищенском прозябании, никому больше не нужный, даже лишний. После всех кровавых ужасов якобинской диктатуры Париж веселился. Снова открылись театры, входили в моду салоны, дамы уже не прятали свои бриллианты и не стыдились обнажать грудь до самых сосков. Аристократия былых времен еще не оправилась от кошмаров казней, не в меру пугливая, а ее место в салонах уже занимала развязная, многоречивая буржуазия…
Господи, кому нужен теперь корсиканец, умевший стрелять из пушек? Молчаливый, с пожелтевшим лицом, Бонапарт выглядел («тогда я был тощим, как пергамент», — вспоминал он сам много позже) болезненно. Длинные волосы спадали на его плечи, сюртук был затаскан, он скрывал свои дурные сапоги… Забившись в угол, Бонапарт алчно взирал на красивую и вульгарную креолку Жозефину Богарнэ, вдову казненного виконта, которая веселилась чересчур вызывающе, даже не замечая вожделенных взоров корсиканца, забывшего, когда он последний раз обедал.
Париж — после крайностей якобинского террора — склонялся на сторону «умеренных», и Бонапарт, ощутив в них новую государственную силу, уже готов был служить новым хозяевам. Мира для Франции, окруженной, врагами, еще не было (а бывали лишь краткие перемирия). Бонапарт уповал на Поля Барраса, помнившего о нем со времен осады Тулона; это был человек, лишенный нравственных доблестей, и его, Барраса, даже прельщала мрачная озлобленность Бонапарта, жаждущего славы и власти. Именно он, Поль Баррас, и вернул Бонапарту славу, а заодно и наградил его Жозефиной Богарнэ.
Бонапарт обожал силу, особенно силу пушечного выстрела. Он хорошо служил революции, согласный, впрочем, так же хорошо служить и контрреволюции — какая для него разница?
Виктор Кочубей, сменивший Кутузова, предупреждал Петербург: что империя Османов уже близка к разрушению, давно оскудевшая, она неизбежно распадется, и наши внуки увидят ее жалкий огрызок, сжавшийся до предела, словно шагреневая кожа… Селим III, конечно, не мог знать, что писал русский посол, но султан и сам догадывался, что Турция на грани распада.
Султан навестил мечеть Эюпа, где имелось «окно просьб», в которое неверным запрещалось смотреть под страхом смерти, зато правоверные зацеловали решетку этого «окна» до такой степени, что она стала трухлявой. Селим тоже прижал к ней сухие воспаленные губы, взывая святого о милости, и увидел прах самого Эюпа, который еще в 670 году — какая давность! — пал при штурме византийской столицы. Селиму сделалось жутко при мысли, что турки, по сути дела, не имеют в Европе ничего своего, и даже византийский Царьград стал их столицей…
На выходе из мечети его поджидал капудан-паша.
— О чем ты просил святого Эюпа? — спросил шурин.
— Чтобы вернул Османам их былое величие…
Как? Прусский посол оповещал Берлин, что Селим III способен возродить Турцию: «По своим способностям и деловитости он стоит несомненно выше своего народа, и, кажется, именно Селиму суждено стать его преобразователем». Селим III искренно желал реформ, но он не знал, с чего начинать и чем все это закончится… Кучук-Гуссейн предупреждал:
— Низам-и-джедид может закончиться бунтом янычар!..
После многих поражений в войне с русскими Селим III понимал, что главное создать новый вид армии, далекий от устройства янычарского корпуса, и появление нового посла Франции сулило ему немало. Обер-Дюбайе привез не только пушки, но и офицеров, готовых принять мусульманскую веру, предлагал инженеров. Селим верил, что французы хотят ему добра, и в военных школах, инженерной и артиллерийской, он следовал французской системе. Даже преподавание велось французами на французском же языке.
Правда, результаты были плачевны: из двухсот курсантов училища в армию выпускали не более пяти человек. Остальные не желали говорить по-французски. Светская программа воспитания будущих офицеров «нового порядка» заключалась в частом употреблении «фалаки» — это такой шест, к которому привязывали босые ноги неуспевающего, и, задрав их повыше, лупили палками по пяткам… Янычары никогда не учились, гордые тем, что их рассудок никогда не вмещал даже арифметики.
— К чему все эти затеи? — кричали на Эйтмайдане. — Дайте нам побольше камней, и мы побьем всех гяуров…
Мало опасные для врагов Турции, янычары оставались очень опасными для турецких султанов, и потому Селим III, чтобы излишне не раздражать этих преторианцев, всюду говорил, что готовит войска по образцу европейских армий не затем, чтобы ликвидировать янычарский корпус:
— Мне нужны стрелки для дворцовой стражи…
Подалее от столицы, на румелийском берегу Босфора, в тихом местечке Левенд-чифтлик, султан выстроил казармы для своих батальонов. Явно боясь янычарского гнева, султан велел распространять слухи, будто его новые войска собраны в Левенде лишь для охраны акведуков, питающих водою столицу. Левенд-чифтлик стал военным городком — с мечетями, банями, кофейнями, лавками при своих садах и огородах. Здесь же Селим завел типографию, а Исхак-бей переводил для него труды Вобана…
Обер-Дюбайе, посол Франции, сам же командовал на парадах, и Селим III с восторгом, почти детским, наблюдал из тени шатра, как четко маршируют его батальоны «низам-и-джедида», облаченные в форму и хорошо накормленные, что обошлось турецкой казне в пять миллионов пиастров. Он говорил послу:
— Я вижу армию будущих героев Ислама… спасибо!
Правда, половина набранных солдат, пожив в казармах, разбегалась, ибо дисциплина воинская была им в тягость. Селим, чтобы не дезертировали, стал выдавать жалованье; бомбардирам, минёрам и саперным войскам он обещал раздать земли в Румелии, чтобы в будущем они стали помещиками.
Селим действовал с оглядкой на Эйтмайдан, украшенный широковещательной вывеской:
ЗДЕСЬ СУЛТАН КОРМИТ ЯНЫЧАР
— Я боюсь их перевернутых котлов, — говорил он Эсмэ. Котлы в жизни янычар имели почти мистическое значение. Их боготворили. На них молились. Котлы почитались. И вообще все то, что так или иначе было связано с насыщением желудка и вопросами пищеварения, все это казалось для янычар свято и непогрешимо. Жрать они обожали! Даже первое воинское звание в корпусе янычар называлось «яшчи», что в переводе означает «повар».
После вопросов, связанных с пищеварением в касте янычар, мне, автору, как-то даже неловко возвращаться к выдвижению Бонапарта, который всю свою жизнь справедливо утверждал: «Как бы мало ни съел человек, все равно для него это будет очень много…»
Выдвижение его задержалось, но ему помог переворот.
Наши историки пишут, что Робеспьер сделал все для торжества революции, но, к сожалению, не уничтожил частную собственность, оттого, мол, и возник кризис якобинской диктатуры. Думаю, все было несколько иначе. Люди так устали ждать своей очереди на гильотину, что на гильотину оттащили самого Робеспьера — он был умерщвлен самими же якобинцами, желавшими сохранить свои головы. Таким образом, к власти пришли те люди, частную собственность которых Робеспьер не успел национализировать. Этот период французской истории мы привыкли называть термидором. Возник новый лозунг: «Революция против тирании!»
Между тем, в Париже снова брались за оружие, чтобы штурмовать Тюильри, и «умеренным» грозила судьба якобинцев, на костях которых они весело отплясывали. Новоявленные «слуги народа» искали спасителя. Поль Баррас первым назвал имя Бонапарта, которого он с явным презрением именовал то «этот олух», то «корсиканский офицерик».
— Его сверстники-генералы, принесшие славу Франции, давно опередили его в чинах, и только Бонапарт остался в тени… Доставим же ему удобный случай, чтобы выдвинуться!
Выдвигая себя, Бонапарт выдвинул перед Тюильри пушки. Еще вчера «друг народа», сегодня он был готов ошпарить народ картечью. Если другие сомневались или сочувствовали восставшим, то Бонапарт сомнений не имел, а жалости к людям никогда не испытывал. Громом артиллерии он устроил кровавую баню: улицы мигом опустели, остались лежать только трупы… Одни Бонапарта проклинали, другие прославляли, но генерал начал отзываться о своих покровителях с пренебрежением.
— Или вы не знаете низость людей, окружающих меня? Придет день, когда мои покровители станут кланяться мне, счастливые от того, если я стану им покровительствовать…
Бонапарт стал дивизионным генералом!
Историки отметили: именно в этот период жизни почерк Бонапарта сделался неразборчивым, ибо неряшливость почерка — это признак всех великих, или мнящих себя таковыми. Но в карманах Бонапарта уже забренчало золото, и Жозефина Богарнэ удостоила его благосклонной улыбкой… Осенью 1795 года Конвент закончил свое омерзительное существование — во главе Франции утвердилась Директория, не менее омерзительная, а Баррас стал одним из директоров. Жозефина Богарнэ, бывшая его давней любовницей, уже надоела ему своими претензиями, и Баррас, чтобы разом избавиться от нее, стал уговаривать вдовицу на брак с Бонапартом. Но Жозефине совсем не хотелось менять всесильного любовника на мало привлекательного корсиканца, в будущем которого она не была уверена. Баррас настаивал на ее замужестве с Бонапартом, обещая сделать его командующим Итальянской армией:
— Подумайте! — внушал он. — Если вы не согласитесь стать генеральшей Бонапарт, вам предстоит стареть в звании вдовы Богарнэ.
Жозефина согласилась. Бонапарт срочно отбыл на юг.
Все силы Франции тогда были собраны против мощной армии Габсбургов, а Итальянская армия французов считалась самою захудалой: всего лишь 38 тысяч обнищавших голодранцев при 30 пушчонках.
Чем можно воодушевить этих усталых людей?
Бонапарт сказал им то, чего они давно ждали.
— Солдаты! — возвестил он. — Вас забывали кормить, вы почти раздеты. Вам всегда много обещали, но ничего не давали, кроме обещаний. Франция в большом долгу перед вами, и не знает, как с вами расплатиться. Ваш героизм делает вам честь, но одна только честь не приносит выгод. Вы дошли до такой степени нищеты, что оказались вынуждены продать даже свои карманные часы! Вы унижены тем, что за свершение подвигов вас награждают деревянными башмаками! Слушайте меня, солдаты… я ведь тоже солдат, и понимаю вас лучше, нежели понимали в Конвенте и в Директории. Я поведу вас в плодородные страны, где вы увидите волшебные и цветущие города, славные изобилием вина, женщин и мяса… Идите за мной, и вы обретете небывалые почести и неслыханные богатства!
Итальянская армия тронулась за ним… на Италию.
Джавахарлал Неру вынес моральный приговор этой речи Бонапарта, ставшей знаменитой: «Странная смесь революционного жаргона с обещанием грабежей и добычи!»
10 ОПАСНЫЙ СОСЕД
Дело военных историков — восторгаться тактикой маневренности Наполеона, совместным движением колонн и рассыпного строя, но мне желательно говорить совсем об ином…
Увы! Мы постыдно бедны «наполенианой»; у нас привыкли ссылаться лишь на двух почтенных авторов — Тарле или Манфред, Манфред или Тарле. При этом стараются не замечать, что эти авторы грешны затаенным «бонапартизмом», свое вольное или невольное преклонение перед Наполеоном они передавали и читателям их книг.
Между тем, «наполениана», весьма обильная, еще до революции существовала в России, и она-то как раз никогда и не стояла на коленях перед корсиканским «гением». Но мы эту литературу отвергли и забыли, у нас никогда не переиздавались книги историков прошлого, объективные и даже беспощадные по отношению к личности диктатора, повинного не только перед нами, русскими, за чудовищный 1812 год, но виновного и перед народами всей Европы!
Человечество совсем не нуждается в подобных «гениях», которые с хладнокровным расчетом уничтожают миллионы человеческих судеб, передвигая границы государств по своему усмотрению, которые грабят и насилуют народы — и едино лишь ради того, чтобы насытить свое непомерное тщеславие, способное ради личных амбиций претендовать на роль «освободителя от тирании», чтобы самим безбожно тиранствовать… Нет, не нужны нам такие герои!
Не спорю, Бонапарт нашел верные слова для возбуждения в солдатах нужных ему эмоций, заранее указывая, что Италия отдается на разграбление. Но в обращениях к самим итальянцам Бонапарт возвещал, что на знаменах его армии горят яркие символы свободы, которую он и несет итальянцам, «чтобы разорвать постыдные цепи вашего рабства… Мы воюем не против вас, а только с тиранами!» Слова, слова, слова…
Италия была сказочно богата, переполненная сокровищами былых времен, но бедность итальянцев вошла в поговорку. Итальянцы всегда хранили свое единство, хотя страна и была разобщена — только южную часть «сапога» занимало обширное королевство Неаполитанское и Сицилийское, а всё её «голенище» было раздроблено на мелкие герцогства, княжества и церковные латифундии, венцом же всей Италии сверкала на севере древняя республика — город-сказка Венеция… Вот в эту мозаику, словно собранную из осколков феодальной давности, вдруг и вторгся Бонапарт, объявляя захваченные области «братскими республиками». Итальянцы торопливо сажали «деревья свободы», вокруг которых и отплясывали, радуясь.
Наверное, этим хилым саженцам расти бы и расти, если бы солдаты армии Бонапарта, голодные и ободранные, не помнили речь своего генерала. Из освободителей итальянцев они превратились в обычных убийц, мародеров, грабителей и насильников. Бонапарт, почуяв сопротивление итальянцев, отдавал вот такие братско-республиканские приказы:
— Каждого десятого пленного расстрелять, коменданта гарнизона повесить, город поджечь с четырех сторон, но прежде отдать на разграбление моим голодранцам… Исполняйте!
Командующий армией, он не отставал от своих солдат, облагая города непомерными контрибуциями, а парижская Директория получала от него картины из музеев, реликвии церквей, редчайшие библиотеки, научные коллекции и даже наборы хирургических инструментов из клиник университетов; отныне слова «конфискация» и «контрибуция» сделались самыми ходовыми словами в Итальянской армии. Бонапарт наложил дань даже на папу римского, требуя с него 21 миллион денег монетой, не менее ста произведений живописи, полтысячи древних рукописей и даже…
Простите, даже бюст «патриота Брута»:
— Брут нужен мне для развития патриотических чувств!
Понятно, почему итальянцы, издавна угнетенные и еще вчера кричавшие «Виват Франция!», теперь отбросили вилы и взялись за ружья. Знаменитый Карл Клаузевиц писал, конечно, суховато, но я все же рискну его процитировать: «Грабежи и жестокости, широко распространенные в рядах армии французов, огромные контрибуции и поставки, наложенные на население, и революционная тенденция, угрожавшая разрушением всех установившихся отношений, возбуждали против французов почти всеобщую ненависть — как среди знатных, так и среди простых людей…»
Бонапарт отвечал пушечной картечью, массовыми расстрелами заложников. Он перебил всех жителей Луга и Бинаско, в Павии перевешал весь муниципалитет. Горе той деревне, близ которой находили мертвого француза; Бонапарт превращал ее в пепел.
Зато Директорию он завалил награбленным добром!
Но иногда допускал крамольные мысли:
— Я не верю, — говорил Бонапарт, — в эти республиканские бредни, и служу я не ради парижских принципов…
Если бы смельчаки спросили его тогда — ради чего он служит, Бонапарт, наверное, промолчал бы, ибо он служил ради своей персоны, но говорить вслух об этом было бы неприлично!
Непокоренной оставалась еще Венеция, эта дивная «жемчужина мира», досматривающая свои блаженные сны в отражении тихоструйных каналов. Но как республиканской Франции уничтожать Венецию, если она, как и Франция, тоже была республикой, а совет ее дожей — это ведь не монархия?..
Бонапарт обвинил дожей Венеции в злодейском сговоре с монархической Австрией, и на этом основании (вернее, безо всяких оснований) Венеция перестала существовать. Французские солдаты с издевательским хохотом переломали древние гербы Венецианской республики, а сама Венеция подверглась страшному разорению, будто испытала нашествие вандалов. Бонапарт мало что понимал в искусстве! Но он распорядился, чтобы с крыши собора св. Марка стащили бронзовых коней — и позже, когда он стал императором, этим коням было суждено украшать триумфальную арку Парижа, прославляя его драгоценное величество…
Австрия была уже не в силах сражаться с Францией, и в местечке Кампо-Формио Бонапарт встретился с венскими дипломатами. Ему надоели их нудные разговоры и, презирая старинный этикет, он схватил драгоценную вазу и разбил ее вдребезги:
— Ваша хваленая империя, — кричал он, наигранно беснуясь, — это старая шлюха, которая привыкла, чтобы каждый прохожий ее насиловал… я уничтожу вас, как эту вазу!
Австрийцы навсегда расстались с Бельгией, захваченной французскими войсками и принадлежавшей ранее венским Габсбургам, а генерал Бонапарт уступил им… Венецию!
Да, да, именно Венецию, но зато он оставил за собой архипелаг Ионических островов, заселенных греками и дотоле входивших в состав Венецианской республики.
Палец Бонапарта еще блуждал по карте Адриатики:
— Еще я беру вот здесь… этот берег Албании, который ранее управлялся дожами Венеции.
Европа решила понаслаждаться долгожданным миром.
И никто в ту пору еще не догадывался, что, перекраивая границы, создавая нелепые «братские республики» (вроде Цизальпинской — бывшей Ломбардии), Бонапарт закладывал прочный фундамент будущих постоянных войн в Европе, которая к тому времени уже давно имела исторические границы между государствами. Но европейцы еще не понимали, что непрерывные войны необходимы лично самому Бонапарту, чтобы — на полях грандиозных битв — утвердилось его собственное превосходство.
Французский академик Эрнест Лависс, говоря о гомерическом тщеславии Бонапарта, припомнил, что было сказано о нем знаменитым философом Ипполитом Тэном: ГЕНИЙ НА СЛУЖБЕ ЭГОИЗМА.
В самый разгар этих событий вдруг умер французский посол Обер-Дюбайе, и поверенным в делах на Босфоре стал Пьер Рюффен, который ранее был драгоманом (переводчиком) посольства, а военным он никогда не был, и по этой причине Селим III уже не мог получать добрых советов из «Пале де-Франс».
Турция безразлично восприняла поход французов в Италию, но сильно встревожилась падением Венеции и, наконец, султан панически встретил условия Кампо-Формийского мира.
— Вена верна себе, — сказал Селим III, — она не постыдилась вылизать даже то, что выплюнул генерал Бонапарт… Французы бросили в лужу камень, но грязь обрызгала не их, а меня!
Блистательная Порта пребывала в смятении…
Кажется, сбывалось предвидение Кутузова, который — умный человек! — говорил еще раньше: мир между Турцией и Францией не бывал омрачен между ними, ибо они не имели общих границ, но что станется, если они будут ближайшими соседями?..
Этот опасный сосед появился в лице генерала Бонапарта.
Венеция, владея Ионическими островами, имела с них не только изюм-коринку (без косточек), не только виноград, ликеры, оливковое масло и даже хлопок, — нет, дожи Венеции еще задолго до Бонапарта разгадали стратегическое значение Архипелага как природного плацдарма для постоянного давления на Турцию, и политический авторитет Венеции всегда преобладал над турецким. Но теперь этот плацдарм попал в руки Франции, и великий визирь вызвал к себе Рюффена:
— Еще одна глупость, — сказал он, — и вы, Рюффен, будете сидеть в Едикюле за решеткой. Только глупцы входят в мечеть раньше имама! Согласен, что наше давнее соседство с Венецией доставило нам немало огорчений, но ссоры с дожами были как звуки барабана, а Франция сразу ударила в литавры… Куда с трудом пролезали руки дожей Венеции, туда ваш глупый Бонапарт просунул свою башку… Вот мне и его величеству султану хотелось бы знать: как он вытащит ее обратно?
Рюффен, пугливо моргая, поспешил откланяться:
— О вашем недовольстве я немедленно извещу Париж.
— Извести! — гневно крикнул визирь Юсуф-паша…
В эти дни Селим III сам пожелал видеть русского посла Виктора Кочубея; если великий визирь Юсуф высказывал Рюффену только свое раздражение, то султан, будучи намного умнее своего визиря, стал рассуждать о политических осложнениях.
— Франция вдруг стала моей соседкой… не смешно ли? Этот корсиканец сразу взялся резать наши арбузы, когда мы еще не успели поделить свои орехи. Боюсь, что французы, овладев Корфу и другими островами Архипелага, станут заводить там порядки, свойственные Парижу, и это послужит дурным примером для всех моих греков, живущих под моим попечением, тем более, — говорил султан, — вы и сами знаете, что нет такого эллина, который бы не мечтал возродить прошлое величие Эллады…
Пауза. Султан ждал. Кочубей склонил голову, соглашаясь.
— Покойный посол Обер-Дюбайе, — продолжал Селим, — стал моим другом, но он и сам не знал о намерениях Бонапарта. А теперь над волнами Адриатики может повеять новым и нежелательным ветром, который, боюсь, способен порвать наши старые паруса…
Это был ветер республиканских веяний, и этот ветер Селим никак не считал попутным. Кочубей, стройный, как юноша, почтительно соглашался. Но в голове дипломата вихрем роились подозрения, о которых султан предпочитал помалкивать. Он не хотел признаться, что французская угроза нависала над Балканами, где жили славяне (сербы, хорваты, македонцы, словенцы и болгары), а теперь, издавна угнетаемые турками, они могут воспрянуть… Кочубей поразился тому, что Селим умел читать чужие мысли, и хотя Виктор Павлович молчал, но султан ответил на его безмолвный вопрос:
— Коран нас учит: «Восстание страшнее любой казни»… Мы окружены французскими шпионами, но у нас есть и свои шептуны. Через них я осведомлен, что Бонапарт задумал плести очень широкий ковер, завязывая в нем узлы сношений Франции с моими же пашами в Янине и Скутари, он имеет наглость подначивать к мятежам не только христиан, но даже эмиров Ливана…
В конце этой доверительной беседы Кочубей спросил:
— В каких выражениях вам было бы желательно видеть мой доклад, который я не замедлю составить для Санкт-Петербурга?
Селим дружески подмигнул ему:
— Пишите как вам угодно… Но прошу известить вашего императора, что еще не придумали в мире такого горшка, для которого не нашлось бы хорошей крышки… Вы поняли?
Кочубей рассмеялся: он понял. Султан сделал шаг до дверей, как бы провожая посла, — это был немыслимый для султанов акт особого уважения, и Кочубей, как дипломат, сразу оценил этот шаг султана. Селим пошел даже дальше — он придержал посла России за локоть, спрашивая, кто были его предки?
— Кочубеи произошли от татарина Кучук-бея, внук которого Василий был казнен невинным…
Селим явно хотел еще что-то сказать, что-то важное, но промолчал, и Кочубей догадался, о чем он умолчал, ибо это касалось лично его, султана. Дело в том, что гарем его оставался бесплоден, престол Османов существовал без наследника, и в это время Мехмед-Гирей, наследник крымских ханов, изгнанных из Бахчисарая, жил в Турции, выдавая себя за хана «Великой Татарии», и, как прямой потомок Чингис-хана, Мехмед-Гирей открыто заявил, что он имеет исторические права для занятия турецкого престола…
Виктор Павлович вернулся в свое посольство. Он долго сидел за столом, недвижим, будто оцепенев, потом сказал:
— Кажется, у нас предстоят перемены, и эти перемены двух кабинетов будут столь необычны, столь несвойственны всему ходу европейской истории, что до основания потрясут основы старой политики Запада и Востока…
Вечером он торопливо готовил депешу в Петербург, которую утром посольский бриг подхватит до Севастополя или Одессы. «Я даже не был бы удивлен, — сообщал Кочубей в министерство императору Павлу I, — если бы Порта захотела сблизиться с нами более тесно. Союз с турками явился бы, без сомнения, событием достаточно оригинальным в политике…»
Еще молодой человек, он умел прозревать будущее.
Что же еще хотелось бы мне сказать читателю?
Когда Бонапарт еще начинал военную кампанию в Италию, на Кавказе произошло нечто, о чем в Европе не сразу узнали.
Злобный евнух Ага-Мохаммед, уже надругавшийся над Тифлисом, в 1797 году вдруг пожелал повторить свой набег на Грузию, чтобы вторично предать эту страну пламени и бесчинствам. Вместе со своими войсками шах выступил в поход, и путь его армии был обвехован трупами, пожарами, кровью и воплями несчастных людей, которые встречались ему на пути…
Для отдыха он задержался в армянской Шуше.
Это был богатый город (близ нынешнего Степанакерта).
Именно здесь, в Шуше, Ага-Мохаммед нашел свою гибель.
Два его прислужника чем-то не могли угодить шаху.
— Готовьтесь, — сказал он им. — Завтра лишитесь голов…
Но слуги, зная нрав своего владыки, не стали ждать рассвета, когда над их шеями взметнется топор палача, — ночью они проникли в спальню Ага-Мохаммеда и зарезали его, спящего, словно барана.
На опустевший престол взошел племянник зарезанного — шах, прозванием Баба-хан, в Персии надолго утвердилась династия Каджаров, как ни странно, ведущая происхождение от евнуха, и эта династия просуществовала до 1925 года, свергнутая новой династией Пехлеви…
Тифлис не испытал новых нашествий — он был спасен!
11 МЯТЕЖНИКИ, МЕШКИ И ГОЛОВЫ
В истории Оттоманской империи бывали свои «емельки Пугачевы» — с той лишь разницей, что наши родные Емельяны, поднимая народный бунт, не надеялись стать губернаторами или придворными шталмейстерами. Зато вот турецкие бунтари, как следует пошумев, прекращали стрельбу, если от султана поступало обещание сделать их двух — или трехбунчужным пашой.
Селим III был еще ребенком, когда отец поучал его:
— Сначала я посылаю мятежнику красивый шнурок, чтоб он догадался повеситься. Если шнурок отвергнут, я шлю ему грозный фирман (указ) о том, что мятежник объявлен «фирманлы» — заслуживающим казни. Если и это не помогает, тогда надо послать бунчук — и преступник, мой враг, делается пашой, сразу начиная собирать для меня дань с жителей пашалыка…
В полдень у ворот дворца Топ-Капу спешились усталые всадники, сбросили с седел мешки (каждый «мешок» — 500 пиастров), и сказали стражам дворца, что привезли налоги, собранные в болгарском Рушуке местным пашой Тер-сенекли-оглу.
— Воды… побольше воды, — просили они.
Сброшенные наземь мешки дымились, ибо в долгом пути монеты сделались раскаленными от постоянного трения. Гонцы выплеснули на них воду из ведер, и мешки по-гадючьи шипели, медленно остывая. Но один мешок поливать не стали.
— Это от разградского аяна Мустафы Байрактара, который шлет к Порогу Счастья султана головы местных разбойников.
Бостанджи-баши (начальник дворцового караула) велел мешки с пиастрами сразу тащить в казну — для учета.
— А головы кирджали вытряхнуть во дворе Сераля, чтобы гуляющие усладились картиною справедливости нашего султана, да продлит Аллах его безмятежные дни…
Если угнетенные народы Турции стремились к самостоятельности, то и турецкие паши, посланные управлять ими, желали бы выйти из подчинения султана. Налоги с жителей они собирали исправно, даже цыганы — уж на что проворный народ! — и те не могли убежать от поборов. Но «мешки» с пиастрами не всегда разгружались в султанской казне!
Иные из пашей относились к метрополии даже враждебно, и Селим III, чтобы выбить из них налоги, посылал войска для их устрашения. Мало того, в необъятных турецких владениях никогда не затихала междоусобная война. Один паша воевал с соседним, чтобы ограбить жителей его пашалыка, война в таких случаях шла жестокая, с пушечным боем, со взятием пленных и с казнями, — все это было столь же дико и нелепо, как если бы в России губернатор Рязани напал на Тамбов, желая его разграбить, а московский генерал-губернатор пленил бы губернатора тульского…
Думая о пустой казне, Селим вспоминал поговорку нищих:
— Чашка моя давно пуста, но я целую ее в уста…
Турция была разделена на провинции, в которых хозяйничали или те, кого поставил султан, или те, кто сам себя назначил, а султану приходилось мириться с самозванцами. Напомню читателю: если паша управлял пашалыком, который можно сравнить с областью или губернией, то аяны, пашам подчиненные, властвовали в аянлыках, которые можно сравнить с русскими уездами.
Жестокая централизация власти, дабы все нити управления государством сходились во дворце Топ-Капу на Босфоре, — вот к чему стремился Селим III, из-под «Ворот Блаженства» наблюдавший, как могучая империя Османов расползается, словно дурная квашня, и в этой империи немало таких вилайетов, где его имя жители даже не поминают…
— Что слышно из Албании? — спросил он у визиря.
— Али-паша-Тепелен совсем взбесился, и в албанской Янине, сидя на груде черепов, принимал офицеров генерала Бонапарта, угощая их кофе. Али напал на Химару и вырезал там всех жителей, а тех, что укрылись в костеле, он взорвал вместе с храмом.
Разговор шел о человеке, наводнившем Албанию ужасами, но зато оставшемся памятным Европе по той причине, что его воспели Байрон и Дюма. Янинский владыка Али-паша, родом из албанской деревни Тепелена, смолоду грабил путников на дорогах. Теперь же присвоил земли в Албании, Эпире и Фессалии, у него была армия, приученная им не жрать по три дня, и много пушек, стрелявших отрубленными головами пленных. Но самое удивительное, что генерал Бонапарт, уже ставший мужем Жозефины Богарнэ, просил у янинского деспота отдать ему в жены свою дочку, а паша соглашался отдать всех.
— Бонапарт, — посмеялся Селим, — так настойчиво залезает в мусульманские пределы, что, наверное, не откажется, если мой великий шейх-уль-ислам сделает ему обрезание в мечети…
В султане говорило сильное раздражение — этот корсиканец, выгнавший из Тулона испанцев с англичанами, теперь, кажется, вознамерился потеснить на Балканах его, самого султана. Или паша из Тепелены просто издевается над ним, над султаном! Селим уже не раз слал в Янину своих палачей с фирманом, разрешающим отрубить Али-паше голову. Но Али-паша каждый раз успевал отрубить головы гостям на минуту раньше, нежели они успевали ему представиться… Селим III сказал:
— Бонапарт, залезая на Балканы, решил кататься на муравье, держа при этом на руках такого злобного крокодила, каков наш Али из Янины. Но узлы нашего ковра перепутались: аяны воюют со своими пашами, а паши не подчиняются мне, султану…
Опасения подтверждались: французские агенты Бонапарта были замечены уже на Дунае — в крепости Видина, за фортами которой засел янычар Пазван-оглу, там он собрал войско, чеканил свою монету, грабил местных жителей, от его исступленных набегов страдали Сербия и Валахия. Но даже не это смущало султана:
— Пазван-оглу, — сказал он Кочубею, заведомо уверенный, что его слова украсят первую же реляцию для Петербурга, — сделал из Видана оплот для всех, кто недоволен моими реформами, и теперь, связанный союзом с Бонапартом, он угрожает мне походом на мою столицу… Сколько у меня развелось петухов, и у каждого — своя мусорная куча!
Кочубей ответил, что слухами о военной мощи Пазван-оглу не следует утруждать величавое спокойствие души султана.
На это Селим отвечал послу со знанием дела:
— Но в Видин сбегаются не только разбойники-кирджали, к Пазван-оглу бегут и мои янычары, ненавидящие меня за создание в Левенде батальонов «низам-и-джедид»… Вы очень нравитесь моей сестре султанше Эсмэ, — неожиданно заключил Селим.
Кочубей учтиво благодарил, торопливо заведя речь о кирджали. Русский посол — по его словам — не мог понять, каковы социальные причины, заставляющие турка из Анатолии или болгарина из Румелии объединяться в единую шайку, в которой все становились равны, независимо от религии и национальности. Кирджали, жившие исключительно грабежами, золотом расшивали свои куртки, ели они на золоте, возили за собой толпы женщин (гевенди), которые седлали для мужчин коней, а после боя играли им на гитарах…
— Не следует удивляться, — сказал Селим. — Ясский мир, да будут его условия благоприятны Аллаху, оставил без дела множество людей, которым я попросту не способен выплатить жалованье за все те ужасные годы, проведенные ими на войне… Если вам, франкам, плохо живется на родине, вы уезжаете в Америку, а мои турки, если им плохо, убегают в шайки разбойников…
Кочубей не мог не почувствовать, что Селим III искренен, что он, действительно, озабочен желанием сделать жизнь страны спокойнее и благополучнее, но… как? Что может сделать султан, если даже в его же гареме главный евнух (кызлар-агаси — «начальник девушек») связан с Али-пашой Тепеленом, который шлет ему сразу тысячу мешков с пиастрами…
На пристани в Галате, выбравшись из шаткого каика, Кочубей нечаянно встретил французского посла Рюффена. Хотел было молча откланяться «коллеге», но все-таки задержался.
— Милейший Рюффен, — сказал Кочубей, — жестокосердная политика разделяет нас, но я взываю к вашим не политическим, а человеческим чувствам… Стало известно, что едва генерал Жантильи высадился на Ионических островах, как сразу же посадил в тюрьму Корфу российского консула Загурского.
— Простите, об этом я не осведомлен.
— Но вы, — не отпускал его Кочубей, — наверное, достаточно осведомлены в том, что ваш же бравый генерал Жантильи, исполняя приказ парижской Директории, запретил грекам, населяющим острова Архипелага, даже переписываться с русскими… под страхом смертной казни, и несколько норфиотов уже расстреляны!
Поль Рюффен поспешно спрыгнул в каик, крикнув:
— Извините. Спешу. Меня ждут Сладкие Воды…
Али-паша из Янины, Пазван-оглу из Видина…
Эти мятежники бунтовали против Селима, желая лишь для себя славы и обогащения, а Селим все еще надеялся на «шнурок» и «бунчук», чтобы усмирить их, но зато султан испытал настоящую тревогу, когда в Стамбул прискакал гонец из Багдада:
— Славный Буюк-паша Сулейман взывает о помощи…
Родина волшебной сказки о «Тысяче и одной ночи», Багдад был главным городом турецкой Мессопотамии (будущая страна Ирак). Настоящий восточный Вавилон — арабы, турки, сирийцы, курды, евреи, персы, армяне и даже индусы. Багдад всегда казался пустым, словно вымер. С утра до вечера, спасаясь от невыносимой жары, жители укрывались в подвалах, а к ночи вылезали на крыши, спасаясь от духоты. Багдадом управлял Буюк-паша Сулейман, бывший раб — из грузин. Реис-эфенди принял от него гонца, и тот кричал, что Багдад дрожит в страхе:
— С Неджда, из песчаных пустынь Аравии, пришли на берега святого Евфрата кочевники, от которых пышет огнем неверия и кощунства, эти проклятые бедуины дерутся, как львы, а их жены, даже не скрывая лиц под чадрою, рычат, словно голодные тигрицы, озабоченные одним — осквернить святыни Багдада, обобрать драгоценности с могилы святого шейха Гилари, и даже евреи в ужасе, ибо в Багдаде могила их знаменитого пророка Иезекииля… Что делать нам, бедным и слабым?
…Кутузов еще раньше предупреждал Петербург, что в знойном пекле Аравийских пустынь скопилась гроза, молнии которой скоро просверкают и над Босфором, и над Нилом. Михаил Илларионович докладывал, что даже в Каире стали бояться, как бы из оазисов Аравии не явился новый халиф мусульманского мира, который заставит дрожать нынешнего халифа — Селима III.
Кутузову казалось, что государственный кризис Турции совпал с кризисом мусульманской религии, а бедуинов Аравии он, ничтоже сумняшеся, даже называл «якобинцами Востока».
Селим III пребывал в печали. От аравийского шейха Вах-хаба возникло агрессивное учение «ваххабизма», а ваххабитов, которые уже ломятся в двери Багдада, не задушить дарственным шнурком, их никогда не задобрить великолепием бунчуков.
— Если этих безумцев, — сказал султан, — сразу не разгромить на берегах Евфрата, то эти сумасшедшие могут осквернить даже Мекку и Медину… Пусть гонец скачет обратно в Багдад и заверит Буюк-пашу, что отныне моя армия к его услугам…
Но турецкая армия Селима III была разбита ваххабитами и постыдно бежала. Кочевники пустынь сражались, как шайтаны, а их жены с бесстыдно открытыми лицами приветствовали вид крови на мужьях дикими воплями. Так начиналось вызревание того государства, тень от которого еще не легла на карты Востока, но которое теперь мы все знаем под именем «Саудовской Аравии».
Ваххабиты еще не раз потревожат наше воображение…
Виктор Павлович Кочубей, собираясь навестить Сладкие Воды, поправил кружевную пену жабо на груди, красуясь перед зеркалом. Николай Пизани услужливо протянул послу его шляпу.
— Конечно, — продолжал Кочубей, берясь за трость, — чего же иного можно ожидать от арабов, если каждый бедуин имеет при себе сразу два кошелька. В одном — просто деньги, а в другом — деньги, побывавшие в руках османлисов. Турок арабы считают «нечистыми», ибо с игом Османов арабы в полной мере вкусили не только тиранию, но узнали взятки, жестокости и обманы…
Кяатхане (Сладкие Воды Европы) — известное место гуляний — находилось в самой глубине Золотого Рога, здесь всегда царило оживление публики, важно гуляли арнауты-арбанцы с ятаганами за шелковыми кушаками, шлялись одетые по-европейски местные фанариоты, играли духовые оркестры, кондитеры громко нахваливали свои сладости, бегали продавцы холодной воды, подкрашенной розовым сиропом, крохотные ослики влекли по дорогам евнухов — красовались гаремные жены, кокетничавшие одними глазами, сами будучи закутаны с ног до головы в просторные белые балахоны, чтобы скрадывались очертания их фигур, — все это вдруг напомнило Кочубею столь непохожие гулянья петербуржцев на Островах невской столицы… Пизани, местный старожил и большой знаток сокровенных тайн турецкой столицы, вдруг зашептал:
— Уходите отсюда поскорее, прошу вас.
— В чем причина внезапного испуга? — удивился Кочубей.
— Разве вы сами не видите, что издали за вами уже давно следит эта страшная женщина… султанша Эсмэ. Уходите!
— Не понимаю, почему я должен ее бояться?
— Все расскажу в карете по дороге в посольство… — Что рассказал Пизани, об этом нетрудно догадаться.
В одной из французских книг, вчитываясь в описание Сладких Вод, я нашел фразу: «Султанша приезжала на это гульбище, и каждое приближение ее к мужчинам уподоблялось появлению хищного ястреба в стае мелких птиц». Пизани поведал, что однажды советник прусского посольства, молодой человек, уже приглашенный Эсмэ на свидание, в ту же ночь сел на корабль и отплыл на родину.
— Он поступил очень правильно, — рассказывал Пизани, — ибо редко какой мужчина возвращается живым из объятий султанши. Ей все дозволено! Если же мужчина не согласится на свидание, Эсмэ жестоко преследует его, и не успокоится до тех пор, пока его труп не вынесет волнами в Дарданеллы или к берегам Тавриды.
По дороге в посольство Кочубей долго молчал, вздыхая печально, потом непонятно к чему вспомнил русскую пословицу: «Ну, что ж! В каждой избушке свои игрушки».
— Кончится все анекдотом, — вдруг произнес Пизани.
— Так расскажите, — оживился посол, оглядывая в окнах кареты длинное строение турецкого арсенала. — Я не откажусь от минутного веселья, ибо на сердце у меня скребут кошки.
— Анекдот же таков, — мрачно сообщил Пизани. — Когда-нибудь лев сожрет мужа этой красавицы — капудан-пашу Кучук-Гуссейна, а Эсмэ станет самой богатой вдовой Турции, и тогда…
Коляску русского посла сильно встряхнуло на дорожном ухабе — от арсеналов Терсане лошади завернули в кварталы Пера.
В посольстве Кочубей разоблачался, чтобы побыть в халате. Он был еще молод, и потому ему хотелось продолжить разговор о женщинах, об их тусклой жизни в этой стране.
— Странная жизнь! — рассуждал он между делом. — Дикая и мало понятная. Тысячи молодых женщин умирают от тоски взаперти гаремов, выглядывая на улицу через узкие щели оконных жалюзи, иногда и умирают старухами, оставаясь девственны, а эта горбоносая Эсмэ вполне свободно охотится за мужчинами…
— Это еще не все, — досказал Пизани. — После первой бурной ночи она топит мужчин в Босфоре или утром их подвергают известной всем операции, чтобы Эсмэ осталась их последней женщиной в этом мире…
Эсмэ, презирая слишком крохотного мужа, любившего только льва (и спавшего с ним в обнимку), часто охотилась за молодыми и красивыми иностранцами. Но она еще не ведала, что всемогущий Аллах уже начертал ее судьбу на своих огненных скрижалях и ей, султанше, первой женщине в Оттоманской империи, еще предстоит ползать в ногах у того грубого и беспощадного янычара из болгарского Разграда, который совсем недавно прислал в подарок ее брату-султану целый мешок отрубленных им голов.
Будем считать, что фрагменты этой главы впоследствии сольются воедино с главной темой моего повествования.
12 «ГРУША ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛА»
Император Павел I, вступив на престол, разослал русским послам в Европе особый циркуляр — для исполнения. В нем он высказал осуждение прежней материнской политики, доставшейся ему в наследство, его циркуляр был по сути дела ярким выражением нового курса политики русского кабинета.
Вчитайтесь сами: «Россия, будучи в беспрерывной войне с 1756 года, есть потому единственная в мире держава, которая находилась сорок лет в несчастном положении, истощая свое народонаселение. Человеколюбивое сердце Императора Павла не могло отказать любезным Его подданным в пренужном и желаемом ими отдохновении». При этом Павел I заверял союзников, что, прекращая всякие войны, он не перестанет «противиться французской Республике, угрожающей всей Европе совершенным истреблением закона, прав, имущества и благонравия».
Павел I отменил рекрутский набор, отозвал из морей свои эскадры. Однако, нейтралитет России соблюдался недолго.
— Меня, — стал поговаривать император, — беспокоит даже не сама республика, а некий Бонапарт, который в необузданной ретивости начинает действовать и рассуждать перед Европой от имени Директории, сиречь от имени всех французов…
Коалиция стран Европы распадалась, усталая от долгих и бесполезных войн против Франции, французы, торжествуя, всюду утверждали свои победы, передвигая границы государств, словно это были обветшалые деревенские заборы. Пожалуй, одна только Англия оставалась возмущена упрямством Франции, и в парламенте Питт недоумевал, почему эти паршивые республиканцы не желают жить и думать по тем рецептам, которые прописывает им мудрейший и респектабельный Лондон.
Кстати, Франция, доказав свою жизнестойкость и силу своих армий, начинала приобретать признание в мире, и потому упрямой Англии грозило политическое одиночество, а никакие оздоровительные «рецепты» благоразумия Питта не помогали… Тут я вынужден провозгласить старую банальную истину: «владычица морей» всегда по праву гордилась своим флотом!
Это мы все знаем, зато мы не знаем, в каких условиях жили матросы британского флота. Корабли англичан — это тюрьмы, только, в отличие от тюрем, они иногда еще и тонули. Матросы из арестантов говорили, что в тюрьмах жить легче и не качает. Дезертирство было повальное! По этой причине матросов с кораблей не выпускали «на травку». Овощей и фруктов они не видели годами, мясо считалось лакомством, и жестокая цинга валила с ног самых крепких. Пополняли экипажи кораблей через полицию, которая хватала всех подряд, кто оказался под рукой, — нищих, воришек, уголовников, бездомных… Теперь, читатель, понятно, почему весной 1797 года флот английской метрополии поднял восстание!
Как раз в это время у берегов Англии задержалась русская эскадра адмирала Михаила Кондратьевича Макарова, плывущая до родного Кронштадта. Случилось то, о чем в истории британского флота предпочитают умалчивать: лорд Гренвиль со слезами на глазах готов был валяться в ногах у русского посла Воронцова:
— Спасите! — взывал первый лорд казначейства. — У нас остались лишь два корабля, которые непричастны к бунту… два! Флота не стало, нас все в Европе покинули, так не оставьте нас хотя бы вы, русские…
Восстание охватило все гавани Англии, которой как раз в это время угрожало нападение кораблей Франции и Голландии, вход в устье Темзы оставался открытым, Лондон засыпал в тревоге…
— Спасите! — взывал лорд Гренвиль.
Воронцов указал адмиралу Макарову, чтобы его эскадра сторожила проход в Темзу, вскоре всех зачинщиков бунта на кораблях перевешали на реях — и Англия была спасена.
Английский король Георг III пылко благодарил императора Павла I «за спасение Англии в момент величайшей для нее опасности», но о том, что русский флот оградил «владычицу морей» от возможного нападения, об этом англичане вспоминать не любили.
Но этот эпизод стал поводом для англо-русского сближения.
Павел I к тому времени уже «возложил» на себя весомые знаки гроссмейстера Мальтийского ордена, в его столице появились даже географические календари, в которых Ла-Валетта была обозначена русским городом. По этой причине, невольно проникаясь проблемами Средиземного моря, император чересчур обостренно воспринял оккупацию французами бывших венецианских владений, и он был вне себя от гнева, когда узнал, что на острове Занте французы арестовали российского консула Загурского.
— Хотя моя покойная матушка и утверждала, что «с идеями пушками не борятся», я противоположного мнения, — сказал император Павел. — Иногда одно хорошее ядро, залетевшее в рот какому-нибудь оратору, решает вопрос быстро и просто, нежели бы мы на каждую идею стали выдумывать свои идеи.
Павел I еще не мог знать, что Мальта, которой он так гордился и которую он осмелился называть «русским городом», эта Мальта уже обречена: генерал Бонапарт включил этот остров в орбиту своих стремительных завоеваний.
Так часто бывает в жизни, и не только в России: пока нужен был человек, его имя у всех на устах, его славословят и внимают ему с открытым ртом, готовые мазать его медом, но коли надобность в человеке отпала, он делается ненужным и тогда бывшего «героя дня» мажут не медом, а дегтем.
Нечто подобное случилось и с Бонапартом. Во время итальянского похода, пока он брал город за городом, ублажая Директорию богатыми подношениями, его сравнивали с Александром Великим, в его профиле угадывали черты Цезаря, а потом — после мира в Кампо-Формио, где он так удачно раскокал драгоценный сервиз, — Бонапарт сделался лишним, даже мешающим. Обаяние прошлых викторий померкло, а Директория, зная о непомерных амбициях генерала, даже побаивалась Бонапарта, желая от него избавиться.
Во время Медичи и Борджиа таких вопросов, куда деть этого человека, не возникало: в честь героя устроили бы хороший пир, лучшая красавица поднесла бы ему кубок вина, а на следующий день можно было поплакать: «Ах, кто нам вернет его? Ему бы еще жить и жить ради громких триумфов…» Бонапарт чувствовал, что его время уходит, Франция тоже к нему не расположена, а в Париже еще не забыли, как он расправился с народом картечью. Директория поручила ему готовить армию для покорения Англии, но, кажется, директоры и сами понимали, что подобная операция несбыточна, а неудача с десантом на берега Англии сразу погубит былую славу генерала.
Бонапарт считал, что Англию выгоднее бить не в Англии, а на задворках Европы, чтобы Питт в Лондоне скорчился от ужаса, если станут угрожать его колониям в Индии. Между тем, отношения Бонапарта с Директорией обострялись, и надо было что-то решать. Чтобы снова привлечь к себе ускользающее внимание общества, Бонапарт прибег к крайности — он свысока, приняв позу оскорбленного человека, стал угрожать Директории отставкой.
— Так в чем дело и к чему нам спорить? — отвечали ему в Директории, сразу протягивая перо и бумагу. — Садитесь и пишите просьбу об отставке, и мы охотно с вами расстанемся…
Бонапарт понял, что переиграл, и он, взбешенный, удалился прочь, говоря себе в ярости:
— Моя груша еще не созрела…
Друзья (и даже Баррас) советовали Бонапарту вообще удалиться из Франции, где все бархатные кресла уже заняты, и ему приходится жаться по углам, лишь поглядывая на собрание «великих». Было ясно, что Директория желает от него избавиться, пусть этот корсиканец провалится хоть куда, лишь бы он больше не путался у нас под ногами, и чем далее от Парижа он окажется, тем спокойнее будет для них, вершителей судеб Парижа. Все стало ясно.
Итак, самое главное уже решено…
…Константинополь пробуждался, а воды Босфора порозовели в лучах восходящего солнца. Виктор Павлович Кочубей рывком сбросил с себя одеяло, рука дернулась, отыскивая пистолет.
— Кто здесь? — выкрикнул он, заслышав шорох.
— Не пугайтесь, — послышался голос Пизани. — Это всего лишь я, ваш покорный слуга. Извините великодушно за то, что потревожил ваш утренний сон. Имею важное известие.
— Я слушаю вас, Николай Антонович.
Пизани выгнул плечи, развел руками.
— Не знаю, что и думать, — сказал он. — Сераль и Диван в тревоге, ибо во французском Тулоне идут какие-то странные и торопливые сборы в дальнее плавание. Появилось много солдат, отбирают опытных матросов. Пока нам можно лишь недоумевать ради чего все это и в какую сторону намерена следовать эскадра Франции?
— Не уверен, что в Англию, — отвечал Кочубей, — скорее, они двинутся на Восток, ибо наследство Венеции уже поделили, а Турция и Порта в таком отчаянном положении, что уже не способна отстоять своих обширных владений… В любом случае, — решил посол, — о тулонской эскадре надобно сразу известить Петербург…
Впрочем, в русской столице были уже достаточно извещены о загадочных сборах в Тулоне, знали о них и в других странах, всюду недоумевали — куда проложит курс французская эскадра? Неаполитанский посол при русском дворе славный дюк Серра-Каприолла был искренне убежден, что Бонапарт замышляет что-то дурное против его королевства.
— Конечно, — доказывал он, — у нас на Сицилии полно всякой сволочи, и Бонапарт надеется найти с нею общий язык, чтобы совместными усилиями выживать нас из Неаполя…
Лоренцо Литта, нунций папы Римского при русском дворе, связанный с иоаннитами Мальты, доказывал совсем иное:
— Ах, зачем французам возиться с вашими разбойниками, если у них и своих хватает? Ясно, что Бонапарт желает захватить Мальту, этот древнейший оплот христианства, давно противостоящий людскому неверию, отчего рыцари Мальтийского ордена и вызывают бешеную ненависть всех якобинцев…
Павел I, как гроссмейстер Мальтийского ордена, был обеспокоен подобным мнением нунция. Но большинство политиков считало, что эскадра в Тулоне готовится для желанного нападения на Англию, и английский посол лорд Уитворт утешал императора:
— Мы предусмотрительны. Наша эскадра адмирала Нельсона стережет тулонскую у Кадикса, дабы не пропустить ее через Гибралтар. Правда, на этой эскадре тоже возникли волнения матросов, но вы не волнуйтесь: наши адмиралы умеют вешать бунтовщиков даже по воскресеньям, если забыли повесить в субботу…
Уитворт притворялся, будто в Англии даже кошка не шевельнулась. На самом же деле английские помещики-сквайры, проживавшие на побережье, поспешно покидали свои имения, отъезжая с пожитками и семьями в глубину королевства. Если бы наблюдатели и шпионы оказались более проницательны, они бы заметили, что Англии ничего не угрожает, ибо Бонапарт в Тулоне сажал на свои корабли археологов, математиков, художников и геологов, — спрашивается, на кой черт они все сдались, если бы Франция затевала десант на берега Англии?
Совершенно иначе (и где-то даже близко к истине) думал император Павел, говоривший Растопчину, близким, что экспедиция Бонапарта угрожает самой России, французы вознамерились проникнуть в Черное море, чтобы захватить Крым:
— В этом случае, — убежденно говорил Павел, — Турция, благодарная французам за то, что они вернули им свою таврическую латифундию, несомненно сочтет своим долгом начать новую войну против нас на Дунае… вот о чем мечтают в Париже!
Сделав такой вывод, император предписал адмиралу Ушакову начать крейсирование севастопольской эскадры — вплоть до Одессы, и при встрече с французской эскадрой сразу вступить в сражение и беспощадно уничтожить все корабли бонапартовского сборища. Одновременно с этим две русские эскадры (Архангельская и Балтийская) начали крейсерство возле северных берегов Франции…
Был уже май 1798 года, когда в Константинополь прибыл новый русский посол, которому Кочубей и сдал посольские дела.
— Вы, — сказал ему Кочубей, — прибыли как раз в такое время, когда огонь в нашем очаге пылает, а все наши кастрюли кипят единым разом, и вам, повару, предстоит волноваться…
Новый посол — Василий Степанович Тамара — воспитанник украинского философа Григория Сковороды, был хорошим знатоком Востока и всех потаенных пружин, которые двигали сокрытую от непосвященных политику восточных сатрапий. Тамара был уже в солидных летах, Виктор Кочубей казался ему «мальчишкой».
— Не забывайте подбрасывать дров, — смеялся Кочубей.
— Горячее не всегда есть самое вкусное, — отвечал Тамара, — иногда и остудить надобно, чтобы желудок не испортить…
Черноморский флот распускал паруса.
В конце этой главы — под видом пикантного десерта — я сразу разоблачу давнишние планы Бонапарта, которые с большой охотой поддерживал хитроумный Талейран, который еще много-много лет будет толкать Наполеона к новым завоеваниям, и в самом конце их содружества толкнет его так, что тот свалится…
Когда был Бонапарт республиканцем и когда он перестал им притворяться — об этом, мне кажется, гадать не стоит. Уверен, что, раздирая Италию и грабя Венецию, он уже тогда меньше всего думал об освобождении народов от ига монархий, занятый вопросами чисто экономической выгоды, более беспокоясь о стратегической ценности покоренных земель — на будущее.
Между Бонапартом и Талейраном шла оживленная переписка.
«Ионические острова, — утверждал Бонапарт, — представляют для нас гораздо большую ценность, нежели вся Италия. Я полагаю, что, если бы нам пришлось выбирать, то лучше было бы отдать императору (то есть Австрии) всю Италию, но сохранить эти острова».
Талейран соглашался с Бонапартом, отвечая ему: «Для нас нет задачи важнее, как встать твердой ногою в Албании, в Греции, в Македонии и т. д.»
Знай об этом турецкий султан Селим III, он бы крепко задумался над этим очень многозначительным «и т. д.»
Наконец, для нас важно признание Бонапарта, сделанное еще в августе 1797 года в канун подготовки Тулонской эскадры.
«Для того, чтобы разгромить Англию, — писал он, — прежде необходимо овладеть Египтом», а попутно, идя на Египет, стоит заглянуть и на Мальту, чтобы удивить тамошних рыцарей…
…До конца XVIII столетия оставалось жить всего два года.
13 ДЛЯ КОГО ПЛЯШУТ ДЕРВИШИ
Янычары давали концерт в деревне Скутари!..
Старый «ашчи» (повар) в шапке из войлока вдруг ударил колотушкой в большой барабан-дауль, а его помощник, потерявший глаз при штурме Очакова, свирепо встряхивал бубен. Молодые ученики, искренно радуясь скорому обеду, стегали ивовыми прутьями в малые барабанчики, словно наказывая кого-то, в руках янычар ладно и громогласно звучали медные тарелки. При этом суровый «ашчи» иногда встряхивал мохнатый бунчук, унизанный нежно-поющими колокольчиками… Над музыкантами высились терпентиновые кипарисы, их тягучая смола, стекая вдоль дерев желтыми струями, дурила головы острым и чувственным благовонием. А из плюшевой зелени ажурных киосков взирали на янычар гуляющие «одалыки», жеманно укрывая свои лица прозрачными косынками яшмаков…
— Велик Аллах! — возвестил «ашчи» и концерт закончился. — Мир вам всем, правоверные, а мы спешим на Эйтмайдан, ибо как раз пришло время делить на всех султанское мясо.
Ах, это блаженное Скутари, воспетое поэтами!
Именно здесь, в Скутари, размещалась община, грозная община «вертящихся дервишей», которых иногда называли «воющими». Это был монашеский орден, вроде замкнутой касты избранных, которые в кружении танца видели какой-то особый мистический смысл. Иногда этих дервишей называли просто «бекташами» — по имени основателя ордена Хаджи-Бекташа, жившего еще в XIV столетии[3]. Орден появился в городе Конья, еще задолго до падения Византии, а когда Константинополь стал столицей Османов, они перебрались на берега Босфора — в Скутари…
В непонятном для нас экстазе, часами раскручиваясь, как заводные волчки, бекташи чем-то напоминали русских хлыстов, доводивших себя пляскою до полного изнурения, до приступов массовой истерии. Колоколами раздувались на бекташах белые широкие юбки — джалуны; высокие колпаки на головах означали могильные надгробия мусульман, а коричневые пелерины служили для них как бы символами кладбищенских гробниц. Кто бы ни смотрел на них, пляшущих и воющих, у всех безумно кружились головы, и только бекташи оставались невозмутимы, никогда не падали, ни разу не потеряв равновесия в своих бесподобных вращениях вокруг незримой оси. В танцах они описывали странные круги, и непосвященным они казались бессмысленны, но бекташи знали, что их танец повторяет движение планет и звезд по космическим законам — вокруг нашего солнца…
И даже не в Скутари, а еще в древней Конье дервиши основали янычарское войско, после чего навсегда остались традиционными патронами этого войска, самого страшного в мире. Они освятили громадные котлы янычар, придав этой посуде свое мистическое обожествление. Бекташи отрывали свои рукава, возлагая их на головы первых янычар, и это подобие чалмы стало для янычар традиционным ритуалом…
Бекташи причащали янычар вином, хлебом и сыром.
Но главное все-таки — котел, в котором бурлила пища.
Янычарские оркестры оглушали весь мир.
Пляшущие дервиши выкрикивали строчки из Корана…
Я бы, наверное, и не писал об янычарах, если бы все наши читатели знали о них, а знать, мне думается, все-таки надо об этих странных и страшных людях, которые — по словам Карла Маркса превратились в «моровую язву государства» (турецкого).
Созданные на страх врагам, янычары сразу сделались вроде преторианской гвардии султанов, они являлись главным ядром их регулярных армий. Поначалу янычарский корпус формировался целиком из… христиан. Это были дети русских, украинцев, греков, болгар или поляков, похищенные у родителей во время набегов или просто купленные на базарах. Их, детей, от колыбели обращали в исламскую веру, сразу воспитывая в них мусульманский фанатизм, обучали владеть оружием, выносить любую боль, им платили высокое жалованье.
Но зато янычарам нельзя было жениться, им запрещалось унижать себя торговлей. Это был орден — военно-монашеский, подобные ордена можно найти и в истории западных государств (вспомним хотя бы крестоносцев или меченосцев, мальтийских рыцарей, а знаменитая опричнина Ивана Грозного во многом копировала организацию янычарского корпуса). Никаких родственных связей янычары не имели, чтобы полнее отдаваться лишь военному служению.
В те давние времена, когда Восток вторгался в пределы Запада, янычары были незаменимы, как отличные воины, и даже христианские писатели отзывались о них с восхищением. Вот что было сказано в анонимном трактате XVI века: «Идущий на войну турок оставляет свои пороки дома, а христианин берет их с собой. В лагере янычар нет никаких наслаждений, только оружие и провиант, в христианском же войске — чревоугодие и сладострастие, в нем больше непотребных женщин, нежели воинов. Мадьяр разбойничает, испанец ворует, немец пьянствует (с утра уже пьян), итальянец предается сладострастию, француз поет или бахвалится, англичанин обжирается, шотландец дрыхнет, поляк хвастает, чех буйствует», — где им всем сравниться с янычарами?..
Но времена менялись, менялись нравы, изменились и сами янычары. Где-то в середине XVII века янычарам разрешили заводить семьи, после чего корпус стали пополнять уже не христианами, а детьми самих янычар. Образовалась некая военная каста (вроде московских стрельцов), которая становилась элитой турецкого общества. Но, разрешив янычарам жениться, султаны позволили им добывать жалованье своими силами.
Учиться воевать и служить стало некогда! Янычары редко навещали свои казармы, на учения их было не дозваться. Они полюбили нежиться в лавках, продавая табак или сладости, содержали кофейни, владели банями и публичными домами (таковые были в Стамбуле), жили поборами с лодочников или кондитеров, навязывая себя в «охранники» богачам, которых принуждали платить им налог, — иначе говоря, занимались современным рэкетирством. Иногда янычары показывали на улицах ученых обезьян, куривших трубку, или же сами танцевали на канате, жонглируя. Скоро из отборных войск янычары превратились в плохо управляемую вольницу, вечно недовольную, готовую опрокинуть свои котлы — в знак того, что похлебка невкусная, а султан плохо их кормит…
Из опоры султанов они превратились в угрозу султанам!
Янычары, посидев в банях или кофейнях, устроив своих сыновей и внуков, полюбили халаты и домашние шлепанцы, ожирели и обрюхатели. Такие они уже не были страшны врагам Турции, дисциплинированным, хорошо владевшим новейшим оружием, знающим секрет маневра, — янычары, ходившие толпой, орущие после употребления гашиша, они стали ужасны для своих «ага» (начальников) и — особенно для султанов!
История Оттоманской Порты пестрит янычарскими бунтами, когда они свергали не только визирей, но душили и травили султанов, проделывая такие престольные рокировки и династии Османов, что Европа диву давалась… Хочешь жить — плати! И каждый султан, восходя на престол, первым делом слал подарки янычарам — это был тронный «джюлюс бакшиш», то есть платил им дань, чтобы ублажить их. Вся турецкая армия сидела на бобах и траве, но янычарский корпус исправно получал жалованье. Бывали случаи задержки с выплатой, когда казна пустовала, но тогда султан срочно отправлял на Монетный двор свои золотые сервизы, чтобы начеканили пиастров побольше, или, если сервиза ему было жалко, он заживо отдавал янычарам великого визиря, головой которого потом приходили любоваться в садах Сераля…
Минувшая война с русскими показала, что янычары к войне не способны. Турецкий генерал Челеби-Эфенди писал Селиму III: «Хотя у нас было больше 200 000 человек, но всего лишь 8 000 русских солдат, преодолев Дунай, нанесли нашей армии решительное поражение». Янычары, подверженные паникерству, первыми удирали с фронта, и это была, действительно, толпа, в которой «если бы отец задумал отыскать своего родного сына, он его в толпе янычар никогда не нашел бы…»
Зато янычары были большими хвастунами. Убежав с фронта в столицу, они ходили по улице, обвешанные трофеями, один с важным видом нес перед собой зеркало, другой тащил на плечах кресло, а третий таскал за собой корову.
Вот обо всем этом султан Селим III и говорил шурину:
— Мой «низам-и-джедид» растет в казармах Левенда, а на Эйтмайдане еще орут эти бездельники под вывеской «Здесь султан кормит янычар…» Когда им отрубают кусок баранины, они щупают его — где кости, сколько жил, а где же мясо? Янычары разучились даже стрелять.
— Да, — соглашался Кучук-Гуссейн, — я сам видел, как один ени-чери затолкал в ружье пулю, сверху засыпал в дуло порох и потом удивлялся, почему ружье не выстрелило… Наконец, их офицеры просят жалованье на сто тысяч голов, а в казармах едва насчитаешь триста человек, да и то половина из них — это водоносы, цирюльники, конюхи или офицерские лакеи. Янычары хороши только для бунтов и грабежей!
— Моему терпению приходит конец, — решительно заявил Селим. — С янычарским корпусом пора кончать…
Он уже не раз собирался упразднить янычар, но тронуть их боялся, ибо знал, чем это может кончиться для него. Кутузов тоже знал истинное положение дел на Босфоре, и посол даже жалел Селима III, которого старое наследство «пляшущих дервишей» вязало по рукам и по ногам, делая из султана беспомощную куклу. Кутузов еще раньше предупреждал Екатерину Великую: «По поводу вводимых здесь в войсках новых учреждений начинают все благоразумные в успехе сомневаться. Принялись было сначала за оные весьма ревностно, но горячесть сия ныне умаляется… однако ж не малый ропот в старом корпусе янычар, из которых еще ни один в новые войски не записался, несмотря на все прельщения, от Порты им делаемые».
Войска «низам-и-джедида» бесполезно маршировали.
А столицу (и султана!) контролировали янычары…
Но вдали от Стамбула тоже встречались янычары!
Теперь глянем в лицо нашего жестокого друга…
Янычары бывали и в провинции, ими наполнена была не только Анатолия, но и Румелия, где жизнь была проще и намного страшнее, чем в столице, где для них играли оркестры, а янычар созывали на Эйтмайдан за получением куска мяса.
Разград — так называли этот город болгары, Хезарград звучало в устах турок. В ту пору этот чистенький городишко населяли турки, греки, армяне, евреи и болгары, конечно. Разград лежал на торговом тракте, пролегавшем от Босфора до Бухареста, связывая Константинополь с Дунайскими провинциями, из которых вывозили провизию для насыщения турецкой столицы. Город был невелик, весь в виноградных кущах, а на заборах вывешивались домотканые ковры. Разград ничем не выделялся из множества городов турецкой Румелии, но зато славился башенными часами, на которые приезжали глядеть крестьяне. У часов была своя история. Один местный житель, тоже янычар, в минувшую войну попал в плен к русским, проживал у них в Угличе, и так привык к благовесту тамошних храмов, что из русского плена вывез эти часы с мелодичным боем, которые и звонили по утрам янычару, напоминая ему о прелестях русского плена…
Я на этом бы и закончил, если бы не лицо жестокого друга!
Управлял Разградом янычар и сын янычара Мустафа, тоже участник последней войны с русскими на Дунае. Мустафа родился в 1765 году, был еще молод, умен, писать и читать не умел, любил выпить и закусить, имел приплод от обширного гарема, а прозвище у него было примечательное Байрактар, что означало «знаменосец». По турецкому обычаю прозвище заменяло ему фамилию, ибо в Турции фамилий у людей не было.
Мустафа Байрактар занимал пост аяна в Разграде, то есть был его управляющим; «аян» по арабски означает «глаз», что указывало на его род занятий — следить за порядком, надзирать за нравственностью жителей, чтобы не возникало смут, воровства и скандалов. Соответственно, Разградский уезд назывался «аянлыком», подчиненный паше Рущка, что был главным городом Рущкского пашалыка (то есть области). В окрестностях Разграда было много деревень, в которых жили и турки, и болгары. В болгарских путника встречали хлебом, говядиной и вареной тыквой. У турок же впускать путника в дом было не принято. «Если кто вздумает заехать в их дом, то их с угрозами выгоняют вон, спускают на них собак и даже часто по ним стреляют». Так они поступали не только с франками, но даже со своими единоверцами, турками или татарами, которых немало бродило по дорогам, где воруя, где грабя…
Спешу сказать, что Мустафа Байрактар, хотя и был янычаром, но зверем никогда не был. Напротив, жители Разграда относились к нему хорошо, ибо Байрактар — человек большого мужества! — храбро охранял свой аянлык от набегов разбойников, он своими руками отрубал им головы, которые и отсылал к султанскому Порогу Счастья, чтобы султан Селим знал об его усердии. С корпусом же янычар Мустафа связи прежние растерял, но при случае всегда мог предъявить «эсаме» — военный билет, в котором были перечислены все его подвиги.
Байрактар был человеком честным не воровал, взяток не брал, а жил с того, что ведал большим хозяйством, которое досталось ему от покойного отца в наследство. Он содержал большой скотный двор и конюшни, приторговывая быками и скакунами. Имел самый большой в Разграде свиной завод — тоже для продажи на ярмарках. Мусульмане, как известно, свинины не ели, но при этом были заинтересованы, чтобы «райя» (христианское быдло) кормилось только свининой, не покушаясь на баранину, столь излюбленную магометанами. При этом турки — и Байрактар иже с ними — не гнушались сами выращивать свиней, продавая их христианам.
Вечерами, когда с огородов хорошо пахло укропом, Байрактар выходил на окраину своего Разграда, долго всматривался в сиреневые дали, за которыми лежал далекий и малодоступный ему, провинциалу, сказочный Стамбул-Константинополь.
Не знал он тогда, что минуют годы и он станет полновластным владыкой турецкой столицы. Байрактар и того не ведал, что прекрасная султанша Эсмэ скоро станет «звездою» его гарема…
И, широко зевнув, янычар отправлялся спать.
Часть вторая ПИРАМИДЫ
Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительна гениальность Наполеона в Египте, где сорок веков смотрели на его величие, потому что все эти великие подвиги описаны нам только французами.
Л. Н. Толстой. «Война и мир»В революционные времена способностью считается только дерзость, величием — только крайности.
Талейран. «Мемуары»ПРЕЛЮДИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ
Начало XX века — время, читатель, нам близкое… Думаю, что лучше назвать дату точнее 1915 год? когда бушевала Первая мировая война. Мы знаем французский Верден и русский Осовец, мы читали о гибели армии Самсонова и Брусиловском прорыве, война охватила множество стран, но… Был еще один фронт, о котором у нас писать не принято. Не потому что запрещено, а, скорее, по той веской причине, что этот фронт был очень далек от нас и результаты его сражений учитывались политиками в кабинетах лондонского Уайтхолла, зато они мало тревожили стратегов царственного Петербурга.
С чего же начать, чтобы читателю все было ясно?
Глянем на карту. Вот она, знаменитая Синайская пустыня, за которой лежит цветущая Палестина с библейским Иерусалимом. Так вот, в 1915 году в пекле этой пустыни разыгралась битва: турецкие войска с немцами и австрийцами рвались к Суэцкому каналу, чтобы, захватив Каир, поднять в Африке знамя «джихада» — священной войны мусульман с неверными. Однажды под покровом песчаной бури они едва не форсировали канал, но были отброшены англичанами до Газы, и тогда же в Синайской пустыне возник новый фронт…
В это время жалкий, полуразрушенный форт с английским гарнизоном оказался блокирован турками. Защитники форта, лишенные подвоза воды, изнывали от жажды, а выйти из форта опасались, ибо не ведали караванных путей, как не знали и расположения в пустыне древних бедуинских колодцев. Боеприпасы кончались, и гарнизон уже приучал себя к мысли о скорой капитуляции. Среди офицеров был и некий капитан Кейсл, предки которого вышли из Франции, и однажды, страдая от голода и жажды, он приставил дуло револьвера к своему виску:
— Может, лучше вот так? — спросил он, мучительно улыбнувшись. — Мне страшнее, нежели всем вам, господа…
— Почему же? — спросили его офицеры.
— Я страдаю при мысли, что именно в этих краях, будь они трижды прокляты, вот так же, как я, погибал мой прадед — тоже капитан Кейсл…
— Не выдумывайте! Как он сюда попал?
— Мой прадед, капитан Кейсл, вместе с молодым еще генералом Наполеоном Бонапартом, шел из Египта завоевывать Сирию… как и мы с вами, господа! История, как видите, повторяется.
— Он погиб?
— Да. Можно представить их муки, схожие с нашими, когда день за днем, оставленные в пустыне, они ждали гонца с эстафетой от Бонапарта, который обещал известить их о колодцах и путях отхода к Каиру, но гонца все не было…
Именно в этот момент от ворот форта послышался странный шум, выкрики часовых, возникла какая-то суета.
— В чем там дело? Или прибыл гонец?
От ворот форта отвечали караульные:
— Тут явился престарелый шейх бедуинов и говорит, что должен передать письмо капитану Кейслу.
— От кого мне ждать писем в этом пекле?
— Шейх говорит, что имеет письмо от генерала Бонапарта.
— Так он сумасшедший! Гоните его обратно.
— Да нет, старик рассуждает вполне здраво.
— Так пропустите его, пусть войдет…
Перед Кейслом предстал полусогнутый от старости араб и протянул ему пакет с письмом:
— Я так долго ждал, чтобы вручить его вам, но теперь моя совесть будет чиста, и я могу умереть спокойно.
— Но при чем здесь генерал Бонапарт?
— Бонапарт сам писал его и сам просил вручить его капитану Кейслу и никому другому, и никому другому…
Повторяю: календарь показывал 1915 год.
Капитан Кейсл вначале XX столетья получил письмо от Наполеона, которое в конце XVIII века не дошло до капитана Кейсла, его прадеда. С трепетом, почти мистическим, Кейсл развернул послание, заметив, что лист бумаги сделался от времени хрупким, словно пепел, а лист был сложен как-то старомодно. Вот что сообщал Наполеон Бонапарт его прадеду:
«Мой дорогой Кейсл, немедленно по получении этого приказа, который я посылаю с юношей египтянином, откопайте провизию и боеприпасы, зарытые под вашим укреплением. Взяв все, в чем вы нуждаетесь, остальные запасы уничтожьте и отступайте к египетской границе, как это указано мною на рисованной ниже карте. На этой же карте вы сыщете пункты, где найдете источники воды, столь необходимые вам…
Наполеон».
— Мы спасены! — закричал Кейсл. — Капитуляция невозможна, можете играть сигнал к походу…
Синайская пустыня еще не знала радио, но зато пустыня хорошо проникалась слухами, и вот, прослышав о появлении капитана Кейсла, шейх вспомнил, что для него с давних пор залежалось письмо от генерала Бонапарта…
— Когда же вы родились? — спросил Кейсл.
— Этого я не помню, — отвечал шейх, — но зато я помню, что при встрече с генералом Бонапартом мне было уже двадцать пять лет.
— Так сколько же вам сейчас, почтеннейший?
— Этого я не знаю, — отвечал шейх, — но зато догадываюсь, что моя жизнь продлилась целое столетие и сейчас я вижу себя во втором веке… Как долго и мучительно пришлось мне ожидать, пока я не встретил капитана Кейсла!
— Но где же он, этот капитан Кейсл, для которого писал генерал Бонапарт свое письмо? Вы разве не отыскали его?
— Я навещал вас в этом форту, но он был уже пуст. Неужели, капитан Кейсл, вы забыли, что ушли, не дождавшись меня?..
В таких случаях, уважая старость, спорить не следует.
Сверяясь с картой Наполеона, англичане покинули форт и благополучно вышли к спасительным колодцам.
Этому шейху было тогда сто сорок лет. Наполеон даже здесь, в пустынях Синая, оставил свои следы…
Примечания
1
Джерба — остров возле берегов Туниса, давняя столица берберийских пиратов, где евреи распродавали их добычу на рабовладельческих рынках стран Магриба; пирамида из черепов христиан была уничтожена лишь в 1837 г. стараниями европейской дипломатии. Сам же остров живописен и плодороден, а его первобытные жители лотофаги (пьянившие себя вином из лотоса) упоминались еще Гомером вIXпесне его «Одиссеи» .
(обратно)2
Впоследствии русская военная музыка многое переняла от оркестров янычар, вызывая самые воинственные эмоции в своих воинах. Недаром же в 1814 г., при начале штурма Парижа, русские оркестры играли на высотах Монмартра, и, услышав их оркестры, французы сразу выслали парламентеров. Наполеон однажды сказал, что русские солдаты побеждают благодаря музыке своих духовых оркестров .
(обратно)3
Султан МахмудII(1784—1839), уничтожив янычарское войско, заодно разгромил и орден их покровителей-бекташей. Сейчас орден «пляшущих дервишей» сохранился только в Народной республике Албании, но с 1950 г. они стали возрождаться и в самой Турции, их экзотические танцы привлекают в гор. Конью немало иностранных туристов .
(обратно)

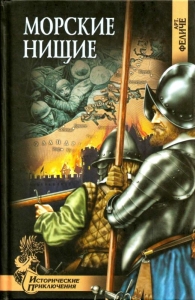



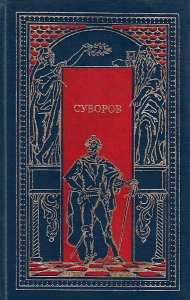



Комментарии к книге «Янычары», Валентин Пикуль
Всего 0 комментариев