Павло Автомонов Имя его неизвестно
После ожесточенных боев войска Воронежского и Степного фронтов 5 августа 1943 года завершили ликвидацию Тамаровского и Белгородского узлов и овладели Белгородом, «северным неприступным бастионом Украины», как назвало этот район немецкое командование.
Советские танки двинулись на юго-запад, на Украину, а еще через два дня вихрем ворвались в один из важнейших центров обороны противника в оперативном тылу — крупный узел скрещения дорог — город Богодухов. Удар был таким мощным и внезапным, что гитлеровцы не успели даже уничтожить огромные запасы бензина и военные оклады. Заправив трофейным горючим машины, наши танкисты рванулись дальше. Группировка противника, защищавшая белгородско-харьковокий плацдарм, таким образом, была расчленена, путь отступления от Харькова на северо-запад сказался перерезанным. Над главными коммуникациями немецкой армии в районах Харькова и Полтавы нависла серьезная угроза.
Чтобы приостановить наступление Воронежского фронта, гитлеровское командование перебросило с других участков в район Ахтырки, Мерчика и Валок свои лучшие танковые дивизии. Но ни «Райх», ни «Викинг», ни «Мертвая голова», ни «Великая Германия» уже не могли спасти положение. Ворота на Украину, которые на протяжении месяцев так упорно и старательно «замыкали» фашисты, были взломаны в битве на Курской дуге. Разгорелся бой за Харьков. Перед советскими дивизиями расстилались поля Полтавщины, города и села Левобережной Украины. С Днепровских высот наших солдат звал мой родной город — древний Киев. Там я жил на Брест-Литовском шоссе, неподалеку от машиностроительного завода, где мой отец работал слесарем. На этом же шоссе находилась и школа, в которой я учился до лета 1941 года.
Улица наша брала начало у стройных тополей, что выстроились часовыми вдоль бульвара Тараса Шевченко, и широкой прямой магистралью устремлялась на запад. Я любил свою родную улицу, как и Днепр, как и безграничную даль лесов, в которой прятались села Левобережья, как и холмы с их буйными волнами зеленых садов.
Я любил свою улицу с ее непрестанным движением трамваев и автомашин, с неумолчной перекличкой заводских гудков на рассвете, когда казалось, что не Крещатик, а эта улица — центр города.
Набрав разбег, улица уходила на запад, в бескрайнюю даль. И сейчас, когда войска генерала Ватутина вступили на украинскую землю, когда танки за три дня промчались от Белгорода и Тамаровки до Богодухова, мне казалось, что моя далекая улица станет тем желанным, выстраданным в боях под Сталинградом путем, которым, освободив Киев, мы пойдем до Бреста, Варшавы, Праги, Будапешта, Вены — до самого Берлина, освобождая от цепей гитлеризма земли и народы. Вот какова она, моя родная улица — Путь к Победе!
Но пока сегодня на рассвете наши танки еще отбивали вражеские контратаки, мне и старшему лейтенанту было поручено найти в большом пригородном селе помещение для штаба.
Удобнее всего было расположить штаб в школе, здание которой с улицы обрамляли клены, тополя, кусты желтой акации. Рядом зеленел сад. Под деревьями можно было замаскировать штабные машины. Село навсегда освободилось от фашистской оккупации, и мы знали, что местная власть должна быть озабочена подготовкой школы к началу учебного года: до 1 сентября оставалось каких-нибудь три недели. Необходимо было вставить стекла в окна, заменить обгоревшие двери в большом классе новыми, подмазать и побелить выщербленные осколками стены классных комнат. Стекло нашли в покинутом немцами огромном складе. Вскоре появились три старых плотника, стекольщик и несколько женщин.
Набегавшись и насуетившись в ожидании приезда штабистов, под вечер мы со старшим лейтенантом зашли в класс. Девушки мыли окна, напевая «Ой, там Роман воли пасе…» Разговорились. Мы шутили, уверяя, что не встречали на своем пути более очаровательных девушек, чем в этой слободе, и что нам, видно, после окончания войны придется вернуться сюда за невестами. Они недоверчиво усмехались, краснели. А потом снова принимались петь.
Не пела лишь одна девушка — высокая, чернобровая. Ее звали Орисей. Лицо ее было грустно, нос покрыт веснушками, а в больших, задумчивых карих глазах словно застыли слезы. Когда Орися повернулась в профиль и поднялась на носки, чтобы вытереть верхний угол форточки, старший лейтенант схватил меня за рукав гимнастерки и прошептал:
— Да она же беременна!
Ситцевое в синий горошек платье на Орисе слетка задиралось спереди. Заметив наши удивленные и любопытные взгляды, она отвернулась и стала старательно вытирать сухой тряпкой окно.
— Война все спишет! — не громко, но и не совсем тихо промолвил старший лейтенант. — Зато погуляла с немчиком из танковой дивизии?..
Признаться, и я готов был присоединиться к такому же выводу; как и старший лейтенант, многие мои сверстники склонны были строго осудить тех, кого суровые обстоятельства войны вынудили остаться на временно оккупированной врагом территории. Точно в том, что гитлеровские армии пришли сюда, повинны не мы, не части, которые не смогли сдержать фашистские орды в 1941 году где-нибудь под Львовом или под Брестом, а вот такие девушки. Но я не успел ответить моему товарищу на его реплику. Орися вдруг соскочила на пол, швырнула тряпку и вплотную подошла к нам. Она посмотрела в лицо старшего лейтенанта таким горячим взглядом, что у того даже дрогнули губы. Из глаз девушки покатились слезы. Неожиданно они ударила старшего лейтенанта по щеке.
Мы опешили. Орися же отбежала к окну и зарыдала. Девушки бросили работу и, укоризменно поглядывая на старшего лейтенанта, окружили подругу.
— Ты посмотри на нее?! — наконец пришел в себя старший лейтенант.
Он едва сдерживался от крайних поступков. Будучи уверен в своей правоте, он готов был заставить эту подозрительную особу в ситцевом платье ответить за неслыханное оскорбление, нанесенное советскому офицеру, по законам военного времени.
— Не петушись! — удержал я его. — Считай до десяти, а потом начинай говорить…
Одна из девушек схватила старшего лейтенанта за руку и подвела его к окну:
— Вот подпись отца того еще не родившегося дитяти! Видите? Читайте, если вы такие грамотные!
На подоконнике темнели пятна крови. Она так впиталась в дерево, что невозможно было не только отмыть ее, но и соскрести ножом.
От Орисиного рыдания стало тоскливо и как будто темно в просторной, час тому назад побеленной классной комнате.
— Что же это значит? — спросил я, виновато и растерянно поглядывая то на девушек, то на покрасневшего и сбитого с толку старшего лейтенанта. — Кто он?..
…Порывистый ветер неося над пятнистыми от снежных заплат и черных проталин полями, посвистывал в кустарнике. В долины и яры сбегали ручейки, переполняя мутной водой речонки. А те разливались, затапливая луга, шумели, пенились, журчали меж вербами и лозой, мчались неудержимыми потоками до самой Ворсклы.
Пришла весна.
Она была и в мохнатых бархатистых почках на вербе, и в безгранично глубокой и чистой синеве неба, и в лучах солнца, которое светило теперь людям по полсуток, и в щебетанье птичьих стай, и во всем, во всем вокруг.
С журчанием ручейков сливался гул движения на слобожанских шляхах и дорогах.
Тяжело ступали кони. Устало мотая головами, они тянули пушки, возы со снарядами и провиантом. Надрывно буксуя, ревели грузовики и медленно продвигались глубокими, прорезанными в черноземе колеями. А рядом — вспотевшие, в ватниках и шинелях — солдаты подталкивали плечами машины, вместе с лошадьми тянули возы и на собственных руках выносили из ухабов и воронок пушки.
Порой появлялись самолеты. И тогда на дорогах взрывалось, стреляло, выло, ревело, швыряло пламенем. Но как только бой с бомбардировщиками затихал, возы, машины, люди снова трогались в путь — на восток и север. А ручейки, теперь уже разбавленные кровью, бежали, как и раньше, к Ворскле и ее притокам, на запад и юг.
К вечеру, пересекши старинный Муравский шлях, за горизонтом исчез последний обоз.
И стало тихо, необычайно тихо в селах, в бурьяне, в безлистном молодняке. Ни человеческих голосов, ни выстрелов. Словно и сама война в обнимку с мартовским ветром умчалась куда-то вслед за ушедшими частями.
Тишина… Пятерым разведчикам, оставленным здесь советским командованием, в эти минуты казалось, что они теперь одни во всем этом краю. Совсем одни.
Два лейтенанта и три сержанта, переодетые в чужие серо-зеленые шинели и фуражки с большими козырьками, стояли на обочине дороги и смотрели погрустневшими глазами уже не вслед своим отступавшим войскам, а на заходившее солнце. Вскоре исчезло и оно, багряное, огромное, осветив заревом весь западный небосклон.
Нет солнца. Нет своих. Тоскливо на душе. Невесело на сердце у каждого и как-то обидно. После боев под Сталинградом словно на крыльях летели советские воины, освобождая родную землю. Передовые части Воронежского и Степного фронтов пересекли границы Украины, с ходу взяли Харьков, Богодухов, Ахтырку и другие города и села Харьковщины, Сумщины, Белгородщины. Тыловые части они оставили далеко позади на раскисших, превращенных в месиво дорогах. А теперь полкам и дивизиям, которые вырвались вперед, пришлось отступать за Белгород. Ничего не поделаешь — война, стратегия.
И вот они пятеро — исполнители особого задания командования — провожали солнце за горизонт.
А потом пошли в лесок. Вверху в тонюсеньких ветвях тополей посвистывал ветерок, шуршал старый лист на дубах.
— Ребята! Белый ряст!
Лейтенант Василий наклонился и сорвал белоснежные цветочки.
— Прикрой ими немецкого орла на картузе, — предложил он лейтенанту Евгению. — А это тебе, Роман.
В тот же миг Василий застыл с протянутой к радисту рукой. С лица его исчезла улыбка, брови сошлись на переносице.
— Слышите?.. Чужие моторы гудят!
— Что ж! — промолвил Евгений, оглядываясь по сторонам (он был командиром этой группы). — Начнем работать.
Между расщепленным снарядом дубом и молодым тополем разведчики закопали свои свертки — запасную радиостанцию, взрывчатку и немного сухарей, — предварительно завернув их в прорезиненную материю. Затем они присыпали землю прошлогодними листьями.
Через два часа по той же дороге, по которой днем отходили полки Воронежского фронта, немецкие вездеходы с натужным лязганьем повезли солдат и потащили пушки.
Ревели моторы, раздавались громкие выкрики, слышались чужие песни. Роман и Дмитрий, посланные командиром к самой дороге, хорошо видели и слышали проходивших. Вот и звезды засветились. Но этой ночью они не казались лейтенанту-радисту Василию такими веселыми, таинственными и мечтательными, как некогда до войны. Не такими казались они и вчера, когда здесь находились свои.
Звезды, словно напуганные грохотом на дорогах, дрожали.
И Василий весь трясся от холода. Еще в полдень он набрал в сапоги воды. Портянки выжал, и теперь они медленно сохли на закоченевших ногах. Он шевелил пальцами — не помогало. Огоньку бы! Разложить бы костер!.. Но огонь сейчас такая же несбыточная мечта, как и надежда на теплый луч с далеких и равнодушных к земным делам и людским страданиям звездочек в темном небе. Однако спать солдатам необходимо. Завтра их ожидают новые испытания. Улеглись на разостланные плащ-палатки и разведчики.
Холодно в лесу. Сыро и будто морозит. Только пригреешь один бок, прижавшись к телу товарища, как замерзает другой; а то кто-нибудь сонный стащит на себя тонкое, заскорузлое, но такое драгоценное сейчас одеяло — плащ-палатку.
Василий не выдержал, поднялся.
— Поприседай раз сто! Помахай руками, и станет хорошо, тепло, как во время жатвы! — посоветовал Роман.
— Жатва! Когда-то еще будет та жатва?
— А все ж таки будет. Наши возвратятся к тому времени!
— Может, и придут!..
— Который час? — спросил командир. Василий взглянул на карманные часы.
— Считай, что первая ночь в стане врага прошла…
В окружных селах скопилось много вражеских солдат и техники. А как только ветер и солнце слегка подсушили дороги, грузовики, тракторы и самоходки развернутыми колоннами тронулись в направлении Тамаровки и Белгорода.
Почему так настойчиво продвигаются войска в этом направлении? А может, такое же движение и на других дорогах?.. Чтобы разузнать обо всем этом, и остались здесь разведчики.
По дороге, мимо дубового леса, в котором укрылись разведчики, раскалывая рассвет безумолчным гулом, ревом и скре: жетом, наполняя утренний воздух бензиновым перегаром и дымом, проходила немецкая техника, ползли грузовые машины с пушками и минометами, самоходки, гусеничные тракторы.
«Войска противника идут на северо-запад..» Это сообщение, подкрепленное цифрами и пояснениями, словно дятлы, выстукивали по очереди Василий и Роман условным шифром — день, другой, третий.
Разведчики обходились без огня. Питались сухарями, колбасой и мясными консервами. Воду заменяли им снег, который еще лежал на северных склонах леса, и кленовый сок. Днем их грело солнце, а ночью они прижимались друг к дружке, точно малые птенцы.
На третий день, дежуря у радиостанции, Роман принял сообщение: «Линия фронта стабилизовалась. Идите к пункту Б… Установите наблюдение за каждым шагом противника».
Идите… Ночь темная. По дорогам пробираться трудно. К тому же почти все они пролегали через села, занятые большими и малыми вражескими гарнизонами. В низине разлились речушки. Более надежного пути, чем через давно не паханные поля, не выбрать. Но поля на Слободской Украине не бескрайние, как в Таврии или Приднепровье. Частенько поле прерывается крутым обрывом, нивы пересекаются оврагами, в которых раскинулись слободки.
Идти трудно: ноги погружались в вязкую грязь. Приходилось брести по воде. А потом снова путь тянулся по степи.
«Скорее! Скорее!» — подгоняли они друг друга. И шли не отдыхая. Торопились, чтобы до рассвета найти какое-нибудь прибежище в этом безлесном крае и укрыться там на целый день.
С каждой минутой все больше светлело небо. Гасли звезды.
Вытянувшееся длинным прямоугольником поле внезапно сползло в долину. Внизу виднелся длинный ряд хат, а подальше возвышались корпуса сахарного завода. Белой свечкой взвилась в небо заводская труба.
Обойти долину не было времени, а перебраться на другую сторону необходимо во что бы то ни стало. Там чернели кусты терновника, в которых можно было переждать до вечера, чтобы потом снова тронуться в путь.
Разведчики в нерешительности остановились, вытирая рукавами вспотевшие лица.
— Пошли!
Вода на лугу заколебалась и разошлась кругами, будто от брошенных в нее каменьев. Под ногами булькало, чавкало. Придерживаясь руками за лозу, за ветки верб, настороженно озираясь и прислушиваясь, разведчики продолжали путь.
На беду сержант Роман, а за ним и Дмитрий оступились и упали в воду.
— Канава! — крикнул Роман, протягивая автомат Василию. — Черт бы ее побрал!..
— Хватайся за ветку! — Василий пригнул лозу. — Давай руку…
Тем временем Евгений и Анатолий вытащили промокшего до плеч Дмитрия.
— А там еще глубже! — Дмитрий выстукивал зубами, словно на телеграфном ключе.
— И день близится.
— Что делать, командир?.. Не киснуть же нам по колено в воде между вербами?
Что делать?.. Лейтенант Евгений задумчиво посмотрел на Василия, словно спрашивал: «Как нам быть, друже?» Василий считался находчивым и вдумчивым разведчиком. Он еще до войны увлекался книгами об этой романтической и… тяжелой профессии. Чего только не выделывали те разведчики! Уж конечно, попади тот герой в их положение, он бы обязательно пробрался в квартиру немецкого оберста и выпил бы с ним рюмку коньяку, чтобы не заболеть гриппом. Василий криво усмехнулся и вздохнул.
— Надо вылить воду из сапог и все-таки пройти мимо вишневых садов к оврагу, заросшему лещиной и терном, — проговорил он шепотом.
В яблонях и над соломенными крышами хлевов щебетали птицы. Вершины высоких тополей и кленов возле хат и сараев уже стали багряными от солнца, выплывавшего из-за горы.
Громко, словно выстрел, в тишине звякнула щеколда. Заскрипела огородная калитка, и из нее высунулась голова в старой шапке из шкуры рябого теленка. Поймав на себе настороженные взгляды, голова исчезла. Снова звякнула щеколда.
Пройдя еще шагов двести, разведчики свернули наконец на деревянный настил железнодорожного переезда и вышли на склон долины, куда не могли добраться затопленными лугами.
Далеко позади остались последние хаты слободы и заводского поселка. Впереди — лесок, мечта усталых и промокших разведчиков.
У самого леса стояла избушка с выщербленными стенами. Из-под разворошенной соломенной крыши виднелись стропила; два окошка без рам напоминали глазища какого-то сказочного существа.
Роман, теряя последние силы, пошатнулся, схватившись рукой за голову.
— Что с тобой? Ты болен? — обступили его товарищи.
— Я тоже — то весь горю, то мерзну, как поганый поросенок, — признался Дмитрий.
— Чаю бы мне! Хоть наперсток! — промолвил Роман, не сводя глаз с дымохода, который выступал между стропилами и посеревшей крышей. — Тогда бы я сразу выздоровел.
Да, конечно, не плохо бы развести огонь, высушить одежду и поесть или выпить чаю: четвертый день они без горячего.
Обсохнуть! Поесть горячего. Согреться. Отдохнуть.
Пятеро истомленных людей повернулись к селу в долине. Над хатами взвивались в небо столбы дыма.
Развести огонь! Но немцы и полицаи заметят его. Леса здесь небольшие, редкие… Разложить костер в поле, в сухом бурьяне?.. Еще опаснее. В этой покинутой хижине дымок не так бросится в глаза. Пожалуй, это верно. Сварить крепкого горячего чаю! И вода есть — вон, в лощине, колодезь без сруба.
Вскоре в плите без дверцы, покрытой сверху листом тонкого железа, занялся огонек.
Блаженные минуты! Разведчики пили горячий чай из солдатских котелков, сушили промокшие сапоги, штаны, шинели и куртки, от которых шел сизый пар. Хотелось спать.
И они заснули, поочередно неся вахту.
Дмитрий, дежуривший четвертым, вдруг тревожно закричал:
— Немцы!.. По нашим следам!
Командир взобрался по лестнице на чердак и посмотрел в бинокль: тропой, пролегавшей над долиной, двигался небольшой вражеский отряд. Евгений перевел бинокль на лес. И там, рассыпавшись цепью, также шли вооруженные люди.
«Бежать в лес — значит наскочить самому черту на рога. Останемся здесь!» — решил командир.
Наступила такая тишииа, что отчетливо стало слышно, как на земляном полу шипело вытащенное кем-то обгорелое полено. Вот и кончились эти тихие и теплые, как и сам огонек в плите, минуты. Как быстро они пролетели!
Устраиваясь у окошка с автоматом, Роман зацепил котелок, и тот покатился со звоном. От этого звука Василий вздрогнул. Вот так же звякнула на рассвете щеколда огородной калитки. Неужели их выдал тот человек в шапке из телячьей шкуры? А может быть, их засек патруль?
С чердака раздались автоматные очереди. Стреляли Евгений и Анатолий. Приготовились к бою и Василий с Романом и Дмитрием.
Стрельба было стихла. Но вот из лесу выскочили автоматчики, и она снова усилилась.
Пули со свистом влетали в окна, застревая в глиняных стенах. Бой разгорался. Трескотня автоматов, возгласы, крики и стоны раненых. Но к великому удивлению наступавших, избушка с дырявой крышей и покосившимися стенами, которая была похожа на старую бабусю, согнувшуюся под тяжестью лет и непосильной работы, не сдавалась.
— Перебрось огонь на лесок! — приказал Евгений Анатолию, а сам, укрыв голову за дымоходом, принялся стрелять по подползавшим немцам.
— Внизу! — обратился Евгений к своим. — Следите за открытой дверью… Берите на прицел тех, что ползут из лесу.
— Есть!
К сеням, выкрикивая и стреляя на ходу, пробиралось из лесу с десяток гитлеровцев и полицаев. У крыльца упали гранаты. Взвился столб пыли.
Василий, взмахнув гранатой без предохранительной чеки, швырнул ее. Задрожали стены избы; подобравшиеся было к двери солдаты попадали наземь.
— Кто бросил лимонку? Молодец! — похвалил командир.
Тем временем Анатолий заметил с другой стороны новую угрозу. Слегка приподнявшись, сержант позвал командира:
— Лейтенант! Пулемет ставят слева… Он не договорил. Рой пуль прожужжал около уха, и Анатолий рывком наклонил голову. Пуля ударила в висок. Обливаясь кровью, сержант рухнул на пол.
— Толя! Толя!
Но слева застрочил пулемет, и Евгений вынужден был броситься в угол. Он снова прицелился. О, как ему хотелось сейчас отомстить за Анатолия. Лицо, щеки стали мокрйми от пота. Весь напрягшись, он стрелял и стрелял. Пулемет вдруг умолк. Около него валялось несколько солдат.
Но врагов много, слишком много против них, четверых.
— Роман! Сюда! — позвал лейтенант, приостановив стрельбу.
Но Роман истекал кровью… Так и не дошел он до родного Косова над стремительным, бурливым Черемошем. Как он любил свои седые горы и зеленые полонины с маленькими избушками-колыбами, словно повисшими среди зеленых пихт. Только вчера Роман говорил, что ждет своих друзей после войны на Гуцульщине.
А Евгений приглашал всех на свадьбу в славный Ленинград. Кто из юных бойцов не грезил в трудные дни войны о встрече с любимой? Только две недели назад Нина писала Евгению: «У нас стало лучше. Появились продукты. Но враг еще обстреливает город из пушек, еще прорываются его черно-крестные самолеты. А Ленинград стоит и будет стоять…»
Враги приостановили, атаку. Они решили, что их слишком мало, чтобы взять эту крепость, и послали к коменданту за помощью.
Тишина длилась минут десять.
Василий чуть приподнял Романа; сержант закашлялся, изо рта его полилась кровь.
— Что ты хочешь сказать, Ромушка?
— Злая судьба… Так в Косове и не узнают, что Роман настоящей смертью… А?.. Что-то шумит? Слышишь, Василий? Черемоша грали хвили…
— Что с Романом? — крикнул Евгений.
— Нет уже Романа…
— И Анатолия тоже.
— Сдавайтесь! Мы сохраним вам жизнь! — кричали полицаи.
Из избы не отвечали, словно там уже никого не было в живых.
Как долго тянется подаренный врагом миг. Евгению, Василию и Дмитрию казалось, что солнце уже успело сотни раз пройти от горизонта до горизонта. Сейчас оно было на закате, над степью. Они ожидают смерти, а время тянется так медленно. Может быть потому, что они мало думают о ней? Разве им не о чем больше думать? Можно вспомнить всю жизнь, и радости, и горести, и все незабываемые минуты. Евгений озабочен другим: нельзя ли спасти хоть одного, хотя бы своего помощника — радиста Василия. Тот сумел бы выполнить задание. Ведь командование ждет от них вестей. Но как спасти? Немцы еще до темноты сравняют хату с землей.
Евгений то и дело поглядывал и а солнце. Ему казалось, что оно совсем неподвижно: застыло на месте, чтобы увидеть, что же тут произойдет…
Со стороны заводского поселка появилась новая группа солдат. Лейтенант осторожно спустился с чердака к своим.
— Ну, ребята! — промолвил он дрогнувшим голосом. — Идут…
Евгений обнял Дмитрия, потом подошел к Василию и взял его за плечи.
— Видишь, солнце идет к закату. И нам тоже придется… А как хочется, черт побери, быть в зените!
«Быть в зените… Вечно воспламеняющийся и угасающий огонь», — с горечью вспомнил вдруг Василий слова Гераклита.
Вдруг у противника началось оживление. Из долины вынырнул учебный двухкрылый немецкий самолет. Он летел прямо на избушку. Солдаты радостно загалдели, подбрасывая вверх фуражки.
Гур… ррр… р, — рычало вверху.
Евгений поспешно влез по старой лестнице на чердак и выстрелил из автомата по урчащему самолету. Но как подбить его из такого оружия? Из самолета выпали три маленькие зажигательные бомбы. Одна упала на кровлю. Огонь лизнул стропила, задымилась серая солома.
— Выползайте! Вася, Митя! Вася, дым — последняя надежда. Может, кто-нибудь из вас родился в сорочке! Я приказываю. — И смолк.
Дмитрий и Василий подскочили к лазу.
— Лейтенант!
Евгений не отвечал.
— Все! — в ужасе промолвил Дмитрий. — Женьку убили!..
Дым въедался в глаза, стлался сплошной тучей. Пригибаясь к самой земле, Василий и Дмитрий поползли от сеней вниз, к лесу. Перед тем как покинуть загоревшуюся хату, Василий разбил и бросил в огонь радиостанцию.
— Кто? — спросил один из гитлеровцев, когда оба разведчика выбрались из избы.
— Трусы! — крикнул по-немецки Василий. — Дыма испугались? Отлеживаетесь? А ну, вперед!
Солдаты послушались. Закрываясь от дыма руками, они двинулись к хате. Но вдруг один выстрелил в голову Дмитрия.
— Что ты сделал, негодяй, ты убил моего пленного! Туда! — прогремел Василий, указывая на хату, и пустил пулю вдогонку убийце Дмитрия.
Сколько событий за одну минуту!.. Василий пятился к лесу.
«А вдруг Евгений не убит, а только тяжело ранен?» — остановился в нерешительности Василий и оглянулся.
Лейтенант Евгений и вправду был еще жив, когда товарищи звали его. Огонь подкрадывался к нему, обжигая тело. Напрягая последние силы, Евгений выдернул кольцо из гранаты-лимонки и крикнул:
— Да здравствует мой Ленин… — Конец слова — «град» — утонул в грохоте.
«Так вот когда ты погиб, дружище!»
Василию хотелось врезаться в ряды врагов и крошить их направо и налево… Он так стиснул зубы, что у него заныли челюсти. «На тебя надежда, Вася, попытайся», — таков был приказ Евгения, командира, друга…
Пробираясь через кусты орешника, Василий мучительно думал: «Что же теперь делать? Что?..» Ответа не было. Только ветер шуршал в кустарнике, разгоняя дым.
Вскоре лес оборвался. Впереди поле, еще дальше какое-то село.
Из оврага повеяло прохладой.
Василий стоял и прислушивался. Где-то близко поскрипывали колеса. Из балки показалась дуга, затем конская голова.
Приготовив пистолет, лейтенант вышел навстречу.
— Стой!
Возница остановил коня и соскочил с телеги.
— Как ты смел с наступлением темноты появляться с подводой? — решительно опросил Василий.
— Я же для управы хворост везу, — испуганно промолвил крестьянин.
— Для управы?.. Решил воспользоваться суматохой и накрасть дров? Давай вожжи! За конем поутру придешь в комендатуру заводского поселка…
— Господин полицай! Я же для управы…
— Молчать, свинья! — крикнул Василий и выругался: — Доннер веттср! Там раненые, а он с управой своей… Утром придешь к коменданту и возьмешь коня! А сейчас марш домой! Живо!
Возчик растерянно смотрел на грозного и не совсем понятного военного, хотел что-то сказать, но лишь вобрал голову в плечи и промолвил:
— Слушаю, пан!
Василий вскочил на повозку и потянул к себе вожжи. Конь свернул на гору…
— Ну, дружок, поворачивай оглобли!
С час Василий ехал, встречая лишь одинокие машины с цистернами и грузом, спрятанным под натянутыми брезентовыми полотнищами. Он немного успокоился. Кому из встречных немцев придет в голову, что по проезжей дороге может ехать советский разведчик? Правда, Василий не сомневался в том, что возчик расскажет в управе или коменданту заводского поселка о происшествии в лесу, может быть, даже не завтра утром, а сегодня вечером. Но какие-то часы он все же выгадал.
Дорога привела его к усадьбе, которая напоминала кудрявый островок среди степи.
Василий, сам житель слобожаиоких районов Украины, хорошо знал эти зеленые оазисы среди степи — бывшие отделения совхозов. Немало этих хозяйств немцы превратили в экономии. Возле уцелевших амбаров разведчик увидел людей. У кладовой работали девушки. Он натянул правую вожжу и повернул к ним.
Заметив на возу немца, две девушки торопливо вошли в помещение, остальные продолжали веять ячмень. Подальше у борон и сеялки возился мужчина.
— Позвать эконома! — приказал Василий на ломаном русском языке.
— Его нет.
— А кто есть из начальников?
— Кладовщик.
— Сюда его!
Кладовщик подошел к Василию.
— Я из группы СД! Немедленно хлеба, сала, яиц… Поторопись! — Василий смерил кладовщика острым взглядом, такие же взгляды работниц почувствовал он на себе. «Смелее, хлопче, смелее!» — подбадривал он себя.
— Работаете для великой Германии?
— А как же! — сказала одна из девушек. — Стараемся. Посеем и пожнем для вас и вашей фрау…
Подруга дернула ее за рукав старой, лоснящейся гейши, пошитой, должно быть, еще бабусей после японской войны.
— Очень нужна пану твоя болтовня, Орися!
Василий приблизился к Орисе. В ее черных глазах вспыхнули огоньки. На мгновение он залюбовался широкими бровями, густыми изогнутыми ресницами, под которыми она сейчас спрятала злые глава. Но Орися тотчас укрылась за спиной подруги, потом начала отходить от кладовой.
— Пан, не берите ее в Германию, — вдруг обратился к Василию кладовщик, который вернулся с мешочком.
— Это не моя забота.. — промолвил Василий, принимая от кладовщика продукты и разглядывая их. — Не отравлены? А ну, попробуй этого хлеба, сала…
Кладовщик откусил немного и угодливо опросил:
— Может, еще изволите?
Василий поискал взглядом Орисю, но она уже зашла с другой стороны и исподлобья смотрела на него.
«Что она думает обо мне? Что думают все они и этот кладовщик с хитроватыми глазами? Предатель, скажут. А они сами кто? Сеять при оккупации собираются!» — И Василий со злостью ударил коня лозиной. Тот дернулся, побежал, и вскоре исчез в сумерках.
На небе становилось все больше звезд, на сердце Василия — все грустнее. Перед его глазами встали погибшие товарищи. Он слышал их голоса, такие родные и дорогие. Он вспоминал дни, когда они были вместе. Не верилось, что уже никогда ему не придется увидеть их.
Темно, мрачно на душе от этих дум. Он забыл о направлении, и ему пришлось остановить коня. Василий посмотрел на небо, отыскал Большую Медведицу и Полярную Звезду. Потом подошел к коню и ласково потрепал его по шее.
— Молодец! Послужил мне. Теперь, милый, иди. Найдешь дорогу домой?
Конь скосил свой большой глаз на Василия.
— Смотри же, не рассказывай, что я пошел в бурьян. Ты у меня теперь единственный товарищ. Пошел, буланый!
В воздухе взвилась и свистнула хворостина.
Колеса скрипели еще с минуту, потом наступила тишина.
Василий проверил оружие. На ремне в сумке висел диск с патронами, пистолет в кожаной кобуре, да на узком ремешке финский нож. Вот и все, с чем он остался. Жаль разбитой и брошенной в огонь радиостанции, но что поделаешь? А воевать как-то надо!
Он повесил на плечо автомат, поднял с земли мешочек с продуктами, которые выдал ему эконом, и осторожно прыгнул с дороги в непаханое поле.
Высокая полынь сухой рекой билась о голенища сапог, о полы шинели, за которую цеплялся прошлогодний репейник. Дальше бурьян стал повыше. Василий надеялся провести в нем ночь. Он наломал полыни и улегся, положив руки под голову.
Вверху сверкали звезды. В бурьяие посвистывал ветерок. «Только ветер да я»… — подумал Василий.
— Да я, — повторил он задумчиво, громко. Тот же беззаботный ветер донес завывацие. Может быть, близко село? Но нет. Это не собачьи голоса. Перекликались волки, хозяева этих бурьянов.
«У-у-угу…»
Василию стало страшно. Он поднялся, присел и дрожащими руками положил автомат на колени. Прятался от двуногих, а попал в логово четвероногих волков. Ему почудились лязг зубов и огоньки в бурьяне — пылающие глаза зверей. А может, это не глаза? Может, это звезды, что светят над самым горизонтом?..
«Это звезды», — успокаивал себя Василий. Ему хотелось крикнуть эти слова, чтобы человеческий голос отозвался: «Да, это звезды».
Ему вдруг послышался голос матери: «Глупенький, это же сказка…» Мать… Она обучала детей в школе немецкому языку и очень хотела, чтобы Василий хорошо владел им. «Ты хочешь быть инженером, а знаешь, сколько интересных технических книг написано на немецком языке?» — убеждала она. Василий действительно мечтал стать инженером по радио. Но, когда началась война, со второго курса политехнического института его по путевке комсомола направили в специальное училище, где также изучали радио и иностранные языки.
Еще несколько лет назад, когда Василий заканчивал десятилетку, будущее представлялось ему радостным, как весеннее небо в погожий день. Живи честно, пользуйся своим правом на учение, на труд и отдых, и жизнь станет прекрасной. Правда, в ту пору о своих обязанностях юноши и девушки думали меньше. В училище, где Василий изучал радио и немецкий язык, ему казалось, что и защита родины и сама война не будут обременительными хотя бы уже потому, что советские войска сразу станут бить врага на его собственной территории — малой кровью, могучим ударом, как пели танкисты в кинофильме.
Но случилось иначе. Фашисты принесли на броне своих танков, на крыльях самолетов смерть в занятые ими районы. Политая кровью, родная земля родила уже не хлеб, а вот этот бурьян. Война требовала много людских жертв, много крови. На них, пятерых разведчиков, надеялся сам командующий. И сейчас штаб фронта ждет от них вестей о войсках, о складах боеприпасов и движении противника. Без этого нельзя бить врага уверенно и меньшей кровью… Нельзя… Нельзя без этого быстро освободить от фашистской неволи Украину, Белоруссию, Смоленщину, Прибалтику.
Василий сжимал кулаки и до боли закусывал губу. А что он сделает один? Он не знает, что будет завтра. Но одно несомненно: фашисты будут искать его.
Холодало. Василий ворочался, поджимал ноги, прятал руки в коленях. Не помогало. Он снова приподымался, приседал. Согревшись, снова глядел на звезды, на луну, которая уже успела передвинуться по небосклону.
Только теперь он вспомнил, что у него в мешочке есть хлеб, кусок сала и несколько луковиц. Кладовщик оказался предусмотрителыным, видимо, хотел выслужиться перед «служащим» из СД. А может, догадался, что Василий свой, из тех, кто отбивался у леса от немецких солдат? И хлеб дал как своему?.. А черноглазая девушка — как она говорила о жатве! Она верит, что жать они будут, уже когда придет Красная Армия. Может быть, имеются специальные указания подпольных советских органов, чтобы этой весной посеять как можно больше? Зря он, Василий, посчитал всех работающих в экономии предателями.
«Беги, Вася! Может, кто из вас в сорочке родился?!» Евгений надеялся на него.
Василий тяжко вздохнул.
Как и раньше, шелестел в бурьяне ветерок. На востоке выглядывал, словио выгнутое лезвие сабли, рог старого месяца. Долго и протяжно завывали волки.
— И какая же ты длинная, ночка! — шептал Василий, сжимая холодный как лед автомат.
Он смежил веки и как будто забыл обо всем. Уснул… И во сне слышался посвист ветра, прерывистый волчий вой. Перед глазами предстала черноглазая девушка из экономии. Она смотрела на него добрым и приветливым взглядом и улыбалась… Василий протянул к ней руки. И вдруг… вместо девушки из бурьяна вынырнул волк с огоньками в глазах. «Убирайся!» — Василий наставил на него автомат. Но зверь не разевал пасти, не лязгал зубами, а приблизился к разведчику, лизнул ему руку…
Обливаясь холодным потом, Василий вскочил на ноги. Месяц уже висел над степью, золотистый, таинственный и какой-то страшноватый на темном небе. Где-то далеко-далеко прогремели артиллерийские залпы. Там линия фронта…
Василий снова улегся. От земли тянуло сыростью. А на пересохших губах было горьковато от полыни.
Солнце взошло и принесло тепло. Василий подставил его лучам свое истомленное, уже обросшее лицо.
Но солнце и утро принесли также и первые тревоги нового дня. Тишину разбудили выстрелы, выкрики людей, урчание машин. Видно, напали на его след!.. Что ж… Такова работа полицаев и гестаповцев — искать красных.
Внешне Василий был равнодушен ко всему, что делалось за бурьянами. Он истомился. «Черт с вами! Ищите! Найдете — поборемся… А бежать некуда».
Он все грелся на солнце.
Прошло с полчаса, и Василию снова пришлось приготовить свой автомат к бою. В бурьяне послышался шорох. Ближе и ближе. Василий стал на колени, оттянул, затвор автомата, готовясь стрелять.
И вдруг отпрянул. Прямо перед ним, задыхаясь, остановилась девушка в старой, некогда нарядной гейше, с серым платком в руке. Открыв с перепугу рот, Орися — это была она — замерла.
Она убегала от немцев, которые (так думали девушки) устроили на них облаву, чтобы увезти в Германию, и вот убежала… под самое дуло автомата. Куда теперь? Так внезапно, так неожиданно она попала в эту засаду в бурьяне. Какое несчастье! Бежать не было сил. Она и так мчалась без передышки два километра. Закрыв лицо руками, она упала и заплакала от бессилия и ярости.
— Проклятые! Я все равно убегу! Или повешусь! Не поеду! Никуда из дому не поеду!
Василий наклонился, положил руку на ее голову. Она отшатнулась, словно ее кто ударил, а он шепотом заговорил:
— Я свой! Вечером в экономии брал хлеб. Тебя как будто Орисей звать?
Орися подняла голову, вытерла рукой щеки и недоверчиво взглянула на Василия.
— Свой? Правду говоришь? — опросила она.
— Наверно, это за мной приехали в экономию солдаты… Садись, отдохни…
— А ты не врешь? — спросила девушка.
— Не вру, честное комсомольское! — поклялся Василий и грустно продолжал: — Я из тех, что вчера дрались возле леса… Четверо наших погибли в том бою. А я… Сама видишь. Дым помог мне ускользнуть.
— А девчата подумали, что на нас облава. Все кинулись врассыпную, кто куда. А я в самый высокий бурьян, — проговорила тихим голосом Орися и несмело подняла глаза на товарища по неочастью. — И ты просидел всю ночь среди волков?
Снова где-то возле лесочка началась стрельба, и, глянув на Орисю, Василий побледнел:
— Слушай… Ты иди своей дорогой. Иди домой. Тебе незачем рисковать из-за меня жизнью. Иди, я тебя прошу.
«Идти домой», — подумала Орися. Ее село в десяти километрах отсюда. Она нанялась на работу в экономию, чтобы избавиться от страшной угрозы увоза на чужбину, и вот тебе — нет покоя и в экономии. Фашисты, как пришли вторично, снова начали забирать молодежь. Им нужны рабочие руки, потому что всех взрослых и даже пожилых немцев Гитлер призвал в армию, объявив после поражения под Сталинградом тотальную мобилизацию..
Орися снова посмотрела на Василия. Истомленное, худощавое лицо, серые глаза, пересохшие, обветренные губы, всклокоченные белокурые волосы…
— Хочешь воды? — спросила она.
— Тут высокие места. Поутру я обсосал росу на старой траве. И теперь какая-то горечь во рту, — сказал он. — Иди в село! Слышишь, там не умолкают!..
— А ты?..
— Иди, Орися, домой! — повторил он сердито.
— Поле не только твое! Заладил. А может, мне с тобой лучше прятаться от напасти! — наконец ответила она.
Снова прозвучали автоматные очереди. Орисе стало страшно. Она знала, что им обоим не миновать смерти, если немцы найдут их здесь. Ведь этот юноша из тех, которые переходят линию фронта или спускаются на парашютах с самолетов. Иначе фашисты не устроили бы таких поисков. Люди говорили, что во вчерашнем бою погибло больше двадцати немецких солдат и полицаев.
Еще выстрелы, звонкие, угрожающие. Орися в испуге вдруг прижалась к его груди. Пули просвистели где-то стороной. Орися слушала биение сердца — и не своего… его сердца, которое отстукивало сильно и тревожно. Она чувствовала над лицом своим дыхание. И это не мать склонилась над ней. Нет. Пылали жаром его губы. Не материнская, а его рука крепко обняла ее за плечо, а другая несмело гладила шелковистые волосы.
— Не бойся… Это же сказка, — шептал он, напряженно прислушиваясь к выстрелам. — А в сказке не убивают хороших людей.
Теперь ему стало легче жить на свете! Сейчас у него зародилась уверенность, что ни фашисты, ни полицаи не придут сюда, в бурьян.
— Ты будешь мне помогать? — опросил Василий девушку.
— Как? — отозвалась она в забытьи и, отпрянув от него, виновато потупила взгляд. — Уже не стреляют? — опросила она, покраснев, как маков цвет.
— Навек бы им заткнуться! — сердито кинул Василий.
— Чем же я могу тебе помочь?
— Работы хватит! — коротко ответил Василий.
Затаив дыхание, она выслушала его и оказала:
— Бурьянами, по волчьим следам дойдем до села. Не бойся: я тебя спрячу так, что и с собаками не сыщут. Отдохнешь, а потом возьмешься за работу. Идем!..
Он глубоко вдохнул степной весенний воздух и подал О рисе руку.
В чистом небе летали жаворонки. Василий шел и думал о том, что, будь у него крылья, полетел бы и он в далекий лес, откопал бы там запасную радиостанцию и послал бы печальную весть за линию фронта.
— Упадешь, вон как задумался! — услышал он голос, похожий на песню жаворонка…
Село, где жила Орися, находилось у самого городка, через который проходила железная дорога на Харьков и Сумы. Здесь скрещивались шоссейные и грунтовые дороги; отсюда грузы и войска шли в Харьков, через Грайворон — на север и на северо-восток, в Борисовку, Тамаровку и Белгород. Линия фронта в сто километров питалась через этот город и село продовольствием, горючим и техникой. Не зря командование именно сюда направляло пятерых разведчиков. А дошел только один.
Работы здесь непочатый край. Но до настоящей работы еще далеко. Одна разбитая радиостанция сгорела в покинутой избе, другая закопана в лесочке, в пятидесяти километрах отсюда. А сам Василий лежит в кустах терновника и ждет, когда наступят сумерки и за ним придет Орися.
Потихоньку опускался на землю вечер. В небе, гогоча, пролетели, направляясь к зарослям очерета у Ворсклы, вереницы уток. Возле колодца дзенькнули ведра. Василий напряг зрение. По воду пришла Орися. Она сняла с коромысла ведра и, поставив их на землю, направилась к кустам терновника и начала рвать молодую крапиву и лебеду, кидая их в фартук.
— На борщ? — спросил ее Василий, и у него защекотало в иоздрях.
Уже неделю не ел он ничего горячего, кроме того чая, что так дорого обошелся им.
— Мать постится. Варим борщок с травой, картошкой и бурачками, — ответила Орися, продолжая рвать крапиву.
— И ты постишься?
— А как же… Мяса-то дома нет.
— Как в селе? Где немцы?
— Неподалеку, в школе.
— А как же я… у вас?
Орися подошла к кустам и сказала, глядя Василию прямо в лицо:
— Шила в мешке не утаишь… Куда тебя спрячешь от матери? Ругай меня, но мать все знает и согласилась. У меня же два брата воюют. Ты будешь у нас! — шепотом закончила она.
«Ну, и разведчик из меня! — горько усмехнулся Василий. — Шага еще не сделал в работе, а обо мне уже знает не только девушка, прожившая два года в оккупации, а и ее мать. Вот тебе и конспирация!..» Он наклонил голову, словно провинившийся ученик. Разве можно быть таким доверчивым с людьми, которых не знаешь. Но как же быть? Он посмотрел Орисе в глаза. И они показались ему добрыми, ясными. Видно, хорошая душа у девушки. Как он смеет не верить этой Орисе и ее матери, пославшей двух сынов в Красную Армию! Да это все одно, что не верить в свою родную землю, в народ. Надо верить людям, настоящим людям. Иначе один ты не выполнишь задания, ничего не сделаешь для победы.
— Так сразу и согласилась мать? — недоверчиво спросил Василий.
— Это уж не твоя забота, сразу она согласилась или, может, только к вечеру, — продолжая рвать траву, сказала Орися.
— Говорят, в лебеде и крапиве много витаминов, — промолвил, лишь бы что-нибудь сказать, Василий.
Он также положил в Орисин фартук травы и дотронулся до ее горячей руки.
— Орися!
— Что?
— А хорошо, что я тебя встретил?
— Не знаю!
Орися приложила руку с травой к щеке, забыв о том, что там крапива, и рывком отдернула руку.
— Идем. На улице уже ходят патрули. Услышат шелест во дворе, беды не миновать. Строго запрещено выходить из хаты после захода солнца. А сейчас темнеет!..
Они пошли на гору. Василий нес ведра, и они качались на коромысле, брызгами выплескивая воду.
— Где ты рос? Ты что, никогда не носил ведра на коромысле?
— Носил… Я всегда клал в ведра листок капусты или подсолнечника — вода не хлюпала, — едва слышно, тяжело дыша, ответил Василий. — Отвык…
Он почувствовал, что очень ослаб за последние дни. Орися, догадавшись, что ему нелегко, сказала:
— Давай я сама понесу…
Они прошли садик и на цыпочках через открытые ворота вошли в небольшой и опрятный двор.
Орися указала на покрытый соломой хлевец возле ворот и плетня, отделявших двор от огорода.
Василий окинул взглядом подворье. Напротив тоже был хлев, подлиннее того, в котором ему придется ночевать. Через дверь он услышал, как сонно квохтали и шуршали, устраиваясь на насесте, куры. Домик под железной крышей глядел на подворье темными окнами.
— Идем! — пpомолвила Орися. — Смотри в погреб не упади! На чердаке снопы обмолоченного жита… Полезай за мной по лесенке… Вот твоя постель…
Василий нащупал руками рядно, потом суконное одеяло, еще выше — подушки.
— Зачем это? Меньше вещей — не так заметно для чужого глаза… — возразил он.
— Завтра же все заберу в хату, — обиженно проговорила Орися. — Ему хочешь как лучше, а он…
— Орисенька! — не сдержался Василий и обнял ее. — Не обижайся…
Он приподнялся и ударился головой о выгнутый железный лист.
— Что это?
— Когда-то было голубиное гнездо… Немецкие солдаты на жаркое перебили голубей… А стреха не толстая. Можно прорвать, — говорила она, заметив, как он ощупывает соломенную кровлю. — Ну теперь садись и ее двигайся.
Орися подала ему горячую, покрытую крышкой глиняную миску и деревянную ложку.
— Для такого борща траву рвали. Кушай на здоровье…
Их пальцы, обвившись вокруг миски, встретились. Он дружески сжал их.
— Держи миску, а не мои руки… Доброй тебе ночи и приятных снов. Я пошла…
Уже не слыхать было девичьих шагов, а он, замечтавшись, все прислушивался. Внизу мышь грызла дерево. Под рядном шуршала солома.
Поужинав, Василий отставил миску и поднялся. Он прорвал небольшую дырку в кровле и долго смотрел на звезды. В крышу упиралась ветвями какое-то дерево. Василий отломил маленькую веточку и начал ее грызть. Как ему быть далее, одному, без боевых товарищей?..
Доносилась мелодия, и не своя, что хватает за самое сердце, а чужая, которую напевали, видимо приплясывая.
Василий повернулся к постели, скинул сапоги и лег, вытянув ноги.
«А работу надо начинать. Надо!»
Василий квартировал уже два дня на погребне у Марфы Ефимовны и Ориси Сегеды. Орисю он видел часто. Она тоже скрывалась от полицаев и немцев, которые могли увезти ее в Германию. Дважды на погребню приходила сама хозяйка. Но она делала вид, что ее совсем не интересует, кто сидит наверху, на широких досках. Она набирала из подвала в ведро картофель, сверху клала свеклу, доставала, из бочки огурцы и, закрыв лаз, начинала говорить сама с собой:
— Голубей, проклятые, порезали. Теперь шастают по селу за курами! Их гонят на машинах на фронт под Белгород и Краснополье, так они, ироды, хотят проводы справить! Проводила бы их нечистая сила в самое пекло!
Потом Марфа брала ведро, миску и отправлялась в избу.
На следующий день утром Орися рассказывала, что немцы собираются отъезжать на передовую, а сюда ждут пополнения из Германии.
Солдаты справляли проводы, жарили кур и гусей, паленым пером пахло на все село. Василий опасался, что немцы придут за курами и к Марфе Сегеде.
Но в то же время его волновали новые мысли. Эти солдаты едут на передовую, другие приедут. Раздобыть бы документы одного из тех, что прибудут! Это сделать не так уж трудно. Хуже, что он не знает ни обычаев, ни диалекта того края, уроженцем которого будет солдат — его жертва.
Василий обхватил руками горячую голову. Нет, за коренного немца ему не сойти. А все же добыть документы необходимо. И еще необходимо доставить сюда радиостанцию, кое-какие вещи и оружие. Надо завтра же двинуться в далекий путь…
Скрипнула дверь. Вошла Орися.
— Немцы действительно сматывают удочки?
— Даже переводчика коменданта Хариха отправляют на фронт, — ответила Орися.
Она поставила кружку с горячей водой, подала зеркальце, мыльницу и бритву.
— Братова бритва? — опросил Василий.
— Его… Только туповата. Сумеешь наточить? Побрейся, а то зарос, как старый дед…
— А откуда мыло?
— Одна женщина варит и меняет на картошку или кукурузу…
— Пахнет каким-то жиром…
— А ты не принюхивайся.
— Орисенька… Приготовь мне старую одежду твоего брата, поищи какие-нибудь башмаки…
— И что дальше?
— Пойду на Курщину «менять» вещи на хлеб и продукты, как ходят тысячи людей из Харькова, — ответил Василий.
— Что ж? И я с тобой. Мне безопасней будет, а то того и жди, что заберут в Германию… Пойдем…
— Не боишься?
— Да брейся же, а то мыло засохнет.
Орися исчезла, а он брился, едва сдерживаясь, чтобы не чихнуть. Наконец он облегченно вздохнул и полез к отверстию в кровле — посмотреть на божий свет.
Ветви тополя над крышей уже выбросили клейкие почки. Еще несколько дней, неделя, и, если не ударят заморозки, распустятся молодые, блестящие, тугие листочки. Отдыхавшая под парами земля ждала трудолюбивых рук хлеборобов. А в небе гудели «Юнкерсы» и «Хейнкели», перелетая куда-то поближе к фронту.
«Когда же настанет вечер, а за ним и ночь? — думал Василий. — С рассветом мы отправимся в тот лесок…»
Вечер начался неспокойно. Во двор ворвались гитлеровцы и потребовали у Марфы Ефимовны кур или поросят для банкета. Напрасно женщина заверяла их, что свиней нет уже два года, а кур всего две, и те квохчут.
— А-а! — вдруг увидел солдат Орисю. — Вот какая тут пташка! Девушка, приходи к нам вечером. Потанцуем!
Он не успел договорить, как другой погнался за рыжей курицей. Та с испуганным кудахтаньем помчалась стрелой по подворью.
Унтера охватил азарт. Он бросился за курицей в огород, снял автомат и начал стрелять.
Со двора выскочил еще один солдат, и они вместе прикончили несчастную курицу.
— Долг за вами. Мы его не снимаем, — сказал унтер. — Пусть медхен вечером придет к нам… Ну, пойдем, красавица… — подхватил он курицу и двинулся, распевая куплеты из «Дон-Жуана».
Василий боялся не за себя, а за Орисю и ее мать: с каждым часом он все сильнее чувствовал, что девушка становится для него самым дорогим человеком. Это чувство ворвалось неожиданно. Он засыпал с мыслью о девушке и просыпался, представляя себе ее стройную фигуру, волнистые, густые, коротко подстриженные волосы. Он мечтал о ней и в то же время словно боялся ее близости.
Василий и стыдил себя за эти мысли, и ругал за то, что доныне не смог наладить связи с командованием, не мог сообщать своим вот об этих солдатах, которые собираются на передовую, о тех новых дивизиях, что мчатся из Германии, Франции, Голландии на Восточный фронт.
Пять дней минуло с тех пор, как он передал по радио последние вести о движении врага и сообщил, что они направляются в этот город на выполнение задания. На исходе шестой день, а Василию казалось, что он сидит здесь целый год, нежится мыслями о дивчине, ест горячие борщи из крапивы и мятую картошку с огурчиками. «Ничего себе устроился! Словно приймак. Так воевать можно», — издевался он над самим собой.
На улице солдаты горланили чужие песни. Иногда раздавался женский визг или отчаянный крик.
У ворот соседей Сегеды внезапно сильно застучали.
— Открывай! Не прячьтесь! Все равно найдем и вытащим Орисю за волосы! Слышишь, Марфа? Таков наказ немцев! Что, вам уши позаложило?.. Ломай, Данило Иванович, калитку!.. — проговорил хриплым голосом полицай.
— Тю-ю, дурень! Да это же двор Прокопа Штанько, а не Марфы… Нализался и разглядеть не можешь!..
— Невелика беда…
Василий поспешно собрал вещи, спрятал рядно и одеяло под солому и опустился вниз. Приблизились шаги.
— Они будут искать меня на настиле. У них электрические фонари, — тревожно промолвила Орися. — Бежим на отород…
Бесшумно метнулись они из садика. Возле крайней яблони была яма, поросшая прошлогодней лебедой и дурманом. Орися спрыгнула вниз и потянула Василия к себе.
Грунт в яме был мягкий, но не вязкий. Дно устлано ботвой тыквы, картофеля и даже соломой. Девушка раздвинула руками сухие стебли подсолнечника и исчезла в пещерке.
— Сюда! — прошептала сна. — Ты наступил мне на ногу. Косолапый. Садись на выступ. Как-нибудь поместимся.
Потом она закрыла подсолнечником отверстие в пещерку, и стало совсем темно.
— Ты уже пряталась тут? — едва слышно спросил Василий.
— Ага… Мимо этой ямы уже не раз пробегали полицаи. Не найдут и на этот раз…
А на подворье кричали, ругались, угрожали старой матери. Та громко говорила:
— Орися побежала к тетке в гости!..
— Ба, черт ее туда занес. А нам — кровь из носа! — необходимо сегодня же набрать в Германию восемь человек. А где их взять, когда все такие же, как твоя Орина! — отчитывал полицай мать так, что слова долетали до самой ямы.
— Разве же я над нею командир? — вела свое Сегедиха. — Ты же сам, Омелько, знаешь, какая теперь молодежь крученая. Я ей и так и сяк: поезжай в Германию… Говорят, там и мебель прекрасная, и паровое отопление, и электричество сияет даже в хлевах… А может, она до солдат пошла? Ее звали еще днем. Может, она ужин им готовит…
— Брось заливать, старая! Была бы с солдатами, сюда не пришли бы!..
— И что мне с таким неслухом делать! — жаловалась Сегедиха. — И уродится же такая. Два парня были, те послушные. А Орися…
— Не хнычь… Лучше угости самогоном, мы и скажем пану Хариху, что дочка к родичам пошла… Гей, Данько Иванович!! Ты на погребне смотрел?
— Да светил. Ни черта и там…
— Нет самогону, паны полицаи… Бурачка даже мерзлого не осталось…
— А-а! — выкрикнул Омелько. — Тогда слушай: если ты не уговоришь дочь, спалят хату. А из экономии почему она убежала?
— Докрутится она! Если и не попадет в Германию, то виселицы не избежит! — пригрозил Данько Иванович.
— Да я уж поговорю. Я уж отругаю ее, чтобы уважала мать старую. Такие переживания из-за нее, — приговаривала Марфа, провожая непрошеных гостей.
Прижавшись друг к другу, Василий и Орися сидели в пещерке. Ои думал, что судьба нарочно сводит их так близко. Он отсчитывал удары ее сердца и, сжимая руку, чувствовал биение пульса.
А Орися вспоминала, как эта яма впервые спасла ее от немцев в сорок первом году. Тогда многих девушек согнали чистить картофель на кухне. Войска стояли и в городе и в селе. Орися с подругами чистила, а дежурный по кухне следил за их работой. Показалось ли ему, что они медленно работают, или просто ему было скучно, но он придумал себе забаву: взяв самую большую картофелину, кидал ею прямо в Орисю, в ее подруг. А потом смеялся, хватаясь за живот. Картофелины попадали в грудь, было больно. Но еще больнее было на сердце оттого, что их не считали за людей. Работа прерывалась плачем. Это раздражало дежурного по кухне. Он вздумал поколотить нерасторопных работниц палкой и пошел в другую комнату, к плите, где лежала куча хворосту. Как только Орися увидела в руках у солдата палку, она вскочила, точно ошпаренная, и кинулась через окно на улицу. Прибежав домой, бросилась на огород и спрыгнула в жомовую яму.
Жома там было по пояс. Орися пригнулась. Немец бегал по подворью, как вот сейчас полицаи, и кричал, что это ей, Орисе, так не сойдет. Но найти не смог.
Со временем не стало у Сегеды коровы, опустела и жомовая яма. Орися, углубив ее, устроила там пещерку, закрыла вход стеблями подсолнечника и тыквы. Летом здесь росла лебеда, лопухи, бешеница. Злым людям и в голову не придет, что тут, в десяти шагах от ворот, можно скрыться от опасности.
А сейчас она не одна. С ним!.. Орися заметила, что в последнее время исчезла молодеческая смелость Василия. Он стал каким-то робким, стыдливым. Вот и сейчас держит руку, даже не стиснув ее. Ей казалось теперь, что Василий необычный, героический парень, такой, наверно, может полюбить не каждую девушку, и уж, разумеется, не ее, Орисю, которая и среди своих сверстниц только тем и выделялась, что сумела до сего времени избежать немецкого плена. Что-что, а бегать она умеет! Так говорили об Орисе матери дивчат, которых угнали в Германию. На то и ноги бог дал… «А разве она плохо училась? Может, была бы агрономом или врачом, если бы не война!» — говорила мать.
«Агрономом, врачом», — горько усмехнулась Орется.
Мечты. Мечты… Завтра она пойдет с Василием за грузом, Надо помочь парню. Может, и про нее скажут советски о командиры, что она умеет не только бегать. Сделать все, что скажет Василий. Если надо, то и на радио научится работать. Не святые горшки обжигают.
До встречи с Василием Орися думала больше о себе, считала, что самое важное — убежать от немцев, чтобы не осквернить своих рук работой на фашистов. Она бы и в экономию не пошла, если бы не узнала, что партизаны из Ахтырских лесов советовала людям идти в экономию и сеять. Ведь собирать хлеб придется, говорили, уже при своих, при советской власти.
— А мы не онемели, Орися? — спросил наконец Василий.
— Ага…
— Что «ага»?..
— Слышите? — прозвучал голос матери. — Вот вам узлы с одеждой, и собирайтесь скорее. Завтра нечистая сила принесет опять Омельку или Данько. Здесь все, что просила Орися…
— Спасибо, Марфа Ефимовна, спасибо! — благодарил Василий, вылезая из ямы. — Дай руку! — И он помог Орисе.
— Иди, гость, на погребню, там переоденься, — сказала мать. — А ты, доня, в хату. Поспишь часок, там и заря займется, и двинетесь с богом. Иди, хлопче! — положила она руку на плечо Василия.
— Спасибо, мама, — прижался ом щекой к ее жилистой руке. — Я всю жизнь буду помнить вас, как свою родную мать. Вы такая же: с виду суровая, а душой сердечная…
Марфа пропустила его через воротца, что висели на одном крюке, во двор.
— Малые — неслухи; только отпусти вожжи, они и сядут на голову. Ох-хо-хо-хо… И правду говорят: малые дети — малое гоpe. А вырастут… — промолвила она, махнув рукою.
Широкими шляхами и узкими дорогами двигались по Слобожанщине не только немецкие вездеходы, грузовики, пушки, машины с цистернами, но плелись и истомленные, истощенные люди с котомками за плечами. Люди шли из городов в села менять одежду и случайные вещи на картошку, ячмень, кукурузное зерно, муку. Жить людям как-то надо, и они разбредались во все стороны в поисках драгоценного куска хлеба, которого не хватало для них в большом Харькове.
Вышли на зорьке с котомками и Василий с Орисей. Василий надел просторный пиджак брата Ориси, его серые латаные штаны, обул стоптанные ботинки на резиновой подошве, а на голову натянул картуз с маленьким козырьком, из-под которого торчал пучок светло-русых волос. Чем не парубок!
Орися — в сапогах с хромовыми голенищами, какие очень любят носить слобожанские девушки, в материной гейше с большими черными застежками из крученого сутажа, пришитыми еще в старые времена, в цветастом платке, который мать купила в Богодухове в предвоенный год.
Василий поглядывал на свою спутницу, любуясь ее приветливым лицом, свежим румянцем, и потихоньку улыбался.
— Что тебе?
— Ты — как цветок! А я на нищего похож..
— Нашел цветок!.. А что у тебя штаны латаные, так меньше спросу. Видишь, сколько немцев ездит по дорогам.
— Вижу… Подожди! Вон из машины выкинули конверт… — он наклонился и поднял синеватую бумагу. — Пригодится!
— Зачем это тебе?
— Здесь номер полевой почты… Значит, машины были из определенной части. Так и передадим, когда доберемся до леса.
Они шли и шли. Под вечер у Василия отстала подошва, и он привязал ее тонкой бечевкой. Ноги страшно устали.
— Где мы будем ночевать?
— А как ты думаешь?
— Как и все люди, где-нибудь в селе.
— Нет, Орися. Пойдем полями. Уже недалеко. Еще пятнадцать километров, и будем на коне, как говорят… Что, ноги болят? Ничего, Орися! Надо. Пока месяц взойдет, мы будем в том лесу. Но если ты очень устала, зайдем в какую-нибудь хату.
— Можешь не уговаривать! Пойдем!
Тянулись неимоверно долгие часы. Пальцы на ногах у Василия горели, болели натертые мозоли, он хромал. Если бы можно было скинуть эти башмаки и отойти босиком. Но тут колючий бурьян, а земля ночью холодная.
— Уже немного осталось, — напоминал он через три-четыре километра. Ему хотелось говорить девушке нежные слава, лишь бы она шла, лишь бы не думала об усталости.
— Орисенька! Вот обойдем село, а там и лесок за дорогой. А в том лесу… остались мы впятером. Если бы ты знала, какие они были хорошие — Евгений, Дмитрий, Анатолий и мой напарник — радист Роман. Были! — голос его задрожал, как натянутая струна.
— Да я же не жалуюсь. Расскажи лучше о них, о своих ребятах!
— «Судьба!» — скажут соседи Анатолия, утешая его жену и сына. Судьба! Не балует она нашего брата. И Романа будут поджидать его родные, когда наши войска пройдут через Галичину. Будут писать в часть, командиру, братья и мать Дмитрия. Будут запрашивать, где их сын и брат?.. А Евгений — сирота, ленинградец: отец и мать у него умерли с голоду в блокаду.
— А у него была девушка? — спросила Орися, заслушавшись.
— Была: Нина, беленькая такая, с задумчивыми глазами. Женя показывал мне ее фотографию. Она тоже ленинградка!
— Какие они герои! Не зря немцы и в сорок первом и в сорок автором при упоминании о Ленинграде зубами скрежетали, — сказала Орися.
— Умирая, Евгений оказал: «На тебя надежда!» На нас с тобой надежда, Орися… Ты устала? Давай, я понесу тебя.
Погибшие товарищи Василия, мужественный город Ленина, Нина, которая никогда не дождется своего любимого, предсмертные слова лейтенанта Евгения — все это, сливаясь воедино, взывало, требовало: «Надо. Надо. И не стонать. И не обращать внимания на усталость, на жгучую боль в ногах! Надо!..»
Они снова ускорили шаг. Мягко шелестели старая трава и бурьян под ногами. Лицо обвевал свежий встречный ветерок.
Орися замечталась. Ей представилось, как она с Василием встречает Красную Армию. Он снова идет с армией на запад изгонять фашистов. А там и конец войне. Василий возвращается, и не к себе домой, а сразу к ней, к Орисе. И они вместе, всегда, везде. А потом у них родится доченька или сынок. Если мальчик, то на нее похожий, кареглазый, со слегка вьющимися волосиками. Если девочка — то на него, чтобы была счастливая, такая же сероглазая, немного стеснительная. И улыбка у девочки будет такая же широкая, мечтательная, как у этого разведчика. Мечты, мечты… Орисе стало стыдно за них. И она радовалась, что вокруг темнота и еще не взошел месяц. «А наверно, хорошо быть любимой таким вот, как он!»
Орися посмотрела на своего спутника нежным, внимательным взглядом. Но Василий шел со склоненной головой, шел быстро, видимо забыв в эти минуты, что идет не один. Думает о своем, нерадостном…
Впереди выплыл старый месяц, бросил тусклый свет на степь, на верхушки деревьев, что темными волнами вырисовывались на фоне посветлевшего на востоке неба.
— Орисенька, — внезапно промолвил Василий. — Мы уже дошли. Ты слышишь? Дошли!
Она не ответила. А он остановился, раскинув руки и глубоко вздохнув. Стиснул кулаки, будто только что разорвал кандалы, которыми были скованы его тело, его сердце… Все эти дни он чувствовал себя несчастным пленным, беженцем, которого добрые люди прятали от врагов только потому, что он советский солдат. Но отныне он воин. И он еще покажет врагам, на что способен.
— Орися! Милая! — взволнованно оказал Василий. — Побежали вниз, в лесок, к тому тополю!..
До самого восхода солнца Василий возился с радиостанцией. А потом, свернув и спрятав ее, укрылся с Орисей в кустах орешника.
Орися не понимала, почему Василий такой взволнованный, растерянный. Взгляд его был сейчас чужим, безразличным ко всему окружающему, голова, видимо, занята чем-то важным… Чем?.. Ведь радиостанция надежно упрятана, а если кто и забредет в лесок из людей или даже полицаи, они сразу начнут обниматься, как нареченный со своей милой или муж с молодой женой. Вокруг весна! И что до того, что война! На любовь никто не может наложить запрет, даже во время войны, даже самый злой и страшный враг. Так они условились. И на обратном пути домой они будут выдавать себя за молодоженов, ходивших на Белгородчину менять вещи на зерно. Не повезло: ничего не выменяли, и пришлось и костюм, и жакет, и даже «патефон» нести обратно домой. Почему же он смотрит на Орисю и будто не видит ее? Неужели его так озаботила версия про мужа и жену… Так он же сам ее и придумал. Очень нужен Орисе такой муж! У него, наверно, и девушка есть любимая. Вот он увидел вокруг белый ряст, подснежники и сон-траву и вспоминает свою милую.
Василий снова посмотрел на часы и вздохнул.
— Почему ты такой?.. То радовался, что пришли, что услышал сигналы своего напарника с той стороны фронта, а сейчас… такой?
— Какой, Орися? — спросил он, глядя куда-то сквозь деревья.
— Ты о девушке своей думал?
Он рассмеялся и сказал шепотом:
— Глупенькая ты, Орися…
— Я Знаю, что у тебя есть где-то умная! — В голосе ее он уловил нотки ревнивого укора.
Василий молчал: ему не хотелось говорить. Он думал о командирах, которые уже прочитали его радиограмму и теперь советуются, что ему ответить. Поверят ли информации Василия там, за линией фронта, откуда отчетливо долетает громыхание артиллерийских батарей? Поверят ли?
Командир хорошо знал Василия, который дважды по его заданию ходил в глубокую разведку. Командир и рекомендовал его в партию. Он не может не поверить Василию, точно так же как Василий не может подвести своих товарищей, свою армию. Ему было бы сейчас в десять раз легче, если бы хоть один из товарищей был с ним. Но он один. Сам себе командир и солдат, сам судья поступкам своим, думам своим. Да разве еще Орися, о которой он все рассказал в своем длинном и невеселом сообщении.
Он еще раз посмотрел на часы. Уже время слушать ответ командования.
— Орися! — обратился он к ней озабоченно. — Ты смотри вокруг и слушай внимательно, пока я буду работать.
— Буду смотреть и слушать…
— Если что-нибудь случится, переломи палку…
Орися отошла на бугорок и спряталась за дубом. Отсюда далеко видно, да и слышно лучше.
Вокруг пробуждалась, расцветала природа. Что-то новое как будто рождалось в душе девушки. Что?.. Может быть любовь, о которой Орися пака избегала думать. Как хорошо в лесу. Звонко щебечут птицы, ярко сияет солнце в чистом иебе! И сердце словно поет. Нет, Орися, гони от себя эти призрачные мысли. Тебе приказано слушать и смотреть. Среди этой роскошной природы ходит сама смерть. Смотри и слушай, а увидишь беду, переломи палку.
Она вздохнула так тихо и осторожно, будто боялась, что этот вздох услышат враги.
Гудели машины, скрипели возы на дороге. Вдалеке прогрохотало, словно там шумел дождь, и под громовые удары небо пересекли зарницы. Там фронт… Там готовится освобождение родной земли. Оттуда уже мчатся сигналы и к аппарату Василия. Наверно, радист, забыв обо всем на свете, погружен в передачу. Орися еще напряженней вслушалась. Ей казалось, что ома ясно различала, как копошились рядом муравьи и по дубовой коре ползли гусеницы. Но вот снова загудело на шляху, загремело на фронте.
— Орися!
Василий, положив в один мешок радиостанцию, в другой батареи, звал ее.
— Так скоро?
— Да, оттуда текст небольшой…
— Можно узнать, что там? Секрет, да?
— Да я еще сам не знаю, — ответил он. — Надо сначала расшифровать передачу. Если бы сразу можно было читать, тогда бы и враги знали!..
Орися взволнованно опросила:
— А если твою станцию, как это называется… В школе я от физика слыхала это слово… Ну, — покраснела девушка, — если твою станцию засекут немцы…
— Запеленгуют? — переспросил Василий и усмехнулся. — Волков бояться — в лес не ходить. У меня же станция не горластая, тихая, маломощная. Таких, как она, сейчас в эфире работают сотни, на всех и пеленгов не хватит.
— Вот как? А я стояла в кустах и боялась. Вдруг, думаю, накроют снарядами, — призналась Орися.
— Нам больше надо спасаться пеленгов на земле — глаз и ушей гестапо и полиции.
Она видела, как у него дрожала рука с карандашом. Он производил какие-то подсчеты, комбинировал цифры, которые были нанесены на длинную бумажную ленту. Что же ему написали начальники? Она сама начала волноваться, точно это известие касалось ее лично.
Он поглядел на девушку расширенными глазами и едва усмехнулся.
— Что там, Василек? — тревожно выкрикнула Орися.
— М-мне верят! Верят! — воскликнул он.
— Тише… ти-ше, — предостерегающе подняла вверх руку Орися.
Василий решительно приблизился к Орисе, схватил ее за плечи, прижал к себе и начал осыпать поцелуями. Он припал к ее губам, как жаждущий человек припадает к источнику с чистой и свежей водой.
Она упиралась, отталкивала его, но успела только сказать: «Да что ты, одурел?..» и снова почувствовала на губах, на щеках его крепкие поцелуи. А потом сама обхватила его шею крепко, крепко и неумело поцеловала.
Сердца их бились взволнованно, сильно. Это биение словно услышал дятел на дубу и приостановил свою работу. Вот он повернул к ним свою головку и неутомимый клюв.
— Ну, чего ты смотришь, рябокрылый? — обратилась Орися к птице. — Отвернись. А то, видишь, краской залило все щеки!.. — а потом к Василию: — Говорят, в тихом омуте черти водятся. Ты так внезапно… Мне даже страшно, — промолвила она боязливо.
— Так я же люблю тебя. Понимаешь — люблю.
— Не верю… Это от радости, что поговорил со своими.
— Ты не веришь?.. Неужели я похож на человека, который может обмануть единственного оставшегося у него друга?
— Кто знает… Как будто и не можешь, — развела руками Орися, поправляя рассыпавшиеся волосы.
— А ты меня любишь?..
Время помчалось быстро-быстро.
Уставшая Орися заснула. А он, поддерживая ее руками, вглядывался в счастливое лицо девушки, на котором и во время сна застыла улыбка. Смотрел и прислушивался к тому, как гудело, гремело на фронте и расцветало вокруг в лесочке, как их любовь.
Под вечер Василий и Орися вышли на шлях. Они теперь направлялись на юго-запад, и солнце светило им в лицо.
Василий разулся, — идти дальше в разбитых башмаках было нестерпимо. Земля уже потеплела. Да и босоногий мешочник меньше привлечет к себе внимание немцев, проезжавших на машинах и мотоциклах.
Они нагнали трех женщин с котомками и разговорились с ними. Женщины были из Харькова. Почувствовав в Орисе и Василии своих, они рассказали, как там голодно; фашисты, разъяренные неудачами на фронте, совсем остервенели: ежедневно расстреливают и вешают на фонарях харьковчан.
— Выменяли что-нибудь? — спросил их Василий.
— Немного проса и мешочек кукурузных початков, — ответила женщина. — А вы?
— Возвращаемся ни с чем…
— А за плечами что у вас такое громоздкое?..
— Патефон… — безразличным тоном ответил Василий.
— Молодой такой, а с музыкой носится! — вмешалась другая. — Наши сыновья на фронте, а ты с патефоном…
— Да что вы налали на парня? — заступилась первая.
— Я хворый. Вот и жена скажет, — ответил Василий, показывая на Орисю.
Те умолкли, и Василий облегченно вздохнул. Не хватало еще выслушивать упреки от этих женщин и краснеть перед ними.
Шлях пересекала другая дорога. Спутники остановились и стали прощаться.
— Нам сюда, — сказала женщина, которая раздобыла проса и кукурузы. — Пройдем Дергачи, а там и дома…
— Дома, — криво усмехнулась другая. — Еще верст шестьдесят. Да как еще не пустят люди ночевать, «подомкаешь», Капитолина Ивановна!
— А нам сюда, на Богодухов! — сказала Орися. — Счастья вам, тетеньки.
— И вам, деточки! А ты не сердись за те слова, парень. Не всем же и в окопах быть. Да, может, и болезнь какая у тебя. Хотя на вид ты как будто молодец. Приодеть бы тебя — на всю губернию парубок! — обратилась женщина к Василию.
— Я не обижаюсь, — вздохнув, потупил он глаза, глядя на свои босые ноги.
Они расстались, и женщины, навьюченные котомками, исчезли среди серых полей.
Орися так было разговорилась с этими женщинами, что и не заметила, как пролетели два часа. В компании было веселее. Вот только Василий молчал, обидевшись на незаслуженные упреки. Но что поделаешь? Такая его сейчас служба в армии — порой приходится терпеть напраслину, обиды и молчать.
— Может, ты бы надел башмаки? Холодно становится…
Василий остановился и огляделся. По дороге, замедляя ход, мчался мотоцикл. Засунув руку за борт пиджака и нащупывая рукоятку пистолета, Василий подумал: «Какого черта надо этому водителю?» Он смотрел исподлобья на солдата в кожаной куртке и таких же штанах, заправленных в длинные и гладкие голенища сапог.
— Неужто остановится? — прошептала Орися, схватив руку Василия.
Им бы сразу пойти полем, а Василий уверял, что днем полем идти небезопасно, скорее могут заметить и выслать полицаев или солдат. А на дороге они, как все люди, бредущие с котомками.
Водитель затормозил около них.
«Ладно, подходи, спрашивай. Получишь пулю в лоб!» — Василий посматривал, нет ли на дороге еще мотоциклов или автомашин.
— Алло! — крикнул водитель, оторвав от руля правую руку. — Где ты, босяк, такую красавицу подхватил? — спросил он по-русски.
— Жена моя, — едва промолвил Василий, к горлу подкатил давящий клубок и стал мешать дыханию.
Водитель смерил Василия взглядом с головы до босых ног и завистливо поглядел на покрасневшую от волнения и страха Орисю.
— Не девка — картина! Далеко еще до села?..
Орися вздрогнула: водитель назвал ее родное село и ближний город.
— Да верст с тридцать! — ответил Василий.
Мотор застрекотал громче, и машина подалась своею дорогой.
— А я испугалась, думала, он остановится, — выдохнула Орися. — Хай он сказится!..
Василий шел по самому краю дороги, у обочины, подальше от машин, мчавшихся в ряд.
Вскоре они спустились в овраг. В овраге под дощатым мостом протекал неглубокий узенький ручеек, в котором собралась талая вода. Перед мосточком — большая лужа, в ней и застрял мотоцикл, который минут десять назад обогнал Василия и Орисю.
— Босяк! — крикнул водитель, вытирая рукой потный лоб. — Тащи машину! — и он выхватил пистолет, наставив его на Василия.
— Орися, заговори этого дьявола, — прошептал Василий и, положив возле канавы свою котомку, пошел к мотоциклисту.
— Так, говоришь, жена твоя? — недоверчиво спросил мотоциклист.
— Моя.
— Поработай, а я отдохну немного. С женой твоей потолкую, — сказал он, поглядывая на Орисю и подмигивая ей.
— Откуда вы научились говорить по-нашему? — спросила Орися.
— Я все могу! — похвастал тот и вышел на сухое место. — Я из Люстдорфа, из-под Одессы. Колонисты мы. Слушай, босяк, брось рисовать картину. Быстрее. А то я…
Василий попытался вытащить трехколесный с коляской мотоцикл на пригорок. Но его ноги погружались все глубже, а машина едва двигалась. Время от времени он бросал взгляды на колониста, который, стоя с Орисей, заглядывал в ее покрасневшее лицо.
— Он у тебя что, придурковатый? Ходит босиком в такую пору? — опрашивал водитель, кивая на Василия. — Вот картина!
— Да уж какой есть… Хорошие все на войне.
— Скорее! — торопил колонист Василия и снова обратился к Орисе: — Что же вы несете?..
— Менять ходили. — У нее похолодело сердце: немец наклонился над котомкой.
— П… пан, — раздался голос Василия, — машину вашу вытащил…
Одесский немец разогнул спину и, ущипнув Орисю за локоть, сказал, чтоб она шла следом.
— А муж твой пусть несет мешки сам: тебя я подвезу!
Орисе стало страшно: в глазах колониста заиграли огоньки, рот растянулся в плотоядной усмешке.
Василий затрясся от гнева, но постарался как можно спокойнее обратиться к мотоциклисту.
— Можете заводить свою самоходку, пан!
— Теперь ты мне не нужен! — засмеялся тот, снова вынимая пистолет.
Орися вмиг заслонила собою Василия и начала слезно умолять:
— Не убивайте. В ноги вам поклонюсь.
Но колонист и не собирался убивать мужа этой хорошенькой женщины. Он только и ждал от нее такой просьбы, ждал, чтобы она поклонилась ему в ноги. Его глаза ощупывали стан Ориси.
— Садись в коляску!.. Я не буду его убивать. Не трясись, — обратился он к Орисиному мужу. — Стану я пулю гратить на такого..
Василий побледнел. Мысль работала молниеносно. Один миг — и ударом кулака в висок он сбил колониста с ног. Взмахнув руками, тот упал в трех-четырех шагах от них, растянувшись по другую сторону кювета. Василий подул на затекшие пальцы. Он даже не поверил, что удар подействовал так ошеломляюще. Орися подняла с земли пистолет мотоциклиста.
Как быть? Необходимо спрятать куда-то мотоцикл, отнести оглушенного хвастуна, не забыть и про котомки…
— Тащи за рога этого черта, — указал Василий на мотоцикл.
Василий торопился. Он нервно стаскивал с колониста куртку, поворачивая его со спины на бок, на живот. Стремительно надел картуз, перекинул через плечо полевую сумку.
— Эй ты, живой, тип из Люстдорфа? Вот тебе и картина!.. — тормошил он колониста. Но у того голова бессильно свисала на грудь.
Василий стукнул еще рукоятью пистолета по голове мотоциклиста. Потом положил его в канаву, окрутил руки ремнем и заткнул куском его же сорочки рот. Прислушиваться, дышит ли он — не было времени. Поблизости гудели машины.
— Вот вещи, и мигом под мосток. А я постою около мотоцикла. Ну! Быстро, Орися! — приказал Василий.
— Там же вода…
— Быстро! — повторил Василий, вытирая пот.
Он наклонился, делая вид, что возится с мотоциклом, и поглядел на горку, откуда должна была выскочить автомашина.
Орися по щиколотку в воде под мостиком едва удерживала в руке две котомки.
Над нею застучало. Ей показалось, что треснула одна доска.
Что бы подумала ее мать? Она провожала ее с плачем; испугалась сразу от сообщения, что у них будет скрываться советский солдат. Не в лесу же они живут. Кругом войска, комендатура, дороги. Да еще свои псы — Омелько и Данько следят за каждым шагом, чтоб у них обоих очи на лоб повылазили! Бесчестные… Как они будут смотреть на людей, когда вернутся наши? Знала бы мать, сколько страданий довелось перенести ее дочери за последний день, вот за эти минуты!
«Доля моя несчастная!» — шептала Орися, сжимая утомленными руками узлы с радиостанцией и батареями…
— Давай мне узлы! — Василий помог девушке выбраться из-под моста. — Иди дорогой. Я тебя догоню…
Василий подошел к немцу, лежавшему в придорожном кювете, вытащил у него изо рта кляп.
— Очухался? — склонился Василий над пленным.
— Что? — едва слышно промолвил тот. — Пить..
— Кто тебя знает в городе? Комендант знает? — расспрашивал Василий, рассматривая отобранные у мотоциклиста документы. — Знает тебя комендант Харих в лицо?
— Нет… Я там никогда не был… — еле-еле выговорил мотоциклист.
— А из дому давно?
— Школа, — бессвязно проговорил тот, — учился… Еду к Хариху… Ой-ой…
Василий все время надеялся раздобыть документы какого-нибудь офицера или немецкого солдата и побаивался, сойдет ли за настоящего немца. И вот он, счастливый случай! Сразу же, как только остановился мотоцикл, Василий твердо решил, что не уйдет без трофеев. Какой же из него разведчик, если он не воспользуется таким случаем! Утром командование передало ему по радио: «Работать в меру своих сил и возможностей. Более подробные указания потом». Ему повезло, что немец — колонист из-под Одессы, и в то же время как-то мутило от мысли, что этот человек, как и он, учился некогда в советской школе, возможно, как и он, был в комсомоле..
— Какой черт заставил гебя служить фашистам? Слышишь, Роберт? Молчишь?..
Прошло с четверть часа. Орися уже замерзла, сидя на обочине дороги. Невдалеке, словно в подземелье, прогремел глухой выстрел. Темнота все более окутывала землю густой сеткой. В небе гудели самолеты. Огненные рукава прожекторов протянулись по всему небосводу.
Орися вздрогнула. Перед нею стоял Василий — в кожаной куртке, на одной, пуговице которой висел фонарик, в кожаных штанах, в сапогах с гладкими голенищами.
— Мадемуазель, — сказал он. — Будем знакомы!.. Роберт Гохберг! Новый переводчик коменданта гауптмана Хариха!..
— Что ты мелешь? — удивленно отшатнулась Орися от Василия.
— Так надо, дивчина! Жаль, что он не все рассказал мне.
— А как с машиной?
— Поедем! Теперь можно и в селе заночевать. Полицай и староста лучшую хату отведут нам!
— Ты с ума сошел! А как же мне? Люди подумают, что я какая-нибудь потаскуха. Что ты наделал? Зачем тебе это? Иди от меня!..
— Спокойно, барышня! Так надо. Держи язык за зубами, посматривай на меня при людях влюбленными глазами и будет аллее ин орднунг! Ферштеен зи?..[1] — и тут же прибавил ласково: — Садись! Я устал до изнеможения. Даже руки трясутся, будто кур воровал, как солдаты в вашем дворе! Поехали, Орися! Друже мой верный!
…Назавтра в полдень перед комендантом гауптманом Харихом предстал молодой, чисто выбритый и подтянутый новый переводчик — Роберт Гохберг. Он подал капитану документы.
Вчера ночью Василий долго сидел над этими документами, приклеивая вместо чужой свою фотографию. Кусочек фото был испещрен штрихами печати — орла со свастикой в когтях. Фотография и другие бумаги, которыми не довелось воспользоваться разведчикам лейтенанта Евгения, сохранились в упаковке радиостанции.
Трудно, очень трудно было вчера Василию преображаться в Роберта Гохберга. Случилось это в избе сельского старосты. Хозяину выло приказано закрыть ставни, окна, засветить лампу, словом создать все условия для работы Роберту, потому что тот должен был без отлагательно «подготовить» документы для высокого немецкого начальства. Орися мыла и чистила сапоги своего пана, отглаживала ему мундир. А потом, утомленная необычайными происшествиями, заснула на пуховиках, любезно предложенных хозяйкой.
А Василий еще долго изучал вещи, которые находились в чемодане Гохберга, его письма, фото, карты, бумаги. Кое-что он все же узнал о Роберте. Тот и вправду был из колонистов, жил на берегу Черного моря. Недавно закончил специальные курсы, где таких предателей готовили к службе в комендатурах и отделениях гестапо. Василия мучила только одна мысль: «Знал ли Роберт кого-нибудь из начальства, к которому направлялся на службу?» Из писем этого не видно. Да и сам Роберт расспрашивал у них с Орисей, далеко ли до их села. Будь что будет! Без риска не выполнить возложенной на него задачи…
И вот теперь наступил момент испытания и проверки. Может, смерть подстерегает Василия за дверью.
Посредине кабинета за большим столом в кресле сидел комендант. Вдоль стены выстроились кривоногие стулья. Нижние стекла окон закрашены, а сквозь верхние видны тонкие ветки с проклюнувшимися почками, из которых вот-вот распустятся листочки. За окном солнце, небо, расцветает природа. А тут портрет почерневшего от злобы Гитлера, неприглядная, похожая на уродцев мебель. Фашистский комендант, который сжимает в подагрических пальцах документы нового переводчика.
На среднем пальце коменданта поблескивал перстень с черепом — излюбленной эмблемой гитлеровцев. Василий не сводил с него глаз. В груди у него похолодело. Он чувствовал, как кровь отхлынула от головы, от щек. А может, он дал маху, добровольно надев на свою шею такое ярмо, из которого уже не вырваться?
«Кар… Кар…» — вдруг каркнуло на всю комнату.
Василий вздрогнул, оглянулся.
— Что с вами, Роберт Гохберг? — шутливым тоном спросил Харях. — Моя птица вас напугала? А вы похудели! — продолжал он, взглянув на побледневшего Василия. — На фото вы округлее…
— Так точно, господин капитан!
«Не вздумал ли он поиграть со мною, как кот с мышью, да еще с той, что сама попала в пасть?» — подумал Василий. Казалось, сердце вот-вот разорвется в груди, но мозг твердил: «Спокойно. Не так часто приходят к этим зверюгам переводчиками советские лейтенанты!»
— Та-ак, — протянул Харих и, поведя седыми торчащими бровями, опросил: — Чему же вас, Гохберг, учили на курсах?..
— Выполнять приказы начальства. Всего себя отдать Германии и великому фюреру, господин капитан! — выкрикнул Роберт, вытянувшись.
Харих вдруг нажал на звонок пальцем, на котором был перстень с черепом. Череп разрастался в глазах Василия, заслонил всю руку капитана. Мозг сдавило. А на устах усмешка, от которой до слез — одно мгновение.
— Господин лейтенант! — обратился Харих к вошедшему офицеру. — Это наш новый переводчик. Из одесских немцев. Когда я закончу с ним, познакомьте его с коллегами.
— Слушаю, господин капитан!..
— А это — лейтенант Майер, — обратился Харих к Роберту Гохбергу, — знакомьтесь…
— Очень приятно! — склонил Роберт голову. У него отлегло от сердца.
Майер вышел таким же твердым шагом, как и вошел.
— Я рад, что вы не девица и не дама… Вы удивлены? — спросил капитан. — Ухаживания офицеров за переводчицей, вино, вздохи… Не люблю всего этого!.. — он подал бумаги Гохбергу. — Так… Хорошо также, что вы не коренной немец. Мы плохо знаем местных людей. Очень плохо! Потому и расплачиваемся кровью. Начните с того, чтобы у нас среди тех, — показал он на окно, — были надежные люди. Я даже полицаям не всегда верю. Идите знакомиться с офицерами, потом загляните к старосте. Вам придется часто иметь с ним дело. Да и квартиру он вам найдет…
Наконец Роберт Гохберг вышел в коридор и поспешно вытер со лба холодный пот. …Орися не отрывала глаз от окна. «Что с Василием? Как принял его комендант Харих?.. И надо же было им встретить этого хвастливого переводчика Роберта!»
Но вот и он, виновник Орисиного беспокойства, вышел из школьных ворот.
«Идет! Размахивает руками, как на параде. Как легко он превратился в немца! Вот, нечистая сила!»
— Чего ты? — спросила неожиданно мать, сидевшая на деревянном диване за шитьем.
— Мама! Только — ни-ни! — предупредила дочь. — Наш Василий… — и покраснела, прикусив язык.
— Быстро он стал нашим…
— Да я не про то… Он работает у немцев, у самого Хариха! — шептала дочь.
— Что? — от неожиданности мать выронила из рук работу.
— Так надо!
«Горе-то какое! — подумала мать. — Молодые, красивые. Встретиться бы им в добрый час…»
— Пошел он! — подбежала к окну Орися.
— Куда?
— Во двор к старосте…
— Доня, доня! Что же это будет? Не говорила ли я тебе!..
— Что говорили, мама?..
Матери и вправду было трудно ответить. Не хотелось старой трепетать, а придется — ежечасно, ежедневно — и не только за дочь, а и за ее необычного приятеля.
— Мама, Кажется, к полицаю Омельке. Пошел! — объявила минут через десять Орися и тише добавила: — Зачем бы ему идти туда?
— А бог его знает! — тяжело вздохнула мать.
Прошел еще час, раньше чем Василий — Гохберг вошел во двор вдовы Сегеды. На пороге он чуть не столкнулся с Марфой Ефимовной. Та на ходу завязывала платок. Взглядом поискал сочувствия в глазах старой. Но она и не посмотрела на него. Через плетень он увидел, как мать присела на трухлявые вербы, лежавшие под вишнями.
Тяжело вздохнул Роберт и побрел в сени, будто напиться.
Орися тут как тут — зачерпнула кружкой воды из бочонка и подала ему.
— Тебе тяжело? Я тоже переволновалась. Почему молчишь?
Он жадно пил холодную чистую воду и напряженно думал. Итак, надо играть определенную роль. Может, изобразить перед фашистами ухажера за хорошенькими девушками?.. Молодость. Беззаботная пора. Ведь настоящий-то Роберт теперь, наверно, искал бы такой легкой жизни, пошел же он не на фронт, а на курсы, которые готовили наймитов для харихов. А как он приставал к Орисе…
— А, Орися? — спросил он, ставя кружку на скамью.
— Ты о чем?
— Да все о том же… Беспокоюсь, как мне жить дальше.
— Попал в волчью стаю, и вой по-волчьи, иначе они тебя скоро раскусят, — встравоженно ответила девушка.
— И я так думаю. Надо выть…
— Садись, Роберт ты несчастный, — недовольно произнесла Орися, проходя в горницу и указав на стул из гнутой лозы. — Зачем ходил к Омельке?
— Надо поначалу полицаев и старосту посетить. Я должен их знать как облупленных.
— Их и так все знают. Староста человек ничего. А Омелько и Данько, как мать говорит, не приведи господи… Чего ты шаришь глазами по стенам?..
— Давно не был в такой нарядной и уютной избе.
Его взгляд радовали и вышитые полотенца с цветами и петухами, и ковер над железной кроватью с белыми блестящими шариками. На полотне расшиты большие красные маки; слева стоит девушка, против нее парень, а вверху летят птицы. Василий усмехнулся.
— Это ты вышивала?
— Еще в сорок первом, когда кровать купили. Плохо?
— Да нет, ничего…
Стены были густо увешаны фотографиями в рамках всевозможных размеров. Карточки висели и по одной, и группами, словно на витрине у фотографа. Орися показала Василию своих братьев — Степана и Петра. Степан на Ленинградском фронте, а от Петра успели получить письмо за те две недели, когда тут были советские войска. Орися показала и письмо.
— Полевая почта нашего Воронежского фронта! — обрадовался Василий. — Орися… — нерешительно начал он погодя.
— Что?
— Ты говорила, чтобы я выл по-волчьи… Так надо… Я надумал вот что: буду изображать из себя легкомысленного, беззаботного сынка колониста, которому отец с матерью постоянно втемяшивали в голову: когда придут арийиы, он-де станет властителем над нашими людьми. Ты видела, какой это был тип? А таких, как он, немало. С таких и спросу меньше. За ними не так следят гестаповцы… Надо, чтобы ты была…
Глаза у нее стали большими, гневными.
— Была моей возлюбленной… Я люблю тебя и буду любить да самой смерти… Но перед людьми, перед комендантом надо… Тогда за тобой перестанут охотиться, чтобы увезти в Германию… — говорил он, волнуясь.
— Лучше я в Вороклу брошусь, а такай не буду! Нет! — выкрикнула девушка. — А про людей ты подумал? Что Галя, Катя, Марина, все наши девушки что скажут, когда увидят меня с переводчиком коменданта? Что? Молчишь? — И она заплакала горькими слезами.
Что ответить Орисе? Как утешить? Рискуя жизнью, она не побоялась прятать Василия на погребне, не страшилась пойти с ним в лес за радиостанцией, а теперь боится… своих людей, а не врагов, не фашистов. «Что окажут девушки?» Известно что. Скажут: «Орися таскается с немцем». А женщины будут обзывать оскорбительными словами ее, такую чистую.
Василий мучительно тер виски, закрыл глаза.
— Успокойся. Наступит время, и ты уйдешь к партизанам, к Ворскле. Пойми, с твоей погребни мы будем передавать нашим братьям за Белгородом, какими путями им идти, чтобы меньше крови проливалось, крови наших людей. Мы обязаны! — шептал он. — На нас с тобой надеется сам командующий фронтом!..
Орися молча вытирала слезы.
— Если ты меня любишь, то ради любви нашей…
— И откуда ты взялся на мою несчастную голову!
И опять тихо. Орисе представлялось, что с фотографий на нее глядели живые глаза братьев и взгляды у них были укоризненные: «Надо помочь ему, Орися! И любить его надо. Он же тебя любит».
«Так… Так… Так…» — словно подтвсрдили дорогие сердцу слова и стенные часы, отстукивая новые секунды в их невероятно сложной и опасной жизни.
— А люди?.. Что скажут люди?..
И побежала жизнь разведчика двумя потоками: одна — Робертова — в комендатуре с врагами, другая — Василева — в Орисиной хате.
Работы у коменданта хватало. Немецкие власти временно прекратили мобилизацию молодежи в Германию. Но все физически здоровые люди из сел и городов обязаны были выходить на оборонные работы. Под усиленным конвоем, как арестантов, гнали фашисты крестьян, служащих и рабочих бездействующих сахарных и винокуренных заводов в степь. Там, под присмотром войсковых инженеров, люди копали противотанковые рвы и траншеи, совместно с солдатами сооружали у шоссейных дорог дзоты. Возле школ и заводов, в парках и рощах, которые так любовно оберегались в мирное время, теперь стучали топоры; словно змеи, шипели пилы. Фашисты безжалостно уничтожали столь драгоценный для степных районов Украины и Курщины лес. Тысячи дубов и тополей, едва выкинувших свежий лист, погибали в эти солнечные, весенние дни. За их стволами во время боев с советскими войсками будут прятаться немецкие пехотинцы и артиллеристы.
На служащих комендатуры возложили ответственность перед военным командованием за выход местных жителей на работу. Вместе с полицаями и старостами они проводили много времени в степи, возле проезжих дорог, на объектах.
Погнали на рытье окопов и Орисиных подруг, Галю и Марину. Вернее, прежних подруг. С того дня, как узнали они, что за Орисей таскается Гохберг, девушки отвернулись от нее. Идя под конвоем на работу, они не забыли напомнить полицаю Омельке:
— Не порядок, пан полицай! Мы должны работать, а Орися отлеживается.
— Да она с немчиком… Целоваться тоже работа! — насмехалась Марина.
— А может, вы бы прикусили языки! Завидно стало! — слышался рассерженный голос.
— Чему завидовать? Продажной шкуре?!
— Молчать! — гудел конвой.
Это голос Омельки. Хотя Омелько знал, что Орися подгуливает с новым переводчиком, все же он был не против того, чтобы и она погнула спину на окопах. Семью Сегеды Омелько не любил еще с довоенных лет. Знал всегда, что за штука Орися. И Омелько даже подумать не мог, чтобы она стала любовницей переводчика. «Вот и ожидай от этих баб! Они на все способны!» — осуждал Омелько Орисю, словно не он пошел на службу к немцам и не он предавал честных советских людей.
— Ладно! Я и Орисю выгоню на работу. Никому — так никому, и никакой поблажки! Такой уж новый порядок у панов немцев! Не то, что у наших! Дисциплина!
В это утро Роберт рано покинул домик старой одинокой Гарпины, где он снимал комнатку. Село давно уже проснулось. Люди успели вытопить хаты, и им приказано было идти на работы.
— Пан Роберт! — По хриплому полосу Роберт узнал полицая Омелько.
— Чего тебе?
— Да вот опять… Аришка не хочет идти на окопы. Обвязала голову полотенцем и говорит, что больная. Врет! Здорова, как телка. И мать не идет. Говорит, что старая… — докладывал Омелько, расправляя на плече ремень от винтовки.
У Омельки были старые счеты с семьей Сегеды. В сороковом году попробовал он выводить по ночам чужих телок, резал их с помощью своих дружков и отправлял мясо в Харьков, — поездом или на грузовых машинах. Украли они телка и у Сегеды. Те подняли шум. Милиция нашла в Омелькиной кладовой мясо. Его судили. С приходом немцев, однако, Омелько вернулся в село и уже больше двух лет издевается над своими односельчанами.
— Хорошо. Я знаю. Но тебе советую: если хочешь жить в мире со мной и комендантом, не трогай Орисю и ее мать…
— Напрасно вы к Аришке подъезжаете!.. И что вы нашли в ней привлекательного? Девка с норовом… Смотрите, чтоб не отравила вас. Эта все может! — шепотом предостерегал Омелько.
— Ты не забудь, что я тебе сказал!
— Да кто же захочет с комендантом враждовать… Да и с вами.
— Договорились?
— Ладно, пан! — согласился Омелько и, приложив согнутые ладони ко рту, крикнул — Гей, там Мирошниченковы! Пора! Вот народ! К каждому приди и каждому постучи. Пораспускались! — ругался он.
Еще на той неделе Харих решил перенести комендатуру из школы в дом, где до войны была амбулатория. В школе Харих побаивался русских самолетов: дом большой, заметный с высоты. В бывшей амбулатории комнаты, правда, поменьше, но рядышком помещение довоенной почты, приспособленной под тюрьму: окна все перечерчены железными решетками. Справа от тюрьмы открывался живописный вид — пруд, окаймленный вербами. Гауптман Харих любил природу. Он даже собирал коллекцию почтовых открыток с ландшафтами.
Возле комендатуры уже стояла машина Хариха. Шофер, сидя в кабине, грелся на солнце. Роберт поздоровался с ним и справился, как идут дела. Шофер ответил полусонным голосом:
— Сегодня поедем под Белгород.
— Что же так далеко?
— Господин гауптман не один… С ним поедет оберст-инженер из главного штаба…
Роберт не стал дальше расспрашивать. Он догадывался, что приезжий полковник интересуется будущими оборонительными рубежами, и побаивался, что Харих может теперь не взять его с собой. Накануне он нашел в Орисином альбоме три открытки из серии «Украинские типы и виды природы», отпечатанные в Швейцарии еще в 1916 году. На одной из них — речка Ворскла с ее извилистыми живописными берегами…
Вдруг Роберт стал навытяжку. К машине в сопровождении Хариха, сейчас такого подобострастного и суетливого, приближался оберст-инженер в кожаном плаще и высокой фуражке с фашистским орлом.
— Прошу, — предложил Харих полковнику место возле шофера. — А это мой переводчик Гохберг.
Оберет небрежно кивнул головой.
Видно, гость был важной птицей, потому что капитан, сидевший на заднем сиденье с переводчиком, не осмеливался заговорить первым. Инженер-полковник тоже молчал, глядя куда-то в сторону.
Сухощавое, морщинистое лицо полковника застыло в мечтательной улыбке. Ему, Иоахиму Тиссену, обещан после сооружения укреплений на Белгородско-Харьковском плацдарме очередной железный крест. Обещал сам генерал Ганс Шпейдель. Вместе с Шпейделем Тиссену выпала честь быть гидом фюрера по покоренному Парижу. Тогда Тиссен завидовал Шпейделю. Тот умел разговаривать с самим фюрером. После Франции Шпейдель быстро пошел вверх, не то, что он, Тиссен. Ганс Шпейдель даже царапины не имел за всю войну, а Тиссен дважды ранен. Но начальство его как будто не замечает. Чины по-настоящему он стал получать только здесь, на Восточном фронте.
А Шпейдель уже генерал! Везет же людям. Так и до командующего можно дослужиться! Шпейдель умел шагать по лужам крови, не запачкав подошв, потому что надевал «галоши», которые потом выбрасывал прочь. Он, конечно, может далеко пойти — хитер…
Да что Франция… В боях с русскими Ганс Шпейдель на случай отступления разработал новую тактику — «мертвой, выжженной земли». Воронеж уже не город, а груда развалин. Харьковские заводы во время недавнего зимнего отступления по приказу Шпейделя сровняли с землей. В дни, когда русские начали наступление под Сталинградом, затапливались шахты Донбасса. А в случае чего — пепелищем станет вся эта земля, все украинские села и города. Такова тактика доктора философии Ганса Шпейделя. И среди исполнителей его воли — ои, оберст Иоахим Тиссен.
Тиссен закурил сигарету и нервно выбросил догоравшую спичку.
Но здесь не все будет уничтожено. Войска фюрера начнут отсюда, из этих степей, неслыханное доныне наступление на север и восток и разгромят большевистские дивизии. Быстрее бы строились укрепления, быстрее бы фюрер присылал новые, мощные бронированные машины — славу и гордость Германии. Быстрее бы…
Тиссен сжимал пальцы, покусывая длинный мундштук.
Шофер наклонился к рулю «Оппеля». Солнце осветило задумчивое, сосредоточенное лицо полковника, выглядывавшее из-под высокой фуражки с гитлеровским орлом. Согнутая тень оберста упала на землю. Она напомнила Василию большую хищную птицу.
— Можно? — капитан Харих осмелился испросить разрешение зажечь папиросу.
— Курите! — сухо отозвался Тиссен.
Долгое время ехали молча.
— Эти скоты работают так, словно неделю не ели! — промолвил Тиссен, указав рукой на овраг. — Останови машину!
Оберст-инженер, гауптман и переводчик подошли к людям, которые копали ров. Конвоиры подтянулись, словно проглотили шомпола.
— Кто выбросил меньше всего земли? — спросил оберет у немца с автоматом.
Солдат указал на сгорбленного крестьянина лет шестидесяти, с впалыми щеками. На окрик конозоира крестьянин подошел ближе.
У Василия задрожали губы.
— Ну, и герой у вас переводчик! — насмешливо протянул оберет в сторону коменданта и смерил Роберта презрительным взглядом. — Этот человек — симулянт! Он не хочет работать! Он понесет за это кару!
Роберт повторял слова Тиссена, подавив в себе желание убить оберста, убить коменданта. Командование требует, чтобы он, Василий, добыл схему оборонительных рубежей противника, и вот сейчас, когда представляется удобный случай… «Возьми себя в руки, Вася!»
Оберет вынул пистолет и, не целясь, выстрелил в несчастного старика. Тот упал, закрыв грудь обеими руками, и кровь хлынула у него между пальцами.
— Заберите его… — распорядился Тисеен солдатам. И к Роберту: — Я стреляю лишь раз! Скажи им… Так будет с каждым, кто не выполнит нормы!.. Поехали!
Теперь гость оживился, разговорился, даже начал улыбаться, все чаще поворачиваясь лицом к коменданту.
«Видно, оберсту надо было повидать кровь, чтобы развеселиться, — думал Роберт. — Вот он, представитель „высшей расы“!»
Слушая оберста, усмехался и Харих. Он все время поддакивал своему высокому гостю.
— Иначе нельзя! Мы должны превратить Харьков в «замок», — гость сжал руку в кулак. — Этим «замком» мы запрем украинские просторы от большевистских армий. Этим «замком» мы закроем от россиян Донбасс!.. Четыре, даже пять, понимаете, Харих… пять оборонительных рубежей с севера, а на востоке Донец — и мы создадим перед Харьковом неприступную крепость, русские не пройдут на Украину.
— Так, так! — соглашался комендант.
— А Белгород мы тоже превратим в неприступный северный бастион Украины! — торжественно провозгласил оберст и мечтательно вздохнул. — Припомните мои слова, гауптман. Вот здесь решается судьба войны!
— А американцы и англичане, случайно, не высадят десант во Франции? — осторожно осведомился Харих.
— Иллюзия… Как они могут высадить десант, если в наших руках вся Украина, если наши дивизии в Орле, в пяти километрах от Ленинграда! Нет, англо-саксонская плутократия не способна сейчас на такой шаг.
— Так точно, господин оберст!..
Перед глазами Роберта возникла окровавленная рука убитого старика. Кровь! Сколько крови уже повидал Василий! И снова готовится, видно, большая битва. «„Северный неприступный бастион Украины“. Это Белгород. Харьков — „замок“, как образно выражается оберст, — думал Роберт. — Это, наверно, термин из стратегического плана. Четыре, а то и пять оборонительных рубежей до Белгорода и Тамаровки, до Харькова. Да еще с запада, в пятидесяти километрах от Харькова, копают оплошные противотанковые рвы. Оберст пророчит на этой земле бои, которые решат исход войны».
Надежды на второй фронт во Франции нет. А хорошо, если бы, наперекор мечтам оберста и самого Гитлера, союзники высадились. До зимы, может, и война закончилась бы. А если оберет прав, если корабли и десантные суда не перейдут Ламанш в этом году?.. Будет труднее. Свыше 250 дивизий стоит против Красной Армии. «Русские — мастера воевать зимой…»—сказал оберет Тиссен. Роберт стиснул зубы. «Еще и победить думает, фашистская гадина. Москву хочет брать!.. Не выйдет по-твоему, оберет! Строй, не строй рубежи… Ты увидишь, какого жару дадут тебе наши и летом, даже без другого фронта, господин оберст!» — хотелось ему выкрикнуть громко.
Вместо этого Роберт представил себе, как вечером он пойдет к Орисе. Та заведет патефон, а он тем временем подготовит сообщение, а потом на чердаке выстукает о своем путешествии с о беретом, про рвы и траншеи, передаст и слова, которые слышал от гостя из главного штаба. Все это пригодится для тех, кто будет вскоре штурмовать «неприступные бастионы» и ломать «замки», открывать «ворота» на Левобережную Украину, в Донбасс, к Днепру.
От этих мыслей у Василия стало спокойнее на сердце. Впервые за время работы у Хариха он почувствовал, что рисковал не напрасно, натянув на себя личину Роберта Гохберга. Но, поймав на себе пристальный взгляд быстрых выцветших глазок оберста, Роберт смутился. А что, если оберст заподозрил его, если прикажет Хариху, чтобы тот пристальнее проверил, кто такой его переводчик? А может, оберет сам сообщит в гестапо, что переводчик Хариха — человек ненадежный?..
Мимо мелькали телеграфные столбы, пригорки, устланные зеленым травяным покровом. Снова дорога шла между полей, серых от бурьяна и полыни, мимо рощ, откуда доносился стук топоров и где умирали деревья.
У колодца Орися встретила Галю и Марину. Девушки торопились набрать воду, пока не стемнело: вот-вот появятся патрули.
— Добрый вечер!
— Будь здорова! — ответила Галя Орисе, опустив взгляд. — Марина! Быстрее поворачивайся… А то еще немцы нас за партизан примут!..
— Успеешь с козами на торг! Хорошо Орисе — ей можно и не торопиться. Ее патруль не задержит. Она же теперь вроде немки, у-у-у! И кто бы мог подумать! Два брата на фронте кровь проливают, а она здесь…
Марина так зло поставила ведро на сруб, что вода выплеснулась из него на землю.
— Тише! Скаженная! — промолвила Галя. — Юбку и сапоги облила…
— Галя! — позвала Орися. — Ты же верной подружкой была. Мы же с тобой на одной парте сидели, вместе и в экономии были…
— Да вроде были, — неохотно ответила Галина, избегая Орисиного взгляда.
— Может, ты и нам кавалеров подыщешь? — Это Марина. — И мы будем песенки слушать, пластинки крутить на патефоне. И в Германию нас не заберут и на окопы не пошлют…
Ну что же может сказать Марине Орися! Да она готоъа провалиться сквозь землю, чем вот такое слушать… Она низко наклонила голову, чтобы девушки не заметили ее слез. «Глупые вы! — хотелось крикнуть ей. — Да Василий же не немец, а наш разведчик, наш лейтенант… И я люблю его! А вы не смеете болтать такое обо мне. Он же… мы с ним хотим, чтобы наши быстрее примчались от Белгорода сюда. А вы чешете языками, как…»
— Скоро и Омелько Кныш станет вашим приятелем… — продолжала Марина, нацепляя ведра на коромысло. — А еще в комсомол собиралась подавать заявление перед войной!..
— Марина! — воскликнула гневно Орися, сжав кулак.
— Что? Можешь донести своему Роберту и Хариху. А я плюю на них! Тьфу!..
— Да будет! — смущенно проговорила Галя; ей было стыдно за Орисю и почему-то жалко ее. Что случилось с ней? Как объяснить ее внезапное и ничем не оправданное перерождение?
— Не плюй в колодец, Марина! Еще придется тебе из него воды напиться! — сказала Орися. — Вспомнишь мое слова!..
— Не тебе пророчить!
Марина поддела коромысло и пошла. Орися, словно побитая, медленно надела на крючок ведро и опустила его вниз.
— Почему ты молчишь? — спросила тихо Галя. — Тебе, видно, нечего сказать?.. Ну что ж…
Галя отошла на несколько шагов. Ее остановил Орисин голос:
— Галя! Прошу тебя… Не думай так обо мне… Иначе я… повешусь или утоплюсь!
Галя посмотрела в Орисины глаза, налитые слезами, и удивленно развела руками.
— Галя!
Ушла и эта, положив обе руки на коромысло. Исчезла за горой.
Неподалеку, в лозах, журчал ручеек, неся свои воды к Ворскле. Из наполненных ведер в колодец падали прозрачные капли. Капали и слезы Орисины, смешиваясь с чистой водой…
Орися все выглядывала и выглядывала Василия в окно. Да, Василия. Ни о каком Роберте она и думать не хочет. И пусть люди говорят, что хотят, а на улице она появляется не с немецким холуем, переводчиком Робертом, а с советским разведчиком, с лейтенантом Красной Армии. Эта мысль не дает стыду сжечь ее перед односельчанами. Эта мысль заложила ей уши, чтобы не слышать, когда женщины говорят: «И кто бы мог подумать, что Орися станет немецкой шлюхой!» Дожила! Даже Омелько и тот стал добрее. «Мы же вроде свои», — сказал он, зайдя на минуту во время обеда в избу Сегеды. «Свои». Волк тебе свой! А подруги? Не только Марина и Галя, все дивчата отвернулись от Ориси. Страшно показаться на улице.
Тяжко жить так на свете.
Наступил вечер, а Василия все не было. Не случилось ли с ним какой беды? Беды не ищи, она сама тебя найдет. А за Василием она так и ходит по пятам…
Орися сварила кулеш, поджарила на конопляном масле луковицу, вылила эту приправу в горшочек. В хате вкусно запахло. Ел ли сегодня Василий?..
— Мама! Может, есть какая работа? — спросила дочь, открывая дверь.
— Подмажешь пол, под припечком подмасти… А я, пожалуй, пойду покопаюсь немного в огороде. Если Омелько стал приятелем, то можно и о своем огороде позаботиться, — сказала мать каким-то насмешливым голосом.
— Замолчите хоть вы! Идите уж…
— Накроешь кулеш крышкой, чтобы не остыл. Может, и Роберт твой придет вечером голодный, — говорила мать, надевая рваную гейшу, в которой Орися ходила в экономию.
Мать ушла. Орися еще слышала шарканье двух лопат, которые мать очищала от грязи, потом что-то дзинькнуло, и еще через минуту фигура Марфы Сегеды исчезла за огородными воротами.
Как только на улице раздавалось урчание машины, Орися подбегала к окну, всматриваясь, не комендантова ли это легковушка. Но проезжали грузовики с солдатами, с грузами, тянулись длинноствольные пушки, а машины Хариха все не было и не было.
Но вот промчалась и она. Орися успела заметить Василия: он сидел с краю. От сердца отлегло. Она даже стала напевать, подмазывая глиной пол. А помыв руки, подошла к зеркалу и долго смотрела на себя.
Как ей к лицу было бы белое шелковое платье, фата, венок. Тогда люди говорили бы: «Красивая молодая у лейтенанта Василия! Да и он как тополь…» Она зажмурила глаза и глубоко вздохнула, скрестив руки на высокой груди. Мечты! Мечты! Только и радости, что вы приходите к Орисе такими легкими, как венчальная фата, розовыми, как цветы в венке.
Она услышала шаги и бросилась навстречу Василию.
— Как ездилось?
— По дороге домой я достал на винокуренном заводе канистру спирту! — похвалился Василий. — В Люстдорфе вина же много было. Его колонисты, как воду, пили. Привык и я, — он улыбнулся.
— Так завод не работает же…
— Но человек, который был кладовщиком, остался. Если спирта нет в цистернах и погребах, то есть дома у кладовщика. Зимой винокуренный гнал спирт… Гость Хариха похвалил за находчивость. Харих ему литров пять запаковал, себя не обидел, да еще офицерам своим дал литра с три, — рассказывал Василий и достал из кармана две бутылки.
— А это для чего? — удивилась Орися.
— Чтоб мать залила очи Омельке. Добрее станет. А одну спрячь на всякий случай. И дай мне чистую тетрадь…
— Возьми в столе наполовину исписанную, — сказала Орися, подготавливая патефон.
Василий меж тем переворачивал листочки тетради.
— Как же это ты «счастье» по-русски написала через «щ»?
— И сама не знаю. Спутала, — покраснела Орися. — Неверно написала, значит, и в хате счастья нет…
Василий что-то озабоченно подсчитывал и подсчитывал, а Орися смотрела, как вертелась черная пластинка, Василий сжег лишние бумажки.
— Сюда идет лейтенант Майер! — предупредила Орися.
— Поставь «Андрюшу»!..
И Василий, подхватив Орисю, пустился в пляс.
Майер зашел раскрасневшийся, возбужденный, глаза его осовели.
— Хо-хо! — засмеялся он, увидев молодую пару. — Роберт! Мы решили, как только уедет оберет Тиссен, устроить банкет… Приглашаем и тебя. Приходи со своей девушкой.
— А вы далеко, господин лейтенант?
— Харих приказал подыскать квартиру для офицеров-танкистов. Зайду к полицаю и пойдем с ним. В наших краях будет танковая армия. Это не шутка, господин Гохберг.
— Огромная сила, господин Майер!
— Ну, красотка, как он танцует? — подмигнув, спросил Орисю Майер.
Орися и без перевода понимала немецкого офицера и ответила:
— Зеер гут!
— Хо-хо!.. — засмеялся Майер и вышел из хаты.
— Черт его принес! Не дают спокойно работать! — сердито пожаловался Василий, снова усаживаясь за стол…
— Полицай Данько идет! — снова предупредила девушка.
— Составление текста я закончил, — поднялся Василий. — А этому чего еще надо?..
— Не к нам — прошел мимо! Еще завести какую-нибудь?
— Сейчас пойду и сыграю на другом патефоне, — задумчиво ответил Василий, надевая фуражку.
Он взял Орисю за плечи и нежно прошептал:
— Что бы я без тебя делал? Милая моя!..
— Уж и милая… То танцуй с ним, то крути патефон.
Он виновато усмехнулся и прижался к ее щеке.
— Вот так бы и стоял, вот так бы и шел с тобою рядом через всю жизнь.
— И я… — шептала счастливая девушка.
— Да вот сейчас надо проскочить на чердак… — вдруг совсем другим тоном сказал он. — Будешь на погребне. А в случае чего — я вниз… Не сердись, Орися!..
Через полчаса они вернулись в светлицу. Мать неторопливо ела кулеш.
— Может, и ты бы перекусил?.. — спросила она Орисиного товарища. — Или немецкий харч вкуснее? — пошутила старая, скривив губы.
— Мама! — дочь бросила на нее сердитый взгляд.
— Да он не станет обижаться…
— Конечно! Доброй ночи вам!
— Проводи в сени. А то еще за деревянное корыто зацепится, — сказала мать и кинула в рот крошки хлеба, тщательно сметенные со стола.
— А почему корыто стоит? Оно же висело в сенях?
Мать засмеялась и промолчала. Это была ее конспирация, на случай, если забредет в сени непрошеный гость. От матери ведь не скроешь. Мать чувствовала, что Орисю и Василия волновали не только важные государственные дела. Она видела, что дочь влюбилась в Василия. А сейчас не время, ой не время про любовь думать.
В сенях было темно. Василий остановился, задержав руку девушки.
— Орися! Ты придешь хоть на часок на вечеринку, о которой говорил Майер?..
— Ни за что!
— Правильно. Лучше тебе не приходить.
Он хотел обнять ее, но она отстранилась.
— Иди, Василек, отдыхай…
Он не ответил. Да, трудно ему жить двойной жизнью и с таким напряжением. На щеках он чувствовал теплые девичьи руки.
— Иди, милый! — шептала Орися, открывая дверь. — Ты не сердишься?
И услыхала грустное и тихое: «Нет…»
Гауптман Харих и служащие комендатуры проводили Тиссена только под вечер следующего дня и облегченно вздохнули. Хотя оберст по профессии был инженером и приезжал по делам строительства оборонительных рубежей, он нагнал страху на немного флегматичного коменданта и его подчиненных. Гауптман Харих решил навести железную дисциплину в комендатуре. О банкете, который собирался устроить лейтенант Майер и его друзья, в эти дни нельзя было и заикнуться. Харих разогнал всех офицеров и солдат на оборонные объекты, где они обязаны были дневать и ночевать. Начальство требовало усиленной работы. Лагерей военнопленных, откуда можно было бы черпать рабочую силу, поблизости не было, а превращать местность в «неприступную крепость» надо.
— Вы понимаете, Гохберг? — делился своими заботами с переводчиком Харих. — Известно, что украинский народ трудолюбивый. А работать на рубежах не хочет. Расстреливать каждого десятого, как советовал оберст? Не выйдет. Пленных русских солдат отправили в тыл, да они и ни к чему — похожи на мертвецов. Вся надежда на своих солдат и саперов. А мне звонят, требуют, угрожают… Будто я факир: взмахну палочкой — и Белгородско-Харьковский плацдарм уже «крепость»! Вот вызывают на кустовое совещание.
— Сочувствую, — усмехнулся Роберт. Он предупредительно вытащил из кармана три почтовых открытки и положил их на стол перед Харихом.
— О! — отвлекся тот от рубежей, забыв о крепости и начальстве, которое вызывало его на завтра. — Чудесно! Ворскла. А это? — читал капитан по складам: — Запорожский хутор… Село… Прелестные виды. Где вы их взяли?
— У своей любовницы. В альбоме. Ворскла — это их воспетая в песнях речка. Город, куда вас вызывают, тоже на Ворскле, — говорил Роберт.
— Прелестно! — смягчился гауптман. — Да, прошу вас: я совсем замерз. Позаботьтесь, чтобы протопили мою комнату. Омелько это может сделать.
— Есть! — ответил Роберт, вытянувшись перед комендантом.
— Майера я отослал, а теперь хоть самому готовь сведения, — не то спросил, не то приказал комендант, поглядывая на переводчика и потирая руки.
«Что это? Проверка?.. Так я и брошусь к твоим бумагам! Жди! А может, ему просто лень сидеть над отчетами?..» — напрягал свою мысль Василий.
Переступив с ноги на ногу, он опросил:
— Можно идти?
— Идите.
Роберт направился к полицаю Омельке. Тот был дома, хлопотал по хозяйству.
— Почему в шинели? Весна на дворе! — поздоровавшись, спросил Роберт.
— Весна! Какая там у мужика весна! Вот руки чуть не закоченели, — пожаловался Омелько. — Погреться бы, так дома и капли нет.
— У меня немного есть! — ударил по карману Роберт.
— Спиртик? — у Омельки даже глаза расширились, и он почесал кончик носа. — Он у меня с утра чешется, чует, чует близко чарку. Прошу, будьте гостем… Жены сейчас нет. Но сало, яйца и лук найдутся, все первейшая закуска! Надо уметь жить при любой власти…
Омелько засуетился в хате. Под припечком он достал из черной формы для хлеба яйца, затем побежал в сени и вернулся с большим куском сала и с луковицами.
— Чего бы еще?
— Да ничего больше не надо.
— Чистый? — допытывался Омелько, поглядывая на бутылку.
— Наичистейший, девяносто шесть градусов.
— Я привык не смешивать с водой, а то спирт сразу становится теплым. Лучше запить потом. О!.. Да вы изрядно, — говорил Омелько, а сам смотрел жадными глазами и шмыгал носом.
— Пейте на здоровье…
— А вы?..
— И я немножко… Я на голову слабый. Да еще вечером у нас работа с комендантом. А комендант, сам знаешь, не любит, когда его помощники в чарку заглядывают, — он прикусил губу, поняв, что сказал лишнего.
— Вы, немцы, все такие!.. Выпил с наперсток — и с копыт… В Одессе привыкли к виноградному кваску. Разве это вино?
Омелько опрокинул чарку, запил водой и погладил по животу:
— Аж дух захватывает. Видно, что чистый… Кушайте, — потчевал он гостя, закусывая салом и луком.
— Комендант просил, чтобы кто-нибудь из надежных ребят протопил его дом, — рассеянно проговорил Роберт.
— Надежного парня надо? — Омелько перестал жевать и удивленно поглядел на Роберта. — Кого бы послать? А что, если я?..
— Можешь и ты…
— Вот спасибо. У самого капитана! А ну, еще по одной пропустим.
Омелько выпил еще полчарки. «Льет, как в бездонную бочку», — подумал Василий.
— У самого капитана! Будет сделано, господин Роберт.
— Капитан человек уже пожилой…
— Ну! — не дал и договорить Омелько, положив обе руки на грудь Роберту. — Если я взялся, будет порядок… О чем речь! Вытоплю печь и сам трубу закрою. Для капитана, да не сделать!..
И он запел:
Вы не вейтесь, русые кудри, Над моею больной голо-во-о-о-ой…Роберт уже побаивался, что полицай совсем опьянел. Но тот был в своей форме — веселился, однако разума не терял.
Вечером Роберт зашел на квартиру коменданта. Омелько сидел около огня. Тепло и спирт совсем разморили его.
— Ой, смотри, увидит тебя Харих таким — беда будет! — напомнил Роберт.
— Как будто уже дотлело, — прищурил пьяные глаза полицай, приглядываясь к углям.
— Закрывай трубу и пойди скажи дежурному, что ты свое сделал, — посоветовал Роберт.
— Точно! Самому капитану Омелько услужил. Хе! Самому капитану…
— Молодец! — похвалил Роберт, взяв полицая за плечи. — Так и солдату скажи. А капитану под градусом не попадайся на глаза.
Омелько вышел.
…Возле крыльца квартиры коменданта Хариха стоял солдат и сладко позевывал. Была как раз та ранняя утренняя пора, когда часовому, который стоял с трех до семи часов, очень хотелось спать.
— Так рано, господин Роберт, — высунул он из-под поднятого воротника свой нос.
— Гауптман вчера говорил, чтобы я пришел пораньше. Нам в путь надо собираться, — сказал Роберт и словно ненароком спросил — А господин Харих давно выходил из помещения?
— Они ночью не выходят… — усмехнулся солдат.
Постучали в окно, но комендант не отозвался. Роберт забарабанил в стекло сильнее. Молчание. Часовой и переводчик переглянулись и начали стучать каблуками в дверь.
«Неужто угорел так, что и подняться не может?» — подумал Роберт. Просунув руку в незапертую форточку, он освободил от засовов оконные рамы и потянул их к себе. Окно открылось, и Роберт с часовым залезли в комнату.
Харих лежал без сознания, согнувшись, с раскрытым ртом. На губах его выступила желтоватая пена.
Солдат начал шептать слова молитвы.
— Господин Харих! — тряс коменданта за плечи Роберт. — Открой настежь двери и другое окно… — распорядился он. — Что с вами, господин Харих?..
— Хороший был гауптман! — безнадежно мял овою фуражку часовой.
— Хороший! — передразнил Роберт солдата. — Спасать человека надо!..
Роберт встревожился не на шутку. Смерть коменданта сейчас была ни к чему. Харих как будто уже стал доверять своему переводчику. Он пригодился бы еще разведчику. А теперь гестаповцы начнут выяснять причину смерти коменданта, нитка потянется к полицаю Омельке, а от того, возможно, и к пану Роберту. Это было ужасно! Василий сделал только первые робкие шаги в работе. Он может еще многое узнать для командования. Тут формируется танковая армия. Где будут основные силы армии? Это станет известно в свое время. Ах, какая неприятность!.. Этот Харих оказался слаб на голову, совсем как котенок.
Гохберг разостлал перед открытой дверью ковер, вместе с солдатом положил на него обмякшее тело коменданта и принялся делать ему искусственное дыхание.
Так прошло десять минут; комендант наконец, приоткрыл левый глаз.
— Что? — спросил он шепотом, увидев перед глазами лицо переводчика Гохберга. — Где я?..
— Если бы не господин переводчик, вы бы умерли! — проговорил солдат, подавая коменданту пузырек с нашатырным спиртом. — Понюхайте, будьте любезны…
Харих так чихнул, что часовой даже вздрогнул.
Комендант взялся руками за голову и усталым, незнакомым голосом промолвил:
— Голова раскалывается на куски… С чего бы это? А? Роберт! Вы спасли мне жизнь. Я этого никогда не забуду… Спасибо… Но как я поеду на совещание с такой головой? Офицеры и начальство подумают, что я перепил. И Майера нет. Роберт, вы поедете без меня.
— Мне не разрешат присутствовать на заседании, — напомнил Роберт о возможных препятствиях.
— Вы передадите пакет, и все… Ой-ой, голова трещит! — смежив веки, он застонал.
Роберт и часовой помогли Хариху перейти на кровать. Тот снова заохал. Внезапно он рывком поднял голову:
— А не угорел ли я?..
— Н-наверно, — растерянно ответил Роберт.
— Труба и сейчас закрыта… — сказал солдат. — Полицай Омелько Кныш топил!
— Так он же партизан! Ой-ой-ой! Я с этого пьяницы шкуру спущу! — угрожал Харих и попытался стиснуть бессильные пальцы в кулак. — Вы мой спаситель, Роберт! Я никогда не… Положите мне на голову мокрое полотенце…
— Я вызову врача! — пообещал Роберт, собираясь выйти из комнаты.
— Вызовите и готовьтесь ехать.
Роберт не шел, а бежал из комендатуры. Так счастливо начал исполняться его план. О том, что он поедет с Харихом как переводчик, Роберт знал еще вчера. Но этого было мало. Теперь представляется возможность пощупать тот пакет руками и узнать, что должен был передать гауптман своему начальству. Он добился своего! Добился. В мыслях он насвистывал победные марши, чувствовал себя настоящим богатырем. Осуществить бы еще связь с каким-нибудь партизанским отрядом. В случае чего, можно податься туда с Орисей и ее матерью. Да вот еще — командование оставило в одном из оврагов пару сот килограммов взрывчатки, которые могли пригодиться пятерым разведчикам, в случае если немцы начнут отступать. Тол лежал в земле, заботливо завернутый в плащ-палатку. Василию столько взрывчатки не надо, ее можно передать в партизанские руки. Партизанам пригодится — взрывать мосты, железнодорожные пути и эшелоны. Сегодня же Василий напомнит командованию об этом. Вдруг он представил себе на минуту, что на совещание могут приехать переводчики, с которыми, возможно, учился настоящий Роберт Гохберг. При этой мысли он даже остановился, забыв, куда направляется. Что же ему делать?..
«Но, собственно, почему всех переводчиков с курсов должны послать именно на Белгородско-Харьковский плацдарм и в эти районы? — пытался успокоить себя Василий. — Да и не могли же всех переводчиков при комендатурах отослать на фронт!» Роберт уже разузнал все о своем предшественнике; по специальности танкист, он пристроился в комендатуре, но тотальная метла вымела его на передовую. Газеты уже протрубили, что великий Гитлер дает своей армии новые, мощнейшие, наилучшие в мире танки.
«Будь что будет! Двум смертям не бывать. А ехать надо…»
Василий пошел проститься с Орисей. Встретились они под навесом на крыльце. Мать тут же нашла себе работу, взяла коромысла, ведра и пошла со двора. А они стояли у окошка, которое отражало их лица и далекое небо, разукрашенное маленькими синеватыми тучами. Над ними была перекладина, на которую осенью вешали кукурузные початки. Казалось, перекладина вот-вот оборвет перепревший шпагат и упадет. Не говоря ни слова, Василий отвел Орисю ближе к двери в сени.
— Береги себя, — сказала она.
— Береги! — повторил Ва€илий. — Мама моя тоже наказьгвала, когда я уезжал в военное училище: «Береги себя!» И еще раньше, когда я ходил купаться на речку. Боялась, чтобы не утонул. Как давно, кажется, это было..
— Жалела она тебя… — ласково проговорила Орися. — Береженого и бог бережет, сказала бы моя мать…
— Я и берегу себя…
— Говорит и не улыбнется! — девушка смерила Василия взглядам.
— Вот вы с матерью будьте осторожны. Если я не вернусь вечером, чтоб никаких следов здесь не оставалось. Один патрон может погубить вас!
— Не найдут… — сказала Орися и потупила глаза, думая о своем.
С каждым днем она все сильнее привязывалась к Василию. Не повидает его день — сама не своя. Тревога за судьбу близкого человека не оставляла ее. Почему им и вправду не жить, не любить друг друга?.. Она подняла голову, глаза ее заволокли слезы.
— Я вернусь, Орися! — шептал он. — Наперекор всем врагам вернусь!
А она смотрела ему в лицо, будто хотела навсегда запомнить все его черточки. Потом приподнялась на цыпочки и прижалась губами к его губам.
— Родная моя!
— Пусть тебя охраняет от злого недруга моя любовь и материнская молитва. Мать каждый вечер молится за воина Василия, за воина Петра и за воина Степана. Она тебя считает своим.
— Не знаю, что и сказать, — ответил Василий. — Твоя мать… настоящая мать!
Он сделал было несколько шагов, потом вернулся и крепко обнял Орисю, прижимая к своей груди.
— Ты слышишь, как отстукивает мое сердце?! Это оно твердит безостановочно, тысячи раз и будет твердить всю жизнь: «Люблю Орисю! Люблю Орисю!»
Всю дорогу и долго патом, ожидая вызова у высокого начальства, видел Василий черные глаза и нежное румяное лицо девушки, ее широкие черные брови, ощущал прикосновение немного припухших губ. Он жил сейчас своей весною, своим юношеским счастьем…
Василий так погрузился в свои думы, что не сразу услышал, когда его вызвали.
Его спросили, почему прибыл не сам комендант, поинтересовались, как дела у них в районе. Роберт отвечал так, как его проинструктировал гауптман.
Майор, с которым разговаривал Роберт, любезно обратился к невероятно длинному, худощавому человеку с погонами генерал-лейтенанта:
— У вас ничего не будет, господин генерал?
— Нет. — Генерал поднял глаза на посланца Хариха. — Гауптман заболел?
— Так точно.
— Жаль… Я собирался к нему. — И он пристально посмотрел на Василия.
Молчание казалось ему бесконечным, а на деле оно длилось две секунды. Прервал его майор, спросив у генерал-лейтенанта:
— Вы знаете гауптмана Хариха?
— Харих мой земляк, — ответил генерал. — С его фабрики в Баварии я всегда получал свежие молочные сосиски!..
«Подавился бы ты этими сосисками!» — облегченно подумал Василий, постепенно овладевая собой…
— Передайте гауптману Хариху: возможно, через несколько дней я заверну к нему.
— Сочту большой честью передать ваши слова моему начальнику. Мы будем безмерно рады приветствовать вас в наших краях! — торжественно и громко, как будто отдавая рапорт, промолвил Гохберг.
— Кстати, господин генерал, вы будете иметь возможность заблаговременно ознакомиться с местностью, — сказал тихим и вкрадчивым голосом третий из присутствующих, склонив голову к генералу. — Кажется, там будет дислоцироваться ваша славная дивизия.
— Кажется, — небрежно ответил генерал, рассматривая какие-то бумаги.
Майор теперь уже доброжелательно обратился к переводчику Гохбергу:
— Вы можете отдохнуть и перекусить в столовой для офицеров. Если у вас в городе дел нет, возвращайтесь домой…
— Спасибо! Слушаю!
— Итак, продолжим! — сказал генерал. — Фюрер хочет эту мощную, историческую операцию назвать «Цитадель».
Василий шел к двери, а ноги его тянули назад. «Цитадель»! Что это за операция? Где она будет осуществляться? Ради какой операции коменданты привозят сведения, принуждают жителей городов и сел копать рвы, траншеи? Василий замедлил было шаги.
— Вы что-нибудь забыли сказать? — окликнул его майор.
— Простите, господин майор, — извинился Роберт. — Нет. Ничего…
Василий поспешно вышел. И только когда был уже в двухстах шагах от этого здания, опомнился.
Он шел утомленный, как будто его долго парили в бане.
В столовой сел за отдельным столиком и начал просматривать меню.
Вокруг велись негромкие разговоры о службе, о женщинах, о будущих поездках в родные края. Одни офицеры верили в то, что к лету получат отпуска. Другие, пессимисты, возражали и жаловались на свою судьбу.
— Расхныкались! А знаете ли вы, какие к нам танки присылают? Русские «Т-34» ничто против наших «Т-6». У Иванов и снарядов таких нет, чтобы пробить нашего «Тигра»! — стиснул кулаки командир танковой роты.
— Русские тоже не сидят сложа руки, — ответил обер-лейтенант.
— Стальной танковый кулак с одной стороны, с другой — р-раз таранным ударом, и Иван в железных тисках…
— Если бы так!
— Будет! Мы отомстим за кровь солдат шестой армии фельдмаршала фон Паулюса!
— Будет! — поддержали воинственного капитана и другие.
На одном из столов появилась бутылка рому.
— За успех на новых танках!
— За наших «тигров» и «фердинандов»! За нашу победу!
Старший посмотрел на часы; офицеры поднялись и вышли.
Пошел за ними и Роберт Гохберг.
Танкисты направились к железной дороге. Вскоре Роберт увидел в парке несколько десятков новых, коренастых танков с длинноствольными пушками. На путях стоял эшелон с машинами, закрытыми брезентом. Возле вагонов хлопотливо сновали одетые в комбинезоны танкисты.
Пытливыми глазами Василий смотрел на новые тяжелые танки, на мощные самоходные артиллерийские установки.
«Вот они, „тигры“ и „фердинанды“! Это на них, как на каменную гору, надеются офицеры и тот оберст-инженер, который приезжал к Хариху. „Таранный удар с двух сторон…“ Куда же они собираются бить? „Отомстим за кровь шестой армии!“ Ничего не скажешь, добрые танки!» — говорил сам с собой Василий, слоняясь около железной дороги…
«Скорее домой, к Орисе!» Он крепко сжимал в руках руль мотоцикла. Из глаз, однако, не исчезали стальные машины, а в мыслях всплывало такое же могучее, как и тяжелые танки, понятное и в то же время таинственное слово «Цитадель». Сколько бы он отдал, чтобы узнать подлинный смысл этого зашифрованного понятия. «Могучая историческая операция „Цитадель“!.. Как будто так говорил генерал. Впрочем, все операции у них „исторические“…»
Мотоцикл вырвался на шоссе и, вздымая курчавый дымок пыли, с ревом понесся, опережая автомашины.
«Цитадель»! Были бы рядом с Василием его друзья — Евгений, Роман, Дмитрий, Анатолий! Они бы дознались, в чем тайна этого слова, откуда и куда двинутся грозные стальные кулаки противника на позиции наших войск. Их бы встретили таким огнем, какого свет не видывал. «Цитадель»!
Василий крепко стиснул зубы и, согнувшись, едва не касаясь головой руля, помчался стрелой.
Тихонько скрипнув дверью, Василий вошел на погребню. Сквозь трещину в стене проникал солнечный луч и расплескивался в бочонке, что, скособочившись, стоял около дверей. В углу — старая, уже истлевшая рыбачья сеть, которой еще в предвоенные годы пользовались сыновья Марфы. Под потолком от дуновения ветерка, что ворвался через открытые двери, задрожала паутина. Внизу на куче валялись два вала от кросен, поломанная шестерня с зубьями и другие части этого бездействующего с годов коллективизации орудия производства. Серая пыль густо устлала опрокинутую колодку улья. На крюке висели обручи от рассыпавшейся бочки.
Василий постоял с минуту, поглядывая на эту рухлядь, потом подтянулся и, ловко закинув ноги, оказался на чердаке.
Приготовив аппарат, он уселся на соломе. В эти минуты Василий жил только работой. Он выстукивал четко и уверенно, словно от сотрясения его трех пальцев, державших головку ключа, зависела судьба важнейшей операции. В представлении радиста этот ритмичный стук преображался в грохот батарей, огонь которых косил фашистских солдат, а снаряды рвали тяжелых черных «тигров» и «фердинандов» с разверзнутыми жерлами пушек.
Время шло. В эфир вылетело, направляясь за линию фронта, уже более тысячи знаков. А радисту казалось, что это просвистели тысячи бомб прямо над головами гитлеровцев, над их цистернами с бензином, над их складами с боеприпасами. Поток огня и железа крушил «крепости» и «бастионы» врага и выжигал фашизм с европейского материка. Вот каким всесильным было постукивание телеграфного ключа в руках Василия!
Радист знал, что так и будет, верил в это, стремился приблизить этот час. Знал. Верил. Стремился. И потому остался в тылу вражеской армии. Остался, ежедневно и ежечасно рискуя быть схваченным гестаповцами.
И он отстукивал и отстукивал, пока не стемнело. В этот вечер у него было много, очень много, о чем он мог передать своим за линию фронта…
— Василек, дятел мой неугомонный! — донесся снизу голос.
— Кончил! Спасибо тебе, мой милый часовой. «Подай рученьку, подай другую» и полезай сюда… Знаешь, как я сегодня счастлив?!
Прошло более часа. Василий знал, что за это время его радиограмма уже расшифрована и командование, возможно, уже дало распоряжение авиации. Скорее бы! Скорее бы прилетали свои!..
Но не только этими думами жил он в эти минуты. Рядом с ним была его любимая…
— Ты меня задушишь! — шептала она.
— Люблю! Люблю!
— Слышишь, стреляют? Это зенитки!
И моторы гудят где-то неподалеку! — испуганно, скороговоркой произнесла Орися.
— Не бойся! Это наши: я их позвал, чтоб они поворошили станцию. Там эшелоны с танками. Пусть их окропят немного!
Василий раздвинул солому и взволнованно, горячо сказал:
— Посмотри, Орисенька! Сколько всполохов в небе. Это наши летят, наши!
Орися стояла рядом, прижавшись к колючей щеке Василия. Неужели эти самолеты вызвал ее любимый?
Могучие моторы ревели в темпом небе. Вокруг ухали зенитные пушки, трещали пулеметы. Вдруг грянул весенний гром, да так, что сотряслась земля и зашаталась погребня. Сразу стало так светло, как будто в небе повисли десятки полнолуний. К осветительным ракетам, которые сбросили самолеты, прибавился свет с земли. Черными тучами повалил дым со станции, запахло бензином. Там гремело и гремело.
— Так! Так их! — Орися сияла от радости.
Это он, ее милый, накликал на голову врага такое море огня. Это она сторожит тут ежедневно, пока он не кончит выстукивать. Впервые ощутила она гордость оттого, что есть в этом и капля ее помощи.
— Жгите их, проклятых! Жгите…
Василию уже не хотелось думать и говорить о бомбах, об азбуке Морзе, о Харихе.
Все это было и будет завтра, потом, а сейчас..
— Любимая моя! — взял он Орисю за руку. — Зоренька моя! Разве без тебя я был бы способен на такие поступки. Недаром народ и в сказках рассказывает, что настоящая любовь придает силы человеку, делает его смелым и сильным… Ты меня любишь?..
— А кто знает, — деланно небрежно ответила Орися, усаживаясь рядом, потому что он не выпускал ее рук.
— Так?..
— Может, и та-а-а…
Она была рядом, близко, целовала его щеки и лоб.
— Родная…
— Милый мой… Может, я глупая, что люблю тебя? Любимый! Как хорошо с тобой..
— Моя?
— Твоя!.. — как самое дорогое на свете слово проговорила девушка. — Я ничего и никого не боюсь. Я словно стала сильней, Вася, милый мой!..
И они надолго замолкли, опьяненные горячей, еще не изведанной ими любовью…
А потом лежали, притаившись, сдерживая дыхание; Орися боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть своих мыслей. Он любит ее. Она верит этой любви. Она ни в чем не раскаивается и никогда не пожалеет о том, что случилось в эту цветущую ночь.
— Ты мой!.. Я знаю, что ты сейчас думаешь обо мне. Думаешь, что тебе надо еще воевать и воевать, а я останусь здесь. Я буду ждать тебя долго-долго, — шептала она, словно где-то протекал ручеек, несший свежую, прохладную и чистую воду.
— Родная моя… Милая…
И сердце Василия билось сильнее, переполненное до краев трепетным счастьем. Жестокие бои, которые еще предстоят впереди, гестаповцы и Харих, хитрый Омелько — все это отодвинулось от них.
В полночь Василий и Орися просунули головы через кровлю и усмехнулись, обнаружив мир, который расстилался перед ними.
Как красиво на подворье! Тополь прикоснулся молодыми листочками к разгоряченным, покрасневшим лицам. И яблоня, которая росла рядом, казалось, тоже хотела до тянуться своими ветвями до Орисиной руки.
— Скоро она расцветет, оденется в белое свадебное платье, — задумчиво шептала девушка.
— Ты сама как яблонька!
И звезды словно приветствовали их, весело мерцая с вышины. Но не всюду были видны звезды. На западе, у горизонта, они спрятались за черным густым дымом, который тучами проплывал со стороны станции. Оттуда несло перегаром бензина.
Генерал-лейтенанту Шмидту не довелось навестить своего земляка-колбасника Хариха ни в следующий, ни на четвертый день. Советские самолеты искалечили два эшелона, досталось и танкам, которые находились в парке. Были взорваны склады с горючим. Работы у всех военных в эти дни было до отказа. У них свои заботы, у Василия — свои.
Роберт Гохберг попросил у коменданта разрешения взять в город возлюбленную, а то та-де обижается, будто Роберт ее забывает.
— Молодость! Молодость! Что ж, поезжайте. Только не задерживайтесь. Может, генерал внезапно наскочит, — сказал Харих.
— Я отвезу господина Майера и назад, — ответил Роберт.
— А не кажется ли вам, Роберт, что все это проделки партизан? Уж очень точно красные летчики знали место нахождения цистерн с горючим, — озабоченно спросил гауптман Харих.
— Возможно…
— Надо бы наши танки и склады перевезти в рощи, в лесочки? А тогда и партизанские группы уйдут подальше прочь…
— И я так же думаю, господин гауптман.
И вот они поехали.
Орися сидела на заднем седле, а лейтенант Майер в коляске. Майер предлагал возлюбленной Роберта более удобное место, но та отказалась. Ей приятнее было держаться обеими руками за ремень водителя.
На одной из улиц Майер вылез из коляски.
— Желаю удачи!..
Гауптман просил, чтобы ему тоже нарвали ландышей. Лиричный он у нас старик, — то с открытками возится, то цветов захотел… — Он подмигнул девушке. — У меня тоже тут есть одна!.. Заедете за мной через два часа…
Майер пошел четким шагом, потому что навстречу ему направлялись два старших офицера.
При выезде из города дорогу пересекал шлагбаум. Роберт остановил мотоцикл, подал документы, а сам замечтался, глядя в синюю даль.
— Роберт Гохберг, — читал дежурный.
— Что? — вдруг спросил Василий и моментально прикусил язык. «Что это со мною? Вот теперь дежурный как будто подозрительно смотрит?» — обожгло Василия.
— Вы долго задерживаете бумаги. Некогда!..
Испугалась и Орися. Она и сама не знала, куда они едут. Василий сказал, что так надо. Ну, и поехали. Может, и не стоило лишний раз рисковать? «Какой противный этот служащий полевой жандармерии», — подумала она о немце у шлагбаума.
— Знаем, какое дело: схватил красотку и подальше от города!..
И хотя это говорил враг, Орися готова была провалиться сквозь землю. Да вот и свои, земляки, вытаращили на нее глаза… Одна женщина, босая, с большими корзинами, которые висели через плечо на полотняном рушнике, покачала головой и плюнула:
— Такая!.. Шлюха!
— Замолчи, свинья! — прикрикнул на крестьянку полевой жандарм и отдал Роберту бумаги.
Орися отвернулась от женщины, еле сдерживая слезы. Куда он везет ее? Чтобы вот так тыкали в нее пальцами свои и даже чужие!
— Стыд не дым — глаза не выест, — сказала женщина, кинув насмешливый взгляд на девушку.
— Да замолчите, тетенька! — яростно проговорил Роберт.
Та даже вздрогнула: чужой и так говорит по-местному.
«От своих терпеть такие горькие обиды, оскорбления. Люди! Люди! — хотелось крикнуть Орисе. — Неужели вы не видите, что он наш. Наш! Жизни своей не щадит, чтобы быстрее пришли ваши сыны, мои братья. Я не… Я помогаю своим!»
— Успокойся! — прошептал Василий, вытирая рукавом куртки вспотевший лоб.
Мотоцикл мчался по пыльной дороге.
— Слева, перед железной дорогой, должен быть холм.
— Еще немного проедешь, и покажется могила, — проговорила, глотая слезы, Орися.
— Успокойся! Уже доехали…
— А дальше что?
— Пойдем в рощу, цветы рвать, — со вздохом проговорил Василий. Они сделали несколько шагов, как вдруг в деревьях затрещало, послышались чьи-то шаги.
— Не пугайся, — сказал Василий. — Мы должны здесь встретить своих.
Орися удивленно переводила глаза с Василия на пришедшего. Да это же Иван Рыжков, который учился в школе за три-четыре года до нее. Перед войной Иван окончил в Харькове транспортный техникум и работал на железной дороге. Буферами ему придавило пальцы на правой руке, вот и не попал в армию.
— Здравствуй, Орися, — улыбнулся Рыжков, подавая левую руку.
— Знакомые? — удивился Василий.
— А как же! Собирался ухаживать за ней. А она какая-то дикая была, убегала от парней, — говорил Иван, снимая картуз и вытирая лоб.
— У нас мало времени, друзья, — сказал Рыжков после короткой беседы с Василием.
Василий передал ему бумажку.
— Вот план, где мы когда-то закопали наш клад… Килограммов двести.
— Они нам нужны позарез! Наш отряд то и дело гоняют регулярные части. Их тут понаехало видимо-невидимо… Отряд уходит дальше, к Ворскле. А «гостинцы» подрывники заберут… Спасибо, товарищи!..
— Я буду ждать — передадите мне лично или через Орисю сведения о передвижении противника по железной дороге… И днем и ночью следите за тем, что присылают сюда с Запада или с других фронтов и что отправляют отсюда.
— Отсюда ничего не везут, кроме раненых солдат. Только — сюда, черт бы их завез в самое пекло!..
— Сюда! — повторил Василий. — В том-то и дело… Назревают события здесь… Вот и надо быть начеку. Условились, Иван?
— Все сделаю, что в моих силах.
Договорились, куда Иван будет доставлять свои сведения. Василий пожал руку новому товарищу по борьбе.
— Я думал, когда получил от своих радиограмму, что придет к нам усатый старый железнодорожник… А он…
— Молодой и красивый! — похвалил самого себя Иван. — Первый класс…
— Ты мог подумать, что я с немцем катаюсь? — краснея, спросила Орися у Рыжкова.
— Я? Да пусть бог милует! А кто так будет думать, я тому глаза одной левой рукой выцарапаю. Счастья вам обоим!
И Иван исчез в кустах.
— Где же моя коза? Где же ты, милая? — донесся до них веселый и беззаботный голос.
Василий и Орися видели, как Рыжков повел на веревке козу вдоль защитной лесной полосы, вдоль железной дороги.
— А цветы? — напомнила Орися.
— Нарвем и цветов!..
— Лесок сейчас свежий, точно росой умытый!
В вершинах высоких сосен шуршал ветер. Василий остановил взгляд на дубах, на кустах лещины, обвитых зеленым буйным хмелем.
— О чем думаешь, Вася?
— О тебе. О дне, когда наши солдаты окончат свой трудный поход. Наверное, тогда будет весна или лето, может, даже будущего года, а может быть, и позже. Но все-таки будет праздник на нашей улице! — проговорил Василий и обнял Орисю. — И я еще думаю о людях тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Сыну или дочери нашей будет тогда двадцать лет, больше, чем тебе сейчас, родная!
Орися мечтательно улыбнулась, вздохнула и посмотрела печальным взором на своего друга. Он думает о жизни через двадцать лет. А сейчас наши войска еще за Белгородом. Сколько новой крови прольется, пока выгоним фашистов с родной земли, пока освободим Польшу, Чехословакию, пока доконаем врага на его земле.
— Наверное, после этой войны уже никогда не будет войн, и день победы будет солнечный вот как сейчас. А что люди будут говорить о нас через двадцать лет, молодежь, конечно?
— Одни будут говорить с восхищением. Это будут честные и трудолюбивые люди. Другие вообще забудут, будут думать, что жизнь всегда была хорошая.
— Вася, а после этой войны больше не будет войн? Правда же?
— Может, и не будет, если фашизм с корнем выкорчуем, именно вырвем с корнем, а не только скосим, как бурьян, — ответил твердо Василий.
— С корнем, — тихо повторила Орися. — Чтобы наш сын никогда не увидел войны и не переживал того, что мы переживаем сейчас…
— Было бы так, Орися! За это я готов провоевать еще четыре года, лишь бы люди шестидесятых годов не видели войн!
Девушка прижалась к его груди, прислушиваясь к шуму ветра в вершинах сосен, в дубках, в кустах орешника, обвитых зеленым хмелем.
Вдали кукушка отсчитывала кому-то еще не прожитые годы.
Проходили дни… недели…
Тополь возле погребни шумел теперь уже буйной, зеленой кроной. Зацвела и молодая яблонька обильным бело-розовым цветом. Василий и Орися любовались ее простой и, может быть, потому такой привлекательной красотой, радовались ее цветам, из которых через месяц-другой созреют сладкие, ароматные, краснощекие плоды. К тому времени из Белгорода примчатся красные войска, и Орися Сегеда угостит наилучшими яблоками братьев-солдат, которые первыми войдут в село.
В вишнях и вербах по утрам на заре соловьи звонко распевали свои прозрачные, бездумные, волнующие, как любовь Василия и Ориси, песни.
Но вокруг были не только сады, повитые дымом белого цветения и соловьиных песен.
Как-то девушка заметила, что на русые волосы милого набежала седина, — не замедлила, в двадцать два года посеребрила виски… Не оттого ли, что Омелько Кныш пытается следить за каждым шагом Ориси? Не оттого ли, что ее уже задерживал в городе патруль, когда она возвращалась с бумажкой от Ивана? Или, может быть, Василия так встревожили шесть танковых дивизий, что прошли здешними шляхами на северо-восток?.. Или, может, ему не дает покоя слово «Цитадель»? Или, может?.. Нет! Их любовь должна отогнать все несчастья и победить смерть…
А сады знай себе цвели, и соловьи заливались так же, как сотню лет назад, в слободах, только что заселенных людьми, предвещая им счастье.
Под вечер в комендатуру прибежал запыхавшийся Омелько. Харих был занят — готовился к завтрашней встрече земляка-генерала. Полицай обратился к переводчику:
— Я же говорил, что вы не разбираетесь, к какой девушке надо ходить. Сегодня видел…
— Что видел?..
— С Иваном одноруким в городе скалила зубы. Позорит она вас, пан Роберт!.. Уродится же такая стерва! С одноруким заигрывает! Сотворил господь женщин!..
Василий едва сдерживал себя, чтобы не ударить изо всей силы по Омелькиной скуле. «Как подрезать ему язык?»
— Спасибо, что сказал. А я думал… — понурился Роберт. — А Иван тебя видал?
— Да кто же следит так, чтобы видел тот, кому не положено!
Василий достал из шкафа бутылку спирту и подал полицаю.
— У вас всегда водится?
— Для хороших друзей… Следи и дальше…
— Сердечно благодарствую… А я, знаете, — оживился Омелько, — так подозреваю, что… — внезапно он осекся.
— Не думал я, что Орися такая! — вздыхал Роберт, мучительно гадая, о чем подозрительном хотел сказать и не договорил Омелько. Уже не раз наблюдал Василий со своей сторожевой вышки в погребне, как полицай слонялся по огороду между вишнями, доходил до ворот и все присматривался к тому, что делается на подворье Марфы Сегеды. Может быть, любопытство Омельки было вызвано давними взаимоотношениями, желанием отомстить за то, что не только не удалось ему спровадить телка Сегеды в мешках в Харьков, но и самому пришлось сесть в тюрьму. Совсем недавно, возвращаясь от Ориси, Василий неожиданно встретил полицая под окном. Тот подобострастно сказал тогда: «Виноват. Думал, что вы на квартире у Горпины. Боюсь, господин Роберт, чтобы Аришка еще кого-нибудь не принимала у себя… Для вас стараюсь…»
Василий понимал, что узколобый и толстощекий Омелько пока еще не дошел своим умом: кто такой на самом деле переводчик Роберт, почему он так «вяжется» к Орисе Сегеде…
— Благодарю за службу! — переводчик коменданта даже подал руку Омельке. — Зайди через день. Завтра у господина Хариха будет большой гость. И вашему брату надо следить за порядком в селе.
— А то как же!.. — пообещал с усмешкой Омелько, думая свое: «Палач тебя разберет, каким миром ты мазанный и каким духом начиненный! Или мне просто померещилось, или вправду — не похож ли ты часом на красного?.. Хм…»
Но рука его нащупала в боковом кармане куртки бутылку, и он сказал:
— Так я послезавтра буду как часы! Смотри-ка! А ваши кудри вроде немного того… седыми стали… Рановато! Мне вот уже сорок, и то ни одного седого волоса нет… — хвастал Омелько. — В тюрьму большевики посадили, и то пережил!.. Хоть и горький свет, а жить надо…
Полицай ушел. А Василий все еще ходил по комнате, склонив голову. «Надо вырвать у Омельки Кныша язык», — думал он.
Возможно, не кто иной, как этот Омелько, и заметил их пятерых тем мартовским утром, когда усталые, насквозь промокшие, пробирались они к переезду через железнодорожный путь. Правда, то село в двадцати километрах отсюда, но уж очень похож Омелько Кныш на дядьку в шапке, обшитой телячьей шкурой.
«А впрочем, он или не он, — одного поля ягода!»
В окно было видно бывшее помещение почты с зарешеченными теперь окнами. Полицаи гнали в холодную девушек с котомками. За ними шли плачущие матери. Там уже стоял Омелько. Он грозил кулаками землякам, которых угоняли в неволю, и то и дело поглядывал на Хариха, который внезапно появился здесь. Этим взглядом блудливых глаз полицай как бы заверял коменданта: «Видите, какой я преданный вам. Напрасно вы подозревали, будто я хотел, чтобы вы угорели».
Девушки с котомками дождутся за решетками завтрашнего дня. А потом в эшелоны — и на чужбину. Каждая получит номерок на дощечке, и прощай собственное имя!.. А Василий еще за три дня до того предупредил Орисю, что снова началась вербовка рабов для Гитлера. Бежать надо, прятаться!.. А вот эти двенадцать не убежали..
«Судьба!.. Судьба!.. — вздохнул тяжело Василий. — То же говорила как-то Марфа Сегеда. Из счастья да горя и сковалася доля!.. И почему ты таким тяжким грузом легла на плечи наших людей?»
В селе будто на передовой. На огородах, в низине, у верб, бабахают выстрелы. Эсэсовцы охотятся за девушками и парнями. Фашистам нужны дешевые рабочие руки для шахт Рура, для рейнских химических заводов, на поля прусских помещиков. Гитлер гонит с восточных просторов, «завоеванных» его войсками, рабов. Сотни и сотни тысяч русских, украинцев, поляков, французов, белорусов, сербов, чехов, бельгийцев уже снискали смерть в лагерях и на непосильных работах.
Гитлеру нужны рабы, потому что немцев-мужчин от шестнадцати и до пятидесяти пяти лет он отослал на Восточный фронт — добиться реванша за Сталинград.
Плач, отчаянные крики и выстрелы вокруг. Горе в селе. Даже соловьи примолкли. И солнце спряталось за черные тучи.
Орися третий день сидит в своей пещерке — давнишней силосной яме. Мало надежды, что Роберт Гохберг на этот раз сможет спасти ее от каторги. Нет надежды на Василия… Видно, и его самого как будто заподозрили в том, что он не тот, за кого выдает себя. Как овчарка, крадется за ним Омелько Кныш.
Сквозь сухой подсолнечник, который прикрыл пещерку, Орися видела отцветшие ветви яблони, вишен, абрикосов и слив. Цвет теперь оставался лишь на кустах бузины. Стало тоскливо, словно весна покинула землю навсегда.
В саду на яблонях уже завязались плоды. И у нее зимой тоже появится сын или доченька. Ей и страшно и радостно. Страшно, потому что по ее родной земле ходят фашисты со своими подручными, вроде Омельки. Зверь и тот какую-то жалость имеет, а эти вчера за волосы тащили Маринку. Теперь она, Орися, живет в вечной тревоге и за себя, и за Василия, и за их будущего ребенка. Но другая дума смущала и радостью наполняла сердце. Они любят друг друга, и в маленьком сердечке ребенка будет вся их любовь, их счастье, их гордость и утеха! Она станет матерью. А ее сын (Орися верит, что будет мальчик) вырастет таким же бесстрашным, умным, таким же стройным и красивым, как его отец. Только глаза у него будут карие, ее, Орисины, глаза…
Тоскливо сидеть в одиночестве. Вчера ночью на железной дороге гремели взрывы. Партизаны пустили под откос эшелон. Вагоны вползали один на другой и, перекидываясь, катились вниз, с танками, с цистернами. Как бы хотела Орися уйти сейчас вместе с Василием к партизанам. Это от их взрывов содрогалось сегодня небо. Это сослужил свою службу тол, спрятанный Василием и его погибшими товарищами.
Но она сидит, словно плененная лютым Кащеем в пещере, в подземелье, царевна, и ждет не дождется своего освободителя, чтобы он уничтожил страшного ворога и вывел ее на свет, где сияет солнышко.
Послышались шаги. Орися затаила дыхание. То ступала босыми ногами ее мать.
— Бог в помощь, Марфа Ефимовна! — донеслось из соседнего огорода, от Мирошниченковых.
— Спасибо, — ответила Марфа и начала цапкой пропалывать картошку. — Думала, что и не взойдет, ведь одну шелуху садила. Сказано же: бог посеял дождик, а поднялась картошечка…
— Да, поднялась…
— Куманьки! Ой, соседушки! — внезапно прозвучало громко. Это бежала на огород другая соседка. — Слышали?..
— Разве все услышишь? Беда не спит, по людям ходит, — сказала Марфа. — Что там еще?..
— Да сегодня ночью пришли к Омельке Кнышу трое с короткими ружьями, с теми, что колесо внизу приставлено… Так вот, пришли, заткнули Омельке рот тряпкой и повели бог знает куда. Омельчиха бегает по селу и плачет! И к коменданту ходила!
— Поживился Омелько, как пес пасхи! — сказала Марфа Сегеда.
— И еще не все, куманьки! — продолжала соседка. — Ивга Данька-полицая как раз выходила на огород…. Только щеколдой стукнула и видит… там бумажка… Присмотрелась, а там написано… «Будь, пишут, умнее, Данило, чем твой сосед Омелько Кныш. Знай, Данило, скоро наши придут, вернемся и мы в село…» Так и написано, куманьки!.. Вернемся, значит, и беды тебе не миновать, если только будешь свиньей… А будешь помогать нашим убегать от каторги немецкой, может, простит тебе советская власть… Вот как!..
— Все уже знают, что такое письмо пришло Даниле? — спросила Марфа.
— Нет! Это она только мне сказала…
— Так вот, Ганна, придержи язык за зубами!..
— Да и вы тоже — ни-ни… А про Омельку уже вся округа знает!.. Пропал, как с моста упал. Все это одна рука делает.
Орися усмехалась, прислушиваясь к этому разговору. Еще вчера, говорили, хвалился Омелько, что поймает Аришку, не посмотрит, что она «таскается» с Робертом. И поймал… зайца за хвост. Она давно жаловалась Ивану Рыжкову, что от Омельки нет жизни. Вот и постарались партизаны.
— Мама! — осторожно позвала Орися. — Подойдите ближе.
— Ты слыхала, что Ганна говорила?
— Да. А Василий не приходил?
— Нет… Говорят, генерал к капитану приехал. Ищут квартир для офицеров. А войско идет и идет, да все на танках. И где они столько железа взяли? Смотреть страшно на машины. А как же с ними воевать? Как остановить такие страшилища?..
— Остановят, мама! Наш Вася каждодневно и каждочасно беспокоится, чтобы за Белгородом встретили тех «тигров» добрым огнем! Наши знают обо всем…
— А не рассказывал Василь, есть у наших такие танки? — несмело поинтересовалась мать.
— Есть.
Марфа Ефимовна вздохнула и, сложив руки, будто собиралась сотворить молитву, с минуту молча смотрела на северо-восток, куда с рокотом и лязгом каждую ночь ползли черные танки Гитлера с крестами на броне.
А в селе безутешно, словно над умершими, рыдали матери.
Дожди давно прибили к земле некогда нежные лепестки яблоневого и вишневого цвета. На ветках, до которых можно было с погребни дотянуться рукой, на плотных хвостиках повисли зеленые с сизым пушком, величиной с орех, яблочки. Над яблоней раскачивал буйной кроной тополь, напоминая парня с чубатой головой, который подставил свои кудри буйному ветру, чтобы тот расчесал их.
Свистит ветер, поднимает на кровле жмуты соломы, вырывает ее из-под заржавленной бороны и поломанного колеса, положенных на погребню еще покойным Сегедою.
Сердится тополь, словно надоело ему тут стоять без дела.
И Василию осточертело ежедневно бывать среди волков. Если бы не Орися, неизвестно, выдержали ли бы его нервы, не разорвалось ли бы его сердце от такой напряженной жизни.
Но оставаться среди врагов необходимо. Генерал Шмидт говорил Хариху, что имеется приказ генерал-фельдмаршала Шпейделя в случае наступления советских войск превратить этот край в «мертвую зону». Шпейдель хочет, чтобы все села и города были сожжены, местные люди уничтожены, а уцелевшие — вывезены. Василий даже побледнел, когда услышал это. Трудно было представить себе такой благодатный край превращенным в пепелище.
И Василий дрожащими руками выстукивал своему командованию об этом черном плане.
Еще радировал Василий:
«На участке фронта от Казацкого до Трефиловки и севернее сосредоточено 10 танковых дивизий 4-й танковой армии, 7 пехотных, одна моторизованная дивизия. Продолжает прибывать танковый корпус СС. Штаб его в школе в нашем селе. Офицеры говорят, что войска Белгородско-Харьковского плацдарма будут обслуживаться тремя авиационными корпусами воздушной армии генерал-фельдмаршала Рихтгофена. Силы противника на участке Белгород — Волчанск значительно меньше, нежели между Белгородом и железной дорогой, которая идет через Готню на Льгов.
Вечером сбросьте бомбы на штаб танкового корпуса СС. Даю координаты…»
Он прекратил выстукивать и задумался.
«Все…» — вздохнул он и начал свертывать радиостанцию. Узнать бы теперь, когда немцы начнут. Или, может, они будут ждать первого удара от русских? Но для обороны не сосредоточивают восемьдесят — сто танков на километр фронта. Удар готовят фашисты. Но когда?..
Это «когда» вместе с разведанным количеством дивизий, с оборонительными рубежами около Харькова, Белгорода и составлял знаменитую «Цитадель».
Когда?.. Командование должно знать, когда выйдут на рубежи немецкие «тигры» и «фердинанды», пехота, артиллерия, знать, чтобы перед наступлением засыпать их боевые порядки снарядами и бомбами.
Когда же?..
— Орися, милая, ты здесь? — позвал он тихонько.
— И мама тоже…
Василий спустился сверху.
— Вы, должно быть, сердитесь на меня? — виновато спросил он Марфу Ефимовну.
— А за что сердиться?
— Ну, за все… Может быть, за Орисю?
Он молчал, ждал, словно перед судьей.
Мать уже знает, что дочь ждет ребенка. А какой матери приятно узнать, что необрученная дочь беременна? К тому же отца ребенка еще ждут бои, бои, а может, и смерть. Все ниже склонял Василий голову, обвиняя одного себя.
Но и слова упрека не услышал он от старой матери. Почувствовал ее жесткую, натруженную руку. Марфа Сегеда погладила его, как маленького, по голове, задержав потрескавшиеся пальцы на поседевших волосах юноши, провела по его щеке. А потом, утирая фартуком глаза, сказала:
— Бог вам судья… — и пошла прочь.
А Орися припала к его груди:
— Родной! Нам всем троим надо уйти к партизанам! Мое сердце неспокойно. Не зря же ты пришел сюда огородами? За тобой следят?!
Василий зажмурил глаза. Утром на него косо поглядывал Харих. Воспользовавшись тем, что гауптмана вызвал командир корпуса, Василий незаметно выскользнул из комендатуры и низиной, огородами пробрался во двор Сегеды. Это небезопасно для девушки, для матери и для него. Но иначе он не мог. Такие новости должны были знать за линией фронта. От них зависел исход будущих боев. Теперь сообщение Василия уже расшифровывают и через минуту передадут в штаб. Разведчик свое сделал!
— Ты правя, Орися, надо идти к партизанам, — сказал Василий. — Тебе и матери сегодня же вечером… Действительно, я не зря пришел огородами…
— А ты?..
— Я выйду из села поздно ночью… А вас прошу идти немедленно…
— Я с тобой…
— Орися, милая! Я буду не один. Вечером придут от Ивана ребята… А ты иди с мамой!.. Ну, что ты смотришь на меня такими грустными глазами? Улыбнись же, ласточка моя чернобровая! Женушка моя милая… Завтра встретимся!..
— Только ты не задерживайся… — она печально улыбнулась, спрятав лицо на его груди. — Славный мой!..
Наступила полночь. В селе тишина. Только на шоссе топали сапогами солдаты. Время от времени переговаривались с часовыми возле штаба патрули, а потом следовали дальше и на перекрестках встречались с другими патрулями.
В избах темно — ни огонька. Месяц тускло отсвечивал в окнах, которые поблескивали в просвете кленов и акаций, и рассыпал скупую позолоту на кукурузном листе.
А под теми листьями прятались трое. Несколько часов лежали они возле шоссе.
Василий не раз подсчитывал в уме, все ли они учли, готовясь к предстоящей операции. «Будто все». Хорошо, что Орися ушла к Ворскле. А Марфа Ефимовна так и не захотела: «Орися часто исчезает из села, прячется от облав, к этому уже привыкли. А если я покину хату, то ее завтра же сожгут. Да и стара я идти в такую даль ночью…»
— Ребята, — прошептал Василий. — Свои обязанности не забыли?
— Не забыли, товарищ лейтенант. Василий усмехнулся. Давно к нему не обращались так. Он даже хотел поделиться с товарищами радостью: уже с неделю ему присвоено звание старшего лейтенанта, но передумал: еще скажут — хвастает Василий.
— Когда же наши прилетят? — спросил, ерзая среди стеблей кукурузы тот, кого Матвей назвал Платоном.
— Тебя что, блохи кусают? Терпи, козак, атаманом будешь, — приглушенным басом ответил другой партизан, Матвей, широкоплечий, на голову выше Платона.
— Да уж потерплю! — прошептал Платон, поправив на чубатой голове немецкую пилотку. — Фрицев пирожок никак не держится!..
— Надо обстричь твою копну!.
— Тише! — схватил Матвея за рукав старший лейтенант.
В нескольких шагах от них снова прошел патруль.
Василий, Платон и Матвей приникли, вслушиваясь в шелест листочков кукурузы.
На востоке ночь разбудили зенитки. Не задержались и штурмовики и бомбардировщики. Теперь Василий и его два товарища ничего так не боялись, как быть убитыми или раненными осколком от снаряда со своего самолета. Но никакое серьезное дело легко не дается. А они задумали ни мало ни много — похитить документы из большой классной комнаты, в которой днем сидит эсэсовский генерал. Ради такого задания стоит и потрястись, слушая свист бомб, предназначенных для врага. Правда, Василий надеялся, что основной удар придется по заводскому парку, где стояли танки и в палатках жили танкисты.
Самолеты ревели над самой головой.
Из школьного сада били зенитные пулеметы, от заводов резко и часто щелкали пушки. Две осветительные ракеты повисли на парашютиках над землей. Эсэсовцы кинулись в убежища, в подвалы, в окопы. Исчез с улицы и патруль. К школе летело несколько самолетов, с них стреляли по зенитным пулеметам. Неподалеку упала бомба, и земля поднялась фонтаном. В заводском парке гудело, словно в гигантской печи с неимоверно сильной тягой.
Наступил час действий и для партизан. Под видом патрульных они вышли на шоссе и перебежали через кусты акации и сирени к окнам намеченного класса.
— Начали! — подал знак рукой Василий. Матвей подсадил Платона, и тот взобрался на подоконник. Подождав секунду-другую, когда подымется новая волна стрельбы, он прикладом автомата выбил стекла в одной, потом в другой раме. Острое стекло царапало Платону спину, цеплялось за рукава трофейной куртки. Выставив вперед локоть, он соскочил на пол. За ним последовал Василий. Какое-то мгновение они стояли, тяжело переводя дыхание и соображая, с чего начать, потом взялись за работу. Платон так хозяйничал у ящиков генеральского стола, что замки и доски трещали, как орехи. Он выгрузил бумаги и папки в рюкзак. Тем временем Василий приладил пакетик тола к дверце сейфа.
— Ты скоро? — спросил он у Платона.
— Уже!
— Отдай мешок Матвею.
— Есть! — тот побежал к окну, но моментально вернулся. — Помочь?
Василий поджег коротенький бикфордов шнур, и они бросились к высокой двери, которая вела в коридор. Но двери оказались запертыми надежным замком. Василий лишился речи. До взрыва оставались считанные секунды. К окну?.. Не успеть… Шнур шипел, догорал, огонек приближался к пакетику с толом.
— А ну! — крикнул Василий и что было сил ударил плечом в дверь.
Двери затрещали, и обе половинки враз отворились. Василий и Платон упали в коридоре на пол. Они не успели перевести дыхание, как взрывом им заложило уши. Стена, темный потолок, казалось, придавят обоих. Василий вскочил, однако, и побежал к сейфу. Вот они, те карты, те наиценнейшие бумаги, за которыми они пришли. Дрожащими руками он передавал их через окно Матвею. А Платон уже стрелял по коридору. Несмотря на то, что во дворе трещали зенитные пулеметы, ревели самолеты и бомбы вздымали столбики земли, в коридор ворвались немцы.
— Скорее! — крикнул Платон.
— Беги к окну! — услышал он в ответ. Платон пустил еще очередь, кинул в коридор гранату и вскочил на подоконник.
— Бутылки!
— Бери? — подал Матвей замотанные в тряпки две бутылки.
Подбежал к окну и Василий. Он зубами выхватил пробку и зажег спирт, швырнул одну бутылку на сейф, а другую на стол. Синеватое пламя вспыхнуло и начало облизывать стол, сейф, поползло по полу.
В класс ворвались эсэсовцы. Василий выстрелил в них не целясь. Фигура его, освещенная ярким пламенем, на мгновение стала видна и с улицы, и из коридора.
Двое эсэсовцев, улегшись в коридоре, ударили по окнам. Пули с дзиньканьем крошили стекла, свистели рядом, и Василий, выпустив автомат, обеими руками схватился за живот. Согнувшись, он потерял равновесие и упал из окна на руки товарищей.
Вверху ревели моторы. Где-то рядом трещали пулеметы. Платон, прикрывая товарищей, стрелял по группе немцев. Солдаты падали, пригибаясь к земле.
Матвей с раненым побежал в кусты. Его догнал Платон.
— Что делать?
— На шоссе! Выдавайте себя за немцев с раненым товарищем. Потом… потом на огороды, — тяжело дыша, сказал Василий.
На школьном дворе суетились штабисты, вылезшие из щелей и убежищ. Они галдели, бренчали порожними ведрами. Самолеты, улетая на восток, гудели спокойно и ровно.
Матвей нес Василия на спине. Платон шел сбоку. Ловкий, коренастый, он походил на приготовившегося к прыжку боксера. Он пристально вглядывался в темноту и прислушивался, готовый каждую минуту открыть огонь по врагу.
Они прошли улицей шагов триста и остановились. Пригнувшись к самой земле, Матвей пополз с раненым в подсолнечники.
— Как ты? — спросил он, чувствуя на щеке горячее дыхание Василия.
— В лозняки… — едва слышно ответил Василий.
— У меня спина мокрая от твоей крови, лейтенант. Перевязать надо рану… — снова отозвался Матвей и уперся локтями в землю, чтобы перевести дух.
— Я рукой зажму рану… Ползи… Прошу тебя…
Сзади слышался шелест и шуршание.
— Можно выходить на дорожку, — доложил Платон.
Василий прикусил до крови губу и смотрел на месяц, повисший над горизонтом, где-то за вербами и широкими полями. Почему-то небесное светило подпрыгивало, словно его трясла лихорадка, и кружило колесом в глазах Василия.
Еще не совсем стихла стрельба, когда к домику Сегеды явился большой отряд немцев. Его привели гауптман Харих и лейтенант Майер. Исчез переводчик Роберт Гохберг.
Ходили на его квартиру, — старая Горпина сказала, что не видела Роберта с самого утра.
— Где твоя дочь и Роберт? — спросил Харих у Марфы перепуганным голосом — он боялся гестапо. — Где?
Солдаты шарили в хате, засветили фонари и разбрелись кто в хлев, кто на погребню.
— Пошла к родичам в Богодухов… А ваш переводчик? Откуда мне знать?..
— Не знаешь? Я вам, господин гауптман, еще раньше говорил, что Роберт — подозрительный тип. Полицай не зря следил за ним. Наверно, потому Омелько и исчез из села, — говорил лейтенант Майер, бросая укоризненный взгляд на своего начальника.
Этого было достаточно, чтобы флегматичный колбасник оживился. Тыча дулом пистолета Марфе Сегеде в грудь, он начал неистово кричать.
А та молча стояла среди толпы чужих солдат, сложив руки на груди, как складывала каждый вечер, вознося свои молитвы за воинов Петра, Степана и Василия, когда просила у господа бога, чтобы тот хранил их от вражеских пуль, от холода в морозные дни, от голода… «Хорошо, — думала она, — что аппарат зарыт в пещере».
К старой женщине подскочил гестаповец. Он-то знал, как заставить ее говорить. Фашист схватил женщину за руку и начал ее выкручивать. Марфа охнула и упала на землю.
— Как вы могли так прошляпить, господин Харих! — насмешливо заметил Майер, уже приподняв ногу, чтобы наступить ею на шею женщины.
— Я сам! — закричал Харих. — Где радиоаппарат?.. Где тот беловолосый… Тот… Коммунист?
— За Белгородом! Посжигает ваши танки и сюда придет!
— Ах, мерзавка! — сквозь зубы процедил гестаповец, сжимая в руке парабеллум.
Но Харих предупредил его. Он настоящий офицер армии фюрера и покажет себя.
Он схватил обеими руками Марфу за плечи и начал трясти ее.
— Ты не знаешь? Не знаешь?!
С земли на него смотрели глубокие, горячие, непримиренные глаза. В них была такая жгучая, неугасимая ненависть, что Харих понял: ничего от нее им не узнать. Он поспешно нажал на спусковой крючок пистолета.
Четыре выстрела прозвучали на подворье Марфы Сегеды.
— Сжечь это гнездо! Сжечь все живое на этой земле!
И погребня занялась пламенем. Огонь быстро побежал по сухой соломенной кровле. Он обжигал своими горячими языками ветви тополя и молодой яблони. Веточки и листья шипелй, не выдерживая мук. А посреди двора лежала старая мать с открытыми глазами, словно умоляла высокое звездное небо прикрыть ее детей от врага. А рот ее так и остался полуоткрытым, будто она снова шептала: «Сожгут сыны мои ваши танки и сюда придут…»
Из лозняка Матвей и Платон вышли не одни. Там их ждали партизаны. Они положили Василия на носилки, наспех сооруженные из плащ-палатки, и двинулись в путь. Идти пришлось ручьем, по колено в воде. А потом проследовали полями, не рожью засеянными, а поросшими полынью и сорняками.
Их остановил пожар в селе. Сердце Василия затрепетало от жалости. Он видел отсюда, что горела усадьба Марфы Сегеды, там отмахивался курчавыми ветвями от огня и дыма стройный тополь, верный приятель, свидетель и страж их любви.
— Опустите меня на землю… и покажите трофейную карту… Поверните против месяца.
Товарищи развернули карту, за которую Василий сейчас расплачивался жизнью. Пристально смотрел он на черные стрелы, что гадюками выползали от Тамаровки и Белгорода на север, а из Орла на юг. Словно острыми кинжалами сомкнулись эти стрелы у Курска, преградив путь на восток советским войскам на всей Курской дуге, окружив их там стальным кольцом. «Цитадель». Вот он немецкий «Сталинград», месть Гитлера за проигранную битву на Волге. Василий показал пальцем на цифру возле столкновения стрел; «9.VII.» Ему прочли:
— Девятого июля.
— Немцы хотят девятого июля встретиться в Курске.
— А как же!.. И встретят их по всем правилам! Быстрее бы передать об этой карте нашим, — сказал Матвей.
Зарево над селом все разгоралось, ширилось. Нет, это не огонь жизни. Это огонь смерти, которым хочет выжечь все живое на этой земле доктор философии генерал Шпейдель.
Пожар не только там. Все тело Василия охвачено жаром, а глаза застилает предсмертный туман.
— Вася… Лейтенант!
— Орисю берегите… Ребенка… Беспомощные стояли товарищи, не зная, как спасти своего лейтенанта. Они склонились над ним, чтобы не ослышаться. С трудом он приподнял голову.
— Передайте как можно быстрее документы… Там все… что нужно. Ребята!.. Я не успел… Скажите ей… Моя настоящая фамилия..
Не договорил лейтенант Василий. Рывком откинул голову назад. Сердце его перестало биться…
Орися успокоилась, хотя плечи ее, склоненные над подоконникам, время, от времени вздрагивали.
А девушки невесело пели, собираясь расходиться по домам.
Дала дівчина хустину, Козак у бою загинув, Темної ночі накрилі очi, — Легше в могилі спочинув…Жалость тяжкой тучей сдавила мое сердце. Я подошел к девушке. «Успокойся, Орися…» А что я мог сказать еще? Что сочувствую ее горю, что знаю, как тяжело тем ребятам, которые не знают отцовской ласки. Ничего этого я не мог сказать гордой молодой женщине.
Ген серед поля гнеться тополя, Та на козацьку могилу…Протяжно закончили дивчата стародавнюю песню. Сейчас она прозвучала словно гимн доблестному и славному герою-разведчику и старой матери с большим и щедрым сердцем, сердцем своего народа…
Ночью я долго не мог уснуть и выкурил целую горсть табаку.
Утром, как и обещали, девушки пришли в школу за свежими газетами, доставленными из тыла. Среди них была и Орися.
Вскоре в конце улицы, которая вела к школе, появилась толпа людей. Как водится, впереди бежала любопытная ко всему босоногая команда. Ребята озорно оглядывались на следовавших за ними военных и генерала в распахнутом плаще, в посеревших, запыленных сапогах. Генерал обнял за плечо беловолосого паренька с глазами такими же ясными, как у него самого.
— Смирно! — вдруг прозвучала команда.
Старший лейтенант, с которым я прибыл еще вчера, прижимая противогаз к бедру, побежал навстречу. Поднеся руку к козырьку, он застыл.
— Товарищ генерал! Личный состав штаба соединения…
— Вольно, — тихо сказал генерал, не дослушав до конца доклад дежурного.
— Вольн-но!
Один из штабных офицеров подошел к командующему и подал ему толстую тетрадь.
— Только что доставлена. В бою погиб командир 19-й танковой немецкой дивизии генерал-лейтенант Шмидт. Вот его дневник… Он пишет, что немцы не предвидели и четвертой доли того, с чем им пришлось встретиться. Каждый кустик, каждый колхоз, все рощи и высоты были превращены большевиками в опорные пункты, трудно было представить то упорство, с каким русские защищали каждый окоп, каждую траншею… О Шмидте нам передавал разведчик Василий вместе со своей подругой Орисей Сегедой…
— А где же она? Дивчата, где ваша Орися? — спросил генерал у девушек.
— Вон она спряталась за спину Гали! — сказал кто-то.
Генерал усмехнулся.
— А которая из них Галя?
— Вон та, что с косами до пояса…
Словно по уговору девушки расступились. Орися смотрела на генерала смущенным взглядом, пыталась что-то сказать. А он уже пожимал ее руку.
— Спасибо тебе, Ариша! — мягко сказал генерал. — Мы тебя не забудем. Но нам пора в дорогу, впереди Киев, Львов, бои за Берлин и наша победа!
И мне хотелось выкрикнуть в ту минуту: «Впереди победа! Мы пронесем с честью наши знамена!»
А через три месяца наш фронт, который теперь назывался Первым Украинским фронтом, в канун годовщины Великой Октябрьской революции освободил мой родной Киев. Танковая рота, которой я командовал, получила задание выйти на Брест-Литовское шоссе и перерезать путь отступления немцев на запад. Родная улица! Я пришел к тебе!
Бой с немецкими танками и артиллеристами был горячий, жестокий. Осколок вражеского снаряда впился мне в грудь, пробил легкие, а другой зацепил предплечье. Когда немцы прекратили сопротивление, а остатки разбитых частей бросились по растоптанным проселочным дорогам подальше от Киева, меня отправили в госпиталь.
Я страдал не столько от ран, причиненных осколками, сколько от того, что увидел вместо дома, в котором когда-то жил. Я попросил санитара, сопровождавшего меня, остановить машину. Две искалеченные, выщербленные высокие стены стояли, точно привидения, в сизом тумане над кучами битого щебня и глины. Бабусю, которая подошла к нам, я узнал сразу: в те солнечные дни, когда цвели каштаны и не было войны, она всегда продавала цветы возле заводского клуба. А сейчас, согнутая, почерневшая, она, словно страшную сказку, поведала, как среди этого щебня нашли трупы моих родителей. И у меня не стало ни отца, ни родимой. Была лишь родная улица, по которой проходили, лязгая гусеницами, наши танки и самоходки, по которой скромно и тихо тарахтели возы наших «славян»-обозников, что следовали туда же на запад, на Львов, на Брест, на Варшаву, на Прагу, на Будапешт, на Вену, на самый Берлин — освобождать земли от гитлеровской нечисти.
А уже к вечеру я лежал на жесткой кровати в наспех оборудованном госпитале и слушал, как барабанит холодный осенний дождь в затемненные синей бумагой окна. Я слышал торжественный голос диктора, который доносился из репродуктора в другой комнате. А потом гремели залпы. Москва салютовала войскам генерала Ватутина, которые вернули Родине Киев. «И пронесем знамя до Киева», — вспоминал я слова генерала, сказанные нам в слобожанском селе, возле школы, августовским солнечным утром. «И впереди победа!»
Еще одно волновало меня до глубины души.
— Сестра! — позвал я, слегка приподняв голову. — Возьмите бумагу, чернила и подойдите ко мне!..
Медицинская сестра села рядом, положив на тумбочку листочек бумаги, вырванный из тетради.
— Вам нельзя волноваться… Успокойтесь. Я все напишу, все…
Если бы она могла написать это «все», чем было наполнено мое сердце, чем жил в эти минуты мой мозг.
— Я слушаю вас…
— «Здравствуй, Орися!
Я часто думал о тебе и твоем лейтенанте. А на днях даже письмо собирался тебе написать, да не было времени. Был занят. Форсировали Днепр, а потом брали Киев. Теперь время есть. Лежу в госпитале. Сегодня я узнал, что у меня нет ни отца, ни матери — погибли. И кажется мне, Орися, что нет для меня на свете родней человека, чем ты».
Я умолк, а девушка в белом халате и косынке тихо, словно страшась спугнуть мои мысли, спросила:
— А дальше что писать? …
Примечания
1
Все в порядке! Понятно? (немецк.).
(обратно)
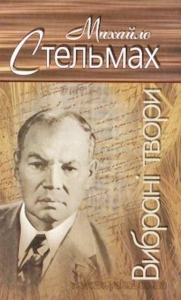




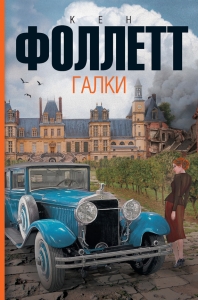

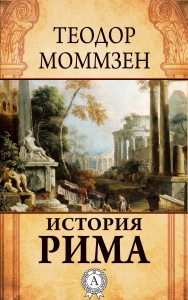


Комментарии к книге «Имя его неизвестно», Павел Федорович Автомонов
Всего 0 комментариев