Анри Труайя Антон Чехов
Глава I Семейный круг
Ученик первого класса Таганрогской гимназии[1] Антон Чехов, которому едва минуло девять лет, силился сосредоточить внимание на лежавшей перед ним раскрытой латинской грамматике. Но его ум поминутно отвлекался от освещенной свечой страницы, уносясь в «большую комнату», где отец, грозный Павел Егорович, должно быть, по обыкновению своему, читал молитвы. В этой комнате – святая святых дома, с молитвенником, всегда лежащим на конторке, целая стена была увешана иконами, перед которыми день и ночь не угасали цветные стеклянные лампадки. Как ни удивительно, но крайняя набожность богомольного Павла Егоровича лишь усиливала его склонность к домашней тирании. Убежденный в том, что всегда действует по воле Господа, с которым поддерживал особые отношения, он навязывал семье железную дисциплину. Его жена, ласковая и бесцветная Евгения Яковлевна, сыновья Александр, Николай, Антон, Иван и Михаил, дочь Мария[2] трепетали, едва он повышал голос в их присутствии. Стоило ему появиться – каждый чувствовал себя грешником. При малейшем проступке он раздувался от ярости, сыпал проклятиями, размахивал руками, кипятился и лупил виновного. Он не скупился на пощечины, а в серьезных случаях снимал со стены плетку и засучивал рукава. Позже Чехов напишет, что отец начал его воспитывать, или попросту бить, когда ему не исполнилось еще и пяти лет. Первой мыслью мальчика при пробуждении было: «Выпорют ли меня сегодня?» Школьного товарища, который сказал, что дома его никогда не секут, маленький Антон назвал обманщиком. После наказания «провинившийся» ребенок, с горящим от побоев задом, должен был, по обычаю, поцеловать сурово покаравшую его отцовскую руку. Что это – деспотизм? Неумеренная жестокость? На самом деле Павел Егорович наказывал свое потомство без злобы и почти без гнева. Он на свой лад даже и любил детей, но считал, что, обращаясь с ними сурово, старается ради их же блага. Придерживаясь твердых убеждений, он не отделял наставлений от побоев и считал, что без криков и битья невозможно внушить священные истины пустоголовым мальчишкам. «Меня самого так воспитывали, – говорил он жене, оправдывая свою жестокость. – И, как видишь, получилось неплохо!» Позже Чехов меланхолически заметит, что его деда лупили господа и самый мелкий чиновник мог набить ему морду. Его отца бил дед, а его самого и братьев – отец. «Что за нервы, что за кровь мы унаследовали?» – спросит он. И признается: «В детстве у меня не было детства».
Иногда мать пробовала вмешаться, старалась смягчить суровость мужа. Но где уж ей, бесхарактерной и измученной шестью детьми, которых вынашивала и рожала почти без перерыва, было обуздать этого проникнутого чувством собственной значимости pater familias![3] Ее саму по любому поводу грубо одергивали, словно простую служанку. «Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери, – спустя много лет напишет Чехов старшему брату Александру. – Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. […] Лучше быть жертвой, чем палачом».[4]
Думая о матери, Антон всегда видел ее хлопочущей у плиты или согнувшейся над швейной машинкой. Ведь надо было накормить и одеть шестерых детей. Евгения Яковлевна огорчалась из-за того, что они слишком быстро росли и снашивали вещи. Ее голова была постоянно занята мыслями об одежде. То пальто надо надставить, то штаны починить. И все стоит денег… Она бесконечно складывала в уме копейки, страшась, что муж попрекнет ее неумением вести хозяйство.
Маленький Антон тоже с утра до вечера жил, со страхом ожидая выговора. Уткнувшись в латинскую грамматику, он молился о том, чтобы день прошел без грозы. Но за дверью уже слышался шум приближавшихся шагов. Входил отец, грузный, широкоплечий, с темной бородой, кустистыми бровями, властным взглядом. Он был одет в шубу, обут в высокие кожаные калоши.
«– Тово… – говорит Павел Егорович. – Я сейчас уйду по делу, а ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько.
У мальчика навертываются на глаза слезы, и он начинает усиленно мигать веками.
– В лавке холодно, – возражает он, – а я и так озяб, пока шел из гимназии.
– Ничего… Оденься хорошенько – и не будет холодно.
– На завтра уроков много…
– Уроки выучишь в лавке… Ступай да смотри там хорошенько… Скорее! Не копайся!»[5]
Антон покорно откладывал перо, натягивал гимназическую шинель на вате, совал ноги в дырявые калоши и, взяв под мышку латинскую грамматику, следом за отцом выходил в ледяную уличную темень. Лавка была в том же доме. В ней царила полярная стужа. Двое маленьких украинских мальчишек, Андрюшка и Гаврюшка, служившие приказчиками, притопывали ногами и растирали лица посиневшими от холода руками. Завидев хозяина, они замирали, вытянувшись в струнку. Отец приказывал Антону сесть за конторку и, несколько раз перекрестившись на икону, тяжким шагом удалялся. Дверь за ним с грохотом захлопывалась.
Антон, глотая слезы и хлюпая носом, устраивался на ящике из-под казанского мыла и раскрывал свою латинскую грамматику. Он твердо намеревался делать уроки. Но когда мальчик пытался обмакнуть перо в чернильницу, стальное острие утыкалось в корочку льда. Оба мальчика-лавочника приплясывали на месте, чтобы согреться, болтали друг с другом, исподтишка посмеивались. Покупатели входили, выходили, что-то говорили. Голоса гулко отдавались под низким потолком. В таком шуме не только учиться, но даже и мечтать было невозможно. Антон, промерзший до костей, знал, что ожидание затянется на долгие часы, ведь обычно отец, отправляясь навестить друзей или помолиться в церкви, начисто забывал о существовании сына. Запрятав руки поглубже в рукава, поджав в сапогах пальцы ног, ребенок думал о том, что завтра в школе получит плохие отметки, и чувствовал, как его постепенно охватывают печаль и страх.
В этой темной и нечистой лавке торговали всем подряд. Здесь, конечно, можно было приобрести бакалейные товары, но также и керосин, лампы, фитили для них, перочинные ножи, табак, гвозди, слабительное. На полках коробки с чаем соседствовали со свечами; на полу теснились мешки с мукой и подсолнечными семечками; над прилавком свешивались колбасы и липкие, нанизанные на веревочку леденцы. От разложенных товаров исходил тяжелый смешанный запах. Кофе припахивал керосином, рис отдавал сальной свечкой…
На большой черной вывеске над дверью золотыми буквами были выведены слова: «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары». Чуть пониже – другая вывеска: «Навынос и распивочно». Последняя приглашала постоянных покупателей выпить водки в маленькой примыкавшей к лавке комнате. Несколько завсегдатаев лавки Павла Егоровича превратили это грязное и зловонное место в некое подобие клуба. С наступлением вечера они собирались здесь за графинчиком водки; лица вскоре начинали пылать, языки развязывались. В отсутствие отца Антон спускался в подвал, чтобы пополнить запас водки, обслуживал клиентов, записывал покупки, принимал деньги. Водка в России стоила недорого, на несколько копеек можно было напиться допьяна. Выпивохи обменивались непристойными шутками. Когда кто-нибудь из них рассказывал слишком вольный анекдот, то неизменно прибавлял: «А ты, Антоша, не слушай! Тебе рано еще!» Но маленький Антон все слышал, все понимал, обо всем догадывался. Уже в таком нежном возрасте ему пришлось столкнуться с нищетой, уродством, ленью и глупостью.
Лавка была открыта с пяти часов утра и до одиннадцати вечера. До отхожего места, находившегося на пустыре, Антону надо было пройти целую версту.[6] И нередко случалось, что, отправившись туда в темноте, мальчик нос к носу сталкивался с бродягой, укрывшимся там на ночь. И какой ужас охватывал тогда обоих!
Сидение в лавке казалось Антоше бесконечным. Но наступал момент, когда один из мальчиков-лавочников, карауливший на улице, распахивал дверь с криком: «Папаша идут!» Антон выпрямлялся, таращил затуманенные сном глаза и с тревожно сжавшимся сердцем ждал выговора. Отец обводил лавку суровым взглядом, затем склонялся над книгой, куда записывали отпущенный товар. Антон переставал дышать. Несдобровать ему, если ошибся где-нибудь на копейку!
Когда ребенок, измученный и продрогший, возвращался домой, мать утешала его. А иногда она осмеливалась деликатно намекнуть мужу, что столь тяжкая работа, наверное, не по силам такому маленькому мальчику… И результат всегда был один – описанный в мемуарах:
«– Пускай приучается, – отвечает Павел Егорович. – Я тружусь, пускай и он трудится… Дети должны помогать отцу.
– Он и так всю неделю в лавке сидит. Дай ему хоть в воскресенье отдохнуть.
– Вместо отдыха он баловаться с уличными мальчишками начнет… А если в лавке никого из детей не будет, так Андрюшка с Гаврюшкой начнут пряники и конфеты лопать, а то и деньги воровать станут…»[7]
Если Антон жаловался, что не может ни готовить задания, ни учить уроки в бакалейной лавке из-за холода и постоянного хождения покупателей взад и вперед, отец ворчал в бороду: «Ведь нахожу же я время прочитать за конторкою две кафизмы из псалтири, а ты не можешь маленького урока выучить!»[8] Излюбленной его поговоркой было: «Без хозяина товар плачет!» Тем не менее сам он очень редко вставал за прилавок. Разве не было у него сыновей, чтобы его заменить?
Муки бакалейной лавки, терзавшие Антона, дополнялись церковным мучительством. Павел Егорович постоянно испытывал такой молитвенный подъем, что почти все свое время посвящал чтению духовных книг и молитвам. Но в религии его больше всего привлекали не христианские заповеди, а торжественная и неспешная красота обрядов, мерцание икон в золотых окладах, сияющие одежды священнослужителей, проникающие в душу мелодии песнопений, коленопреклонения, крестные знамения, обволакивающий аромат ладана. Он заставлял сыновей вместе с ним посещать все основные богослужения, совершающиеся в течение дня. Дети часами стояли на ногах, тупея от торжественного течения литургии. Но вскоре и это усердие стало казаться недостаточным Павлу Егоровичу. Будучи обладателем красивого голоса и тонкого слуха, он забрал себе в голову, что должен создать церковный хор. Спевки проходили с десяти часов вечера до полуночи в комнате, примыкавшей к лавке. Почти весь хор состоял из кузнецов с могучими грудными клетками. Для того чтобы уравновесить звучание этих глухих басов и мужественных баритонов, доморощенный руководитель хора ввел в него собственных сыновей. Александру и Николаю отводились роли первого и второго дискантов, Антону же досталась партия альта. Они усаживались вокруг стола на ящики из-под мыла, Павел Егорович брался за скрипку, и все начинали славить Бога. «На Афоне, – говорил Павел Егорович, – мальчики-канонархи по целым ночам читают и поют – и ничего им от этого не делается. От церковного пения детские груди только укрепляются. Я сам с молодых лет пою и, слава Богу, здоров. Для Бога потрудиться никогда не вредно».[9]
Благодаря связям в церковных кругах Павел Егорович пристроил свой хор в несколько мест, чем сам страшно гордился и что глубоко огорчало детей. Из всех Чеховых-младших именно Антон особенно не любил воскресных и праздничных дней, когда ему и его братьям приходилось с самого раннего утра петь в церкви. Отец будил их за час или два до начала службы, чтобы они успели душой и телом подготовиться к богослужению. А когда дети, совершенно разбитые, возвращались домой, Павел Егорович заставлял их участвовать еще и в домашнем подражании церковной службе. Нелепый и торжественный, он вставал перед иконами и требовал, чтобы вся семья пела вместе с ним. Отец, мать и сыновья, простершись на полу и стукаясь об него лбами, набожно сливали свои голоса в молитвах. Так проходило время до поздней обедни. Когда снова начинали звонить колокола, вся семья возвращалась в церковь. Вспоминая перенесенные им испытания, Чехов писал 9 марта 1892 года Леонтьеву-Щеглову: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание – с церковным пением, с чтением Апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио „Да исправится молитва моя…“ или же „Архангельский глас“, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками. Да, милый! Рачинского[10] я понимаю, но детей, которые учатся у него, я не знаю. Их души для меня потемки. Если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием».[11]
И все-таки позже он признает, что у его отца, несмотря на ограниченный ум и грубое обращение, был некоторый художественный вкус. Павел Егорович не только самоучкой выучился играть на скрипке, но и малевал иконы, неуклюже и благочестиво.[12]«Талант у нас со стороны отца, а душа – со стороны матери», – скажет впоследствии Чехов.
Но сколько ни молились, сколько ни жгли перед иконами свечей, а все же торговля Павла Егоровича постепенно приходила в упадок. Его грубое обхождение, недальновидность и скупость отпугивали покупателей. И потом, товары в лавке были слишком уж низкого качества. Однажды в баке с деревянным маслом утонула крыса. И что же? Павел Егорович не нашел в себе мужества выбросить «оскверненный» товар. Но как примирить обязательную для всякого христианина честность с нежеланием терпеть крупный убыток? Вдохновленный свыше, Павел Егорович пригласил священника и попросил его прочесть над этим маслом очистительную молитву. После этого он мог со спокойной совестью снова пустить в продажу освященный и очищенный товар. Обряд совершался в самом тесном кругу, но соседи, быстро обо всем прознавшие, возмутились. Очищенное от скверны масло не находило покупателя. Более того, подозрение в нечистоте тяготело отныне над всеми припасами в лавке. И только любители водки хранили верность своему «клубу».
Павел Егорович, хотя и был, с его поврежденным деспотизмом и поверхностной религиозностью умом, коммерсантом довольно посредственным, все же принадлежал к числу таганрогских купцов второй гильдии. С наивным самодовольством он носил на шее знак отличия своего объединения, а по воскресеньям разгуливал не иначе как в шелковом шапокляке и белой сорочке. Но, с другой стороны, если вспомнить о том, из какой среды отец писателя вышел, он и впрямь мог гордиться своим социальным восхождением.
Отец Павла Егоровича (то есть дед Антона по отцовской линии), Егор Михайлович Чех, был крепостным крестьянином. Хитрый, трудолюбивый, прижимистый, он сумел сделаться приказчиком на сахарном заводе, принадлежавшем его хозяину. Выучившись читать, писать и считать, Егор Михайлович требовал, чтобы дети его проявили не меньшее усердие. В 1841 году, накопив значительную сумму, он купил вольную для себя самого, для своей жены и троих сыновей, по семьсот рублей с головы. Что касается дочери, то, чтобы выкупить ее, денег не оставалось, и тогда великодушный помещик, граф Чертков,[13] отпустил ее без выкупа, «в придачу». Освободившись из крепостного рабства, Егор Михайлович благодаря своей репутации безукоризненно честного человека стал управляющим огромными имениями графини Платовой в Таганроге и Ростове-на-Дону. Теперь его уже не звали пренебрежительной кличкой Чех, а называли Чеховым. Заботясь о том, чтобы получше пристроить сыновей, он отправил Михаила учиться переплетному делу в Калуге, Митрофана сделал приказчиком у ростовского купца, а Павла – «мальчиком», затем конторщиком у богатого купца Кобылина, таганрогского городского головы. На этой ответственной работе Павел проявил себя толковым и услужливым. В течение десяти лет он, получая мизерное жалованье и терпя унизительное обхождение, гнул спину и грыз удила. 29 октября 1854 года Павел Егорович женился на Евгении Яковлевне Морозовой, происходившей, как и он сам, из семьи крепостных. Отец Евгении, торговец сукном из Моршанска, умер в эпидемию холеры во время поездки в Новочеркасск. Узнав о его смерти, жена, которая гостила тогда у родственницы на другом конце России, во Владимирской губернии, наняла тарантас и пустилась вместе с детьми в бесконечно долгое и опасное путешествие – на поиски могилы мужа. Евгения Яковлевна любила рассказывать сыну Антону об этой долгой поездке через степи и леса, о безлюдном великолепии сменявших друг друга пейзажей, о встречах с юродивыми, о ночевках на подозрительных постоялых дворах, где приходилось по ночам загораживать двери из страха перед разбойниками с большой дороги. По мере того как семья продвигалась к югу, усталость и опасения смягчались, окрашиваясь поэтическими оттенками. Теперь, перестав бояться, они нередко ложились спать под открытым и чистым небом. Тишину нарушали лишь стрекотание сверчков или пронзительный крик ночной птицы. Всю жизнь Антон будет вспоминать чудесные рассказы матери. Некоторые эпизоды он вставит потом в «Степь», пересказывая их с таким волнением, словно ему самому довелось все это пережить. Могилу деда Морозова найти так и не удалось. Прекратив бесплодные поиски, вдова с двумя дочерьми поселилась в Таганроге. Там Павел Егорович и встретился со своей будущей женой.
Совместная жизнь начиналась трудно. Крымская война парализовала всякое движение судов в Таганрогском порту, а вскоре по городу начала стрелять франко-британская эскадра. Беременная Евгения вместе с мужем нашла приют в одном из домов предместья. Через десять месяцев после свадьбы она произвела на свет первенца, Александра. Когда война закончилась, молодая чета с младенцем вернулась в город и поселилась в хибарке, купленной отцом Павла Егоровича. Наконец, откладывая деньги по копейке, Павел Егорович сумел накопить достаточно, чтобы осуществить свою мечту и купить собственную бакалейную лавку. Вот там, в самом центре Таганрога, в доме Гнутова на Полицейской улице, и родился 17 января 1860 года Антон Чехов.[14] Маленький одноэтажный домик, с зелеными ставнями на окнах, под оцинкованной крышей… Вскоре это скромное жилище стало для семьи слишком тесным, и, после двух переездов, Чеховы в 1869 году поселились в доме Моисеева на Монастырской улице – это была самая окраина города.
Антон Чехов сохранил печальные воспоминания о домах, в которых проходило его детство. «В скоромные дни, – напишет он в „Моей жизни“, – в домах пахло борщом, в постные – осетриной, жаренной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду. […] Во всем городе я не знал ни одного честного человека».[15] И в письме к сестре: «Я в Таганроге. […] Впечатления Геркуланума и Помпеи. […] Все дома приплюснуты, давно не штукатурены, крыши не крашены, ставни затворены… С Полицейской улицы начинается засыхающая, а потому вязкая и бугристая грязь. […] Пробираясь […] через Новый базар, я мог убедиться, как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной вывески и есть даже „Трактир Расия“; улицы пустынны; рожи драгилей довольны; франты в длинных пальто и картузах, Новостроенка в оливковых платьях, кавалери, баришни, облупившаяся штукатурка, всеобщая лень, умение довольствоваться грошами и неопределенным будущим. […] Что отвратительно в Т[аганро]ге, так это вечно запираемые ставни».[16]
В другом письме, датированном тем же числом и адресованном писателю-юмористу Лейкину, он разовьет свою мысль: «Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов – никаких. Куда ни явишься, всюду куличи,[17] яйца, сантуринское,[18] грудные ребята, но нигде нет ни газет, ни книг… […] Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников».[19]
И в самом деле, в те времена Таганрог, расположенный на северо-западном берегу Азовского моря, был почти вымирающим городом. А ведь порт, заложенный некогда Петром Великим, в прошлом был довольно-таки процветающим. Там в свое время обосновались многочисленные иностранные купцы, по преимуществу греческие, забравшие в свои руки экспорт сельскохозяйственной продукции. Они и образовали своего рода денежную аристократию, обеспечив себе господство над местными уроженцами, которые быстро скатились на роли приказчиков и мелких служащих. В среде этих богатых господ можно было встретить такие фамилии, как Вальяно, Скараманга, Кондояки, Муссури, Сфаэлло, но ни одного Иванова или Петрова. Таганрогские миллионеры жили в роскошных домах, наносили друг другу визиты, разъезжали в каретах, щеголяли парижскими нарядами, выплачивали субсидию местному театру и воздвигали на греческом кладбище памятники из паросского или каррарского мрамора. Город озарился лучами славы, когда в нем таинственным образом скончался царь Александр I.[20] Затем об этом приморском городе снова забыли. Бухту занесло песком, и большим судам приходилось вставать на якорь в открытом море. А недальний город Ростов-на-Дону тем временем разрастался и благоустраивался, стягивая к себе всю местную торговлю. К середине XIX века Таганрог превратился в призрачное поселение. Ругая его за сонливость, Антон Чехов тем не менее испытывал на себе власть его болезненного обаяния. Рядом с богатыми, по-прежнему окруженными роскошью иностранцами русское население, состоявшее из рабочих, грузчиков, лавочников, вечно полуголодных мелких служащих, влачило жалкое существование. Немощеные улицы весной и осенью превращались в сплошные рытвины, полные грязи, в которой увязали по щиколотку прохожие. Зато летом дороги исчезали под натиском буйно разраставшихся сорняков. Только две главные улицы были кое-как освещены, все остальные «артерии» города тонули во тьме. И потому жители Таганрога по ночам передвигались с фонарем в руке. Время от времени пропадала какая-нибудь молодая девушка, и тогда рассказывали, будто ее отправили в турецкий гарем. Иногда между пустырями и расшатанными изгородями пробиралась нагруженная мешками с мукой повозка, которую тащили заключенные из городской тюрьмы. В обязанности все тех же заключенных входило и убивать бродячих собак, поэтому они расхаживали по рынку, вооруженные дубинками и крюками. Собак уничтожали прямо на глазах у прохожих. Воды было мало, и она была нездоровой. Каждую субботу по улицам проходил человек с большим веником на плече. «В баню! В баню! – громко кричал он. – В городскую баню!»
Погребенный в самых недрах этого всеми забытого города, в «глуши», как говорят русские, маленький Антон проникался смешанным чувством отвращения и нежности, протеста и покорности судьбе. Он так хорошо знал этот обездоленный уголок земли; он видел вокруг себя людей, живших, как и его родители, в деревянных развалюхах с навесом, под которым летом можно было укрыться от солнца, и жалким садиком перед дверью; он знал имена и привычки всех соседей, и клички их собак, и сколько у кого было в курятнике кур; каждая болезнь и смерть, каждая свадьба и рождение ребенка, каждое праздничное застолье становились достоянием всего квартала. Люди глаз друг с друга не спускали, завидовали друг другу, но друг друга поддерживали. Как не любить место, где ты увидел свет и где самый невзрачный камешек отпечатался в твоей памяти? Антон ощущал, что и его захватывает приятная расслабленность русской провинции, но в то же время страдал от своей принадлежности к этому безвольному населению, которое уже и не надеялось на лучшее будущее. Но ему-то, несмотря на юный возраст, страстно хотелось надеяться. Он уже предвидел, что его дальнейшая жизнь пройдет не в Таганроге. Сидя в отцовской лавке, среди мешков с мукой и связок колбас, мальчик Антоша мечтал о путешествии вроде того, о котором рассказывала ему мать: о долгом, опасном, волнующем путешествии через всю бескрайнюю Россию. Будет ли ему дана возможность вырваться отсюда, увидеть другие края, другие лица? Может быть, и да… А пока оставалось лишь учиться, гнуть спину и вздыхать от тоски.
Глава II Учеба и перемены в жизни
Разочарованный жалкими успехами своей торговли, Павел Егорович в один прекрасный день заявил, что его сыновья должны выбиться в люди – не оставаться же им на всю жизнь бакалейщиками. И поскольку в Таганроге всем заправляют богатые греческие купцы, значит, говорил он, надо пристроиться к ним. Вместо того чтобы отдать Антона и Николая в русскую гимназию, как робко советовала жена, он, следуя честолюбивому расчету, предпочел отправить мальчиков в греческую школу, где они должны были изучить язык, на котором ведутся дела. Позже, считал Павел Егорович, благодаря знанию этого языка они с легкостью найдут себе место в какой-нибудь импортно-экспортной конторе и, постепенно поднимаясь по ступенькам, доберутся до самого верха.
Преподаватель греческой приходской школы Николай Вучина, рыжебородый толстяк с хорошо подвешенным языком и туманным прошлым, поддерживал старшего Чехова в его честолюбивых намерениях. Больше того, он говорил так убедительно, что Павел Егорович, несмотря на скупость, согласился внести двадцать пять рублей аванса в счет ежегодной платы за обучение. И вот Антон и Николай, на которых отныне семья возлагала все надежды, отправились учиться в заведение, где, по словам Вучины, воспитывалась торговая элита города.
На самом деле все было вовсе не так: школа помещалась в одной грязной и обветшалой комнате, куда набивались семьдесят юных греков в возрасте от шести до двадцати лет. Их рассаживали за парты, стоявшие в пять рядов, пронумерованных I, II, III и так далее. Эти цифры обозначали классы. Ученики, сидевшие в первом ряду, громко твердили: альфа, бета, гамма, дельта; последний, пятый ряд занимали здоровенные парни в туго натянутых на могучей груди тельняшках: эти бубнили себе под нос историю Греции. Вучина был единственным учителем в школе и с равной самоуверенностью преподавал все предметы. Усадив семилетнего Антона и его девятилетнего брата Николая на «скамью приготовишек», он вручил мальчикам по брошюре, озаглавленной «Новый Алфавит», со словами: «Завтра принесете мне по двадцать пять копеек за каждую книгу».
Едва появившись в школе, новички до смерти испугались толпы шумных и драчливых мальчишек, говоривших между собой на непонятном языке, и учителя с огненной бородой, который расхаживал по проходам, распекал учеников и изобретал для них всякие наказания: бил линейкой по рукам и по голове, ставил на колени на крупную соль или лишал завтрака. Вучина очень быстро обнаружил, что, несмотря на его увещания, маленькие братья Чеховы не выучили азбуку, и вообще перестал ими заниматься. Зачисленные в лентяи, Антон и Николай сидели, скрестив руки на груди, с девяти утра до трех часов пополудни, и слушали обрушивающийся на их головы поток слов, смысл которых оставался им недоступен. Но здесь все-таки было лучше, чем в лавке или в церкви. Единственное, чего опасался Антон, – как бы отец не узнал о его незначительных школьных успехах. Но когда, несколько недель спустя, Павел Егорович спросил у Вучины, что тот думает о его сыновьях, учитель с лучезарной улыбкой уверенно ответил, что преподавание уже принесло плоды. А затем, в подтверждение своих слов, вручил братьям свидетельства об успехах, или brabeion (боевая награда). У Николая этот brabeion был украшен эпитетом «благочестивый», Антона же признали «прилежным».
На рождественских каникулах Павел Егорович пригласил в дом нескольких друзей-греков, чтобы похвастаться перед ними успехами сыновей в изучении языка Гомера. Увы! Ни «благочестивый» Николай, ни «прилежный» Антон и трех слов связать по-гречески не смогли. Павел Егорович, которого в глазах гостей выставили посмешищем, страшно разгневался и долго бушевал. Но, поскольку уроки были уже оплачены, он велел обоим виновникам своего позора вернуться в школу Вучины и оставаться там до конца учебного года.
Только 23 августа 1868 года Антон, облаченный в темно-синий мундирчик с металлическими пуговицами, вошел в приготовительный класс таганрогской русской гимназии. Так было исполнено желание матери. В то время Антоша был пухлым, круглолицым, бледненьким мальчиком с густыми волосами и большими карими глазами, глядевшими мечтательно и задумчиво. Но порой на этого робкого, скромного, замкнутого приготовишку нападало безудержное веселье, и он удивлял одноклассников способностью подмечать смешные черточки окружающих. После крохотной школы Вучины русская гимназия казалась маленькому Чехову огромной. А какой она была на самом деле? Облупленное белое здание под выкрашенной в зеленый цвет железной крышей, с длинными мрачными коридорами, напоминало казарму. В двери каждого класса был глазок, через который надзиратели могли следить за учениками, сами оставаясь невидимыми. В программе обучения, рассчитанной на восемь лет, главное место занимали латынь, греческий, церковно-славянский и русский языки. По окончании гимназии выпускников записывали в последний, четырнадцатый класс знаменитой «Табели о рангах», учрежденной за полтора столетия до того Петром Великим, и, если они этого хотели, зачисляли в университет.
Преподаватели и классные надзиратели, в чьи обязанности входило обучение провинциальной молодежи, были один хуже другого. Надзиратель Дьяконов, прозванный Сороконожкой за бесшумную походку, позволявшую ему незаметно подкрадываться к мальчикам, изводил их поучениями. Крамсаков, преподаватель истории и географии, был с учениками невыносимо груб, то и дело оскорблял их. Чех Урбан, латинист, шпионил за детьми, ему повсюду чудились политические заговоры, и он писал доносы в полицию. Преследовал Урбан не только детей, но даже других преподавателей и в одном из своих доносов попечителю сообщал, что его коллеги во время педагогических советов курят, «не обращая внимания на то, что в учительской комнате висят икона и портрет государя». Должно быть, именно по адресу таких грубых и пошлых наставников Чехов выскажется в рассказе «Человек в футляре»: «Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке».[21]
Из всех гимназических преподавателей только протоиерей Покровский, преподаватель Закона Божия, находил оправдание в глазах Антона. Покровский был тонким и образованным человеком, страстно любившим литературу. Он нередко говорил в классе о Шекспире, Гёте, Пушкине… Именно Покровский ласково прозвал Антона «Чехонте» и, заметив у мальчика талант юмориста, посоветовал ему прочесть сочинения Мольера, Свифта и Салтыкова-Щедрина. Товарищи Антона тоже ценили его неистощимую способность рассказывать забавные истории. Но, даже когда произнесенная им шутка вызывала неудержимый смех, сам он оставался в сторонке, а если ему в голову приходил какой-нибудь розыгрыш, предоставлял другим его осуществить. Ирония юного Чехова была легкой, искрящейся, беззлобной. Умел он посмеяться и над собой самим. Тем более что, как ни старался Покровский приободрить талантливого ученика, тот не вылезал из двоек и единиц. Что поделаешь? Ему ведь и до сих пор приходилось обслуживать покупателей в лавке и петь на клиросе, потому времени на уроки почти не оставалось.
А жизнь в семье тем временем текла своим чередом. Желая дать сыну наилучшее образование, Павел Егорович нанял некую мадам Шопе, которая должна была обучать Антона французскому языку, и некоего банковского служащего, который разбирался в сольфеджио и мог давать мальчику уроки музыки. Однако позже, осознав, что приобретенные с помощью домашних учителей знания не имеют никакой практической ценности, он записал тринадцатилетнего сына в ремесленную школу – изучать портняжное дело. Поначалу компанию Антоше составляли братья Николай и Иван, но вскоре их отчислили за «слишком шумное поведение и слабые успехи», и только Антон продолжал работать иглой. Однажды, решив, что приобрел в своем ремесле достаточную сноровку, он сшил для брата Николая брюки, которые вышли такими узкими, что в семье надолго сохранилось выражение «штаны-макароны».
Бакалейная лавка, церковь, гимназия, уроки кройки и шитья… Несмотря на свои многочисленные обязанности, Антон изредка находил возможность улизнуть, чтобы пошататься без дела по городу. И тут уже все служило для него развлечением: собака, бегущая с гордо поднятым хвостом, семья, в слезах бредущая за гробом, драка грузчиков… Сколько же запоминающихся событий вмещал каждый день! Нередко Антон отправлялся на кладбище, читал надписи на памятниках и размышлял о судьбах сотен неизвестных ему людей, покоившихся под землей. В течение всей жизни Чехова притягивали к себе места погребений. Но больше всех из погостов он любил сельские кладбища в окрестностях Таганрога, где вместо кипарисов росли вишневые деревья, а ягоды, падая на могильные плиты, оставляли следы, напоминавшие ему капли крови…
Однако не всегда его тянуло только к кладбищам: иной раз Антоша вместе с братьями прятался на пустыре в зарослях ежевики, где они ловили щеглов, которых потом продавали по копейке. Или все та же компания резвилась в Елизаветинском[22] парке, играя в «охоту за волосами» в подражание сдиравшим скальпы индейцам из произведений Майн Рида и Фенимора Купера. Или еще, спустившись вдоль Полицейской улицы, добирались до порта, где часами удили рыбу, а то и, отойдя чуть подальше, плескались в море. Однажды утром Антон, неудачно нырнув, глубоко рассек себе лоб об острый камень, и шрам от раны остался у него на всю жизнь. Страх перед отцом заставил младших Чеховых сплотиться в единый клан, у которого были свои ритуалы, свои тайны, свой собственный язык. Все братья обладали чувством юмора, но тон чаще всего задавал Антоша. У этих обездоленных мальчиков, с которыми так жестоко обращались, была неистребимая потребность в смехе, спасавшем их от отчаяния.
Во время долгих летних каникул Таганрог задыхался от зноя и пыли. Дети расхаживали босиком, в одних рубашках, а ночью ложились спать в саду, в собственноручно построенных шалашах. Свой Антон возвел под кущей дикого винограда. Там он, называя себя «Иовом под смоковницей», кропал бездарные стишки. В соседнем флигельке жила девочка Ираида, которой он до того понравился, что она написала для него мелом на заборе какое-то трогательное четверостишие. Антон ответил на это там же четверостишием сатирическим:
О, поэт заборный в юбке, Оботри себе ты губки. Чем стихи тебе писать, Лучше в куколки играть.Оскорбленная Ираида назвала его «мужиком», и тогда он с размаха ударил ее по голове грязным мешком из-под древесного угля. Так закончилась эта первая идиллия. «Тайны любви постиг я, будучи 13 лет», – иронически сообщит Чехов в письме от 22 февраля 1892 года.[23]
Именно Антону мать поручала рано утром ходить на рынок за провизией. Сознавая свою ответственность, мальчик обычно шел на базар, изобразив на лице строгость и крепко сжимая в кармане выданные на покупки деньги. По пятам за ним семенил младший братишка Миша. Однажды, купив живую утку, Антон, пока ребята шли домой, всю дорогу щипал и тормошил ее, чтобы она как можно громче кричала. «Пускай все знают, – говорил он, – что и мы тоже кушаем уток».[24]
По воскресеньям семья Чеховых иногда обедала у дяди Митрофана, который тоже в конце концов обосновался в Таганроге и открыл бакалейную лавку. Но его лавка была лучше расположена, лучше содержалась, лучше снабжалась, чем у брата, и давала хороший доход. Митрофан Егорович был глубоко набожным человеком и постоянно украшал свою речь библейскими цитатами. Тем не менее он, в отличие от Павла Егоровича, не довольствовался тем, чтобы оставаться добрым христианином лишь на словах. Он был непримиримым противником телесных наказаний, уважительно относился к жене, заботился о детях и был очень добр по отношению к племянникам и племяннице. Для Антона каждый поход в гости к дяде был праздником. Мальчик очень любил его, но любил и подшутить над ним. Однажды ему пришло в голову явиться к дяде, переодевшись нищим, с протянутой рукой. Ребенок выглядел при этом таким жалким попрошайкой, что Митрофан, обманутый его видом, подал племяннику три копейки. В семье долго смеялись над этим невинным розыгрышем.
Но все описанные выше безобидные развлечения не шли ни в какое сравнение с поездкой, которую дети совершили во время летних каникул, отправившись погостить у деда по отцовской линии, управляющего графини Платовой, в станице Княжей, расположенной в семидесяти верстах от Таганрога, среди донецкой степи. Для путешествия, которое длилось несколько дней, наняли простую крестьянскую телегу – крепкую повозку без рессор, дно которой лежало прямо на осях. И, сопровождаемые напутствиями и благословениями отца, который, на их счастье, оставался в Таганроге, чтобы не закрывать лавку, мать, пятеро сыновей и дочка, смеясь и толкаясь, набились между дощатыми бортами.
Едва колеса начали вращаться, всех охватило ощущение счастья. Телега продвигалась медленно, подпрыгивая и скрипя, поднимая тучи пыли. Под палящим солнцем, насколько хватал глаз, раскинулся беспредельный океан сухой травы, от малейшего дуновения ветерка по нему бежала рябь. В знойном воздухе трепетали тысячи мошек. Антону невольно вспомнились рассказы матери о путешествии ее семьи в поисках могилы отца по бескрайним русским просторам. Воспоминание о слышанном накладывалось на собственные впечатления. Сам того не сознавая, будущий писатель запасал картины, запахи, звуки для своего грядущего шедевра, «Степи».
Они делали долгие привалы, устраивали пикники у обочины, купались, со смехом валились в стог сена, ночевали на постоялых дворах или прямо под открытым небом, у костра. Неотрывно глядя в огонь, Антон чувствовал, как сердце его переполняет радостная благодарность за такое высокое и чистое небо над головой, за чудесные ароматы сена и дыма, за глубокую тишину, а еще – за то, что его окружают дорогие ему люди: вот они, кутаясь в верхнюю одежду, сидят сейчас рядом…
В Княжей дедушка Егор Михайлович встретил сноху и внуков ласково, радушно. Гостей разместили в большом заброшенном доме, в их распоряжении оказался огромный парк, где ребятишки могли бегать, лазать по деревьям, купаться в пруду. Николай во время всех этих игр не расставался с неизвестно где добытым им старым шапокляком. Но Антону как-то удалось сбить цилиндр с головы брата, и «ценный» головной убор самым жалким образом утонул в реке. В раю Княжей даже работа казалась развлечением. Младшие Чеховы, по распоряжению деда, помогали во время жатвы. Антон потом будет вспоминать, как ему пришлось, оставив шалости, целый день следить за работой паровой молотилки и подсчитывать, сколько обмолочено зерна. Пятнадцать лет спустя он напишет Суворину, издателю «Нового времени», что глухие, как вой разогнавшегося волчка, свистки и пыхтение машины, скрип колес повозок, ленивая походка быков, облака дыма, потные почерневшие лица пятидесяти человек – все это отпечаталось в его памяти не хуже, чем «Отче наш».
Осенью 1873 года, вскоре после возвращения из Княжей, Антон испытал потрясение, сказавшееся на всей его дальнейшей жизни: он открыл для себя театр. Сотни раз мальчик проходил мимо маленького городского театра на Петровской улице, не испытывая никакого желания туда войти. Но в тринадцать лет у него появилась возможность побывать на представлении оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена», и спектакль поразил воображение Антоши. Голубая ткань, изображавшая небо, морщилась, по ней шли косые складки, «мраморные» колонны шатались от малейшего сквозняка, наряженные в нелепые лохмотья актеры играли плохо, и тем не менее все вместе околдовало мальчика. Он погрузился в головокружительный мир иллюзий, притворства, мишуры, подделок, раздвоения. Забыв об «охоте за волосами», о ловле щеглов, о прогулках по кладбищам, подросток целиком отдался новой страсти. Он с равным восторгом смотрел шекспировского «Гамлета», гоголевского «Ревизора», грибоедовское «Горе от ума», инсценировку «Хижины дяди Тома», мелодрамы и водевили, написанные в подражание французским. Его увлечение сценой еще усиливалось оттого, что приходилось ловчить ради удовлетворения этой пламенной страсти. В самом деле, ученики могли посещать театр лишь с письменного разрешения гимназического начальства. Антон и кое-кто из его друзей, в том числе – будущий актер Вишневский и мальчик из хорошей семьи Андрей Дросси, преодолевали это затруднение, облачаясь в отцовские пальто и спрятав глаза за синими очками. В таком маскарадном наряде гимназисты казались старше своего возраста, но все равно с трепетом проходили перед инспектором, которому поручено было следить за тем, чтобы ни один из них не проник в столь «гибельное» место.
Для того чтобы получить на самый верх, на галерку, билет получше, Антон приходил к окошечку кассы за два часа до начала спектакля. Юный театрал не имел ни малейшего представления о том, что ему предстояло сегодня увидеть: драму, комедию, оперу, оперетту, да и неважно это было – он радовался всему. Устроившись на самом краю над пропастью зала, мальчик с нежностью вдыхал запах пыли, грима и клея, с бьющимся сердцем дожидаясь волшебного мига, когда поднимется занавес. Раек постепенно заполнялся шумными и развязными зрителями, которые громко говорили, грубо хохотали и лузгали семечки. Затем на дорогих местах – на балконе и в партере – появлялись именитые горожане, богатые греческие судовладельцы, преуспевающие торговцы с роскошно одетыми женами. Гул радостного нетерпения катился к сцене. При мысли о том, что все эти люди, такие разные, пришли для того, чтобы рукоплескать одному и тому же представлению, Антон начинал осознавать неизмеримую власть актера над простыми смертными. Жизнь артиста с ее непредсказуемостью, ее величием, ее ложью, ее скитаниями казалась ему особенно волнующей в сравнении с застывшей и тусклой жизнью его семьи. Ему тоже хотелось стать артистом, но лучше – бродячим. Больше всего на свете ему нравилось гримироваться, переодеваться и подражать другим, преувеличивая повадки и усиливая интонации того или другого персонажа, за которым он втайне наблюдал.
Вместе с братьями и сестрой, также наделенными актерскими способностями, Антон создал собственную театральную труппу, которая выступала перед благожелательной публикой, состоявшей из родственников, друзей и соседей. Сегодня вечером он перевоплощался в зубного врача-хирурга и, вооружившись угольными щипцами, пытался, со множеством ужимок, вытащить зуб у сопротивлявшегося пациента. Завтра становился невежественным дряхлым попом, держащим экзамен перед архиереем; но эту сцену он разыгрывал лишь в отсутствие отца, который не потерпел бы насмешки над духовенством. Или же представлял градоначальника Таганрога в соборе во время торжества по случаю «царского дня», а затем на параде, с воинственным видом командующего отрядом казаков.
Через некоторое время амбиции Антона возросли, и он перешел к настоящим пьесам. С негнущейся шеей, с подложенной на животе подушкой, с грудью, увешанной картонными медалями, он так смешно играл городничего в «Ревизоре», что зрители задыхались от хохота. Вскоре после этого подросток с еще большим успехом исполнил роль старой кумушки в пьесе Григорьева. «Невозможно себе представить, – скажет друг детства Чехова Андрей Дросси, – какой гомерический хохот овладевал присутствующими всякий раз, как Антон Павлович появлялся на сцене. Надо отдать ему должное, он великолепно справлялся с ролью».
«Труппа» Антона Чехова охотнее всего выступала как раз в доме родителей Андрея Дросси, зажиточных и приветливых горожан. Гостиную делили надвое при помощи занавеса, украшенного жар-птицей из пестрой ткани. По одну сторону занавеса была сцена, по другую – партер с несколькими рядами стульев. Выделенный детям шкаф был забит костюмами, париками, коробками с гримом и реквизитом. Хотя прошло не так уж много времени после первой премьеры, Антон, ободренный успехом, решился представить на суд зрителей скетчи собственного сочинения, в которых высмеивал причуды и недостатки своих земляков. Тексты этих пьесок он записывал в школьные тетради. До нас ни одна из таких комедий не дошла: автор уничтожал их сразу после исполнения.
Со временем семья Чеховых перебралась в новый дом, построенный Павлом Егоровичем на участке, полученном в подарок от отца. Теперь они жили на Конторской[25] улице. Но, несмотря на скрупулезнейшие предварительные расчеты, на строительство дома ушли все сбережения, и для того, чтобы его завершить, Павлу Егоровичу пришлось в 1874 году взять пятьсот рублей в местном Обществе взаимного кредита. Из-за финансовых затруднений приходилось хвататься за любую возможность раздобыть хоть немного денег, и часть дома сдали мелкому чиновнику коммерческого суда, Гавриилу Парфентьевичу Селиванову. В июне 1875 года, на каникулах, Антон отправился погостить к брату жильца, Ивану Парфентьевичу, который выгодно женился и благодаря этому приобрел загородную усадьбу. Солнце палило нещадно, Антон по пути остановился, искупался в холодной речке и тяжело заболел. Он провел мучительную ночь на постоялом дворе, затем его с перитонитом привезли домой в Таганрог. Последствием именно этой болезни он считал геморрой, которым страдал потом в течение всей жизни. Гимназический врач, доктор Штремпф, выхаживал юного пациента с такой нежностью и такой преданностью, что Антон тоже решил стать врачом. Его, великодушного от природы, приводила в восторг мысль о возможности в будущем в свою очередь облегчать страдания ближних. Но для того чтобы стать врачом, надо было получить серьезное образование, а школьные дела Антона были так плохи, что он остался на второй год в пятом классе. Да и обстановка в семье не способствовала усердной умственной работе.
Старшие братья Александр и Николай, возмущенные отцовским деспотизмом, только и мечтали о том, чтобы вырваться на свободу. Александр, обладавший вспыльчивым и неровным характером, в девятнадцатилетнем возрасте порвал с семьей и поселился у директора гимназии в качестве репетитора его детей.
Павел Егорович воспринял это проявление непокорности как личное оскорбление и написал сыну письмо, упрекая его в том, что он с ранних лет начал забывать отца и мать, любящих его от всего сердца и растивших его, не жалея ни денег, ни здоровья. Отец просил сына измениться, стать добрее к родным и себе самому, но Александр остался глух к этим увещеваниям. Блестяще закончив гимназию, он, не советуясь с родителями, решил уехать в Москву и там поступить в университет, чтобы продолжить занятия математикой. Шестнадцатилетний Николай, хотя еще и не закончил гимназического курса, собрался ехать вместе с ним. У Николая были художественные способности, и он хотел записаться в Школу живописи, ваяния и зодчества. Оба молодых бунтаря покинули Таганрог в августе 1875 года, оставив Павла Егоровича в полной растерянности перед такой дерзостью.
Лишившись обоих старших братьев, которых он любил и которыми восхищался, Антон еще сильнее почувствовал тираническую жестокость отца. Стараясь как-то противостоять удушающей домашней обстановке, он начал выпускать, в единственном экземпляре, рукописный журнал «Заика», в котором живо изображал типичные сценки таганрогской жизни. Успех издания был мгновенным. Гимназисты с нетерпением ждали появления каждого нового номера. Журнал переходил из рук в руки в школе, после чего отправлялся в Москву, чтобы с ним могли познакомиться Александр и Николай. Суждения Александра были безапелляционны. Получив сентябрьский номер, он написал родителям: «Скажите автору „Заики“, что его газета уже не так интересна, как прежде. Соли мало».[26] После такой суровой оценки Антон решил бросить журналистскую деятельность.
Впрочем, ему все меньше и меньше хотелось смеяться. Чеховы никак не могли выпутаться из денежных затруднений. Бакалейная лавка дохода почти никакого не приносила, поскольку торговлю вели бестолково. Павлу Егоровичу не удавалось даже выплачивать проценты с тех денег, которые он занимал на постройку дома. «Доходы со дня на день уменьшаются», – писал он сыну Александру, жалуясь на то, что его одолевают мрачные мысли, он отчаивается, не знает, как им с мамой жить дальше. Ах, деньги, деньги! Как трудно заработать их честным путем! Александр, которого раздражали отцовские жалобы, отвечал, что они с братом достойны жалости еще более, поскольку голодны и одеты в лохмотья.
Опасения Павла Егоровича были оправданны: он был на грани разорения, и ему случалось оставлять детей дома, чтобы не платить за их обучение. «Антоша и Ванька[27] уже неделю не ходят в школу, – сообщала мать двум старшим сыновьям в Москву. – С нас требуют денег, а нам нечем платить. Вчера, девятого октября, Павел Егорович ходил разговаривать с директором. За Ваньку разрешили не платить. Но Антоша пока сидит дома, и нам надо отдать за него и за Машу[28] сорок два рубля. Как же мне не огорчаться?»[29]
Но двух старших сыновей разжалобить не удалось. Александр напряженно работал, чтобы получить степень доктора математических наук, и за этот изнурительный труд получал какие-то копейки – их едва хватало на самое необходимое для него самого и брата. Николай, увлеченный живописью, рассчитывал на чудо, которое поможет им выбраться из нищеты, и, несмотря на трудности нового существования, ничуть не жалел о том, что сбежал из Таганрога. А домой отправлял главным образом упреки: «Ради Бога, пишите потеплее, по душе, а то у вас, папаша, одни только наставления… Так тут на душе тяжело, так в голове мрачно, ищешь дружеского утешения и сочувствующего слова, а получаешь приказание ходить в церковь…»[30]
Скатываясь все ниже и ниже, Павел Егорович в конце концов вынужден был официально объявить себя банкротом. Но, боясь, как бы его не бросили в тюрьму за долги, он 3 апреля 1876 года потихоньку вышел из дома и, не показываясь на таганрогском вокзале, где его могли узнать, сел в поезд до Москвы на соседнем полустанке. Чехов-старший так долго мечтал о том, чтобы выбиться в люди, а вот теперь сидит один, униженный, усталый, грязный, в вагоне третьего класса, убегает, словно вор, из города, который хотел покорить. Что подумают о нем брошенные в Таганроге дети, жена? Как встретят его в Москве старшие сыновья, которых он так часто поучал с высот своего величия, его, пятидесятилетнего неудачника с седой бородой?
У Антона сердце сжималось, когда он думал о том, до чего докатился отец. Не переставая строго его судить, он вместе с тем и жалел Павла Егоровича. Впрочем, для Чехова всегда было естественно предпочитать невезучих тем, кто шумно хвастался своим успехом. Из всех оставшихся в Таганроге детей один Антон был способен поддерживать и защищать мать. Удрученная свалившимся на нее несчастьем, Евгения Яковлевна послала его к ростовщику, пытаясь продать или заложить дом. Но ростовщик не заинтересовался ее предложением. Тогда она кинулась к родным, вымаливая у них помощь. Однако все ей отказали. Даже добрый дядя Митрофан, сославшись на то, что у него туго с деньгами, не дал ни гроша. И тут вмешался жилец Селиванов. Глядя чистым, небесным взглядом и прижимая руку к сердцу, он спрашивал: разве я не друг семьи? Селиванов служил в том самом суде, где должно было решаться дело Павла Егоровича, и уверял, что может все уладить в два счета. На самом деле – «уладил»: выплатив пятьсот рублей долга Обществу взаимного кредита, путем законного мошенничества устроил так, что дом Чеховых перешел в его собственность. Кроме того, суд решил, что мебель будет продана с торгов, а вырученные деньги пойдут на выплату процентов.
Оставшись после двадцати двух лет брака без крыши над головой и без мебели, Евгения Яковлевна 23 июля 1876 года уехала в Москву к разорившемуся мужу. Михаила и Марию она взяла с собой, Иван, которого пристроили к тетке по материнской линии, Морозовой, должен был еще несколько месяцев оставаться в Таганроге, а потом в свою очередь тоже перебраться в Москву. В конце концов жизнь в чужом доме никогда в России не представлялась драмой. Гостеприимство здесь было широко и многообразно. Если негде оказывалось спать, всегда находился друг, готовый вас приютить. А если этот друг сам отправлялся погостить к другим друзьям, вы самым естественным образом его сопровождали. И потому русские дома всегда были наполнены постояльцами, доводившимися хозяевам более или менее близкой родней, неизбежными приживалами, милыми нахлебниками, намертво присосавшимися к семье.
В отцовском доме, который теперь принадлежал Селиванову, остался один Антон. Новый владелец, гордый и заносчивый, выделил сыну бывшего хозяина угол (даже не комнату!), где тот мог ночевать, и кормил юношу. За стол и кров Антон должен был давать уроки племяннику Селиванова, Пете Кравцову, который поселился у дяди и готовился к вступительным экзаменам в юнкерское училище. «Я тебе пригожусь, и ты мне пригодишься!» – цинично ухмыляясь, объяснил постояльцу Селиванов. Антону не хотелось пользоваться гостеприимством человека, обобравшего его родителей, но он был в такой нищете, что не имел права на гордость. Заставив себя забыть о достоинстве, юный Чехов терпел все обиды и жил лишь надеждой хорошо закончить учебу. Если все будет в порядке, то через три года и он, уже с аттестатом в кармане, сможет устремиться в Москву. Вот только отныне он может рассчитывать лишь на себя.
Глава III Очарование Москвы
Лишившись домашнего очага, Антон почувствовал себя еще более одиноким и уязвимым. Конечно, он избавился теперь от всех тех повинностей, которые прежде отравляли ему существование: не надо было больше ни сторожить товары в отцовской лавке, ни обслуживать покупателей, ни петь в церковном хоре, ни склонять голову перед тираническими причудами отца. Однако у этой новой свободы была и горькая оборотная сторона: в шестнадцать лет юноше пришлось самому себя обеспечивать. Ради нескольких рублей заработка он бегал по урокам от одного ученика к другому по всему городу, зимой дрожа от холода в тощем истрепанном пальтеце. У него не было галош, и, стыдясь дырявых, заляпанных грязью башмаков, Антон во время урока старательно прятал ноги под стол. Иногда жалостливые родители ученика наливали ему чашку сладкого чая, чтобы он мог согреться. Став взрослым, Чехов будет говорить, что подростком страдал от бедности, как от неотвязной зубной боли. Но, сам привыкнув к нищете, он умудрился найти человека беднее себя, и тут проявились лучшие его качества. Узнав, что его товарищ, Исаак Срулев, живой и умный юноша, голодает, Антон без колебаний предложил ему давать вместе уроки одному из своих учеников, жившему очень далеко, за железнодорожным переездом. За эти уроки «на два голоса» юношам платили три рубля в месяц, и они по-братски делились скромным жалованьем.
Перед отъездом из Таганрога мать поручила Антону распродать то немногое, что у нее оставалось, – комод, поломанные стулья, поношенную одежду, старые кастрюли – и прислать ей в Москву деньги, прибавив несколько рублей из собственного кармана. Однако сын не спешил исполнять поручение, и она жаловалась на это в простодушных безграмотных письмах, где отсутствовали знаки препинания. И получала из Таганрога ответы, в которых несчастную женщину больше всего раздражал шутливый тон. Евгения Яковлевна не понимала, что эта ирония в самые трудные дни была у Антона проявлением человеческого достоинства. «Мы получили от тебя 2 письма, наполнены шутками, – выговаривала она сыну 25 ноября 1826 года, – а у нас это время только было 4 коп. и на хлеб и на светло ждали от тебя непришлешь ли денег, очень горько должно быть вы нам не верите, у Маши шубы нет у меня теплых бошмаков сидим дома».[31] Конечно, она могла бы заработать шитьем, но швейная машинка осталась в Таганроге, и мать слезно просила Антона написать скорее и прислать скорее денег, «не дать с печали умереть».[32] Александр, со своей стороны, писал брату, что дела идут хуже некуда, все деньги проели, заложить больше нечего.
А вот Антон не жаловался никогда: читая письма того периода, можно подумать, его путь был усыпан розами. Больше того, он, с высоты недавнего опыта, давал близким уроки душевного равновесия. «Письмо твое я получил […], – пишет Чехов младшему брату Мише. – Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою „ничтожным и незаметным братишкой“. Ничтожество свое сознаешь? […] Ничтожество свое сознавай, знаешь, где? Перед Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность. Не смешивай „смиряться“ с „сознавать свое ничтожество“».[33]
Энтузиазм, великодушие, нежность, которыми юный Антон Чехов был просто переполнен, подтолкнули его к тому, что он стал искать дружбы с одним из своих дальних родственников. Тезка младшего брата, Михаил Чехов, был старше его самого на десять лет, Антон никогда его не видел, потому что тот жил в Москве. Тем не менее между ними завязалась теплая, доверительная переписка. Антон считал Михаила Чехова своим братом, называл его «bruder во второй степени», просил прислать фотографию и хотел знать все о его жизни: спрашивал, например, курит тот или не курит, уверяя, что ему необходимо это знать.[34] Кроме того, Антон поручал Михаилу присмотреть за Евгенией Яковлевной: «Будь так добр, продолжай утешать мою мать, которая разбита физически и нравственно. Она нашла в тебе не одного племянника, но и много другого, выше племянника. У моей матери характер такого сорта, что на нее сильно и благотворно действует всякая поддержка со стороны другого. […] Для нас дороже матери ничего не существует в сем разъехидственном мире, а посему премного обяжешь твоего покорного слугу, утешая его полуживую мать».[35] И снова, несколькими неделями позже, в письме все к тому же Михаилу Чехову: «Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни…»[36]
Как мы видим, Антон, несмотря на многочисленные обиды, накопившиеся у него на родителей, не признавал за собой права их судить. Он все прощал им в память о нескольких часах семейного уюта. И если ему не терпелось перебраться в Москву, то одной из причин этого было желание увидеть родных. «У нас в Таганроге ничего нового, – сообщал он Михаилу Чехову. – Скука смертная!»
В животе у юноши было пусто, голову теснили тысячи мучительных забот, но он тем не менее методично и упорно продолжал учиться. И если в младших классах он был ленив и рассеян, то в старших проявил себя серьезным и собранным. Отметки улучшались от месяца к месяцу. Перспектива получения аттестата, который открыл бы перед Антоном двери медицинского факультета, стала для него навязчивой идеей. По воскресным и праздничным дням он пропадал в недавно открывшейся городской библиотеке, читая там вперемешку Бичер-Стоу и Шопенгауэра, Гумбольдта и Виктора Гюго, Сервантеса, Гончарова, Тургенева, Белинского… Его ум пылал, он жадно вдыхал исходивший от страниц особый запах. Случалось, даже забывал пообедать.
Антон пытался издалека руководить братьями, побуждая их воспитывать душу. Когда младший брат, Миша, написал, что ему очень понравилась «Хижина дяди Тома», то был строго отчитан старшим: «Мадам Бичер-Стоу выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки. […] Прочти ты следующие книги: „Дон Кихот“ (полный, в 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром».[37]
Философия Шопенгауэра произвела на юного Чехова тем более сильное впечатление, что он и сам порой чувствовал себя на грани пессимизма и отчаяния – настолько тягостна была его жизнь в Таганроге. Стараясь отогнать мрачные мысли, Антон читал московский и санкт-петербургский юмористические журналы «Стрекозу» и «Будильник» и, сидя в читальном зале рядом со своим другом, Андреем Дросси, так громко хохотал над язвительными статьями и анекдотами, что потревоженные соседи начинали возмущаться.
У Андрея Дросси была сестра Марина, и Антону нравилось ее полудетское кокетство. Он гулял с девушкой в городском парке, угощал ее конфетами, а она за это позволяла ему заходить к ней в комнату. Правда, на этом «роман» и закончился. Зато потом писатель Чехов станет рассказывать своему другу Суворину о незабываемых минутах сладострастия, которые ему довелось пережить в юности. Однажды, когда он стоял у колодца, пятнадцатилетняя крестьянка пришла набрать воды. Она была так красива, что юноша не удержался и стал обнимать ее, целовать. Девушка не отбивалась, позволяла себя ласкать. Далеко ли зашли их неловкие объятия? Антон, неизменно целомудренный, больше ничего рассказать не захотел. Только младшему брату Мише он признался в том, что в Таганроге у него было несколько прелестных и веселых романов. А старший брат, Александр, узнав о его любовных надеждах и разочарованиях, написал ему, что совсем не обязательно возводить девиц на пьедестал, но и бегать за ними тоже ни к чему.
На самом же деле все любовные порывы Антона были проникнуты восхищением и нежностью, но лишены всякой чувственности. Мысли его волновались, он был впечатлителен, хотя, вполне возможно, не испытывал пока никакого желания вступить в плотскую связь.
К пасхальным каникулам 1877 года Антон получил от Александра билет на поезд до Москвы. В это далекое (больше тысячи двухсот километров) путешествие юноша отправился со смешанным чувством радости и страха. Что он найдет по приезде в отчий дом? Письма от матери и братьев подготовили его к тому, что придется столкнуться с нелегкой ситуацией. Но действительность далеко превосходила все, что он мог вообразить. Чеховы жили в одной комнате, и у них был один-единственный матрац, положенный прямо на пол, сюда вся семья укладывалась рядком на ночь. Николай и его друг-художник крали с возов дрова, чтобы топить печку. Мать вставала до рассвета и, закутавшись в старое мужское пальто, садилась шить. Отец одно время был рабочим на стройке, а теперь снова оказался без работы. Он бегал по городу якобы в поисках приличной должности, на самом же деле выпивал с друзьями. Кроткая четырнадцатилетняя Маша подметала, стряпала, стирала. По бедности ее не посылали в школу. Помимо хозяйственных дел она еще вязала шерстяные платки, за которые ей платили по пятнадцать или двадцать копеек. Оба старших сына тоже приносили в дом кое-какие деньги: они давали уроки, зарабатывали перепиской бумаг и сотрудничали в мелких иллюстрированных газетах. Но Александр ко всему должен был содержать соблазненную им женщину, которая ушла от мужа. Что же касается Николая, то он чаще напивался в кабаках, чем занимался живописью в Школе изящных искусств. Семья все глубже погружалась в отчаяние и приходила в упадок. В сравнении с этим прежняя таганрогская жизнь казалась верхом роскоши и комфорта…
Больше всего Антона по приезде в Москву поразило поведение отца. Разорившись, Павел Егорович нисколько не утратил самоуверенности. Несмотря на полученный им жестокий урок, Чехов-старший продолжал играть роль боговдохновенного деспота. При каждом удобном случае он вслух читал проповеди, тексты которых покупал у сторожа соседней церкви. Если кто-то из сыновей позволял себе перебить его во время этих благочестивых декламаций, он начинал вопить: «Замолчите, нехристи!» После прочтения проповедь вешалась на гвоздь, снабженная номером, датой и надписью: «Цена: копейка серебром. Слава Богу!» Кроме того, Павел Егорович разместил на стенке под иконами собственноручно написанный им каллиграфический шедевр с торжественным названием: «Расписание делов и домашних обязанностей для выполнения по хозяйству». Каждый из детей – за исключением Александра и Антона – мог прочесть в нем, в котором часу ему следует вставать и ложиться, садиться за стол, идти в церковь (вечерняя служба ежедневно в семь, в праздничные дни – литургии в половине седьмого и в девять утра). Под этим отцовским указом стояло грозное предупреждение: тех, кто не исполнит своего долга, ждет для начала строгий выговор, а затем и наказание, во время которого кричать воспрещается, – и подпись: «Отец семейства, Павел Чехов».
Первым наказанию подвергся двенадцатилетний Михаил – за то, что поднялся с постели восемью минутами позже положенного. За ним – шестнадцатилетний Иван, который под сыпавшимися на него ударами так громко кричал, что соседи возмутились. Павел Егорович с горечью подумал, что в больших городах люди еще хуже, чем в Таганроге, осознают необходимость домашней дисциплины. Он искренне считал, что уж ему-то не в чем себя упрекнуть; оправдывая свою праздность, напускал на себя безучастный вид и кротко ронял будто из бороды евангельские истины: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их».[38] Затем, возвысив голос, прозаически заканчивал тираду словами: «Папаша и мамаша кушать должны!»[39] Считая, что всю свою жизнь достаточно много делал для детей, теперь Павел Егорович рассчитывал, что будет до конца своих дней жить у них на содержании, в полном бездействии и почете. Он называл это семейной солидарностью. А пока, готовясь к запланированному им такому славному и блаженному состоянию, он пил горькую. В иные вечера убогое жилище служило отцовским друзьям гостиной. На столе теснились, сменяя одна другую, бутылки водки и крымского вина. Гости постепенно хмелели, принимались философствовать «на русский лад», рассуждая о смысле жизни, о бессмертии души или о доказательствах бытия Божия, хором распевали церковные песнопения. И наконец, расходились, еле ворочая языком, со слезами на глазах.
Увидев, до какой степени опустились родители, Антон еще больше укрепился в мысли, что только он, благодаря неустанному труду и любви, может их спасти. Старшие братья – ненадежные, несдержанные и ленивые – никогда не смогут его поддержать в начатом им деле возрождения семьи. По обыкновению своему юный Чехов никого не осуждал, принимал братьев и родителей такими, какими они были, сокрушался о том, что им не везло.
Стараясь развеять грусть, Антон с младшим братом Мишей иногда гулял по Москве и, в отличие от прочих членов семейства, жалевших о том, что покинули Таганрог, восторженно открывал для себя большой город. Ему здесь нравилось все: шумные оживленные улицы, где рядом с одетыми по-европейски господами, офицерами в роскошных мундирах и элегантными дамами ходили крестьянки в платках и бородатые мужики в чиненых тулупах; крики извозчиков, зазывающих седоков и торгующихся из-за цены проезда; строгие фасады домов, выкрашенные в нежные цвета; витрины дорогих магазинов… Оказавшись на Красной площади, Антон замер в восхищении при виде кремлевских стен, над которыми высилось фантастическое нагромождение колоколен и куполов с золотыми крестами. Собор Василия Блаженного, стоявший в глубине площади, бросился ему в глаза: нелепый, пестрый, веселый, словно куча игрушек, сдвинутых к краю стола. Он стоял в задумчивости перед величественным фасадом Большого театра, блуждал по спускающимся к Москве-реке улочкам.
Приехав в Москву, Антон познакомился наконец лично со своим двоюродным братом Михаилом Чеховым, с которым поддерживал постоянную переписку, и смог убедиться в том, что не ошибся, доверившись ему. Михаил Чехов оказался отзывчивым, уравновешенным и образованным человеком, занимавшим многообещающую должность у одного из богатых московских купцов и преданно относившимся к семье дяди. Зная о страсти Антона к сцене, он не успокоился, пока не сводил новоприбывшего родственника и друга в театр.
Однако время шло, надо было возвращаться в Таганрог. Здесь Антон понял, что теперь, надышавшись воздухом большого города, он уже не сможет довольствоваться провинциальными удовольствиями. Когда юноша думал о Москве, у него «кружилась голова». В письме к двоюродному брату Михаилу Чехову он рассказывал, что побывал в местном, таганрогском театре и сравнил его с московским. Разница огромная!.. Антон собирался, как только закончит год в гимназии, «стрелой лететь» в Москву: он так полюбил этот город! И только одно-единственное обстоятельство мешало ему снова поехать в Москву на летние каникулы: «министр финансов объяснит тебе, в чем дело», – невеселая шутка из письма. Однако, опасаясь, как бы Михаилу не наскучило читать постоянные жалобы на родительскую нищету, Антон повторял, что твердо намерен разбогатеть благодаря торговле. «Разбогатею, а что разбогатею – это верно, как дважды два четыре», – уверял он, обещая «вырасти головой до потолка» и кормить Михаила белым хлебом и медом, угощать лучшим вином за ту братскую любовь, которую тот проявил в ответ на уважение и привязанность родственников. «Ты – чудесный человек во всех отношениях, говорю тебе это без лести, как брат. Живи до ста лет!»
Странное желание стать богатым торговцем продержалось недолго – ровно столько, сколько времени потребовалось на то, чтобы дописать письмо. Вскоре Антон вернулся к увлечению медициной. Когда ему хотелось немного отдохнуть от занятий, он отправлялся в место, расположенное в нескольких верстах от Таганрога и называвшееся Карантин в память об эпидемии чумы, которая в давние времена вынудила жителей города укрыться на этом приморском хуторе. Теперь там выстроили несколько усадеб, и в жаркие летние дни молодежь охотно туда съезжалась. В маленьком домике с колоннами, стоявшем у самого берега, Антон встречался с товарищами по школе. Большинство из них страстно увлекалось политикой. Некоторые читали пламенные сочинения Герцена. Со свойственной их возрасту экзальтацией они критиковали правление царя Александра II и мечтали свергнуть существующий порядок. Недавние террористические покушения заставляли предположить, что вскоре по всей России прокатится мощная волна. В моду вошла либеральная оппозиция. Антон, по своему обыкновению, слушал, склонив голову, но в спорах участвовать отказывался. В отличие от друзей он не чувствовал себя вправе рассуждать о вопросах, в которых не разбирался. Да и вообще – при любых обстоятельствах предпочитал в жизни оставаться скорее зрителем, чем актером.
Во время каникул куда больше, чем слушать болтовню в Карантине, Антону нравилось проводить дни у родителей своего ученика, Пети Кравцова, у которых было поместье в донской степи. Там он возвращался к тому близкому природе образу жизни, который так пленил его когда-то у деда, в имении графини Платовой. При виде бескрайней желтеющей равнины юношей поначалу овладело ощущение полной свободы, но со временем вид этого пустого и плоского пространства, где не было ни леса, ни холма, на которых мог бы задержаться взгляд, начинал подавлять его своим однообразием. К счастью, в поместье было множество развлечений. Здесь учитель и ученик порой менялись ролями. Под руководством Пети Кравцова Антон научился ездить верхом, стрелять из ружья, охотиться. Собаки, которых нарочно не кормили, преследовали добычу с волчьей ненасытностью. Даже на птичьем дворе жестокость была правилом. Когда к обеду нужна была курица, ее забавы ради убивали метко пущенной издали пулей. Это было упражнение в ловкости. Другое упражнение в ловкости – объезжать пойманных лошадей. Антон смотрел вокруг широко раскрытыми глазами, интересовался всем, запоминал образы на будущее.
Он уже подумывал о литературной карьере, но пока лишь как о способе зарабатывать себе на хлеб. Начиная с ноября 1877 года, Антон посылал старшему брату кое-какие «пустячки», которые тот безуспешно предлагал московским газетам. Годом позже прислал ему водевиль «Недаром курица пела», сатирическую комедию «Нашла коса на камень» и драму «Безотцовщина», в которой были и конокрады, и нападение на поезд, и похищение девушек. Неизменно строгий Александр нашел, что драма в целом представляет собой непростительную, хотя и невинную ложь. Что касается комедии, то, прочитав ее друзьям, в числе которых был и известный драматург В.С. Соловьев, он сообщил автору, что реакция публики была скорее благоприятной: «Слог прекрасен, уменье существует, но наблюдательности мало и житейского опыта нет. Со временем, как знать, может выйти дельный писатель»[40] – таков был приговор знатоков.
Но пока что «дельный писатель» был занят подготовкой к экзаменам. «Скорей кончай в Таганроге ученье, – писала ему мать 28 февраля 1879 года, – да приезжай пожалуйста скорей терпенья не достает ждать и непременно по медецынскому факультету […] еще скажу антоша если ты трудолюбив то в Москве всегда дело найдешь и заработаешь деньги.
Мне так и кажетца что как ты приедешь то мне лучше будет».[41]
Четыре месяца спустя Антон держал выпускные экзамены в гимназии. Первым испытанием стало сочинение на тему «Нет зла более, чем безначалие». Антон «строчил шедевр» на эту животрепещущую тему три часа, и результат оказался вполне приличным: четыре балла из возможных пяти. По другим предметам большей частью были тройки. И вот наконец юноша получил вожделенный аттестат с имперским орлом: «Поведение – отлично; аккуратность – очень хорошо; прилежание – очень хорошо; усердие в письменных работах – отлично».
Радость Антона была безмерна. Несмотря на все воспоминания, связывавшие его с Таганрогом, он спешил покинуть этот город, где царили пошлость и скука, его влекла к себе сверкающая Москва. Там он станет студентом, будет писать, ходить в театр, обзаведется новыми друзьями… Единственным, что омрачало радужную картину, был отцовский деспотизм. Но он сумеет и к нему приспособиться, как и ко всему остальному. Живя один в Таганроге, юноша стал не по годам мудрым. Серьезный, скромный, избегающий сближения и трезво мыслящий, он прежде всего стремился сохранить свободу мыслей и действий. «В Москву! В Москву! В Москву!» Сколько же раз до тех пор, пока Чехов не покинул родной город, будущий писатель издавал этот крик надежды, который позже вложит в уста героинь своей пьесы «Три сестры»! Но, несмотря на то что Антон благополучно сдал все экзамены, ему пришлось часть лета провести в Таганроге, добиваясь стипендии Таганрогской городской управы, которая позволила бы ему продолжать учение. Наконец стипендия в двадцать пять рублей была ему назначена. Кроме того, он уговорил двух товарищей по гимназии, Савельева и Зембулатова, которые также хотели ехать в Москву изучать медицину, стать пансионерами-нахлебниками у его матери, которая будет их «божественно вкусно» кормить.
Наконец, уладив все дела, Антон вместе с двумя своими спутниками 6 августа 1879 года сел в московский поезд. На выданном ему городской управой официальном разрешении, какое полагалось иметь всякому жителю России, желавшему сменить местожительство, были обозначены его приметы: возраст 19 лет, рост два аршина девять вершков, волосы и брови русые, глаза карие, нос, рот и подбородок умеренные, лицо продолговатое и чистое, особая примета – шрам на лбу, под волосами.
Прибыв в Москву, Антон нанял на вокзале извозчика и назвал ему новый адрес родителей. Его спутники, Савельев и Зембулатов, должны были присоединиться к нему чуть позднее, дав приятелю время поздороваться с родными и обустроиться. Когда извозчик остановился у дома, где жили Чеховы, Антон, сойдя на землю, увидел младшего брата Мишу, который грелся на солнышке, сидя на пороге. Мальчик поначалу не узнал старшего брата, настолько тот изменился. За два года круглолицый подросток превратился в высокого и стройного молодого человека с тонким бледным лицом. На этом молодом человеке был потертый и тесный костюм, шляпа тоже казалась маловата. Волосы довольно длинные. Над верхней губой пробиваются усики… Он напоминал Христа с глубоким и нежным взглядом, вот только улыбка у этого Христа была насмешливая. Над кем он смеялся? Над собой или над другими? Приезжий заговорил низким, бархатным голосом:
– Как поживаешь, Михаил Павлович?
Только в этот момент Миша понял, что перед ним его брат, и с торжествующим воплем «Антон приехал!» бросился в дом.
Вся семья, плача от радости, столпилась вокруг путешественника. Когда покончено было с объятиями, восклицаниями и земными поклонами перед иконами, мать послала Мишу отправить телеграмму отцу, который теперь служил конторщиком у купца Гаврилова, торговца мануфактурой, в Теплых рядах в Замоскворечье. Местные телеграммы стоили всего по копейке за слово. Вскоре отец прибыл, и вся семья Чеховых собралась вместе. Здесь была даже сестра Евгении Яковлевны, кроткая тетя Федосья, которую они приютили и которая, постоянно опасаясь внезапного пожара, спала, не снимая калош. Вскоре появились и оба новых жильца: маленький толстый Зембулатов, куда более занятый мыслями о выгодной женитьбе, чем о прилежной учебе, и спокойный, серьезный, обладавший приятной внешностью Савельев. Все разом говорили и смеялись. В честь встречи выпили вина и водки. Отец произнес речь, пересыпанную евангельскими изречениями. Когда наконец сели за стол, все были так веселы, что Антон на время позабыл о заботах, подстерегавших его в новой жизни.
Глава IV Новый глава семьи
Едва только радость от встречи немного улеглась, Антон удрученно оглядел помещение, где ему предстояло жить. Со времени отъезда из Таганрога семья то и дело перебиралась с квартиры на квартиру: эта была по счету двенадцатой. Теперь Чеховы поселились на Грачевке, в квартале публичных домов, приютом им стал подвал дома церкви святителя Николая. В этом темном логове не проходила отвратительная кислая сырость от сушившегося на веревках белья, из окошек видны были одни только ноги прохожих. А стоило выйти за порог – и взгляду представлялись обветшалые фасады, грязные лавчонки, уличные девки, торчавшие у подъездов. От всего здесь веяло убожеством и пороком. Но зато – какое раздолье для наблюдений будущему живописцу страдающего человечества!
В этом подвале с затхлым воздухом теснились десять человек: к двум прежним нахлебникам внезапно прибавился третий, «нежный, как девушка» Николай Коробов, тоже приехавший в Москву поступать на медицинский факультет университета. Зато отец, Павел Егорович, жил теперь вместе с другими приказчиками у Гаврилова, на другом конце города, и домой приходил только по воскресеньям. Получая скромное жалованье, всего тридцать рублей в месяц, он почти не участвовал в расходах на содержание семьи. Отдельно, как и отец, жил Александр. Талантливый и безалаберный, слабовольный фантазер, образованный и нелепый, он без особого успеха пописывал для газет и, сознавая свои неудачи, топил разочарование в вине. Николай, слабый и великодушный, одаренный замечательными способностями к живописи и музыке, тоже губил все свои достоинства вялой ленью и безудержным пьянством, скатываясь по наклонной плоскости все ниже и ниже. Он редко вставал с постели раньше полудня, забывал умываться и жил тем, что время от времени продавал какую-нибудь картину. Кое-какие деньги приносили ему еще уроки рисования. В отличие от старших братьев Иван, который хотел стать учителем, был молчаливым, ограниченным, прилежным и – напрочь лишенным фантазии. Антон насмешливо говорил о нем, что Иван – самый приличный и солидный из всех членов семьи, и, конечно же, предпочитал непоседливого и шаловливого Мишу. Что же касается сестры Маши, ему нравился ее практичный ум в соединении с живостью чувств. Антон решил, что и она, и Миша любой ценой должны закончить гимназию. Больше того: конечно, он мог бы, подобно Александру, поселиться отдельно, избегнув тем самым семейной грязи и нищеты, но нашел совершенно естественным занять место в центре этого праздного и убогого мирка, чтобы попытаться спасти родных. Юноша рассчитывал, что двадцати пяти рублей его стипендии, шестидесяти рублей в месяц, которые платили нахлебники, отцовского вклада и тех жалких копеек, которые время от времени им перепадали, должно, если разумно распорядиться этими деньгами, хватить семье на жизнь. В отсутствие отца, который появлялся дома лишь изредка, привыкшая к домашнему рабству мать не решалась взять в свои руки бразды правления, и это спокойно и властно сделал Антон. Павел Егорович воспринял новость не без горечи: появление делового и предприимчивого сына, казалось, лишало его прежних исключительных прав: несмотря на то что он каждую неделю бывал дома, решения теперь принимали, не советуясь с ним. Поначалу «свергнутый с престола» Павел Егорович обижался, потом смирился. Впрочем, Антон обращался с отцом по-прежнему почтительно.
Под влиянием нового главы семейства – почти мальчика, ведь ему было всего девятнадцать лет – климат угрюмого жилища изменился. Со стены исчез распорядок дня, отменены были телесные наказания, больше не слышались истерические выкрики. Антон, предпочитавший убеждение угрозам, проповедовал личным примером. Он объявил, что в определенный день будет сам убирать в доме, а в другие дни этим будут поочередно заниматься его братья и сестра. Младшему брату, Мише, который не мог прийти в себя от изумления, он мягко советовал держаться пристойно, не лгать и оставаться справедливым при любых обстоятельствах. Понемногу спокойное превосходство Антона было признано и теми, кто поначалу подвергал его сомнению. Александр иронически прозвал брата «папа Антоша». «А что говорит Антон?», «Что Антон об этом думает?» – такие вопросы неизменно звучали, как только перед семьей вставала та или иная проблема. А у самого Антона прямо-таки навязчивой идеей стало вернуть близким стремление к нравственной чистоте и труду. Готовясь приступить к долгой учебе на медицинском факультете, он обдумывал, где взять средства, чтобы заплатить за обучение младших братьев и сестры, способствовать развитию талантов Александра и Николая, избавить отца от унизительного труда, освободить мать от изнурительной работы по дому. Никакая жертва не казалась ему слишком тяжелой, лишь бы вытащить всех их из трясины. Через месяц после приезда Антон потребовал, чтобы семья в тринадцатый раз сменила квартиру. Собрав пожитки, Чеховы покинули темный и сырой подвал. Правда, поселились они в другом доме на той же пользующейся недоброй славой улице, зато их новая квартира была более просторной и на втором этаже. Здесь Антону пришлось делить комнату с Николаем и Михаилом, но все-таки это был первый шаг к свету. «Кто знает, что стало бы с нашей семьей, если бы Антон вовремя не приехал из Таганрога?» – писал Миша. И еще: «Это было трогательное объединение вокруг центра: Антона».
И в самом деле, всего в течение нескольких недель положение семьи улучшилось. Миша и Маша, которым давно уже приходилось сидеть дома, отправились один – в гимназию, другая – в институт Раевской.[42] Иван продолжил учебу, готовясь стать учителем. Сам же Антон отправился в университет – записываться на первый курс медицинского факультета.
Университет представлялся ему неким подобием греческого храма, озаренного солнцем знания, но он с удивлением обнаружил вместо того несколько темных, уродливых и облезлых зданий. В тесной, с низким потолком комнате, где велась запись, толпились нечесаные, неряшливо одетые студенты, они курили скверный табак и громко разговаривали. У Антона, который терпеть не мог беспорядка и хамства, не было ни малейшего желания с ними сближаться. Когда начались занятия, его разочарование только усилилось. Позже он напишет, что студенты заученно твердили вызубренное, точно школьники, чтобы затем как можно быстрее все позабыть. Но, несмотря на все разочарования, учился Антон старательно. Лекции и практические работы в лаборатории продолжались с утра до трех часов пополудни. Большинство преподавателей были известными учеными. Слушая их, юноша осознавал глубину собственного невежества и задумывался над тем, приобретет ли он когда-нибудь достаточно знаний для того, чтобы заниматься выбранным делом. Причем, хотя его очень привлекала филантропическая роль врача, теперь он мечтал о том, чтобы эта карьера помогла ему стать не просто уважаемым, но и обеспеченным человеком. Избавиться от необходимости хвататься за любую работу, чтобы заплатить за жилье или починку обуви. Перестать краснеть за семейную нищету. Выбиться в люди!
Его товарищи по университету тоже жаждали побыстрее преуспеть. Но они отыгрывались за свое подчиненное положение, критикуя царскую политику угнетения. В кружках, в кафе они разглагольствовали, постоянно поминая эту политику, замышляли заговоры, сочиняли пасквили. Антон, как и в таганрогской гимназии, отказывался присоединяться к бунтарям. Как всегда вежливый и сдержанный, он считал, что поступил в университет для того, чтобы учиться лечить больных, а не свергать существующий режим. Невозможно, думал он, одновременно быть врачом и революционером. Кроме того, студенческие волнения казались ему бесполезными и театральными. Он инстинктивно сторонился толпы, терпеть не мог толкотни, бараньих реакций человеческого стада, где критический разум каждого растворяется в общем гаме. Чехов с юных лет был слишком большим индивидуалистом для того, чтобы подчиниться давлению какой бы то ни было группы, он ни с кем не сближался и не подписывал никаких деклараций. Но при этом новоявленный студент, естественно, ужаснулся убийству царя Александра II, который был разорван бомбой террориста 1 марта 1881 года. Чехов был врагом всякого насилия и не понимал, почему кучка фанатиков сочла необходимым уничтожить этого либерального правителя, освободившего крепостных крестьян, учредившего суд присяжных, отменившего телесные наказания и пообещавшего дать России конституцию. Конечно, революционеры хотели поразить не человека, а символ, но эта инициатива обернулась против них самих. Преемник покойного императора, его сын Александр III, тотчас начал политику жестоких репрессий. Проект конституции отложили в долгий ящик, множились обыски и аресты, цареубийцы были казнены, цензура набрала силу, студенты оказались под полицейским надзором. Поначалу растерявшись, товарищи Антона вскоре продолжили свои выступления против власти. Изо всех сил стараясь их понять, Антон все-таки ничуть не увлекался их идеями и не высказывался. Его друг Нарадин вспоминал, что он в восьмидесятые годы не входил ни в какие кружки, не читал с жадностью Лаврова, Михайловского и Бакунина, не принимал участия в спорах о террористической деятельности в России, был замкнутым, погруженным в себя.
Другой товарищ Чехова, Россолимо, подтвердил это, рассказав в своих «Воспоминаниях», что если Чехов и появлялся иногда на митингах, которые проходили в университете, то лишь в качестве зрителя. На втором курсе, в 1880–1881 годах, во время волнений, которые предшествовали событиям 1 марта 1881 года (убийство Александра II) и непосредственно следовали за ними, он присоединился к большинству студентов, которые хотя и не оставались равнодушными, но все же ни в коей мере не были активными революционерами.
Антон не мог оставаться безразличным к бедам маленьких людей, он был в высшей степени одарен способностью понимать их и сочувствовать им, но он считал, что русский человек, прежде чем начинать жаловаться, должен постараться с помощью труда подняться над своим сословием. Он верил в возможность социального прогресса благодаря образованию и личной воле каждого. Занятия медициной лишь укрепляли его в мысли о нравственно возвышающей роли науки.
Стараясь заработать какие-нибудь деньги, Антон продолжал рассылать рассказы в различные юмористические журналы. В соответствии с требованиями главных редакторов рассказы должны были быть короткими и смешными. В анекдотах, скетчах, на скорую руку накропанных новеллках – везде действовали традиционные фарсовые персонажи: рогатые мужья, легкомысленные жены, недобросовестные чиновники, нечестные торговцы, подвыпившие офицеры, неуклюжие зубные врачи, увядшие старые девы… Антон, с одобрения Александра, подчинился этим требованиям. Поначалу он получал отказ за отказом, но в конце концов, 13 января 1880 года, прочел в «Почтовом ящике» «Стрекозы» среди ответов начинающим авторам адресованное ему послание: «Совсем недурно. Присланное поместим. Благословляем на дальнейшее подвижничество». Вскоре начинающий юморист получил письмо от редактора, извещавшего, что он будет получать по пять копеек за строчку. Но пришлось ждать еще два месяца, чтобы увидеть рассказ напечатанным в журнале, черным по белому. «Письмо донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу д-ру Фридриху» было подписано «…въ» – и только. Никаких литературных амбиций у Антона не существовало – единственное, чего ему хотелось, – это без особых усилий заработать своим пером немного денег. Вся семья отпраздновала первый успех писателя Чехова огромным пирогом, купленным на первый гонорар. Тогда, в двадцать лет, Антон, мечтавший стать врачом, еще и не догадывался, что начинается его истинная карьера.
Обрадованный удачным началом, отныне он почти все свободное время отдавал сочинительству, добиваясь единственного – понравиться главному редактору. Поскольку за короткие смешные рассказы платили мало, для того, чтобы как-то свести концы с концами, надо было часто печататься. Антон неутомимо посылал в «Стрекозу» забавные истории и с тревогой ждал ответа. В 1880 году ему удалось пристроить девять рассказов, в 1881-м – тринадцать; в 1883-м было напечатано в общей сложности сто двадцать девять его рассказов, статей и репортажей. Легкость сочинения опьяняла Чехова, он забавлял читателя, забавляясь сам.
Но ему и в голову не приходило подписывать этот «вздор» своим настоящим именем. Чехов придумал себе несколько псевдонимов – «Человек без селезенки», «Брат моего брата», «Улисс», «Антоша», но чаще всего подписывался «Антоша Чехонте» – это прозвище, как уже говорилось, дал ему в детстве учитель Закона Божия, протоиерей Покровский. Однако «Стрекоза» порой оказывалась жестока к молодому автору. Многие его рукописи отвергались, а печатали в их адрес неприятные реплики вроде этой: «Несколько острот не искупают непроходимо пустого словотолчения». Вот еще один удививший Чехова отклик на его рассказ «Портрет»: «Он до нас не касается. Вы, очевидно, писали его для другого журнала». Была и такая рецензия: «Очень длинно и бесцветно: нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой». А в конце 1880 года, послав в «Стрекозу» очередное сочинение, Антон прочел в «Почтовом ящике» следующее: «Не расцвев – увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу». Уязвленный Антон решил больше ничего не посылать в столь придирчивую редакцию. И тогда один из сотрудников еженедельника, Соймонов, об этом пожалел: сказал, что глупый редакционный совет «Стрекозы» отверг рассказ некоего Антоши Чехонте, хотя до тех пор на страницах журнала не появлялось ничего, что могло бы с ним сравниться.[43]
Если напечататься в каком-нибудь из этих сатирических изданий было нелегко, то еще труднее было получить гонорар. Являясь в редакцию, чтобы получить причитающиеся брату деньги, Миша через раз слышал в ответ, что касса временно пуста. Иногда ему в виде компенсации предлагали билеты в театр, а случалось, сообщали, что редактор бежал через черный ход.
Когда экзамены за первый курс медицинского факультета были сданы (и по всем предметам, кроме анатомии, отметки получены хорошие), Антон в июле 1880 года уехал на летние каникулы из Москвы в поместье, принадлежавшее родным его друга и жильца Зембулатова. Утверждаясь в своем призвании к медицине, он принес в свою комнату череп и заставил младшего братишку друга снабжать его лягушками и крысами. Оба студента препарировали этих животных в саду под боязливыми взглядами крестьян.
Вернувшись в Москву, Антон внезапно обратился к театру и за зиму сочинил, в порыве вдохновения, длинную и путаную пьесу в четырех актах, которой поленился придумать название. Дал младшему брату Мише ее перебелить и сам отнес прославленной актрисе Марии Ермоловой, служившей в Малом театре. Как и следовало ожидать, пьесу отклонили. Антон, сильно задетый, уничтожил рукопись, но в 1920 году в архиве писателя был найден написанный его рукой черновик, который и опубликовали под названием «Платонов».[44]
В этом мелодраматическом, невыстроенном, многословном юношеском сочинении тем не менее содержатся в зародыше все главные чеховские темы. Тон задан с первых же реплик: «Ничего… Скучненько… Скучно, Николя… Тоска, делать нечего, хандра… Что и делать, не знаю…» Деревенский дом, тяжкая провинциальная скука, праздные безвольные персонажи, которые, зевая, мечтают о лучшей жизни, но ничего не предпринимают для того, чтобы стряхнуть оцепенение, а рядом с ними – новые люди, реалисты и хищники, готовые на все, лишь бы добиться своего, нехватка денег, родовое гнездо и прекрасный парк, которые вот-вот будут проданы за долги, льющаяся рекой водка, пьяное отупение, пустые и громкие разговоры, вздохи прекрасных, но недостаточно любимых дам… Что касается главного героя пьесы, Платонова, он привораживает окружающих его женщин и не властен над собственным обаянием, недоволен своей жизнью и развлекается любовными интригами, сам в них не веря. Его навязчивая идея – вмешиваться в жизнь каждой женщины, которую он встретит. При этом Платонов стремится не к волнующему союзу с ними, но к возможности физически и нравственно их уничтожить. Этот отталкивающий приживал, отчаявшийся разрушитель и донжуан был, по выражению одной из его жертв, «оригинальнейшим негодяем». Вот его реплика, произнесенная в минуту раскаяния: «Разгромил, придушил женщин слабых, ни в чем не повинных… Не жалко было бы, если бы я их убил как-нибудь иначе, под напором чудовищных страстей, как-нибудь по-испански, а то убил так… глупо как-то, по-русски… Был голоден, холоден, истаскался, пропадал, исшарлатанился весь, пришел в этот дом… Дали мне теплый угол, одели, приласкали, как никого… Хорошо заплатил!» Подобные Платонову соблазнители поневоле снова появятся в других пьесах Чехова. И второстепенные персонажи тоже. И все будут вызывать сочувствие. Но пока эти создания, изображенные в черном цвете, выглядели карикатурно. Позже диалоги станут легче, эффекты смягчатся, намерения сделаются тоньше, палитра Чехова – светлее. Тем не менее и здесь, в этой первой неудачной, по общему мнению современников и самого автора, попытке сочинить пьесу уже присутствуют как дар одушевления, так и искусство ярко обрисовать оригинальные характеры, и драматическое вдохновение.
То, что пристроить пьесу в Малый Чехов не смог, на время отдалило его от сцены, и он возобновил сотрудничество с сатирическими журналами. Поссорившись со «Стрекозой», Антон сговорился с двумя другими еженедельными изданиями, «Будильником» и «Зрителем», где ему платили по шести копеек за строку. В 1882 году он, заключив пари с главным редактором «Будильника», написал, а потом и опубликовал здесь роман с продолжением «Ненужная победа» – подражание знаменитому венгерскому писателю Мавру Иокаи. Это произведение, разрезанное на куски, шло в восьми номерах. Имитация была настолько искусной, что обманутые читатели засыпали редакцию письмами. Как это интересно, писали они, не можете ли вы напечатать еще что-нибудь того же автора? И почему автор не подписал роман настоящим именем? Разве это не Мавр Иокаи?
Наряду с такими – более или менее длинными, более или менее удачными – рассказами Чехов резво писал хронику московской жизни. Взяв на себя роль репортера и хроникера, он собирал информацию где только мог – в залах суда, в литературных кафе, за кулисами театров… Разнообразие кругов, которые приходилось теперь посещать по долгу службы, расширяло его видение мира. В двадцать два года Антон уже прекрасно знал все слои русского общества. В его голове роились оригинальные образы, которые он подсматривал то здесь, то там, и теперь они только и ждали возможности ожить под пером писателя. Но не надо забывать, что в то же самое время Чехов был и требовательным критиком. Отвергнутый драматург, по-прежнему страстно любивший театр, он уже тогда проповедовал простоту и искренность в игре актеров и в постановке. Задетый бурей восторга, вызванной приездом в Москву Сары Бернар в конце 1881 года, Антон сходил посмотреть на нее в «Даме с камелиями» и «Адриенне Лекуврер» в Большой театр, а потом изложил свои впечатления в двух статьях, написанных для зрителя. В одной из них он резко отозвался об актрисе, сказав, что больше всего она любит хвалу. А в следующем номере написал о том, что каждый вздох Сары Бернар, ее взгляды, ее страдания, короче, ее игра – лишь превосходно усвоенный урок. Всех своих героинь она превращает в таких же исключительных женщин, какой является сама. В ее игре не столько сверкание таланта, сколько огромный труд, и это видно. В иные моменты зритель был растроган почти до слез, отмечал Чехов, но слезы так и не проливались, поскольку мастерство словно бы уничтожало чары. Впрочем, и с русскими актерами этот строгий критик при случае обходился не менее сурово, чем с французской актрисой. Посмотрев, как знаменитый Иванов-Козельский исполняет роль Гамлета, он написал в газете, что правильно передавать на сцене свои чувства еще недостаточно, недостаточно просто быть артистом – актер должен быть интеллектуально развит. Для того чтобы играть Гамлета, следовало потрудиться образовать себя…
Братья Чехова, Александр и Николай, тоже сотрудничали в юмористических журналах, один – в качестве секретаря редакции, другой – как иллюстратор. Они увлекли Антона за собой в шумную, язвительную, беспорядочную и любящую приложиться к бутылке богемную среду. Однако и в этой среде писатель не утратил присущих ему сдержанности и замкнутости, хотя ему нравилось общество бранчливых и невоздержанных коллег. Особенно он любил поэта Лиодора Пальмина – одетого в лохмотья пылкого и гениального чудака, вечно окруженного сворой запаршивевших собак, которых он заботливо выхаживал. Жил Лиодор в лачуге со старухой экономкой, и они вдвоем по вечерам напивались до того, что засыпали под столом. В компании же приятелей, пропустив несколько рюмок водки, этот жалкий человек впадал в транс и пламенно провозглашал новые и благородные идеи. Он был широко образован, говорил на нескольких языках, переводил на русский иностранных классиков и придерживался либеральных взглядов, из-за чего власти относились к нему с подозрением. В одном из писем[45] Чехов писал, что разговор с ним никогда не наскучит. Конечно, пока говоришь с ним, приходится много пить, замечал Антон, зато можно быть уверенным в том, что за три-четыре часа разговора никогда не услышишь ни лжи, ни пошлой фразы, а это стоит трезвости.
Другим примечательным человеком в компании был Владимир Гиляровский, газетчик, работавший в «Русских ведомостях». Этот крепкий, атлетически сложенный, яркий и шумный человек гордился своими стальными мускулами, безупречной памятью и дьявольской ловкостью в карточных фокусах. По любому поводу он начинал демонстрировать окружающим бицепсы или, хвастаясь богатырской силой, ломал стулья. Гиляровский перепробовал множество профессий: был бурлаком на Волге, грузчиком, рабочим на белильном заводе, цирковым акробатом, гонял табуны в Задонских степях… Он знал множество неприличных анекдотов и с громким хохотом их рассказывал. В городе он знал всех и каждого и равно непринужденно чувствовал себя в Английском клубе и в ночлежке на Хитровом рынке. Гиляровский снабжал свою газету местными новостями, сценками, репортажами и стихами. Собратья по перу называли его «королем журналистов». Подружившись с Чеховым, Владимир приобщил его к тайной жизни Москвы и не раз снабжал темами для статей.
В эту же компанию входил и Попудогло, тонкий стилист, наполовину спившийся и обреченный на раннюю кончину; и Сергиенко, бывший ученик таганрогской гимназии, скромно кормившийся своим пером и помешанный на учении Толстого. Николай, со своей стороны, приводил в дом оборванных художников, которые крепко пили и с жаром спорили о традициях и новациях в искусстве. В конце 1880 года именно брат познакомил Антона с робким и пылким молодым евреем – будущим великим пейзажистом Исааком Левитаном, которому тогда было всего девятнадцать лет.
Обычно к буйным гостям старших братьев присоединялись друзья Миши и Маши, которые вносили свою лепту в споры и вплетали свои голоса в общий шум.
К тому времени семья снова переехала. Теперь Чеховы жили в более просторной квартире на Сретенке. Дверь была неизменно открыта для всех желающих, что очень нравилось Антону, любившему движение и новые лица. Рядом с ним затевались салонные игры, Николай садился за пианино, кто-нибудь еще пощипывал струны балалайки, и все хором принимались распевать народные песни, а потом промачивали пересохшее горло, опрокидывая стакан за стаканом. И все же порой Чехов, которому мешала вся эта веселая суета, жаловался, что не может найти тихого уголка, где мог бы поработать. «Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“…[46] Кто-то завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“… Хочется удрать на дачу, но уже час ночи. Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. „У дочки, должно быть, резь в животе – оттого и кричит…“ Я имею несчастье быть медиком, и нет того индивидуя, который не считал бы нужным „потолковать“ со мной о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу.
Обстановка бесподобная. Браню себя, что не удрал на дачу, где, наверное, и выспался бы, и рассказ бы Вам написал, а главное – медицина и литература были бы оставлены в покое. […]
Ревет детиныш!!! Даю себе честное слово не иметь никогда детей…»[47]
Нередко вечера, начавшиеся музыкой и болтовней, заканчивались попойкой. Как-то Александр явился домой мертвецки пьяным, едва держась на ногах, он кривлялся, грубо ругался при матери и сестре и грозил набить морду Антону. Возмущенный Чехов тут же написал ему решительное письмо, объясняя, что, хотя очень любит брата, из принципа не станет терпеть от него оскорблений и что даже в пьяном виде нельзя хамить окружающим. Он готов был в любую минуту вычеркнуть из своего словаря слово «брат», которым Александр хотел его припугнуть, когда он покидал поле боя, но не потому, что был бессердечен, а потому, что в жизни надо быть готовым ко всему, и советовал братьям брать с него пример.
Должно быть, Александр, протрезвев, извинился перед Антоном, потому что инцидент вскоре оказался забыт. Чехов слишком глубоко любил семью, чтобы подолгу держать обиду на кого-то из близких. Брат Николай в последнее время доставлял ему хлопот не меньше, чем Александр. Талантливый художник-юморист, Николай часто иллюстрировал рассказы Антона. Он мог бы сделать блестящую карьеру. Но издателям не следовало рассчитывать на то, что Николай представит рисунок к назначенному времени. Пренебрегая пунктуальностью, работая от случая к случаю, забывая о самых срочных заказах, он нередко пропадал на несколько дней и запойно пьянствовал где-то в московских трущобах. Потом возвращался домой среди ночи, его рвало, он одетый падал на диван и с головой укрывался одеялом, так что наружу торчали только ступни в грязных и рваных носках, и в течение суток отходил от пьянки. Чехов, нежно любивший брата, не упрекал его, но с отчаянием говорил о том, что слабоволие губит такой замечательный талант. Антон заклинал брата неустанно трудиться, днем и ночью, непрерывно читать, учиться, не терять драгоценного времени, призывал разбить графин с водкой. Тщетно.
Глядя, как оба старших брата постепенно опускаются все ниже, Антон испытывал особенно сильное желание пробудить в них мужество и достоинство. Для этого, думал он, надо не проповедовать, облачась в тогу банальной морали, а трудиться самому, личным примером показывать, что ничто никогда не бывает окончательно потеряно. Будучи врагом метафизических и религиозных спекуляций, он не взывал к Богу с просьбой о помощи, его битва разворачивалась на земле. Антон дал клятву совершенствоваться внутренне сам и воспитывать членов семьи и полагался в этом только на собственную любовь, собственное терпение, собственную волю, которые и должны были привести его к цели. Несколько лет спустя Чехов напишет своему другу Суворину: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».[48]
Чехов изо всех сил старался убедить братьев в том, что они «настоящие люди». Каким бы ни казался он на первый взгляд, этот агностик жарко верил в будущее, этот скептик признавал за каждой личностью, даже за той, что едва держится за самую нижнюю ступеньку, неотъемлемую человеческую, почти божественную ценность.
Глава V Журналистика и медицина
Благоразумный и угрюмый Иван в конце концов получил место учителя в приходской школе городка Воскресенска под Москвой. Там ему отвели довольно большой дом и у него стало много свободного времени. Летом 1882 года, достойно сдав экзамены за третий курс, Чехов решил поехать на каникулы к брату «в деревню». Вся семья отправилась вместе с ним.
В Воскресенске Чехов делил время между ужением рыбы и собиранием грибов и другим ужением и другим собиранием, приносившими куда большую выгоду: он вылавливал смешные истории и собирал характеры. Зоркий глаз, любопытный нос и живой ум проникали везде – на почту, в кабак с золоченым самоваром на вывеске, в пыльную обитель мирового судьи, в дымные мужицкие избы, в помещичьи дома с колоннами и даже в офицерские столовые расквартированного в городке артиллерийского полка. Люди любого сословия чувствовали себя польщенными тем, что к ним проявляет интерес приехавший из самой Москвы высокий длинноволосый молодой человек в широкополой черной шляпе, такой вежливый и обходительный, к тому же – будущий врач. Им и в голову не могло прийти, что, расспрашивая, он высасывает их до мозга костей. Еще раньше, в Москве, Антон объявил близким, что будет платить по десять копеек за сюжет для небольшого рассказа, по двадцать – за полноценную канву, и его брат Миша не раз зарабатывал таким способом. В Воскресенске же идеи, лица и забавные положения Чехову доставались даром, и, вернувшись домой, он использовал эти запасы каникулярных впечатлений в рассказах для разных газет.
Антон снова принялся с усердием учиться, но его не оставляла неотступная мысль о необходимости зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Даже когда он брал в руки перо, денежные интересы преобладали над художественными соображениями.
Ни товарищи Чехова по университету, ни преподаватели даже не подозревали о его писательской деятельности. За исключением нескольких посвященных, никому и в голову не приходило, что может существовать нечто общее между Чехонте, публиковавшим юмористические рассказы в еженедельниках, и спокойным, мягким, скромным студентом-медиком Чеховым. Однако если анонимность Чехова нисколько не смущала, то низкая оплата его труда просто бесила. Теперь он только о том и мечтал, чтобы бросить мелкие недолговечные скупые московские издания и получить доступ к большой прессе. Там, думал он, платить будут в назначенный день и аккуратно.
И вот холодным октябрьским днем, когда Антон гулял по московским улицам с братом Николаем, рядом с ними остановилась пролетка, в которой сидели экстравагантный поэт Пальмин, друг Чехова, и толстяк с большой черной бородой, петербургский писатель Лейкин, главный редактор и издатель знаменитого юмористического еженедельника «Осколки». Всего несколько минут тому назад Лейкин сказал Пальмину, что ищет для своего журнала талантливых и не слишком требовательных сотрудников. Пальмин тотчас указал на двух поравнявшихся с ними прохожих и воскликнул: «Вот два брата, оба талантливые, один пишет, другой рисует!» Лейкин вышел из пролетки, Пальмин представил ему Антона и Николая. Чехову тем более лестным показался интерес, проявленный к нему Лейкиным, что он еще когда-то в Таганроге нередко смеялся, читая в городской библиотеке комические рассказы этого модного автора. Теперь он сказал Лейкину об этом, и комплимент окончательно их сблизил. Холод был нешуточный, потому разговор, начавшийся на тротуаре, продолжился в тепле и шуме ближайшего трактира. Антон завороженно смотрел на то, как шевелились уши и борода сидевшего напротив Лейкина, который ел сосиску, запивая ее пивом. Вся толстая физиономия издателя «Осколков» принимала участие в процессе еды. Наконец Лейкин зажег сигару и, окутавшись дымом, изложил свои требования: ему нужны короткие, красочные, легкие и забавные рассказы. Главное правило: не сердить цензуру, а следовательно – избегать сюжетов, способных навести читателя на горестные размышления о трудных временах. Платить обещал по восемь копеек за строку, то есть за рассказ выходило от четырех до пяти рублей. Расценки, оказавшиеся намного выше тех, что давали тощие московские листки, привели Чехова в такой восторг, что он с трудом мог скрывать охватившую его радость. К тому же Лейкин намеревался печатать и рисунки Николая. Дело было решено, и Чехов пообещал посылать в «Осколки» лучшее из всего, что напишет.
Он сдержал слово и принялся лихорадочно строчить. Однако первые присланные им рассказы были отвергнуты. «Форма прекрасна. Сотрудничество ваше нам давно желательно. Пишите покороче, а мы вам будем платить пощедрее», – ответили из редакции «Осколков». Чехова ответ не расстроил, он отправил в Петербург новую порцию рукописей и 20 ноября 1882 года увидел свой текст на страницах журнала за подписью «Чехонте».
С этого момента публикации следовали одна за другой. По настоянию Лейкина Чехов вскоре согласился даже вести постоянное обозрение «Осколки московской жизни». Там он помещал сценки, подсмотренные на улицах, в больнице, в суде, в кабаках, за кулисами театров, передавал светские сплетни, делился новостями литературной, музыкальной, художественной жизни. Правда, эта неблагодарная работа его раздражала, но семья так нуждалась в деньгах, что он не мог себе позволить от чего-то отказываться. «Не завидуй, братец, мне, – пишет Антон Александру. – Писанье, кроме дерганья, ничего не дает мне. 100 руб., которые я получаю в месяц, уходят в утробу, и нет сил переменить свой серенький неприличный сюртук на что-либо менее ветхое. Плачу во все концы, и мне остается nihil.[49] В семью ухлопывается больше 50. Не с чем в Воскресенск ехать. У Николки денег тоже чертмa. Утешаюсь по крайней мере тем, что за спиной кредиторов нет. За апрель я получил от Лейкина 70 руб., и теперь только 13-е, а у меня и на извозца нет.
Живи я в отдельности, я жил бы богачом, ну, а теперь…»[50]
Эти разговоры о деньгах повторяются в каждом письме. Семья камнем висела у Чехова на шее. Но и представить себе жизни без нее он не мог. Через несколько лет он признается в том, что придает слишком большое значение деньгам, испорчен тем, что родился, рос, учился, начал писать в среде, где деньги играли возмутительно главную роль.
Впрягшись в каторжный литературный труд, Чехов в любой момент рисковал опуститься до поверхностности, болтовни, графомании. Он сам это сознавал и порой восставал против коммерческих требований Лейкина. Больше всего раздражало писателя категорическое предписание укладываться в сто строк. По мнению господ из «Осколков», ни один сюжет большего не заслуживал. «За мелкие вещицы стою горой и я, – писал Чехов своему издателю, – и если бы издавал юмористический журнал, то херил бы все продлинновенное. […] но в то же время, сознаюсь, рамки „от сих до сих“ приносят мне немало печалей. Мириться с этими ограничениями бывает иногда очень не легко. Например… Вы не признаете статей выше ста строк, что имеет свой резон. У меня есть тема. Я сажусь писать. Мысль о „100“ и „не больше“ толкает меня под руку с первой же строки. Я сжимаю, елико возможно, процеживаю, херю – и иногда (как подсказывает мне авторское чутье) в ущерб и теме и (главное) форме. Сжав и процедив, я начинаю считать… Насчитав 100–120—140 строк (больше я не писал в „Осколки“), я пугаюсь и… не посылаю. […] Чаще всего приходится наскоро пережевывать конец и посылать не то, что хотелось бы… […]
Из сего проистекает просьба: расширьте мои права до 120 строк. Я уверен, что я редко буду пользоваться этим правом, но сознание, что у меня есть оно, избавит меня от толчков под руку».[51]
Помимо жесткой рамки «ста строк» Чехова через некоторое время начала тяготить и обязанность писать смешно. Со смиренной настойчивостью он молит Лейкина позволить ему время от времени впускать в свои рассказы нотку меланхолии: «Мне думается, что серьезная вещица, маленькая, строк примерно в 100, не будет сильно резать глаз, тем более что в заголовке „Осколков“ нет слов „юмористический и сатирический“, нет рамок в пользу безусловного юмора. […] Легкое и маленькое, как бы оно ни было серьезно, […] не отрицает легкого чтения… Упаси Боже от суши, а теплое слово, сказанное на Пасху вору, который в то же время и ссыльный, не зарежет номера. (Да и, правду сказать, трудно за юмором угоняться! Иной раз погонишься за юмором да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет. Поневоле в область серьеза лезешь.)»[52]
После долгих уговоров Лейкин согласился поместить в своем еженедельнике несколько рассказов, написанных в более серьезном тоне. Он опасался недовольства тех, кто уже успел привыкнуть к веселому настрою Чехонте. Но ни один из них не возмутился. Так называемый Чехонте, даже сменив тональность, все равно умел очаровать читателей.
Надо сказать, что успех Чехова, хотя и очень небольшой, стоил ему враждебного отношения нескольких собратьев. «У нас, у газетчиков, – пишет он брату Александру, – есть болезнь – зависть. Вместо того чтобы радоваться твоему успеху, тебе завидуют и… перчику! перчику! […] А как все это отравляет жизнь!»[53] – одна из немногих жалоб, которые мы встречаем в его письмах.
Вот этой сдержанности, этого нравственного достоинства его брат Александр был начисто лишен. Получив в Таганроге место на таможне, он уехал из Москвы, увозя с собой замужнюю женщину, в которую был влюблен и которой несговорчивый муж отказывался дать развод. Едва поселившись в провинции с любовницей и ее сыном, он принялся засыпать Антона отчаянными письмами. С неисчерпаемым терпением Чехов старался издали образумить вечно недовольного брата. «Ты слезоточишь от начала письма до конца…» – пишет он. И упрекает Александра за то, что тот нападает на Николая, считая, что брат, погрязший в пьянстве, заслуживает нежности и терпения: «Николка (ты это отлично знаешь) шалаберничает; гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет ни за грош… Еще год-два, и песенка нашего художника спета». С другой стороны, Чехов не мог примириться с тем, что Александр критикует отца за то, что он огорчен связью сына с замужней женщиной. «Не знаю, чего ты хочешь от отца, – пишет ему Антон. – Враг он курения табаку и незаконного сожительства – ты хочешь сделать его другом? С матерью и теткой можно проделать эту штуку, а с отцом нет. Он такой же кремень, как раскольники, ничем не хуже, и ты не сдвинешь его с места. […] Какое дело тебе до того, как глядит на твое сожительство тот или другой раскольник? Чего ты лезешь к нему, чего ищешь? пусть себе смотрит, как хочет… […] Всякий имеет право жить с кем угодно и как угодно, – это право развитого человека, а ты, стало быть, не веришь в это право, коли находишь нужным подсылать адвокатов к Пименовнам и Стаматичам. Что такое твое сожительство с твоей точки зрения? Это твое гнездо, твоя теплынь, твое горе и радость, твоя поэзия, а ты носишься с этой поэзией, как с украденным арбузом, глядишь на всякого подозрительно (как, мол, он об этом думает), суешь ее всякому, ноешь, стонешь… […] Тебе интересно, как я думаю, как Николай, как отец?! Да какое тебе дело? Тебя не поймут, как ты не понимаешь „отца шестерых детей“, как раньше не понимал отцовского чувства… Не поймут, как бы близко к тебе ни стояли, да и понимать незачем. Живи да и шабаш».[54]
Сам он теперь был убежден, что «живет своей жизнью» в согласии с самыми заветными желаниями: у него есть газетная работа в качестве заработка и медицина как профессия. Он рассказывал брату Александру о том, что становится известным и уже читал критические высказывания в свой адрес, да и его медицина набирала силу. Он научился лечить и сам не мог в это поверить. «Не найдешь ни одной болезни, которую я не взялся бы лечить», – говорил Чехов. Вскоре ему предстояло сдавать экзамены, и если он их сдаст – «finita la commedia». Это было в начале января. А через несколько месяцев он писал все тому же Александру: «Я газетчик, потому что много пишу, но это временно… Оным не умру. Коли буду писать, то непременно издалека, из щелочки…» И, окончательно уверившись в том, что будущее его – не с пером, а со стетоскопом, прибавляет: «Погружусь в медицину, в ней спасение, хотя я до сих пор не верю себе, что я медик […]».[55]
На самом деле Антон живо интересовался своей медицинской учебой, ходил в больницы, помогал при проведении операций и бесплатно лечил неимущих друзей. Так, он преданно ухаживал за писателем Попудогло, который в благодарность завещал ему, умирая, большую библиотеку.[56]«Умер он от воспаления твердой оболочки мозга, хоть и лечился у такого важного врача, как я. Лечился он у 20 врачей, и из всех 20 я один только угадал при жизни настоящий недуг. Царство ему небесное, вечный покой! Умер он от алкоголя […]».[57]
Увлекаемый любовью к медицине, Чехов хотел даже написать научный труд, в котором были бы проанализированы взаимоотношения между полами у различных видов животных: «История полового авторитета». Впрочем, скоро он от этого проекта отказался: боялся предстоявших экзаменов. «Почти все приходится учить с самого начала. Кроме экзаменов (кои, впрочем, еще предстоят только), к моим услугам работа на трупах, клинические занятия с неизбежными гисториями морби,[58] хождение в больницы… Работаю и чувствую свое бессилие. Память для зубрячки плоха стала, постарел, лень, литература… […] Боюсь, что сорвусь на одном из экзаменов».[59]
В это же время Антон охотно наезжал в Воскресенск – отдохнуть от своей научной и литературной работы. Там он познакомился с доктором Архангельским, работавшим в больнице в соседнем селе Чикино, деятельно помогал ему лечить больных. Поселившись в доме у врача, он проводил целые вечера за разговорами с ним и со студентами-практикантами, работавшими в той же больнице. Говорили о политике и литературе, цитировали Тургенева и Салтыкова-Щедрина, декламировали стихи Некрасова, пели хором. Время летело незаметно, и Чехов совсем позабыл о своих обязательствах по отношению к «Осколкам». Оправдываясь перед Лейкиным за то, что посылает ему так мало текстов, он написал ему, что лето – неподходящее время для того, чтобы что-нибудь делать, одним только поэтам дано примирять царапанье по бумаге с лунным светом и любовью: они могут одновременно влюбляться и писать стихи, – а вот с прозаиками дело обстоит совсем по-другому.
Этот скромный намек на любовное приключение продолжения не имел. Чехов, по своему обыкновению, хранил в тайне свои сердечные переживания или отделывался шутками. В его окружении поговаривали, что у него связь с танцовщицей, а кроме того, роман с французской актрисой из театра Лентовского. Сам он признавался, что с удовольствием бывает в «Salon», известном московском кафешантане. Там он встречался с гуляками офицерами и девицами легкого поведения, с которыми пил и веселился. А потом писал Лейкину, что всю ночь, до заутрени, гулял и играл в карты с девицами. От скуки пил водку, которую вообще-то пьет лишь изредка и только когда скучает, и от этого у него в голове туман.
По всей видимости, если и ухаживал Антон за женщинами, то предавался этому занятию без увлечения. Женщины просто вызывали у него любопытство и забавляли его. Жене своего друга Савельева он шутки ради писал, что приедет в Таганрог в конце июня, исполненный надежды найти там обещанную ему невесту. Требования, которые он предъявлял к нареченной: красота, изящество и двадцать тысяч рублей приданого. В наши дни молодежь так корыстна, притворно сокрушался молодой человек.
Уверяя всех в том, что он – писатель от случая к случаю, обреченный бездарно марать бумагу, Чехов на самом деле мечтал издать сборник, составленный из лучших рассказов. В конце концов он отобрал шесть из них, и сборник был напечатан за счет автора. Тоненькая книжечка в девяносто шесть страниц, озаглавленная «Сказки Мельпомены» и подписанная псевдонимом Чехонте, стоила шестьдесят копеек. Александр, который к тому времени оставил свою таможенную службу в Таганроге и вернулся в Москву, взялся пристраивать ее книготорговцам. Но те, введенные в заблуждение названием, ставили «Сказки Мельпомены» на полки с детскими книжками, и возможные покупатели их не замечали. Непроданные экземпляры вернулись к автору. «Утешитель» Александр послал тогда Антону насмешливые заверения в том, что вскоре об «Антоше» услышит вся Россия. Умри он сейчас – и его будут оплакивать на севере, на западе и за морем. Слава его будет расти, но пока что книгу его раскупают неохотно.
Хорошо хоть, что литературный и коммерческий провал для Чехова был смягчен успешной сдачей последних экзаменов на медицинском факультете. Страшно гордый своим социальным восхождением, он писал Лейкину 25 июня 1884 года: «Живу теперь в Новом Иерусалиме… Живу с апломбом, так как ощущаю в своем кармане лекарский паспорт…» И подписался: «…лекарь и уездный врач А. Чехов».[60]
Тем летом он снова приехал в Чикинскую больницу поблизости от Воскресенска, но уже в качестве врача. Первые гонорары показались ему неслыханными: пять рублей за безуспешное лечение зуба одной барышни, рубль за исцеление монаха от дизентерии и три рубля за то, что справился с капризным желудком жившей в тех местах на даче московской актрисы. В восторге от успешного начала своей новой карьеры, Чехов сгреб все эти рубли и отправился в трактир, где накупил на них водки, пива и – как написал он Лейкину – прочих лекарств.
Неподалеку от Воскресенска произошло убийство – Чехов добился разрешения присутствовать на вскрытии трупа. Вскрытие делалось в поле, на проселочной дороге, в тени молодого дуба. «Труп в красной рубахе, новых портах, прикрыт простыней… На простыне полотенце с образком. Требуем у десятского[61] воды… Вода есть – пруд под боком, но никто не дает ведра: запоганим».[62] Эта сцена подсказала Чехову сюжет рассказа «Мертвое тело», главные герои которого – не жертва и не убийца, а два крестьянина, которым поручено ночью в лесу стеречь тело.
Когда заведующий звенигородской больницей взял двухнедельный отпуск, Чехов вызвался его заменить. Для молодого и неопытного врача это был смелый поступок. И в самом деле, первая же несложная операция, которую пришлось делать ребенку, чуть было не обернулась трагедией. Маленький больной так отчаянно дергался и вопил, что Чехов, не выдержав, вызвал на подмогу коллегу из Чикинской больницы, и тот с легкостью провел операцию вместо него. В остальном же работа в больнице была до омерзения монотонной. Каждый день приходилось осматривать от тридцати до сорока больных. Гнойные раны, поносы, катары, глисты, а вдобавок к этим физическим немощам – грязь, невежество и пьянство крестьян. Где он, воспетый Толстым мужик с простым и вдохновенным сердцем, обладатель глубочайшей земной мудрости? Между двумя больными Чехов смотрел из окна своего кабинета на «нехороший, безостановочный» дождь, без устали поливавший дом исправника. Стараясь отвлечься от провинциального убожества и прозябания, он обдумывал грандиозный проект: так хотелось написать историю российской медицины! Это сочинение, задуманное как диссертация, позволило бы ему, как он думал, создать себе имя в научных кругах. Правда, прочитав около сотни книг «по теме» и сделав из них выписки, он охладел к работе, в которой ему не пригодились бы ни воображение, ни тонкость чувств.
Проживая в Воскресенске, Антон не ощущал себя более счастливым, чем был в Звенигороде. Погода окончательно испортилась, став, по его собственному выражению, «дифтерийной». Третьего сентября 1884 года он вернулся в Москву и тут же заказал себе на дверь медную табличку с выгравированной на ней надписью: «Доктор А.П. Чехов». В этом городе, который он все больше любил и которому, по его собственным словам, принадлежал навсегда, Чехов снова попал в водоворот газетной работы и врачебных консультаций. Подсчитывая доходы, он приходил к выводу, что медицина – более надежный способ добывания денег, чем писательское ремесло, потому что вернее прокормит его самого и его семью. Через полтора месяца после того, как перебрался в Москву, он писал брату Ивану в Воскресенск, как хотел бы, чтобы и тот нашел себе место в Москве: их совместные доходы позволили бы им жить «как боги». Антон зарабатывал неплохо, но денег у него едва хватало на еду, и у него не было угла, где бы он мог сесть и работать. С Николаем он жить не мог, и не потому, что сам не хотел, а потому, что тот отказывался. А пока, жаловался Антон брату, у него нет ни копейки и он ждет с замиранием сердца первого числа, когда из Петербурга должны прислать шестьдесят рублей, хотя и знает, что этих денег хватит ненадолго. Никуда не ходит, сидит дома и работает.
И вдруг, 7 декабря 1884 года, в самом разгаре изнурительной борьбы, которую Антон вел, стараясь вовремя поставлять тексты и успевать лечить неимущих пациентов, произошло тревожное событие, к которому он отнесся с притворным легкомыслием: у него начался сухой кашель, затем во рту появился кислый вкус, и, наконец, появилась кровь. «Это не чахоточное кровохарканье», – поспешил Чехов заверить друга, публициста Сергеенко. А Лейкину написал 10 декабря, что вот уже три дня, как у него идет горлом кровь, это мешает ему писать и приехать в Санкт-Петербург. И, сообщив, что никак этого не ожидал, что не знает, скоро ли подействуют лекарства, которыми пичкают его коллеги-врачи, уверял и издателя в том, что общее самочувствие вполне удовлетворительно и все дело, несомненно, в лопнувшем сосудике. К этому прибавив, что в довершение всего у него есть и больные, к которым он сейчас не может ходить и не знает, что делать: не хочется передавать их другому врачу, да и доход терять тоже не хочется.
Немного оправившись, доктор Чехов тут же возобновил прием больных. Нисколько не веря в то, что болен туберкулезом, он все же обдумывал возможность поездки куда-нибудь в теплые края, в Крым или за границу, на лечение. Затем даже и это благоразумное решение показалось ему излишним. Дяде Митрофану Антон писал в январе 1885 года, что медицина его помаленьку идет, он лечит и лечит. Каждый день только на извозчика уходит не меньше рубля. У него много друзей, а стало быть, и много пациентов. Половину лечит бесплатно, вторая половина платит от трех до пяти рублей за визит. Конечно, капитал таким образом скопить удастся не скоро, но пока можно жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать, а если он и дальше будет жив-здоров, то участь семьи обеспечена.
Финансовое положение мало-помалу действительно улучшалось: вскоре Чехов смог прикупить кое-какую мебель и пианино, нанять двух служанок и устраивать музыкальные вечера. Этот буржуазный комфорт, это спокойное достоинство утешали его после стольких лет нужды и унижений. К двадцати пяти годам он, как ему казалось, окончательно победил «раба», который жил в нем с самого рождения. И пусть у него идет горлом кровь – это кровь свободного человека. Все тому же дяде Митрофану он с гордостью пишет теперь о том, что у него нет ни долгов, ни желания их делать, и если раньше он покупал мясо и бакалейные товары в кредит, «на книжку», то теперь с этим покончил и платит наличными.
Разумеется, тут было немало напускного оптимизма, рассчитанного на то, чтобы произвести впечатление на провинциального дядюшку. Но Чехов, бесспорно, гордился достатком, которым был обязан исключительно собственному труду. Пока его честолюбивые замыслы не заходили дальше достижения благополучия и респектабельности. Войдя в литературу с черного хода, он чувствовал, как давит на него слава русских исполинов: Достоевского, Тургенева, Толстого… Конечно, Достоевский умер в 1881 году, Тургенев – в 1883-м, а Толстой хотя и был жив, но подчеркнуто отвернулся от искусства и изображал из себя пророка, однако их творения занимали все умы и заставляли подрастающее поколение заранее отказаться от соперничества. Разве можно превзойти этих знаменитых предшественников? Поначалу Чехов даже и вопросом таким не задавался. Он изо дня в день строчил с налету рассказы, не пытаясь решать никаких нравственных, религиозных или социальных проблем и не адресуя читателю никаких посланий. Единственное, к чему он стремился, – забавлять их или заставлять мечтать. Между 1880-м и 1884 годами Антон напечатал под различными псевдонимами в различных московских и петербургских изданиях три сотни текстов. И среди вороха анекдотов в это время появились и такие рассказы, как «Дочь Альбиона», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Орден», «Хирургия», «Хамелеон», «Экзамен на чин», «Надлежащие меры» – вещи, отмеченные тонкой психологией и легкой иронией, удивлявшими и самого Лейкина. Тем не менее каждую из этих рукописей издатель «Осколков» подвергал предварительной цензуре, решительно вымарывая слишком резкие, с его точки зрения, или опасные места. Похвалив описание кануна Пасхи и сообщив Чехову, что послал первую половину рукописи в набор, издатель тут же извинялся за то, что всю «пасхальную прозу», с пьянством и неизбежными визитами, ему пришлось убрать. Или же, похвалив прелестные пустячки, опасался, что один из них не пройдет сквозь горнило цензуры, которая в последнее время рассвирепела, давит и душит.
Лейкин, в общем-то, не лгал. В самом деле, после первоначальной издательской «чистки» за дело брался официальный цензор со своим толстым синим карандашом. В самых невинных фразах этот блюститель гражданского духа видел неприятные намеки на царя, на армию, на религию, на семейные устои. Многие рассказы Чехова были таким образом изуродованы или отвергнуты. С началом царствования Александра III Россия вступила в эпоху суровости и подозрительности. Под влиянием генерального прокурора Священного Синода Константина Победоносцева, личного советника царя, вся интеллектуальная жизнь в стране замерла. Малейшее личное мнение казалось пагубным, воспринималось как подрывная деятельность.
И все же Чехову, наделенному темпераментом не бунтаря, но нежного и скептичного наблюдателя человеческой природы, удавалось более или менее приспособиться к столь угнетающей обстановке. Сам того не сознавая, он в своих коротеньких историях кропотливо, смиренно и верно выписывал гигантскую картину современной российской действительности. Здесь бок о бок существовали все персонажи повседневной жизни, чьи привычки и причуды он подмечал в городах и селах: грубые и неотесанные мужики, праздные помещики, наполовину разоренные освобождением крепостных, студенты, опьяненные великими и наивными идеями, разочарованные профессора, неудачливые медики, лавочники, уткнувшиеся в свои счетные книги, продажные чиновники, мелочь общества. Этим жалким существам он сочинял неприятности под стать их характерам. Нанизывая незначительные реплики, намекал на головокружительную тайну, скрытую за этим однообразным фоном. Абсурдность «повседневного» бросалась в глаза читателю, хотя автор и не вмешивался открыто, не гнул свою линию. Ни обличительных, ни защитительных речей – одна неприкрытая правда. Фотографическая. И самое удивительное в этой галерее портретов – автор никогда не повторялся, сочиняя один рассказ за другим. Его мешок фокусника казался неисчерпаемым. Лейкин подстрекал Чехова писать побольше. Чехов же, по мере того как осознавал свое искусство, все больше значения придавал форме. Неизменно практичный издатель «Осколков» на это сетовал, указывая Чехову на то, что обработка рассказов отнимает много времени. Зачем стараться? В наши дни никто этого не делает. Но писатель оставался глух к его увещеваниям и продолжал работать над стилем, стремясь сделать его строгим, быстрым, лишенным жеманства. Таким, чтобы читатель забывал об авторе, сосредоточившись на персонажах. Всегдашнее чеховское нежелание выставлять себя на первый план. В декабре 1881[63] года Антон получил номер «Новороссийского телеграфа» с хвалебной рецензией на «Сказки Мельпомены»: «Рассказы Чехова живьем вырваны из артистического мирка. Все они небольшие, читаются легко, свободно и с невольной улыбкой. Написаны с диккенсовским юмором: и легко, и за душу хватает». Заметка была подписана «Яго», но Чехов знал, что за этим псевдонимом скрывается его бывший товарищ по гимназии, Сергеенко. Так что похвалы в свой адрес он приписал дружбе и без малейшей горечи заключил, что литературного признания добьется не скоро.
Глава VI Первые успехи, первые неудачи
После долгих стараний Ивану удалось уехать из Воскресенска и перебраться в Москву, где он получил лучше оплачиваемую должность директора начальной школы. У этого воссоединения семьи, которого так давно жаждал Чехов, была и неприятная сторона: невозможность летом для него и его родных пользоваться домом в Воскресенске. А с наступлением погожих дней Чехов всегда начинал тосковать по деревне. Для него, сына лавочника, для него, едва сводившего концы с концами газетчика, представление об успехе в жизни связывалось с представлением о большой усадьбе вроде тех, какие описывали в своих книгах Тургенев и Толстой. От прежних выездов за город у него аппетит только разыгрался, и теперь, набравшись смелости, он снял дачу в Бабкине, в трех верстах от Воскресенска, в парке, принадлежавшем его друзьям Киселевым – их дети были учениками Ивана. Для того чтобы осуществить это дерзкое предприятие, ему пришлось взять в редакции «Будильника» аванс в сто рублей.
6 мая 1885 года семейство Чеховых, рассевшись в две повозки, доверху нагрузив их чемоданами, ящиками, тюками, связками книг и бумаг, банками с вареньем и кастрюлями и увенчав всю эту гору самоваром, глубокой ночью проехало мимо уснувшего дома Киселевых и высадилось на другом конце парка, у предназначенного для них дома поменьше. Двери были открыты. Вошедшие зажгли лампы, и Чехов застыл на пороге, удивленный. «Комнаты громадные, мебели больше, чем следует… – писал он брату Михаилу. – Все крайне мило, комфортабельно и уютно. Спичечницы, пепельницы, ящики для папирос, два рукомойника и… черт знает чего только не наставили любезные хозяева. Такая дача под Москвой по крайней мере 500 стоит. […] так, знаешь, весело было глядеть в окно на темневшие деревья, на реку… Слушал я, как поет соловей, и ушам не верил…»[64]
Назавтра же Чехов принялся усердно обследовать усадьбу, расположенную на крутом берегу Истры: огромный английский парк, цветники, далеко тянувшиеся леса, луга, полные рыбы пруды… Среди этого райского безделья царила чета Киселевых и двое их взрослых детей, Александра (Саша) и Сергей. Госпожа Киселева была жизнерадостной и энергичной дамой, писательницей, весьма успешно сочинявшей истории для малышей. Вокруг хозяев дома клубилась целая толпа разнообразной прислуги. Гости не переводились, застолья следовали одно за другим. Беспечные и расточительные Киселевы, не заботясь о завтрашнем дне, проматывали остатки былого богатства. Чехов вспомнит о них, когда станет описывать в «Вишневом саде» разоренное поместье.
А пока он был совершенно покорен любезностью и веселостью хозяев. Но, как ни одолевало его искушение целыми днями предаваться сладостной лени, он должен был тяжким трудом оплачивать удовольствие быть рядом с ними, в деревне. Он вставал в семь часов и все утро писал, пристроившись за столиком, сделанным из швейной машинки. Да еще нередко ему приходилось откладывать перо, потому что окрестные крестьяне, прознавшие о том, что в Бабкине живет доктор, приходили с ним посоветоваться. В письме от 14 сентября 1885 года Антон писал Лейкину, что больные целыми толпами собираются у его дома и сильно досаждают ему. За лето он принял несколько сот таких больных, а заработал всего-навсего рубль…
После обеда Чехов удил рыбу, ставил верши и радовался улову. «Одна верша стоит в реке. Она поймала уже плотицу и громадного окуня. Окунь так велик, что Киселев будет сегодня у нас обедать. Другая верша стояла сначала в реке, но там ничего не поймала. Теперь стоит за прудом в завадине (иначе в плесе); вчера поймала она окуня, а сегодня утром я с Бабакин[ым] вытащил из нее двадцать девять карасей. Каково? Сегодня у нас уха, рыбное жаркое и заливное…»[65] Госпожа Киселева нередко ходила вместе с ним на рыбалку и, забрасывая удочку, заводила разговор о литературе. Зная, что друг постоянно нуждается в сюжетах для своих рассказов, она пересказывала ему истории, вычитанные из старых французских газет.
Вернувшись с рыбалки, Чехов снова садился работать и продолжал писать до вечера. Теперь, когда он перестал снабжать «Осколки» московскими новостями, у писателя стало больше времени на то, чтобы работать над текстами для «Петербургской газеты», при этом в размерах его уже не ограничивали. После ужина, который подавали в восемь часов, все собирались в гостиной у Киселевых, болтали, выпивали, играли в вист и шахматы, а еще чаще музицировали. Госпожа Киселева чудесно пела, а гувернантка была превосходной пианисткой. Чехову особенно нравились ноктюрны Шопена. В конце вечера гувернантка исполняла «Лунную сонату» Бетховена. Госпожа Киселева гасила свет. Чехов в одиночестве устраивался на террасе, преисполненный спокойного счастья. Когда последние ноты таяли в ночи, все молча расходились по домам.
Через несколько дней после того, как Чехов поселился в Бабкине, он узнал, что его друг, художник Исаак Левитан, в припадке меланхолии скрывается в соседней деревушке. Тотчас отправившись к нему, Чехов вытащил его из убежища, хорошенько выбранил и поселил у себя на даче во флигельке. «Со мной живет художник Левитан, – писал он Лейкину. – С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. […] Хотел вешаться… Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю… Словно бы легче стало…
[…] Природу не описываю. Если будете летом в Москве и приедете на богомолье в Новый Иерусалим, то я обещаю вам нечто такое, чего вы нигде и никогда не видели… Роскошь природа! Так бы взял и съел ее…»[66]
Во время этих долгих прогулок по полям и лесам к Левитану медленно возвращался утраченный вкус к жизни. Чехов же, общаясь с художником, со своей стороны приучался внимательнее присматриваться к пейзажам. Его трогал каждый кустик, каждая лужица, каждая травинка. Он уносил их в голове, словно части по крупинке собираемого сокровища. Ничто из того, что он видел, ничто из того, что он переживал, не пропадало, все шло в дело.
Тем временем выздоровление Левитана шло резкими скачками. То им овладевала безудержная веселость, то он вновь погружался в беспросветную меланхолию. Стоило ему увидеть перед собой молодую и более или менее привлекательную женщину, он немедленно в нее влюблялся и делал страстные признания, а назавтра, забыв о ней, столь же пылко признавался в любви другой. Левитана нельзя было назвать красивым, но он, с его черными непокорными кудрями, большим носом и огненными глазами, смотревшими из-под дьявольских бровей, нравился даже тем дамам, которые порицали его за экстравагантность. В Бабкине художник глаз не сводил с Маши, сестры Чехова. Ей только что исполнилось двадцать два года. Веселая, мечтательная и вместе с тем практичная, она в то время заканчивала обучение в институте Раевского,[67] собираясь стать учительницей, и пробовала свои силы в живописи. Сумрачный облик, талант живописца и пламенные речи Левитана произвели сильное впечатление на девушку, которая видела в нем романтического героя, затерянного среди неспособного его понять общества. Но в одно прекрасное утро, когда Маша прогуливалась с Левитаном в бабкинском лесу, мирно болтая о том о сем, он упал перед ней на колени, признался в любви и попросил стать его женой. Потрясенная Маша, не зная, что ответить, убежала домой, закрылась у себя в комнате и весь день проплакала. Вечером не вышла к столу. Тогда Чехов отправился к ней и ласково стал расспрашивать. Всхлипывая, девушка рассказала брату о признании Левитана и о том, в какое смятение оно ее привело. Антон благоразумно посоветовал ей подумать. «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты», – сказал он.
«Мне стыдно было сознаться брату в том, что я не знаю, что такое „женщина бальзаковского возраста“, – напишет потом в своей книге Мария Павловна, – и, в сущности, я не поняла смысла фразы Антона Павловича, но почувствовала, что он в чем-то предостерегает меня. Левитану я тогда ничего не ответила, и он опять с неделю ходил по Бабкину мрачной тенью. Да и я никуда не выходила из дома. […]
Потом, как это всегда в жизни бывает, я привыкла и стала вновь встречаться с Левитаном. На этом весь наш „роман“ и закончился. Всю его жизнь мы продолжали быть с ним лучшими друзьями. Он много помогал мне в занятиях живописью. Правда, он мне не раз говорил потом и повторил незадолго перед своей смертью, когда я навестила его уже тяжело больным:
– Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на вас, Маша…»[68]
Лето шло, и чем дальше, тем сильнее охватывало Чехова беспокойство из-за денег. Ему нечем было даже заплатить бабкинские долги, как не на что было и перевезти семью обратно в город. Он засыпал просьбами редакции газет, с которыми сотрудничал, и в конце концов получив то, что ему причиталось, в конце сентября 1885 года Антон вместе с семьей вернулся в город. И тут же принялся как за врачебный, так и за литературный труд. Но на «адски грустных» городских улицах он продолжал грезить буколической прелестью Бабкина. В первых числах октября Чехов писал Киселевой, что его душа полна воспоминаниями об удочках, вершах и земляных червях посреди зеленой лужайки; он настолько еще не отошел от лета, что, просыпаясь по утрам, чувствовал себя так, будто у него что-то отняли.
Тем не менее здоровье его за время чудесной деревенской жизни нисколько не поправилось. У него опять началось кровохарканье. Сразу после возвращения в Москву Чеховы снова сменили квартиру: на этот раз вся семья перебралась в Замоскворечье. «Квартира моя за Москвой-рекой, – писал Антон Лейкину, – а здесь настоящая провинция: чисто, тихо, дешево и… глуповато».[69]
Вскоре после переезда все тот же Лейкин пригласил Чехова на две недели в Петербург. До сих пор у Чехова не было случая побывать в столице. Он с радостью ухватился за это предложение, купил себе новые брюки и пальто, и 10 декабря 1885 года поезд повез его в город туманов, правительства и громкой литературной славы. В самом деле, именно там жили тогдашние знаменитости: Салтыков-Щедрин, Григорович, Лесков, Успенский, Плещеев; там бродили тени умерших великих писателей: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Некрасова… Перевесившись через дверцу, Чехов по дороге с вокзала к дому Лейкина любовался широкими прямыми проспектами, зданиями с итальянскими фасадами, выкрашенными в серо-зеленый или охристо-желтый цвета, восхищался холодностью, порядком, торжественной красотой, составлявшими полную противоположность тому, что он так любил в старой Москве – пестрой, беспорядочной и крестьянской. Приехав в Петербург, писатель еще не догадывался о том, что его рассказы, которые он чаще всего называл «мелочишками» и «безделками», уже начали создавать ему серьезную литературную репутацию, так что сильно удивился тому, с каким восторгом встретили его собратья, которым Лейкин новоприбывшего представил. «Я был поражен приемом, который мне оказали питерцы, – напишет он брату Александру. – Суворин, Григорович, Буренин… все это приглашало, воспевало… и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава. Знай, мол, я, что меня так читают, я писал бы не так на заказ…»[70] А двумя неделями позже признавался в письме Билибину, писателю и секретарю редакции «Осколков», что раньше, когда он не знал, что эти люди читают и обсуждают его рассказы, то писал с той же безмятежностью, с какой ест блины. Теперь же, берясь за перо, испытывает страх.
В Санкт-Петербурге Чехов познакомился в числе прочих и с великим магнатом прессы, Алексеем Сергеевичем Сувориным, основателем и издателем «Нового времени», крупнейшей газеты тех лет. Прочитав рассказ «Егерь», Суворин тут же предложил ему сотрудничать в своей газете и обещал платить по двенадцать копеек за строчку. Это предложение тем более обрадовало Чехова, что Суворин на первый взгляд показался ему человеком образованным, энергичным и честным. Конечно, либералы считали этого журналиста, безоговорочно поддерживавшего правительство, бессовестным оппортунистом, но Чехов раз и навсегда решил держаться в стороне от политических страстей.
Едва вернувшись в Москву, Антон поспешил послать в «Новое время» рассказ «Панихида», который тотчас был опубликован. «Письмо Ваше я получил, – написал он Суворину. – Благодарю вас за лестный отзыв о моих работах и за скорое напечатание рассказа. Как освежающе и даже вдохновляюще подействовало на мое авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как Вы, можете судить сами…»[71]
Тем не менее Чехову вскоре пришлось умерить свой творческий порыв: в городе началась эпидемия сыпного тифа. Перегруженные работой врачи бегали по всему городу и почти не спали по ночам. Антон, с его слабым здоровьем, больше других опасался заразиться. Сообщая Билибину о том, что в Москве свирепствует тиф, признавался в том, что особенно боится все распространявшейся болезни: «Мне кажется, что, заболев этой дрянью, я не уцелею, а предлоги для заражения на каждом шагу».[72] Он старался успевать и писать, и лечить, но даже и тогда, когда больные оставляли ему немного свободного времени, ему трудно было сосредоточить свое внимание на белом листе. Целый этаж дома, в котором жили Чеховы, принадлежал хозяину ресторана, где устраивались свадьбы, поминки, праздничные обеды различных корпораций, оттуда постоянно доносились громкие голоса, играла музыка, звенела посуда. Доведенный до отчаяния писатель жаловался все тому же Билибину, что у него над головой играет свадебный оркестр и гости на свадьбе топают, как лошади. А Лейкину писал о том, что устал и отупел за последнее время до того, что голова кружится: в квартире постоянно толпится народ, беспрестанно раздаются крики и музыка, в рабочем кабинете холодно и без конца ходят больные. Однако, несмотря на беспорядочную обстановку, Чехов за это время дал в газеты не только множество забавных пустячков, но и несколько истинных шедевров, порой смешных, порой трогательных. Именно в это время были написаны и напечатаны такие рассказы, как «Егерь», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», а главное – «Тоска». Это история о старом извозчике, который потерял сына и тщетно старается излить свою печаль сменяющим друг друга седокам: они остаются равнодушными, и в конце концов герой рассказа, поставив свою лошадь в конюшню, обращается к ней.
«– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну жуй, жуй… Коли на овес не выездили, сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только…
Иона молчит некоторое время и продолжает:
– Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Теперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь жалко?
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…
Иона увлекается и рассказывает ей все».[73]
Подобные истории производили сильное впечатление на читателей «Осколков», «Петербургской газеты» и «Нового времени», но Чехов продолжал сомневаться в себе. Он не понимал, почему Суворин посоветовал ему отказаться от псевдонима и подписываться настоящей фамилией. До того Билибин уговаривал его это сделать, когда речь шла об издании сборника «Пестрые рассказы», но Чехов ответил ему тогда, что отдал свою настоящую фамилию и герб медицине, с которой намерен не расставаться до гробовой доски. Что же касается литературы, с ней он рано или поздно расстанется и вообще не понимает, почему читателям фамилия Чехов должна нравиться больше, чем Чехонте.
На самом же деле Чехов, робкий от природы, боялся сбросить маску и показаться перед толпой с открытым лицом: ему казалось, что если он отдаст свое имя на растерзание свету, то окажется беззащитным и перед хулой, и перед похвалой. И, что, может быть, еще серьезнее, он подвергнет этому испытанию не только себя, но и родных. Имеет ли он на это право? Кроме того, Антон считал, что медициной, делом серьезным, и литературой, которая не более чем игра, следует заниматься под разными именами.
Однако всего через несколько недель после того, как писатель и доктор заявил Билибину, что не намерен долго оставаться на литературной сцене, он получил из Петербурга письмо, до слез его растрогавшее. Знаменитый и глубоко почитаемый Григорович, с которым Чехов очень недолго виделся в Петербурге, написал ему пылкое и непосредственное послание, в котором говорил о своем восхищении им. Сорока годами раньше тот же Григорович примерно так же приветствовал рождение гения Достоевского. Это обстоятельство придавало особый вес оценке старого писателя, который буквально рассыпался в похвалах.
«Милостивый государь Антон Павлович, – писал Григорович, – около года тому назад я случайно прочел в „Петерб. газете“ Ваш рассказ; названия его теперь не припомню, помню только, что меня в нем поразили черты особенной своеобразности, а главное – замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было написано Чехонте, хотя внутренно сердился на человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, – талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения. Я не журналист, не издатель; пользоваться Вами я могу, только читая Вас, если я говорю о Вашем таланте, говорю по убеждению. Мне минуло уже 65 лет, но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог – как видите – утерпеть и протягиваю Вам обе руки. Но это еще не все, вот что хочу прибавить: по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель, ночь, местность в „Агафье“ и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина: тучки на угасающей заре – „как пепел на потухающих угольях“ и т. д., – Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств; если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики. В основу Ваших рассказов часто взят мотив несколько цинического оттенка, к чему это? Правдивость, реализм не только не исключают изящества, но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания; я решился их высказать потому только, что истинно верю в Ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения. На днях, говорили мне, выходит книга с Вашими рассказами; если она будет под псевдонимом „Че-хон-те“ – убедительно прошу Вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее Ваше имя. После последних рассказов в „Новом времени“ и успеха „Егеря“ оно будет иметь больше успеха. Мне приятно было бы иметь удостоверение, что Вы не сердитесь на мои замечания, но принимаете их как следует к сердцу, точно так же, как я пишу Вам неавторитетно, – по простоте чистого сердца.
Уважающий ВасД. Григорович25 марта 1886 г. Петербург,против Ломбарда, д. № 12».[74]С десяток раз перечитавши признания и советы автора «Антона Горемыки» и «Деревни», почти что классика, Чехов испытал странное чувство: ему показалось, будто исполнилось желание, которое он пока не решился ясно высказать. Было так, словно Григорович, протянув ему руку, помог перешагнуть воображаемую черту, отделявшую толпу газетных писак от маленькой кучки избранных. Он тотчас благодарно и смиренно ответил тому, кто так благосклонно его возвысил:
«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как Вы, поэтому можете судить, что составляет для моего самолюбия Ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно – гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет. Повторяю только, что меня она поразила.
Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтобы быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства… А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый „литературный кружок“: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из Вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шатанья по газетам успел я проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и – пошла писать! Это первая причина… Вторая – я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне.
Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед Вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а „Егеря“, который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом… Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал.
Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было.
Но вот нежданно-негаданно явилось ко мне Ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня как губернаторский приказ „выехать из города в 24 часа!“, т. е. я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз…
Я с Вами во всем согласен. Циничности, на которые Вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел „Ведьму“ в печати. Напиши я этот рассказ не в сутки, а в 3–4 дня, у меня бы их не было…
От срочной работы избавлюсь, но не скоро… Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело… Письму я отдаю досуг, часа 2–3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело.
Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно: виньетка готова и книга напечатана. Мне многие петербуржцы еще до Вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался, вероятно из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что, прочитав ее, многие разочаруются. Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги.
Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет. Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро.
Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу.
Пришлите мне, если можно, Вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен Вами, что, кажется, не лист, я целую стопу написал бы Вам. Дай Бог Вам счастья и здоровья, и верьте искренности глубоко уважающего Вас и благодарного
А. Чехова».[75]Чехов был в таком восторге от письма Григоровича, что показал его родным и друзьям и даже переписал несколько отрывков из него, чтобы послать дяде Митрофану в Таганрог. Однако ему не хотелось, чтобы люди подумали, будто он заносится перед ними, и потому в письме к Билибину отозвался об этом событии со смесью тщеславия и мальчишеской непочтительности. Письмо Григоровича, сообщил он, прибыло самым неожиданным образом, на манер deus in machina. Почерк старческий, его трудно разбирать. Старик требует от него написать нечто значительное и отказаться от поспешной работы. Он уверяет, что у него, Чехова, истинный талант, это подчеркнуто в письме. Пишет тепло и настоятельно. «Я, конечно, рад, хотя и чувствую, что Григорович перехватил через край»,[76] – признается Антон.
Теперь он мечтал о новой поездке в столицу, где столько уважаемых людей верили в его талант. «Я вошел там в моду!» – сообщил он Александру. Но, как всегда, писателю не удавалось собрать денег на поездку. Кроме того, у него снова началось изнуряющее кровохарканье. Догадываясь об истинной природе своего недуга, Чехов не хотел получить официальное подтверждение диагноза, предпочитал пребывать в томительном и тревожном ожидании, от которого у него сжималось сердце. «Боюсь подвергнуть себя зондировке коллег… Вдруг откроют что-нибудь вроде удлиненного выдыхания или притупления!.. Мне сдается, что у меня виноваты не так легкие, как горло… Лихорадки нет».[77] И как только Антон почувствовал себя немного лучше, тотчас поездом отправился в Санкт-Петербург.
Там он провел, с 25 апреля по 10 мая, две недели, заполненные дружеским и светским общением и лестью. Григорович и Билибин превозносили его до небес. Что касается Суворина, с успехом опубликовавшего в «Новом времени» три больших рассказа молодого автора, «Панихиду», «Ведьму» и «Агафью», тот считал себя покровителем Чехова в литературном мире. Признавая огромный авторитет этого богатого, влиятельного и язвительного человека, Чехов находил Суворина и несколько смешным с его великосветскими замашками. Брату Михаилу рассказывал о том, как Суворин его принял: он был весьма любезен и даже протянул руку, посоветовав «молодому человеку» упорно трудиться и сообщив, что он им доволен. Посоветовал почаще ходить в церковь и не пить водки. Принюхавшись и не уловив в дыхании Чехова запаха спиртного, Суворин приказал подать гостю чаю; чай принесли с кусковым сахаром, но без блюдечка. Затем достопочтенный господин Суворин дал ему денег, велев экономить и потуже затянуть пояс.
В том же письме Чехов признался брату, что не остался равнодушным к чарам одной из служащих «Нового времени», в чьи обязанности входило высылать почтовыми переводами причитающиеся ему гонорары. Ему хотелось снова с ней увидеться. Впрочем, Антон вообще охотно признавал за собой слабость к молодым женщинам. Подруги сестры Маши окружали Чехова, словно цветник, которым приятно было любоваться, вдыхать его аромат, но при этом он с удовольствием поддразнивал девиц. Время от времени ему даже приходило в голову жениться на той или другой из них. В январе Антон, опять же при посредстве Маши, познакомился с богатой молодой еврейкой, Дуней Эфрос, мгновенно пленившей его своей грацией, умом и бойкостью. Однажды вечером, провожая ее домой, он внезапно сделал ей предложение, о чем тут же сообщил в письме Билибину. После двухнедельного размышления повторил предложение, но девушка была охвачена сомнениями. То, что она была еврейкой, осложняло проблему, поскольку для того, чтобы стать женой православного русского, ей следовало креститься. Между молодыми людьми разгорелся ожесточенный спор, и Чехов с ужасом обнаружил воинственный характер девушки, которую уже считал своей невестой. Антон рассказывал об этих ссорах Билибину: сегодня они ссорятся, завтра мирятся, через неделю ссорятся снова. Дуня оказалась настоящей мегерой. Разозлившись на то, что из-за вероисповедания возникли проблемы, она переломала карандаши и изорвала фотографии на столе у Чехова. «Я с ней разведусь через один-два года после свадьбы, это несомненно»,[78] – писал Чехов. Вскоре после этого он сообщил все тому же Билибину об окончательном разрыве с пылкой девицей: «С невестой я разошелся окончательно. То есть – она со мной разошлась. Но я револьвера еще не купил и дневника не пишу. Все на свете превратно, коловратно, приблизительно и относительно».[79] В другом письме, месяцем позже, он обещал Билибину больше о Дуне не вспоминать и признавал, что тот, должно быть, прав был, когда говорил, что Чехов не созрел еще для женитьбы. Хотя Антон и был всего годом младше Билибина, но чувствовал себя легкомысленным мальчишкой. Ему порой снилось, что он в классе и с ужасом ждет, что учитель велит ему отвечать урок, которого он не выучил.
Итак, жены в доме Чехова не появилось, но и одиночества не было тоже. Не переставая жаловаться на шум и суету, которые он застал в своей квартире, вернувшись из Петербурга, Чехов признавался, что ему необходимо чувствовать рядом присутствие друзей, пусть даже и докучающих ему, и писал Суворину, что совершенно не может жить без гостей. Оставшись один, он, сам не зная почему, чувствовал страх, так, будто плыл на утлой лодчонке посреди океана.
Летом Антон вновь встретился в Бабкине с Киселевыми, Левитаном и прочими гостившими в поместье знакомыми. Вместе с ними он развлекался салонными играми, устраивал розыгрыши и маскарады, которые заканчивались взрывами безудержного смеха. Единственным, что омрачало веселье, был неоднозначный прием, который оказала пресса только что вышедшим из печати «Пестрым рассказам». Один из критиков назвал рассказы Чехова бредом помешанного. В «Северном вестнике» написали: «Книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собой печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства»[80] – и сравнили автора с выжатым лимоном. Эти уколы, которые несколькими месяцами раньше оставили бы Чехова равнодушным, теперь, когда он знал, что им восхищаются такие люди, как Григорович и Суворин, больно ранили. К тому же чувствительность его была в то время обострена из-за приступов геморроя и жестокой зубной боли. В конце августа Чехов уехал в Москву лечиться.
Преждевременное возвращение писателя в ставший ему родным город совпало с новым переездом. На этот раз Чехов снял не квартиру, а целый дом на красивой Садово-Кудринской улице в центре Москвы. Двухэтажное здание было выкрашено в красный цвет, фасад его был украшен бельведерами – двумя симметричными выступами, которые, по словам Чехова, делали строение похожим на комод. Стоило это жилье шестьсот пятьдесят рублей в год. Для того чтобы выплатить аванс, превышавший его возможности, Чехов заложил часы в ломбард и занял денег у Лейкина.
Никогда еще Антон не жил так удобно. Его рабочий кабинет, в котором он и больных принимал, располагался на первом этаже, как и его спальня, комната Миши, комнаты горничной и кухарки. Евгения Яковлевна и Маша поселились на втором этаже, там же были столовая и гостиная со взятым напрокат пианино и аквариумом. В своем кабинете Чехов в изобилии развесил фотографии, расставил на полках книги, доставшиеся ему после смерти его друга Попудогло.[81]
Несмотря на удобное жилье, матушка Чехова, с возрастом сделавшаяся раздражительной и плаксивой, жаловалась, что будущее по-прежнему неясно, и убивалась из-за того, что успех отдаляет от нее Антона. «Мне кажется, Антоша теперь уж не мой!» – со вздохом говорила она гостям. Ей хотелось, чтобы сын, ради счастья всей семьи, женился на дочери богатого купца. Зато отец, который жил отдельно, но часто приходил к ним, стал более сговорчивым по отношению к сыну, чья зарождающая известность льстила его самолюбию. Павел Егорович восхищался Антоном и удерживался от того, чтобы попрекнуть его недостатком веры.
Перебравшись в «дом-комод», семья Чеховых ни в чем не изменила своим привычкам шумного гостеприимства. Что ни вечер, вокруг Антона толпились разнообразнейшие посетители: он ни перед кем не желал закрывать свою дверь. Здесь бывали молодые художники, друзья Николая Чехова и Левитана, рыщущие в поисках материала журналисты, признанные писатели, незнакомцы с рукописью в кармане и неизменный «цветник» хорошеньких девушек, которых приводила Маша. Вся эта компания шумно галдела, собравшись за самоваром, в атмосфере творческого возбуждения. На одном из таких сборищ, когда писатель Короленко стал расспрашивать Чехова о его работе, тот ответил, что для него это маранье бумаги – не более чем забава.
«– Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот!
Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь – это оказалась пепельница, поставил ее передо мною и сказал:
– Хотите – завтра будет рассказ… Заглавие „Пепельница“.
И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением…
Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, по-видимому, веселым взглядом на жизнь, – мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи, радостная идиллия у порога готовой начаться драмы».[82] Иногда жаркие споры между художниками затягивались до поздней ночи, заканчиваясь хоровым пением, шутками и смехом. Однажды вечером в этом веселом кружке появился писатель Григорович – высокий, элегантный, чопорный, с пышными седыми бакенбардами. Поначалу оцепеневшая от страха перед этой статуей литературного Пантеона молодежь вскоре пришла в себя и снова начала шуметь и веселиться. Григорович мгновенно присоединился к ним и даже принялся ухаживать за девушками. Вернувшись в Петербург, он поделился впечатлениями с женой Суворина: «Дорогая моя, если бы вы только знали, что делается в доме у Чехова! Вакханалия, дорогая моя, настоящая вакханалия!»
Иногда Чехову приходилось приводить домой из какого-нибудь кабака мертвецки пьяного брата Николая. Дошедший до последней стадии алкоголизма Николай жил как бродяга, таскался с проститутками и окончательно забросил живопись. Антон неутомимо за ним ухаживал и расточал ему советы, к которым брат не желал прислушиваться. «Уверяю тебя, что как брат и близкий к тебе человек я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую… – писал он. – Все твои хорошие качества я знаю как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, поделяешься последней копейкой, искренен; ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, незлопамятен, доверчив… Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2 000 000… Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту все прощается».[83] Антон заклинал брата относиться с уважением к своему таланту, пожертвовать ради него «покоем, женщинами, вином, суетой». Истинные артисты, уверял он, «воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт… […] Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот, […] нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не […], а матерью… Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они, только когда свободны, при случае… Ибо им нужна mens sana in corpore sano».[84] Одним словом, то, чего Чехов требовал от брата, – это стать, по его собственному выражению, воспитанным человеком. Письмо, которое он написал брату, не питая особой надежды убедить того в своей правоте, было с его стороны истинной проповедью. К двадцати шести годам он выработал для себя непоколебимую мораль, сводившуюся к самообладанию, чести и трезвости. Проповедуя умеренность во всем, сам Чехов ограничивал себя в выпивке и курении, предписывал молочную диету, способствующую сохранению веса. Работа, по его мнению, была для художника лучшим средством, помогающим устоять перед искушением всевозможными излишествами.
Если у Антона не было ни малейшего шанса быть услышанным пьянчужкой Николаем, он все еще не терял надежды вытащить хотя бы Александра из овладевшего тем оцепенения. Впрочем, последний к этому времени уже несколько образумился и был на пути к тому, чтобы сделаться «воспитанным человеком» в соответствии с представлениями брата. Антон добыл ему место редактора и корректора в «Новом времени», и теперь Александр жил в Петербурге. Восхищаясь младшим братом и завидуя его успеху, старший сделался его литературным агентом в столице: обивал пороги редакций, добиваясь выплаты гонораров, передавал письма издателям и коллегам, следил за тем, как продаются книги. Но он и сам писал, и Чехов давал ему советы, навеянные теми наставлениями, которые сам некогда получил от Григоровича: «Уважай ты себя, ради Христа, не давай рукам воли, когда мозг ленив! Пиши не больше 2-х рассказов в неделю, сокращай их, обрабатывай, дабы труд был трудом. Не выдумывай страданий, к[ото]рых не испытал, и не рисуй картин, к[ото]рых не видел, – ибо ложь в рассказе гораздо скучнее, чем в разговоре…
Помни каждую минуту, что твое перо, твой талант понадобятся тебе в будущем больше, чем теперь, не профанируй же их… Пиши и бди на каждой строке, дабы не нафунить…»[85] Антон делился с братом и секретами ремесла: «По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер à propos. Общие места вроде: „заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом“ и проч., „ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали“, – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка и т. д. Природа является одушевленной, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений ее с человеч[ескими] действиями и т. д.
В сфере психики тоже частности. Храни Бог от общих мест. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев…»[86] В этих советах уже просматривается все чеховское искусство. Тем не менее Чехов продолжал заверять все того же старшего брата, что для него самого подлинное призвание состоит не в том, чтобы быть писателем: «Кроме жены-медицины, у меня есть еще литература-любовница, но о ней не упоминаю, ибо незаконно живущие незаконно и погибнут».[87]
На самом деле «любовница» дарила ему куда большее наслаждение, чем «законная жена». Слава Чехова росла с головокружительной быстротой. Он сам в письме к Киселевой рассказывал, что на него «тычут пальцами» в буфетах; и там же с гордостью сообщал: «На днях в Эрмитаже, первый раз в жизни, ел устриц… Вкусного мало. Если исключить шабли и лимон, то совсем противно».[88]
В конце сентября 1886 года Антон повез Машу в Петербург, чтобы показать ей столицу и дать насладиться отголосками славы брата. И на этот раз прием, который оказали ему поклонники, превзошел все ожидания Чехова. Он уверял Киселеву в том, что ему не по себе от похвал, которыми его осыпают. «В Питере я становлюсь модным, как Нана. В то время, когда серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер».[89] Признавался, что «испытывает чувство неловкости за публику, которая ухаживает за литературными болонками, не замечая слонов».[90] И говорил, что убежден в том, что на него перестанут обращать внимание, как только он примется работать всерьез.
В самом деле, теперь все газеты только и говорили, что о Чехонте. В журнале «Русское богатство» была помещена статья выдающегося критика Оболенского, который ставил Чехова выше Короленко. Едва вернувшись в Москву, Чехов получил письмо от Александра, который сообщал брату о том, что на его счет ходят самые лестные слухи, о нем говорят так, словно никто не сомневается в наличии у него божественной искры, и все от него чего-то, сами не зная чего, ожидают.
В начале марта 1887 года, узнав, что Александр болен тифом, Чехов без колебаний снова отправляется в Петербург. В дешевом поезде, тащившемся от одного города до другого целые сутки, единственным его развлечением было чтение «Анны Карениной». Прибыв на место, Антон убедился в том, что старший брат совершенно здоров, и в письме к Киселевой объяснил, что Александр в минуту уныния вообразил себя больным и вызвал его телеграммой. Но жена Александра действительно оказалась больна, Чехову пришлось ее лечить и выхаживать. Петербург застыл в безмолвии; больницы были переполнены, в церквях теснились люди в трауре, по улицам тянулись похоронные процессии. Чехов навестил Григоровича, который тоже был болен. Старик обнял его, расплакался у него на плече, от волнения у него сделался тяжелый приступ грудной жабы. Единственным просветом среди всего этого мрака был разговор с Сувориным, который длился с девяти часов вечера до часу ночи. Издатель «Нового времени» предложил Чехову издать сборник его рассказов и выдал аванс в триста рублей под будущие произведения.
От этой внезапно просыпавшейся на него манны небесной Чехов пришел в восторг. Ему давно хотелось уехать на юг, и теперь поездке ничто не препятствовало. Вернулся Антон в Москву простуженный, спешно уладил самые срочные дела, наспех сочинил несколько рассказов: «Тиф», «Житейские невзгоды», «Тайна», составил список из шестнадцати рассказов, которые должны были войти в его будущий сборник, отправил рукопись Суворину и, охваченный чувством полного, ничем не омраченного счастья, простился с родными и отправился на встречу с воспоминаниями детства, в Таганрог.
Увидев вновь родной город после восьмилетней разлуки, Чехов был и растроган, и удручен. Ему, привыкшему к московскому и петербургскому оживлению, показалось, что здесь люди передвигаются с трудом, потому что и самый воздух плотнее, чем в больших городах. Все живут замедленно, в другом веке, и руководствуются низменными материальными интересами. Чехова трогало искреннее радушие дяди Митрофана, однако он не мог вынести праздной болтовни тетушки, нечистоплотности служанок, дурного запаха воды в тазу. Спать ему приходилось на диване в гостиной. «Диван еще не вырос, короток по-прежнему, а потому мне приходится, укладываясь в постель, неприлично задирать ноги вверх или же спускать их на пол. Укрываюсь розовым стеганым одеялом, которое становится невыносимо противным к ночи, когда дают себя знать натопленные […] печи»,[91] – писал он сестре. Грубая домашняя стряпня раздражала желудок Антона. У него начался понос, и приходилось по ночам выбегать в «ватер», который находился «у черта на куличках, под забором». Здесь то и дело прятались жулики, так что по ночам посещать «место злачное» было «гораздо опаснее для жизни, чем принимать яд». «Все дни меня „несет“. Бегаю днем и ночью. Ночью чистое мучение: потемки, ветер, трудно отворяемые скрипучие двери, блуждание по темному двору, подозрительная тишина, отсутствие газетной бумаги…» – жаловался он. И прибавлял, что ночной горшок «позволителен только в мечтаниях и грезах. Эту роскошь позволяют себе в Таганроге только 2 человека: градоначальник и Альфераки, остальные же должны или пудиться в постель, или же путешествовать к черту на кулички». Помимо поноса, Чехова донимали и другие болезни. «Насморк прошел, а на смену ему явилась новая болезнь – воспаление вены на левой голени. Четверть вершка вены тверды, как грифель, и болит. Несть числа недугам моим!»
Стоило Антону днем выйти на улицу, как на каждом углу он натыкался на людей, которых прежде знал и которые зазывали его в гости, засыпали вопросами и изводили разглагольствованиями. Поскольку дни его поездки пришлись как раз на Пасху, он посетил церковную службу и, вдыхая запах ладана и глядя на мерцание свечей, с горькой ностальгией перебирал воспоминания о том, как в детстве им с братьями доводилось петь в церкви. Все в Таганроге ему решительно не нравилось, все раздражало его, все гнало отсюда вместо того, чтобы удерживать. Он сам не понимал, зачем было затевать это долгое и трудное путешествие. И все же ему не хотелось возвращаться в Москву, пока он не увидит степь.
Она-то по крайней мере ничем его не разочаровала. Ровное и голое пространство, поросшее выгоревшей травой, раскинувшееся под бескрайним небом, в котором изредка кружил ястреб, рождало в нем смешанное чувство радости и печали. Освобожденная душа устремлялась в пустоту, вот только тело не могло за ней последовать.
В Новочеркасске Чехов два дня гулял на настоящей казачьей свадьбе – с оглушительной музыкой, разнузданными плясками и братской попойкой. Сам он упился до того, что, как написал в одном из писем к сестре, принимал девушек за бутылки, а бутылки – за девушек. Новобрачные целовались взасос у него на глазах, отчего во рту появлялся привкус чересчур сладкого винограда, а левую икру начинала сводить судорога. Чехов уверял, что из-за этих поцелуев у него сильнее воспалилась вена на левой голени. Хорошенькие провинциалки слетались к нему, словно мухи на плошку с медом. Одна из них, желая продемонстрировать Антону свойственную ей непринужденность в обращении, поминутно шлепала его по руке веером, называя при этом гадким мальчишкой.
Погостил Чехов и у Кравцовых, тех самых, у которых в прежние времена жил, когда был репетитором у их мальчика, Пети. Жилье было неудобное, кормили чесночным супом, приходилось участвовать в охоте, превращавшейся в настоящую бойню, и все же Чехов был очарован сельским гостеприимством. Волшебного соседства степи было достаточно для того, чтобы вознаградить за все перенесенные тяготы и неудобства.
От Кравцовых Чехов отправился в знаменитый монастырь Святые Горы, стоявший на берегу реки Дон. По случаю Николина дня в монастырь «стеклось около 15 000 богомольцев, из коих 8/9 старухи. До сих пор я не знал, что на свете так много старух, иначе я давно бы уже застрелился»,[92] – писал Чехов сестре. Тем не менее Антону удалось найти приют в келье с голыми стенами и «блинообразным матрасиком».[93] Чехов участвовал в крестном ходе на лодках, а остальное время проводил на берегу Донца, наблюдая за богомолками и слушая их жалобы и причитания.
На обратном пути он остановился в Таганроге, чтобы немного передохнуть, а оттуда третьим классом, поскольку денег почти не осталось, отправился в Москву. Лейкину Чехов написал, что набрал кучу впечатлений и материала и не жалеет о том, что потратил полтора месяца на это путешествие, хотя и вернется в Москву без гроша.
Назавтра же после своего возвращения в Москву Антон уехал в Бабкино, но не застал там прежнего веселья и не обрел прежнего вдохновения. Дом был плохо натоплен, погода стояла пасмурная, и настроение Чехова с каждым днем падало. Он сообщал Лейкину о том, что давно ничего не пишет, хотя это не значит, будто источник иссяк. Вот уже три недели как он предается меланхолии, носа не высовывает на улицу, перо падает из рук, короче, нервы расстроены, и в таком душевном состоянии работать совершенно невозможно. А двумя днями позже признавался Марии Владимировне Киселевой: «Новых мыслей нет, а старые перепутались в голове и похожи на червей в зеленой коробке, постоявшей деньков пять на припеке».[94]
Дурное настроение Чехова нисколько не улучшилось от успеха нового, только что вышедшего сборника рассказов «В сумерках». «Пишу и читаю рецензии, – рассказывает он в том же письме. – Рецензий было много, и, между прочим, в „Северном вестнике“. Читаю и никак не могу понять, хвалят меня или же плачут о моей погибшей душе? „Талант! талант, но тем не менее упокой, Господи, его душу“ – таков смысл рецензий. „В сумерках“ идет недурно».[95]
Подобное, внезапно охватывающее его разочарование, осознание тщеты всех земных наслаждений он уже описывал годом раньше в другом письме к тому же адресату: «Сама жизнь обращается мало-помалу в сплошную мордемондию. Живется серо, людей счастливых не видно… […]
Всем скверно живется. Когда я бываю серьезен, то мне кажется, что люди, питающие отвращение к смерти, не логичны. Насколько я понимаю порядок вещей, жизнь состоит только из ужасов, дрязг и пошлостей, мешающихся и чередующихся…»[96]
Поскольку эти мысли были неотвязными, Антону внезапно пришло в голову отделаться от них посредством сочинительства. Почему бы не написать пьесу на эту тему, ведь сцена давно притягивала его к себе? Прошлой весной Корш, владелец театра, дважды обращался к нему с просьбой написать что-нибудь для него. Чехов поначалу не придал этому предложению никакого значения. «Два раза был в театре Корша, – читаем мы в письме к Киселевой, – и в оба раза Корш убедительно просил меня написать ему пьесу. Я ответил: с удовольствием. Актеры уверяют, что я хорошо напишу пьесу, так как умею играть на нервах. Я отвечал: merci. И, конечно, пьесы не напишу. Пусть Голохвостикова пишет, а мне решительно нет никакого дела ни до театров, ни до человечества… Ну их к лешему!»[97] Но мысль прокладывала себе путь сквозь все препятствия. Три недели спустя Чехов сообщил писателю Ежову, что его пьеса закончена. А между 10 и 12 октября писал брату Александру, объясняя, с какой легкостью довел до благополучного завершения свою работу: «Пьесу я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал. Потрачено на нее 2 недели или, вернее, 10 дней, так как были в двух неделях дни, когда не работал или писал другое. О достоинствах пьесы судить не могу. Вышла она подозрительно коротка. Всем нравится. Корш не нашел в ней ни одной ошибки и греха против сцены, – доказательство, как хороши и чутки мои судьи. Пьесу я писал впервые, ergo – ошибки обязательны. Сюжет сложен и не глуп. Каждое действие я оканчиваю, как рассказы: все действие веду тихо и мирно, а в конце даю зрителю по морде. Вся моя энергия ушла на немногие действительно сильные и яркие места, мостики же, соединяющие эти места, ничтожны, вялы и шаблонны. Но я все-таки рад; как ни плоха пьеса, но я создал тип, имеющий литературное значение, я дал роль, которую возьмется играть только такой талант, как Давыдов, роль, на которой актеру можно развернуться и показать талант… Жаль, что я не могу почитать тебе своей пьесы. Ты человек легкомысленный и мало видевший, но гораздо свежее и тоньше ухом, чем все мои московские хвалители и хулители. Твое отсутствие – для меня потеря немалая».[98]
Речь шла о пьесе «Иванов». В глазах Чехова Иванов, герой пьесы, символизировал собой растерянность интеллигенции перед репрессивной политикой правительства и деградацией российского общества. Этот отрицательный персонаж, неспособный привести свои великодушные мечты в согласие с реальностью, испытывает чувство вины, ощущает тошнотворное бессилие, которые разъедают его, точно язва. Этот помещик, с головой ушедший в умствования, не занимается своим пришедшим в упадок имением, его нисколько не интересует тяжело больная жена Сара (Анна Петровна). Саша, дочь соседа-помещика, влюблена в него и не боится ему в этом признаться. Ей нет дела до того, как воспримут это окружающие, она верит, что в ее силах спасти его от уныния, которое с каждым днем все сильнее овладевает им. Тронутый искренностью молодой девушки, он позволяет ей себя любить и со вздохом говорит: «День и ночь болит моя совесть, я чувствую, что глубоко виноват, но в чем собственно моя вина, не понимаю».[99] Наконец его жена умирает, и вскоре вдовец с седыми висками должен обвенчаться с юной Сашей. Но в день свадьбы Иванов, которого публично оскорбил доктор Львов, назвавший его подлецом, внезапно отказывается жениться и кончает жизнь самоубийством, застрелившись из револьвера.[100]
Сквозь мелодраматическую структуру пьесы ясно проступают три отчетливо выписанных характера. Это Иванов, не сумевший приспособиться к жизни, неисцелимо уставший от себя самого и от всего света; совсем юная Саша, которую приводит в восторг мысль о том, что она может одной только силой своей любви вытащить любимого ею безвольного человека из трясины, в которую тот погружается; и, наконец, доктор Львов, честный, порядочный и несколько ограниченный человек, который, пытаясь разрешить ту или иную проблему, лишь усугубляет ее.
Таким образом, в противоположность «Платонову», сочинению, проникнутому злой иронией, «Иванов» – пьеса реалистическая, традиционная, основанная на столкновении характеров. Если впоследствии театр Чехова станет театром атмосферы, построенным на полутонах, намеках и паузах, то здесь цвета резки, ситуации залиты безжалостным светом, мелочи жизни блекнут перед впечатляющими событиями. Над всем здесь довлеет не тайная разрушительная работа времени, а личность Иванова, своего рода русского Гамлета, замкнувшегося в своих грезах, неспособного на подлинную страсть: его редкие вспышки энтузиазма заканчиваются болезненным возвращением к неподвижности и незначительности.
Создавая портрет этого безвольного обольстителя, Чехов, несомненно, заимствовал некоторые черты характера братьев – Александра и Николая. Но он придал ему и отдельные черты собственного характера. Не следует забывать о том, что пьеса была написана в то время, когда сам автор страдал неврастенией. Иные высказывания героя драмы – выражение собственного чеховского отвращения к жизни того периода. Тем не менее у Чехова чувство достоинства и любовь к труду неизменно побеждают разочарование.
К Иванову автор относился с особенной, почти что родственной нежностью. Ему хотелось, чтобы зрители полюбили этого истаскавшегося, сломленного и бесполезного человека. Он писал Суворину, что, если Иванов в спектакле будет выглядеть подлецом и лишним человеком, а доктор – человеком благородным, если нельзя будет понять, почему Сарра и Саша любят Иванова, значит, его пьеса не удалась.
И он долго, подробно разъяснял, почему Иванов, беспричинно несчастный, заслуживает всяческого снисхождения, почему Львов, по сути дела, добродетельный дурак – и почему Саша, влюбленная в Иванова, руководствуется прежде всего иллюзией, будто делает святое дело, не давая ему погибнуть.
После публичного прочтения пьеса была принята Коршем без единого замечания. Чехов уже начал подсчитывать будущую прибыль. Если он, как было условлено, получит восемь процентов с валового сбора, пьеса принесет ему шесть тысяч рублей. Крайне возбужденный этой перспективой, начинающий драматург часами обсуждает тонкости исполнения и постановки с Давыдовым, которому предстояло играть главную роль. С другой стороны, помня о рекламе, без которой не может быть коммерческого успеха, он обращается к брату Александру с просьбой поместить в «Новом времени» заметку следующего содержания: «А.П. Чеховым написана комедия „Иванов“ в 4-х действиях. Читанная в одном из московских литературных кружков (или что-нибудь вроде), она произвела сильнейшее впечатление. Сюжет нов, характеры рельефны и проч.».[101]
Однако с первой же репетиции уверенность Чехова пошатнулась. Внезапно он решил, что в этом коллективном предприятии автора в грош не ставят, что актеры лишают его написанного им текста, что все права принадлежат теперь управляющему труппой. И не без оснований. Из десяти обещанных репетиций состоялись только четыре. Затаившись где-нибудь в зале, Чехов страдал, слушая, как актеры произносят реплики с подсказки суфлера. Ему казалось, что ни один из них не понимает смысла его произведения. Тупые и самодовольные, артисты играли свои роли, вместо того чтобы проживать их. А если он робко пытался вмешаться, чтобы объяснить психологию того или иного персонажа, его не слушали. «Я хотел соригинальничать: не вывел ни одного злодея, ни одного ангела (хотя не сумел воздержаться от шутов), никого не обвинил, никого не оправдал… Удалось ли мне это, не знаю… Пьеса непременно пойдет, – в этом уверены Корш и актеры. А я не уверен. Актеры не понимают, несут вздор, берут себе не те роли, какие нужно, а я воюю, веруя, что если пьеса пойдет не с тем распределением ролей, какое я сделал, то она погибнет. Если не сделают так, как я хочу, то, во избежание срама, пьесу придется взять назад. Вообще штука беспокойная и вельми неприятная. Знал бы, не связывался».[102]
Первое представление в Москве состоялось 19 ноября 1887 года. На афише имя автора было обозначено не «Чехонте», а «Чехов». После многих недель нервного напряжения Антон с удивлением осознал, что перед тем, как поднимется занавес, чувствует себя совершенно спокойным. Все родные, едва живые от тревоги, сгрудились в ложе, а сам он устроился за кулисами, поближе к сцене, «в маленькой ложе, похожей на арестантскую камеру».[103] Взволнованные актеры, проходя мимо него, крестились, чтобы отвести неудачу. Наконец занавес открылся, пропасть зала была заполнена нетерпеливо ерзавшими в ожидании начала зрителями.
Первое действие прошло нормально, несмотря на то что у артиста Киселевского проявилась неприятная склонность нести отсебятину, прикрывая тем самым провалы в памяти. Во втором действии ошибок было еще больше, поскольку второстепенные актеры не знали своих ролей и мямлили, но никто из зрителей этого не заметил. В конце третьего действия публика аплодировала и вызывала автора. Неужели победа? Чехов был готов в это поверить и с бьющимся сердцем ждал продолжения. Увы! Четвертое действие все испортило. Актеры, успевшие между делом напиться, паясничали на сцене. Киселевский «пьян, как сапожник, и из поэтического коротенького диалога получается что-то тягучее и гнусное».[104] Самоубийство Иванова некоторых зрителей потрясло, у других же вызвало смех. В зале нарастал шум. Свистки чередовались с аплодисментами, насмешки с криками «браво!». Дело дошло до драки. Полиции пришлось вмешаться и вывести нескольких возмутителей спокойствия. Сестра Чехова, перепуганная разнузданным поведением публики, едва не упала в обморок. Один из его друзей, «Дюковский, с к[ото]рым сделалось сердцебиение»,[105] бежал, другой – Киселев – «ни с того ни с сего схватил себя за голову и очень искренно возопил: „Что же я теперь буду делать?“ Среди всего этого шума и беспорядка Чехов оставался хладнокровным, словно его все это нисколько не касалось. В письме к брату Александру он так описывает свое состояние после премьеры: „В общем утомление и чувство досады. Противно, хотя пьеса имела солидный успех (отрицаемый Кичеевым и K°).
Театралы говорят, что они никогда не видели в театре такого брожения, такого всеобщего аплодисментов-шиканья, и никогда в другое время им не приходилось слышать стольких споров, какие видели и слышали они на моей пьесе. А у Корша не было случая, чтобы автора вызывали после 3-го действия“».[106] И, уже подшучивая над своим «провалом», другое письмо к брату он подписывает «Твой Шиллер Шекспирович Гете».[107]
Критик «Московских ведомостей» нашел в пьесе множество недостатков, происходящих от неопытности и невежества автора, и пожаловался на то, что до конца пьесы прождал разъяснения характера Иванова, но так его и не получил. В «Московском листке» Петр Кичеев назвал пьесу «нагло-цинической, безнравственной дребеденью».[108] Два следующих представления «Иванова» прошли в более спокойной обстановке, а затем пьеса были снята с репертуара.
Чехов философски воспринял эту неудачу. Он не держал зла ни на Корша, который преждевременно оборвал карьеру его пьесы, ни на актеров, исказивших его мысль, ни на публику, быстро утратившую интерес к его персонажам. Когда волнение улеглось, он, как ни странно, почувствовал некоторое облегчение, словно этот болезненный удар вернул ему равновесие. С легким сердцем Антон вновь уселся за письменный стол и принялся сочинять рассказы для газет, подписываясь «Чехонте».
Глава VII «Мне наскучила моя жизнь»
Уверяя всех, будто провал «Иванова» навсегда исцелил его от наваждения – от влечения к театральным подмосткам, Чехов все же не мог изжить, отбросить, словно ее никогда и не было, эту пьесу, на которую возлагал столько надежд, пьесу, которая причинила ему столько неприятностей. Разочарованный тем, как вяло распродаются оба его новых сборника, «Пестрые рассказы» и «В сумерках», Антон говорил себе, что, если каким-нибудь чудом «Иванов», холодно принятый в Москве, с успехом пойдет в Петербурге, ему это принесет существенную денежную прибыль. Правда, надо было еще уговорить директора какого-нибудь театра решиться на постановку. И вот 29 ноября 1887 года Чехов выехал в столицу.
По просьбе Александра, но в то же время и для того, чтобы сократить расходы, он остановился у брата, о чем вскоре очень пожалел.
Ленивый, упрямый и раздражительный Александр жил со своей подругой в убогой комнатушке. Сожительница его болела, а Александр целыми днями ныл, жалуясь на все и на всех. Рассказывая о приютившем его доме в письме к другому брату, Михаилу, Чехов писал, что там сплошная грязь, вонь, слезы и ложь, что достаточно неделю прожить в этом доме, дабы повредиться в уме и стать грязнее кухонной тряпки.
И какой же контраст был между этой гнусной, убогой обстановкой, полной мелочных перебранок, и ярким светом, деликатным обхождением, умными разговорами в гостиных, куда Чехова приглашали едва ли не каждый вечер! Перед тем как отправиться в Петербург, Антон позаботился о том, чтобы передать друзьям экземпляр злополучного «Иванова», и теперь пьеса ходила по рукам. О чудо! Все, кому здесь удалось прочесть пьесу, говорили о ней с восторгом! В письме к брату Михаилу Чехов рассказывал, что Суворин пришел в ярость: зачем, дескать, он отдал пьесу Коршу, считая, что ни тамошняя труппа, ни московская публика не способны оценить «Иванова». Все ждали, что пьеса будет поставлена в Петербурге, и никто не сомневался в успехе.
Чехов, окрыленный этими похвалами, прибавлял: «Питер великолепен. Я чувствую себя на седьмом небе… Умных и порядочных людей столько, что хоть выбирай… Как я жалею, что не могу всегда жить здесь».[109] Он прочел пьесу в литературном кружке и раскланивался под гром аплодисментов. Он с гордостью читал, смакуя каждую строчку, длинную и весьма лестную для него статью в «Вестнике Европы», он принимал участие в ужинах, устроенных в его честь, он познакомился со знаменитым художником Репиным, он обедал с Леонтьевым (Щегловым) и свел через него знакомство со старым поэтом Плещеевым. Тем самым Плещеевым, который за тридцать восемь лет до того был арестован вместе с другими петрашевцами, стоял на эшафоте рядом с Достоевским и в последнюю минуту был помилован Николаем I, заменившим смертную казнь каторжными работами в Сибири… Короленко, который снова встретился с Чеховым в Петербурге, писал, что «в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые,[110] лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то почти детской непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще [в это первое свидание][111] он произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстояло развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное[…]».[112]
На самом деле Чехов бывал «жизнерадостным» лишь временами, в кругу друзей, когда можно было оставить заботы о семье, забыть о денежных затруднениях, об одиночестве. В Москву он вернулся, полный решимости переделать своего «Иванова», прежде чем предлагать пьесу петербургским театрам, но намерения не осуществил: вскоре его вниманием полностью завладел другой проект.
Первого января 1888 года писатель приступил к работе над серьезной повестью, замысел которой зрел в его голове уже много месяцев, а может быть, и лет: это была «Степь». Недавнее путешествие по просторам у берегов Дона оживило красочные воспоминания детства. История так и просилась на бумагу. Да и такой уважаемый человек, как Плещеев, настоятельно просил дать ему какую-нибудь серьезную вещь для «Северного вестника». Григорович, со своей стороны, прислал из Ниццы письмо, в который раз уговаривая «бросить писанье наскоро и исключительно мелких рассказов, и особенно в газеты»[113] и приняться за большой роман. Он даже предлагал Чехову сюжет, самому ему представлявшийся исполненным трагической значительности: страдания семнадцатилетнего мальчика, которого предельная нищета толкает на самоубийство. Чехов ответил, что самоубийство 17-летнего мальчика – «тема очень благодарная и заманчивая»,[114] но он уже взялся за большую работу совсем в другом роде: описание долгого путешествия, которое он собирался преподнести читателю как «степную энциклопедию».[115]
Антон целыми днями усердно трудился над этим произведением, стремясь сделать его совершенным, и неохотно оторвался от него лишь на несколько часов, чтобы написать для «Петербургской газеты» незамысловатый и пронзительный рассказ «Спать хочется». Затем с разгоревшимся аппетитом вновь набросился на «Степь». Ему, привыкшему быстро и ловко сочинять короткие, в несколько страничек, рассказы, трудно было, не утомляясь самому и не утомляя читателя, повествовать о том, как ребенок открывает для себя тысячи ликов степи. Отсутствие какой бы то ни было интриги еще больше затрудняло работу. Эффектные повороты следовало заменять живописностью лиц и мест, придавать описаниям эмоциональную ценность психологического откровения. «Тема хорошая, – рассказывал он Короленко, – пишется весело, но, к несчастью, от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее я впадаю в крайность: каждая страница выходит компактной, как маленький рассказ, картины громоздятся, теснятся и, заслоняя друг друга, губят общее впечатление. В результате получается не картина, в которой все частности, как звезды на небе, слились в одно общее, а конспект, сухой перечень впечатлений. Пишущий, например Вы, поймет меня, читатель же соскучится и плюнет».[116] А в письме Леонтьеву (Щеглову) так жаловался на свою повесть: «Странная она какая-то, но есть отдельные места, которыми я доволен. Меня бесит то, что в ней нет романа. Без женщины повесть, что без паров машина».[117] Тем не менее, по мере того как продвигалась работа, писатель обретал все большую уверенность. В одном из писем к Плещееву он признавался, что пишет «не спеша, как гастрономы едят дупелей: с чувством, с толком, с расстановкой»,[118] в другом – «пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью».[119] А Лазареву-Грузинскому сообщил: «На свою „Степь“ я потратил много соку, энергии и фосфора, писал с напряжением, натужился, выжимал из себя и утомился до безобразия. Удалась она или нет, не знаю, но во всяком случае она мой шедевр, лучше сделать не умею[…]».[120]
Через месяц повесть была закончена, и Чехов тотчас отправил ее Плещееву с просьбой высказать свое мнение искренне и без малейшего снисхождения: «Ради Бога, дорогой мой, не поцеремоньтесь и напишите, что моя повесть плоховата и заурядна, если это действительно так. Ужасно хочется знать сущую правду».[121] Подпись под этим письмом была такая: «Душевно преданный дебютант Антуан Чехов».
Через пять дней от Плещеева был получен совершенно восторженный отзыв о повести: «…прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать. […] Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать – кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность».[122]
Чехов тем больше радовался этим похвалам, что «Степь» была куда более близким ему произведением, чем все написанное им раньше. Он напитал повесть воспоминаниями детства и с удивлением осознал, что образы его душевного фольклора способны трогать и других людей. Поразила писателя и сумма гонорара, который предложил ему «Северный вестник» за историю, написанную всего за какой-то месяц: тысяча рублей! Он хвастался этим всем своим друзьям.
«Степь» была напечатана в мартовском номере «Северного вестника» и восторженно принята читателями и критиками. Лесков говорил о гениальности, Салтыков-Щедрин рассыпался в похвалах, Буренин, критик из «Нового времени», сравнивал автора с Гоголем и Толстым, а совсем еще молодой и блестящий Гаршин ходил по домам, читал повесть в гостиных и твердил повсюду, что в России только что появился новый первостепенный писатель, и ему, Гаршину, сразу стало легче жить, он чувствует себя так, словно вскрыли нарыв.
Это дружное воодушевление было вполне оправдано творческим подвигом Чехова, сумевшего заинтересовать читателя совсем простой историей путешествия девятилетнего мальчика Егорушки, которого его дядя, купец, везет в бричке через степь в город, где ему предстоит учиться в гимназии. Происшествия, из которых состоит это долгое путешествие, складываются в отдельные рассказы, объединенные личностью маленького Егорушки, опечаленного разлукой с матерью, встревоженного ожидающей его новой жизнью и завороженного великолепием пейзажа. С каждым оборотом колеса ребенок все больше подпадает под очарование этой безмятежной природы. Он постепенно узнает ее пробуждение в утренней росе, оцепенение в звенящей полуденной жаре, недолгие волнения в грозу, кроткое умиротворение в ночной тиши и прохладе. Короткие встречи с незнакомцами, мелкие происшествия, обрывки разговоров нарушают однообразие медленного передвижения по пустыне. Время от времени на пути возникают фигуры крестьян, возчиков, купцов, привычных к большим дорогам, они отвлекают Егорушку от мечтаний. Кого ни возьми – трактирщика Мойсея Мойсеича и его брата Соломона, священника отца Христофора, дядю Кузьмичова, степного богача Варламова, жестокого и озорного крестьянина Дымова – все портреты написаны яркими красками и ошеломляюще верны. О Дымове Плещеев говорил, что это готовый материал для пьесы. На что Чехов отвечал: «Вы пишете, что Вам понравился Дымов, как материал… Такие натуры, как озорник Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого житья, а прямехонько для революции… Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек».[123]
Среди многочисленных персонажей «Степи», мелькающих на фоне неба и травы, выделяется главный герой – Егорушка, робкий, впечатлительный и задумчивый мальчик. Все, что он видит, все, что он слышит, запечатлевается в детской памяти и обогащает душу. Удаляясь от родного дома, Егорушка открывает мир других людей. Степь за эти несколько дней становится для него школой жизни. Когда путешествие подходит к концу, когда мальчику приходится расстаться со своими спутниками, чтобы остаться в доме, где ему предстоит жить все время, пока он будет учиться, его душат слезы. Егорушке кажется, что из сердца у него вырывают все его прошлое: «Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая – первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него…
Какова-то будет эта жизнь?»[124]
«Степь» написана настолько строгим, выверенным слогом, что, как это бывает с иными страницами Пушкина, невозможно, закончив чтение и отложив книгу, пересказать историю своими словами. Это произведение Чехова не подпадает ни под какое определение, в нем соединились стихотворение в прозе и путешествие-инициация.
Чехов намеревался написать продолжение истории Егорушки. Но долго не решался пуститься в это опасное предприятие. Не разрушит ли он, выйдя вместе со своим героем за пределы детства, то простодушное очарование, в котором и заключалось главное достоинство «Степи», не рассеет ли тем самым нежное воспоминание, которое оставляет по себе повесть?
В конце концов писатель отказался от своего намерения. Работа над этим непривычно длинным для него произведением, как он сам говорил, иссушила его, и теперь ему только и хотелось, что «лежать и плевать в потолок». Тем не менее Чехов сочинил одноактную пьесу «Медведь», которую сам определил как «шутку». После чего, откликнувшись на ласкающий слух призыв славы, 13 марта уехал в Санкт-Петербург.
На этот раз он поселился не в убогом жилище брата Александра, а в роскошной квартире Сувориных. Там ему предоставили две красиво обставленные комнаты. Хозяева дома постоянно увлекали Антона за собой то в модные лавки, то на ужины с шампанским, где он выслушивал неумеренные похвалы себе, и, вернувшись в Москву, одновременно польщенный, смущенный и раздосадованный оказанным ему приемом, Чехов писал Киселевой, что «чувствовал себя прохвостом». А брату Михаилу подробно описывал – почему: «Рояль, фисгармония, кушетка в турнюре, лакей Василий, кровать, камин, шикарный письменный стол – это мои удобства. Что касается неудобств, то их не перечтешь. Начать хоть с того, что я лишен возможности явиться домой в подпитии и с компанией.
До обеда – длинный разговор с m-me Сувориной о том, как она ненавидит род человеческий, и том, что сегодня она купила какую-то кофточку за 120 р.
За обедом разговор о мигрени, причем детишки не отрывают от меня глаз и ждут, что я скажу что-нибудь необыкновенно умное. А по их мнению, я гениален, так как написал повесть о Каштанке <…>
От обеда до чая хождение из угла в угол в суворинском кабинете и философия: в разговор вмешивается, но невпопад супруга и говорит басом или изображает лающего пса.
Чай. За чаем разговор о медицине. Наконец я свободен, сижу в своем кабинете и не слышу голосов. Завтра убегаю на целый день: буду у Плещеева, в Сабашниковском вестнике, у Полонского, у Палкина и вернусь поздно ночью без задних ног. Кстати: у меня особый сортир и особый выход – без этого хоть ложись и умирай. Мой Василий одет приличнее меня, имеет благородную физиономию, и мне как-то странно, что он ходит возле меня благоговейно на цыпочках и старается предугадать мои желания.
Вообще неудобно быть литератором.
Хочется спать, а мои хозяева ложатся в 3 часа. Здесь не ужинают, а к Палкину идти лень…»[125] Грустное описание… Но тягостнее всего была для Чехова пошлая болтовня хозяйки – ведь на все это он принужден был любезно отвечать!.. Зато писатель все больше ценил общество самого Суворина. Писатель и издатель легко договорились о переиздании сборника «В сумерках» и выпуске новой книги рассказов.
Желая показать любимому автору, насколько он уверен в его будущем, Суворин даже «пресерьезнейшим образом» предложил ему жениться «на своей дщери», которая, как писал Антон Александру из Москвы, в то время ходила «пешком под столом». Если он женится на этой девушке, то через несколько лет будет получать – слово тестя! – половину доходов от «Нового времени». Чехов выслушал это предложение со смехом. Но на самом деле Суворин, при всем его цинизме и склонности пускать пыль в глаза, был глубоко симпатичен Чехову. Антон ощущал в этом человеке кипение жизни, которое помогало взбодриться и ему самому. Понемногу их чисто интеллектуальное взаимопонимание переросло в дружбу. Правда, Суворин, который был старше Чехова на двадцать шесть лет, несколько подавлял его своей опытностью и материальным благополучием. Но утешало то, что оба они – выходцы из простого люда. Дед Суворина был крепостным, отец простым солдатом участвовал в Бородинском сражении, сам он, получив начальное образование, стал сельским учителем, впоследствии переключившись на журналистику. Первые статьи Суворина были написаны в весьма либеральном тоне. Но он очень скоро осознал: для того чтобы добиться одновременно денег, почестей и власти, надо угождать правительству, и в 1876 году, задешево перекупив мелкую столичную газетку «Новое время», принялся бесстыдно восхвалять существующий порядок. Столь внезапная перемена курса навлекла на Суворина презрение передовой интеллигенции, зато принесла ему отеческое покровительство властей. Всего за какой-то десяток лет «Новое время» стало крупнейшей из российских ежедневных газет, вскоре появилась возможность открыть собственное издательство и добиться от царского правительства концессии на торговлю во всех газетных киосках вдоль российских железных дорог. И вот теперь этот мультимиллионер вел роскошную жизнь, с гордостью вспоминая времена, когда жена его в деревне ходила босиком, чтобы не изнашивать зря обуви. Однако за процветание Суворин платил постоянным предательством своих истинных чувств. Расхваливая на страницах «Нового времени» прелести деспотизма, он писал в своем дневнике: «Как можно уважать правительство, состоящее из олухов и негодяев».[126] Самоучка, одаренный острым умом, талантливый журналист и драматург, Суворин прежде всего оставался скептиком, чуждым всякого идеализма, судил о людях по их делам, а не по словам и, разочаровавшись в себе подобных, находил утешение в искусстве и литературе, которые страстно любил.
Вернувшись в Москву, Чехов поручил брату Александру передать от него так великодушно его приютившим Сувориным поклон и поблагодарить от его имени за гостеприимство. «На днях вернулся из Питера, – тогда же писал он Киселевой. – Купался там в славе и нюхал фимиамы. Жил я у Суворина, привык к его семье и весною еду к нему в Крым. На правах великого писателя я все время в Питере катался в ландо и пил шампанское. […]
Меня в Питере почему-то прозвали Потемкиным, хотя у меня нет никакой Екатерины. Очевидно, считают меня временщиком у муз».[127]
После этого светского мельтешения семейная жизнь в «доме-комоде» показалась Антону совершенно невыносимой. Теперь его семья состояла из восьми человек, в том числе и Николая, который вернулся домой и целыми днями – пьяный, полураздетый – бродил по комнатам, шатаясь и спотыкаясь. Иван тоже нередко являлся навестить Антона и топтался где-нибудь поблизости от него с трех часов пополудни до поздней ночи. Да и отец, бородатый пророк, что ни вечер заходил к нему и произносил бесконечные речи. Все они милые, веселые, жаловался Чехов брату Александру, но при этом эгоистичные, самодовольные, ужасно болтливые, привыкшие громко топать, а главное – нищие: просто голова кругом идет от всего этого. А Леонтьеву (Щеглову) писатель объяснял, что если у того есть жена, которая простит ему безденежье, то у него, Чехова, есть дом, который попросту рухнет, если он не будет зарабатывать столько-то рублей в месяц, в лучшем случае – навалится ему на плечи подобно мельничному жернову.
Стремясь вырваться из удушливой семейной атмосферы, Чехов по совету одного из своих друзей, Иваненко, снял дачу на Украине, в поместье Линтваревых, поблизости от города Сумы, на берегу реки Псел. Даже не съездив посмотреть новую дачу, Чехов принялся сзывать гостей, первым делом пригласив Плещеева и Суворина. И тут же испугался – не слишком ли легкомысленно он себя повел? Совершенно успокоился Антон, только оказавшись на месте, куда приехал 7 мая 1888 года.
Предназначенный для него флигель оказался просторным, чистеньким и хорошо обставленным, старый сад благоухал свежестью, от сельской тишины кружилась голова, а кроме реки обнаружился длинный, с целую версту, пруд, в котором полным-полно было рыбы. Окрестности же полностью соответствовали русским романтическим представлениям, почерпнутым из книг. «Природа и жизнь, – писал он Суворину, – построены по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях: не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уже о старых, дышащих на ладан лакеях-крепостниках, о девицах, жаждущих самой шаблонной любви, недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (о 16 колесах) с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, по-видимому, чего-то ждет. Все, что я теперь вижу и слышу, мне кажется, давно уже знакомо мне по старинным повестям и сказкам».[128]
Чехов, который был человеком очень общительным, быстро подружился с хозяевами усадьбы, Линтваревыми. Они принадлежали к беззащитному племени наполовину разорившихся помещиков, проживавших остатки былого богатства и с улыбкой отстаивавших традиции культуры, гостеприимства и любезного обхождения. «Мать-старуха, очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина»[129] читала Шопенгауэра, ездила в церковь на акафист, добросовестно штудировала каждый номер «Вестника Европы» и «Северного вестника» и придавала большое значение тому, что у нее во флигеле поселился молодой талантливый писатель. «Ее старшая дочь, женщина-врач, – гордость всей семьи, – продолжает Чехов описывать Линтваревых, – и, как величают ее мужики, святая – изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу; от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка».[130] Вторая дочь, Елена, тоже врач, «старая дева, тихое, застенчивое, бесконечно доброе, любящее всех и некрасивое создание»,[131] любила семейную жизнь, в которой отказала ей судьба. «Я думаю, что она никому никогда не сделала зла, и сдается мне, что она никогда не была и не будет счастлива ни одной минуты»,[132] – прибавляет Чехов. Наконец, третья дочь, Наташа, – «молодая девица мужского телосложения, сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая… Хохочет так, что за версту слышно. Страстная хохломанка. Построила у себя в усадьбе на свой счет школу и учит хохлят басням Крылова в малороссийском переводе. Ездит на могилу Шевченко, как турок в Мекку. Не стрижется, носит корсет и турнюр, занимается хозяйством, любит петь и хохотать и не откажется от самой шаблонной любви, хотя и читала „Капитал“ Маркса, но замуж едва ли выйдет, так как некрасива».[133] Кроме того, в семье было двое сыновей. «Старший сын, тихий, скромный, умный, бесталанный и трудящийся молодой человек, без претензий и, по-видимому, довольный тем, что дала ему жизнь. Исключен из четвертого курса университета, чем не хвастает. Говорит мало. Любит хозяйство и землю, с хохлами живет в согласии.
Второй сын – помешанный на том, что Чайковский гений. Пианист. Мечтает жить по Толстому.
Вот вам краткое описание публики, около которой теперь я живу».[134]
Не меньше, чем этим славным семейством с его старомодными обычаями и разнообразными причудами, Чехов был очарован и украинскими крестьянами, ценил их веселость, лукавство и находчивость. Он подолгу гулял, купался в реке, смешивался с толпой на местных ярмарках, навещал соседей-помещиков, принимал участие в музыкальных вечерах, заигрывал с девушками, ловил судаков и раков.
Из всех друзей, навестивших его в то лето, наибольшим успехом у барышень Линтваревых пользовался старик Плещеев. Они дарили ему цветы, приглашали покататься на лодке, исполняли ему романсы. В благодарность Плещеев читал им стихи, до слез трогавшие девушек. «На него глядят все как на полубога, – пишет Чехов все в том же письме к Суворину, – считают за счастье, если он удостоит своим вниманием чью-нибудь простоквашу, подносят ему букеты, приглашают всюду и проч. Особенно ухаживает за ним девица Вата, полтавская институтка, которая гостит у хозяев. А он „слушает да ест“ и курит свои сигары, от которых у его поклонниц разбаливается голова. Он тугоподвижен и старчески ленив, но это не мешает прекрасному полу катать его на лодках, возить в соседние имения и петь ему романсы. Здесь он изображает из себя то же, что и в Петербурге, т. е. икону, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными иконами. Я же лично, помимо того, что он очень хороший, теплый и искренний человек, вижу в нем сосуд, полный традиций, интересных воспоминаний и хороших общих мест».[135]
Александр, только что потерявший жену, тоже приехал вместе с детьми по приглашению Антона погостить к нему на Луку. Там он топил горе в водке, ухаживал за Еленой Линтваревой и даже собирался просить ее руки. Чехову стоило огромного труда отговорить брата от этого намерения. Впрочем, несознательный Александр уже и сам подумывал о том, чтобы завязать отношения с другой женщиной, Натальей Гольден, чья замужняя сестра жила с его братом Николаем. Наконец, к величайшему облегчению для всех, Александр уехал.
Да и Антон, несмотря на всю притягательность здешних мест, намеревался сбежать от Линтваревых. Точившая его болезнь заставляла часто менять окружение и обстановку – так, словно Чехов торопился повидать мир перед тем, как этот мир покинуть, словно был уверен в том, что покой, свет и здоровье ждут его там, где его нет.
Десятого июля 1888 года Антон внезапно уехал в Крым, в Феодосию, где у Сувориных была роскошная вилла на берегу моря. Он провел там две недели в блаженном ничегонеделании. Вставал в одиннадцать часов, ложился в три часа ночи, пил дорогие вина, объедался изысканными блюдами и временами начисто забывал о том, что он – писатель. «Я не написал ни одной строки, – признавался Чехов сестре, – и не заработал ни копейки; если мой гнусный кейф продлится еще 1–2 недели, то у меня не останется ни гроша и чеховской фамилии придется зимовать на Луке».[136]
Стояла жара, и Чехов, чтобы освежиться, несколько раз в день купался в море. «Море чудесное, синее и нежное, как волосы невинной девушки, – писал он Леонтьеву (Щеглову). – На берегу его можно жить 1000 лет и не соскучиться».[137] Хозяйка имения, так раздражавшая его в Петербурге, теперь его забавляла. Болтливая, словно канарейка, она ежечасно меняла платья, по утрам смеялась, днем распевала цыганские романсы, а вечерами плакала, сидя в одиночестве на пустынном пляже. Что касается Суворина, он то и дело вовлекал своего «протеже» в утомительные беседы. «Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок»,[138] – жаловался Чехов. И прибавлял: «Быть с Сувориным и молчать так же не легко, как сидеть у Палкина и не пить.
Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка – отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением».[139]
Суворину хотелось задержать гостя у себя до сентября, но Чехову уже не сиделось на месте: благоразумие требовало вернуться на Луку и засесть за работу, и тем не менее он сделал на обратном пути огромный крюк и вместе с Алексеем, сыном Суворина, совершил долгое путешествие, которое привело их на Кавказ. Отплыв из Феодосии на пароходе, Антон побывал в Новоафонском монастыре, в Сухуме, Батуме, Тифлисе, Баку. Этот последний город, с царящим повсюду запахом нефти и чавкающей под ногами грязью, внушил ему глубочайшее отвращение.
В начале августа писатель уже снова был среди милых его сердцу Линтваревых. И, снова испытав на себе очарование украинской природы, решил купить где-нибудь поблизости хутор и поселить там небольшую писательскую колонию. Но где взять денег? Пока что разумнее всего было бы вернуться в Москву. «Ах, как не хочется уезжать отсюда! – жаловался он Плещееву. – Каналья Псел с каждым днем, как нарочно, становится все красивее, погода прекрасная; с поля возят хлеб… Москва с ее холодом, плохими пьесами, буфетами и русскими мыслями пугает мое воображение… Я охотно прожил бы зиму подальше от нее».[140]
Второго сентября наконец пришло окончательное решение вернуться в «дом-комод» на Садовой-Кудринской. Отдых, во время которого Чехов то и дело перебирался с место на место, не только не укрепил, а еще сильнее пошатнул его здоровье. Сразу после возвращения в Москву у него снова шла горлом кровь. Но он, по обыкновению, делал вид, что болен куда менее серьезно, чем в действительности. По словам Антона, если бы у него была настоящая чахотка, он бы давно уже умер и был похоронен. Впрочем, если верить словам писателя, хотя у него иногда и случалось кровохарканье, никаких других признаков болезни не наблюдалось. Он писал Суворину, что он пугается лишь тогда, когда видит кровь, что в виде крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, словно в зареве пожара. А когда крови нет, он не переживает и не опасается, что литература понесет новую потерю. Что стояло за этим по меньшей мере странным для врача утверждением? Боялся ли Чехов узнать правду или смирился с неизбежным? Скорее всего он отказывался считать себя больным, чтобы полнее насладиться тем недолгим временем, которое было ему отпущено. Не признаваясь в этом даже самому себе, он знал, что может добиться подобия счастья на земле лишь ценой такого самообмана. Антон намеренно закрывал глаза на свою болезнь, чтобы не утратить вкуса к работе, к дружбе, к успеху.
Как обычно, семья – это сборище спорщиков и попрошаек – мешала ему двигаться вперед. Николай не только не имел постоянной должности, но пять лет жил без паспорта, его разыскивала полиция, ему угрожало тюремное заключение за уклонение от воинской повинности. Лишь вмешательство высокопоставленных друзей Антона избавило этого его брата от необходимости встать под ружье. Что касается Александра, он незадолго до того поссорился с Сувориным. Дело было вот как. Александр поместил в «Новом времени» весьма посредственный рассказ, подписав его «Ал. Чехов», так что его вполне могли перепутать с уже знаменитым братом. Возмущенный этой уловкой Суворин послал Александру очень грубое письмо, обвиняя его в том, что он узурпировал и запятнал имя, которое должен уважать. Антон, оказавшийся главной жертвой этого недоразумения, тоже мог бы рассердиться. Однако он стремился лишь к прекращению раздоров и, щадя болезненную обидчивость старшего брата, печально писал ему: «Смертного часа нам не миновать, жить еще придется недолго, а потому я не придаю серьезного значения ни своей литературе, ни своему имени, ни своим литературным ошибкам. Это советую и тебе. Чем проще мы будем смотреть на щекотливые вопросы вроде затронутого Сувориным, тем ровнее будут и наша жизнь и наши отношения.
Ан. Чехов и Ал. Чехов – не все ли это равно?»[141]
Вскоре после этого все тот же Александр в пьяном виде грубо оскорбил сотрудников редакции «Нового времени». Боясь, как бы виновный не потерял своего места в газете, Чехов написал Суворину, высказывая сожаление о случившемся и пытаясь объяснить его причины: «Что мне делать с братом? Горе да и только. В трезвом состоянии он умен, робок, правдив и мягок, в пьяном же – невыносим. Выпив 2–3 рюмки, он возбуждается в высшей степени и начинает врать. […] Он страдает запоем – несомненно. Что такое запой? Это психоз такой же, как морфинизм, онанизм, нимфомания и проч. Чаще всего запой переходит в наследство от отца или матери, от деда или бабушки. Но у нас в роду нет пьяниц. Дед и отец иногда напивались с гостями шибко, но это не мешало им благовременно приниматься за дело или просыпаться к заутрене. Вино делало их благодушными и остроумными; оно веселило их сердце и возбуждало ум. Я и мой брат учитель никогда не пьем solo,[142] не знаем толку в винах, можем пить сколько угодно, но просыпаемся с здоровой головой. Этим летом я и один харьковский профессор вздумали однажды напиться. Мы пили, пили и бросили, так как у нас ничего не вышло; наутро проснулись как ни в чем не бывало. Между тем Александр и художник сходят с ума от 2–3 рюмок и временами жаждут выпить… В кого они уродились, Бог их знает. Мне известно только, что Александр не пьет зря, а напивается, когда бывает несчастлив или обескуражен чем-нибудь. […] Я напишу ему политично-ругательно-нежное письмо. На него мои письма действуют».[143]
Но были не только эти многочисленные семейные неурядицы, на их фоне случались и радостные вести. Среди таких вестей в это время до Чехова дошла одна, весьма его ободрившая: он только что отправил в «Северный вестник» рассказ «Именины» – «немножко длинный (2 листа), немножко скучный, но жизненный и, представьте, „с направлением“[144] – и взялся переделывать „Иванова“, как вдруг, 7 октября 1888 года, с изумлением узнал, что отделение русского языка и словесности Академии наук единогласно присудило ему Пушкинскую премию за сборник „В сумерках“»! Вот уже несколько недель как он, не слишком веря в то, что надежды сбудутся, на это надеялся. Получив же радостное сообщение, «ошалел», да и всю семью словно закружил ураган триумфа. «Известие о премии имело ошеломляющее действие, – писал он Суворину. – Я все эти дни хожу, как влюбленный; мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады, сестра, стерегущая нашу репутацию со строгостью и мелочностью придворной дамы, честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит. […]
Так мне везет, что начинаю подозрительно коситься на небеса. Поскорее спрячусь под стол и буду сидеть тихо, смирно, не возвышая голоса. Пока не решусь на серьезный шаг, т. е. не напишу романа, буду держать себя в стороне тихо и скромно, писать мелкие рассказы без претензий, мелкие пьесы, не лезть в гору и не падать вниз, а работать ровно […]
500 рублей я спрячу на покупку хутора».[145] А дальше прибавлял: «…газетные беллетристы второго и третьего сорта должны воздвигнуть мне памятник или по крайней мере поднести серебряный портсигар; я проложил для них дорогу в толстые журналы, к лаврам и к сердцам порядочных людей. Пока это моя единственная заслуга, все же, что я написал и за что мне дали премию, не проживет в памяти людей и десяти лет».[146]
Тогда же написал Антон и Григоровичу, нимало не сомневаясь в том, что своим успехом обязан ему, благодарил его со всем пылом обласканного дебютанта и обещал в ближайшее время засесть за большой роман. «Конечно – и это вне всякого сомнения – премией этой я обязан не себе. […] Мысль о премии подал Я.П. Полонский, Суворин подчеркнул эту мысль и послал книгу в Академию. Вы же были в Академии и стояли горой за меня.
Согласитесь, что если бы не вы трое, то не видать бы мне премии как ушей своих. […] Благодарю тысячу раз и буду всю жизнь благодарить».[147]
Что же касается романа, Чехов уверял, что он, как и прочие его произведения, никоим образом не будет являть собой пристрастного взгляда на злободневные проблемы. «Роман захватывает у меня несколько семейств и весь уезд с лесами, реками, паромами, железной дорогой. В центре уезда две главные фигуры, мужская и женская, около которых группируются другие шашки. Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет; я меняю его ежемесячно, а потому придется ограничиться только описанием, как мои герои любят, женятся, родят, умирают и как говорят».[148]
Несмотря на обилие приемов, банкетов и речей, последовавших за присуждением Пушкинской премии, Чехов продолжал задаваться вопросом, кто же он – врач или писатель? Возвращаясь к излюбленному сравнению медицины с законной женой и литературы – с любовницей, Антон пишет Суворину, что, когда одна ему наскучивает, он спит с другой: может, это и непорядок, однако по крайней мере подобная жизнь лишена монотонности.
На самом же деле мир молодых литераторов был ему противен – со всеми этими кланами, интригами, бойкотами, реверансами, неистовым карьеризмом. Чехов упрекал своих собратьев по перу в том, что они готовы на все, лишь бы добиться хвалебной рецензии. Ну почему, почему они так жаждут славы, тогда как он сам – после восьми лет занятий писаниной – так до сих пор и не осознал, зачем марает бумагу? В противоположность всем тем, кто вокруг него группировался в злобные секты, он для себя хотел совсем другого: существования независимого, одинокого и скромного. Он писал Леонтьеву (Щеглову) о том, что нужно быть обычным человеком и жить, как живут обычные люди, одинаково относясь ко всем и всему, вот тогда-то, уточнял Чехов, у нас не появится необходимости в искусственно сфабрикованной солидарности. И – с еще большей убежденностью – Плещееву: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индефферентист. Я хотел бы быть свободным художником и – только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи… Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».[149]
Эта полная независимость художника заключалась не только в проповеди ее по отношению к собратьям по перу, критике или публике. Чехов хотел ее и от своих героев. Беря за образец Пушкина ли, Толстого ли (до «обращения» последнего), он полагал, что уполномочен лишь ставить проблемы, а не решать их. В литературном произведении, считал он, не должно быть скрытой нотации. Никакого «послания». Нужно просто показывать жизнь, как она есть, не пытаясь что-то доказать. Это писатель должен состоять на службе у персонажей, а не персонажи у писателя. И требуется определенное мужество, чтобы выбрать между их присутствием и собственным. Если он вмешивается, что-то разъясняя, пытаясь кого-то из них, этих персонажей, судить, приговаривать или прощать, отпуская грехи, – значит, он превышает свои полномочия. Чем большую свободу, отойдя сам в тень, он предоставит своим героям, тем больше у них шансов пережить его. «Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о Боге или пессимизме. Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой: „Ничего не разберешь на этом свете!“ По его мнению, художник-психолог должен разобрать, на то он и психолог. Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает; и чем она глупее, тем, кажется, шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед».[150] Позже он возвращается к волнующему его предмету в письме к тому же Суворину: «Я иногда проповедую ересь, но до абсолютного отрицания вопросов в художестве еще не доходил ни разу. В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узко специальные вопросы. Дурно, если художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях… Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг так же ограничен, как и у всякого другого специалиста, – это я повторяю и на этом всегда настаиваю. Что в его сфере нет вопросов, а всплошную одни только ответы, может говорить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами. Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует – уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. Чтобы быть покороче, закончу психиатрией: если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то нужно признать, что художник творит непреднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; поэтому, если какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим.
Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В „Анне Карениной“ и в „Онегине“ не решен ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус».[151]
Требование объективного подхода в рамках повествования не мешало Чехову утверждать необходимость строгого отбора деталей при описании или реплик в диалоге. Со своей стороны, несмотря на то что Чехов провозглашал себя реалистом, на самом деле он все больше склонялся к искусству импрессионизма в литературе, делая легкие, не связанные один с другим мазки или штрихи. Его произведения полны тонких аллюзий, мимолетных, как бы рассеивающихся, подобно дымку, замечаний… И своему собрату по перу Лазареву-Грузинскому, разбирая его произведения, он дает совет избегать традиционного стиля, приводящего к банальности. «Ваш недостаток: в своих рассказах Вы боитесь дать волю своему темпераменту, боитесь порывов и ошибок, т. е. того самого, по чему узнается талант, – пишет Чехов. – Вы излишне вылизываете и шлифуете, все же, что кажется Вам смелым и резким, Вы спешите заключить в скобки и в кавычки (напр. „В усадьбе“). Ради Создателя, бросьте и скобки и кавычки! Для вводных предложений есть отличный знак, это двойное тире (– имярек —). Кавычки употребляются двумя сортами писателей: робкими и бесталанными. Первые пугаются своей смелости и оригинальности, а вторые… заключая какое-либо слово в кавычки, хотят этим сказать: гляди, читатель, какое оригинальное, смелое и новое слово я придумал!
И не подражайте Вы Билибину! Надо быть мужественным, сильным, а Вы в описаниях медового месяца и т. п. вдаетесь в сентиментально-игриво-старушечий тон, свойственный Билибину. Не надо этого… Описания природы у Вас недурны, Вы хорошо делаете, что боитесь мелочности и казенщины. Но опять-таки Вы не даете воли своему темпераменту. У Вас нет поэтому оригинальности в приемах. Женщин нужно описывать так, чтобы читатель чувствовал, что Вы в расстегнутой жилетке и без галстука, природу – то же самое. Дайте себе свободы».[152]
«Дать себе свободу», отказаться от политического пустозвонства или бессмысленного философствования, уклониться от законов, диктуемых разными литературными школами, идти вперед одиноким путем, который ты выбрал сам, опираясь только на собственные твердость и сдержанность, – вот в чем, по Чехову, заключалось кредо настоящего писателя. В этой замкнутости, в этом нежелании примкнуть к какой-либо группировке Антон снова исповедуется, отвечая на письмо Плещеева, содержавшее отзыв о его рассказе «Именины»: «Правы Вы и в том, что не таите, а прямо высказываете свое подозрение: не боюсь ли я, чтобы меня сочли либералом? Это дает мне повод заглянуть в свою утробу. Мне кажется, что меня можно скорее обвинить в обжорстве, в пьянстве, в легкомыслии, в холодности, в чем угодно, но только не в желании казаться или не казаться… Я никогда не прятался. <…> Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравновешиванию плюсов и минусов. Но ведь я уравновешиваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой. <…> Неужели и в последнем рассказе не видно „направления“? Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий… Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление? Нет? Ну, так, значит, я не умею кусаться или я блоха…»[153]
Яростно защищая необходимость неангажированности для прозаика, Чехов не забывал при этом, что он – человек театра и что тут тоже неангажированность – неписаный закон. На словах он театр ненавидел, на деле все-таки не мог устоять перед ним, был совершенно околдован миром, сотворенным из грима и папье-маше, и, чувствуя все это, писал Суворину: «Надо всеми силами стараться, чтобы сцена из бакалейных рук перешла в литературные руки, иначе театр пропадет».[154] В письмах же к Леонтьеву (Щеглову) он то называл театр корью, заразной болезнью больших городов, от которой нужно избавляться, а не любить ее, что вредно для здоровья и опасно, то – змеей, сосущей кровь драматурга, то вообще эшафотом, где его, драматурга, казнят: «Современный театр – это мир бестолочи, тупости и пустозвонства!»[155]
Однако подобные столь категоричные высказывания не мешали Чехову усердно посещать зрительные залы, проводить целые вечера с актерами и писать уморительные водевили («Медведь» и «Предложение») или драматические сценки (этюд «Лебединая песня»). Приступил он снова и к работе над «Ивановым», пьесой, смысл которой он старался уточнить, делая вариант за вариантом. Теперь, писал он Суворину в середине декабря 1888 года, мой «Иванов» стал куда более понятен, хотя уже в конце месяца жалуется ему же на непонимание: «Режиссер считает „Иванова“ лишним человеком в тургеневском вкусе; Савина спрашивает: почему Иванов подлец? Вы пишете: „Иванову необходимо дать что-нибудь такое, из чего видно было бы, почему две женщины на него вешаются и почему он подлец, а доктор – великий человек“. Если вы трое так поняли меня, то это значит, что мой „Иванов“ никуда не годится. У меня, вероятно, зашел ум за разум, и я написал совсем не то, что хотел. Если Иванов выходит у меня подлецом или лишним человеком, а доктор великим человеком, если непонятно, почему Сара и Саша любят Иванова, то, очевидно, пьеса моя не вытанцовалась и о постановке ее не может быть и речи».[156] А дальше подробно разъясняет, каким ему видится каждый из персонажей пьесы. Вот, например, Саша – «…девица новейшей формации. Она образованна, умна, честна и проч. На безрыбье и рак рыба, и поэтому она отличает 35-летнего Иванова. Он лучше всех. Она знала его, когда была маленькой, и видела близко его деятельность в ту пору, когда он не был еще утомлен. Он друг ее отца.
Это самка, которую побеждают самцы не яркостью перьев, не гибкостью, не храбростью, а своими жалобами, нытьем, неудачами. Это женщина, которая любит мужчин в период их падения. Едва Иванов пал духом, как девица – тут как тут. Она этого только и ждала. Помилуйте, у нее такая благодарная, святая задача! Она воскресит упавшего, поставит его на ноги, даст ему счастье… Любит она не Иванова, а эту задачу. Аржантон у Додэ сказал: жизнь не роман! Саша не знает этого. Она не знает, что любовь для Иванова составляет только лишнее осложнение, лишний удар в спину. И что ж? Бьется Саша с Ивановым целый год, а он все не воскресает и падает все ниже и ниже».[157]
Что до Иванова, то для автора пьесы очевидно: его герой кончает жизнь самоубийством отнюдь не из-за клеветы или оскорблений, брошенных ему в лицо публично, но только потому, что зашел в тупик. Дорога его пройдена до конца. И Чехов полагает, что характер Иванова – типично русский: «В характеристике Иванова часто попадается слово „русский“, – пишет Антон Суворину, перечитав свое письмо, в своеобразном постскриптуме. – Не рассердитесь за это. Когда я писал пьесу, то имел в виду только то, что нужно, то есть одни только типичные русские черты. Так, чрезмерная возбудимость, чувство вины, утомляемость – чисто русские. Немцы никогда не возбуждаются, и потому Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, ни утомленных… Возбудимость французов держится постоянно на одной и той же высоте, не делая крутых повышений и понижений, и потому француз до самой дряхлой старости нормально возбужден. Другими словами, французам не приходится расходовать свои силы на чрезмерное возбуждение; расходуют они свои силы умно, поэтому не знают банкротства.
Понятно, что в пьесе я не употреблял таких терминов, как русский, возбудимость, утомляемость и проч., в полной надежде, что читатель и зритель будут внимательны и что для них не понадобится вывеска: „це не гарбуз, а слива“. Я старался выражаться просто, не хитрил и был далек от подозрения, что читатели и зрители будут ловить моих героев на фразе, подчеркивать разговоры о приданом и т. п.
Я не сумел написать пьесу. Конечно, жаль. Иванов и Львов представляются моему воображению живыми людьми. Говорю Вам по совести, искренно, эти люди родились в моей голове не из морской пены, не из предвзятых идей, не из „умственности“, не случайно. Они результат наблюдения и изучения жизни. Они стоят в моем мозгу, и я чувствую, что не солгал ни на один сантиметр и не перемудрил ни на одну йоту. Если же они на бумаге вышли неживыми и неясными, то виноваты не они, а мое неуменье передавать свои мысли. Значит, рано мне еще за пьесы браться».[158]
Пьеса, таким вот образом многократно переделанная, была включена в репертуар Санкт-Петербургского Александринского театра, и с января 1889 года Чехов, чтобы участвовать в репетициях, перебрался в столицу, поселившись снова у своего друга Суворина. И сразу же его сомнения, его тревоги, его гнев воскресли. Ему опять казалось, будто актеры играют плохо, фальшивят. Давыдов, назначенный на роль Иванова, жаловался на то, что драматург вносит в последнюю минуту новые изменения, грозил отказаться от роли. Чехов, в полном отчаянии, до изнеможения работал с актером, пытаясь раскрыть ему движущие мотивы персонажа. Они ссорились и мирились по десять раз на дню. Глядя на актера, излучавшего самодовольство, Антон предвидел худшее. Накануне премьеры он написал брату Михаилу, что, на его взгляд, партия проиграна заранее.
Однако 31 января 1889 года вместо сокрушительного провала «Иванов» имел у публики оглушительный успех. В конце спектакля Чехов – с дрожащими коленками и отчаянно бьющимся сердцем – вышел вместе с актерами на поклоны. В зале не смолкала овация. Назавтра был устроен банкет в честь драматурга, и организатор праздника, подняв бокал шампанского, торжественно приравнял в своем тосте чеховского «Иванова» к бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». Напуганный триумфом, столь для него неожиданным, Антон поспешно вернулся в Москву. Ему, как он говорил, очень хотелось укрыться в норе. «В Москве даже не пахнет Петербургом, – писал он 18 февраля 1889 года И.Л. Леонтьеву (Щеглову). – Видаю я ежедневно сотню человек, но не слышу ни одного слова об „Иванове“, точно я и не писал этой пьесы, а питерские овации и успехи представляются мне беспокойным сном, от которого я отлично очнулся.
Кстати, об успехе и овациях. Все это так шумно и так мало удовлетворяет, что в результате не получается ничего, кроме утомления и желания бежать, бежать…»[159]
Однако, вернувшись домой, Чехов лихорадочно листал газеты. В целом пресса считала, что публика, так полюбившая «Иванова», права, и только «левые» критики – Михайловский, Короленко, Успенский – упрекали драматурга в том, что он, дескать, не привнес в свою пьесу никакого социального послания. Это обвинение ничуть не волновало Антона, наоборот, подобные упреки только укрепляли его уверенность в том, что нужно отделять искусство от политики. В письме к Суворину от 6 февраля Чехов даже пошутил на тему о том, что, читая критиков, разносивших в пух и прах его «Иванова», можно подумать, будто герой пьесы не русский дворянин, а генерал Буланже. Впрочем, уверенность его подкрепляли многочисленные письма от зрителей, поздравлявших писателя с тем, что ему удалось создать типичные для России образы, соответствующие их восприятию времени, в котором они живут. А знаменитый Лесков назвал в своем «Дневнике» пьесу – умной, самого же Чехова – обладателем великого драматического таланта.
Между тем в Санкт-Петербурге успех спектакля рос день ото дня. Каждый вечер – аншлаг, каждый вечер в зале яблоку упасть негде. Теперь, чтобы прослыть светским человеком, надо было обязательно посмотреть «Иванова». Настоящий реванш после недавнего провала той же самой пьесы в Москве! «Мой „Иванов“ продолжает иметь колоссальный, феноменальный успех, – с юмором рассказывает Антон в письме М.В. Киселевой. – В Питере теперь два героя дня: нагая Фрина Семирадского[160] и одетый я. Оба шумим».[161]
Но насколько мало это его трогает, показывает уже процитированное выше и написанное на следующий день письмо Леонтьеву (Щеглову), вот еще один фрагмент из него: «Денно и нощно мечтаю о хуторе. Я не Потемкин, а Цинциннат. Лежанье на сене и пойманный на удочку окунь удовлетворяют мое чувство гораздо осязательнее, чем рецензия и аплодирующая галерея. Я, очевидно, урод и плебей».[162] Действительно, больше всего на свете хочется сейчас уставшему от глупой суеты Антону удрать из города в тихое село и предаться там своему любимому виду спорта – рыбной ловле.
В письмах Чехова этого периода все чаще звучат нотки горечи и разочарованности. «Я прочел снова Вашу пьесу <…> – писал он еще в декабре 1888 году Суворину. – Ее достоинства и недостатки – это такой капитал, которым можно было бы поживиться, будь у нас критика. Но этот капитал будет лежать даром непроизводительно до тех пор, пока не устареет и не выйдет в тираж. Дующий в шаблон Татищев, осел Михневич и равнодушный Буренин – вот и вся российская критическая сила. А писать для этой силы не стоит, как не стоит давать нюхать цветы тому, у кого насморк. Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового: она необразованна, дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению к нам. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу. Буренин говорит, что я не нужен и занимаюсь пустяками. Академия дала премию – сам черт ничего не поймет. Писать для денег? Но денег у меня никогда нет, и к ним я от непривычки иметь их почти равнодушен. Для денег я работаю вяло. Писать для похвал? Но они меня только раздражают. Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой „Припадок“ вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович. И т. д. и т. д. Будь же у нас критика, тогда бы я знал, что я составляю материал – хороший или дурной, все равно, что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астронома звезда. И я бы тогда старался работать и знал бы, для чего работаю. А теперь Вы, я, Муравлин и проч. похожи на маньяков, пишущих книги и пьесы для собственного удовольствия. Собственное удовольствие, конечно, хорошая штука; оно чувствуется, пока пишешь, а потом? Но… закрываю клапан. <…> Вообще живется мне скучно, и начинаю я временами ненавидеть, чего раньше со мною никогда не бывало. Длинные, глупые разговоры, гости, просители, рублевые, двух– и трехрублевые подачки, траты на извозчиков ради больных, не дающих мне ни гроша, – одним словом, такой кавардак, что хоть из дому беги. Берут у меня взаймы и не отдают, книги тащат, временем моим не дорожат… Не хватает только несчастной любви».[163]
Однако он не делал даже и попытки найти себе эту «несчастную любовь»… Притворяясь, будто для него весьма привлекательны подружки сестры Маши, которых она приводила в дом, Антон на самом деле ухаживал за девушками разве только ради того, чтобы позабавиться. Так, вроде бы пленила его красавица Лидия Мизинова, которую все называли Ликой, юная пышнотелая восемнадцатилетняя девица с ослепительно белой кожей, вьющимися пепельными волосами и искрящимися серыми глазами. Она подменяла при необходимости учителей в той же гимназии, где Маша преподавала историю и географию. Чехов поначалу был покорен обаянием Лики, ее правильными чертами, ее нежной улыбкой, но чем больше интереса проявляла к нему сама барышня, тем насмешливее и уклончивее была его ответная реакция. Другой примечательной подругой Марии Чеховой была преподавательница математики Ольга Кундасова. Приветливое лицо, хотя черты и тяжеловаты и немного мужеподобны, полное нежелание следовать моде… Ольга всегда носила одно и то же платье: черное с маленьким белым воротничком, перехваченное в талии широким кожаным поясом, – и так страстно любила астрономию, что Антон прозвал девушку «астрономкой». Искренняя, увлекающаяся, экзальтированная, она с полуслова дала понять писателю, что испытывает к нему чувство куда более сильное, чем просто товарищеское. А он? Он тут же и спасовал перед этим. Поговаривали, будто Чехов попросту боится женщин. Но, если быть более точным, надо сказать, что он опасался, привязавшись к одной из них, еще больше нагрузить себя, и так уже измученного многочисленными заботами.
Но вот по Москве и Санкт-Петербургу поползли гнусные клеветнические слухи на его счет. Злые языки намекали, что он продался Суворину, что он обещал жениться на дочери этого приспешника автократии, – а девочке еще не исполнилось даже и десяти лет, – и что он собирается работать в редакции «Нового времени». Обеспокоенный сплетнями Плещеев предупредил Антона о том, что всякий компромисс по отношению к газете, столь явно ангажированной властями, навеки поставит его в ряды реакционеров. Да и от друзей-либералов Чехов наслушался предупреждений того же рода. Как меня раздражают сплетни, признался Антон Щеглову (Леонтьеву), и не только из-за того, о чем вы написали мне, но из-за того больше, что весь мир пишет по этому поводу. Даже студенты обсуждают тот факт, что я вот-вот женюсь на миллионерше. Что за извращение!
В довершение всего семья тоже никак не оставляла его в покое. Неугомонный тридцатитрехлетний Александр решительно отказывался изменить своим привычкам. В последний приезд в Санкт-Петербург, зимой 1888/89 года, Чехов ужаснулся тому, в каком состоянии застал брата. Тот, полупьяный, красовался в кальсонах перед служанкой и осыпал непристойностями и грязными оскорблениями свою подругу в присутствии детей.
«…Мы виделись и расстались так, как будто между нами произошло недоразумение, – писал он Александру сразу по возвращении в Москву. – Скоро я опять приеду; чтобы прервать это недоразумение, считаю нужным искренно и по совести заявить тебе таковое. Я на тебя не шутя сердился и уехал сердитым, в чем и каюсь теперь перед тобой. В первое же мое посещение меня оторвало от тебя твое ужасное, ни с чем не сообразное обращение с Н[атальей] А[лександровной] и кухаркой. Прости меня великодушно, но так обращаться с женщинами, каковы бы они ни были, недостойно порядочного и любящего человека. Какая небесная или земная власть дала тебе право делать из них своих рабынь? Постоянные ругательства самого низменного сорта, возвышение голоса, попреки, капризы за завтраком и обедом, вечные жалобы на жизнь каторжную и труд анафемский – разве все это не есть выражение грубого деспотизма? Как бы ничтожна и виновата ни была женщина, как бы близко она ни стояла к тебе, ты не имеешь права сидеть в ее присутствии без штанов, быть в ее присутствии пьяным, говорить словеса, которых не говорят даже фабричные, когда видят около себя женщин. Приличие и воспитанность ты считаешь предрассудками, но надо ведь щадить хоть что-нибудь, хоть женскую слабость и детей – щадить хоть поэзию жизни, если с прозой уже покончено. Ни один порядочный муж или любовник не позволит себе говорить с женщиной […] грубо, анекдота ради иронизировать постельные отношения […]. Это развращает женщину и отдаляет ее от Бога, в которого она верит. Человек, уважающий женщину, воспитанный и любящий, не позволит себе показаться горничной без штанов, кричать во все горло: „Катька, подай урыльник!“… Ночью мужья спят с женами, соблюдая всякое приличие в тоне и в манере, а утром они спешат надеть галстук, чтобы не оскорбить женщину своим неприличным видом, сиречь небрежностью костюма. Это педантично, но имеет в основе нечто такое, что ты поймешь, буде вспомнишь о том, какую страшную воспитательную роль играют в жизни человека обстановка и мелочи. Между женщиной, которая спит на чистой простыне, и тою, которая дрыхнет на грязной и весело хохочет, когда ее любовник […], такая же разница, как между гостиной и кабаком.
Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя безнаказанно похабничать в их присутствии, оскорблять прислугу или говорить со злобой Наталье Александровне:
„Убирайся ты от меня ко всем чертям! Я тебя не держу!“ Нельзя делать их игрушкою своего настроения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами. Лучше не любить, чем любить деспотической любовью. <…>
Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. Отец теперь никак не может простить себе всего этого.
Деспотизм преступен трижды…Для тебя не секрет, что небеса одарили тебя тем, чего нет у 99 из 100 человек: ты по природе бесконечно великодушен и нежен. Поэтому с тебя спросится в 100 раз больше. К тому же еще ты университетский человек и считаешься журналистом.
Тяжелое положение, дурной характер женщин, с которыми тебе приходится жить, идиотство кухарок, труд каторжный, жизнь анафемская и проч. служить оправданием твоего деспотизма не могут. Лучше быть жертвой, чем палачом.
Н[аталья] А[лександровна], кухарка и дети беззащитны и слабы. Они не имеют над тобой никаких прав, ты же каждую минуту имеешь право выбросить их за дверь и надсмеяться над их слабостью, как тебе угодно. Не надо давать чувствовать это свое право.
Я вступился, как умею, и совесть моя чиста. Будь великодушен и считай недоразумение поконченным. Если ты прямой и не хитрый человек, то не скажешь, что это письмо имеет дурные цели, что оно, например, оскорбительно и внушено мне нехорошим чувством. В наших отношениях я ищу одной только искренности. Другого же мне ничего больше не нужно. Нам с тобой делить нечего.
Напиши мне, что тоже не сердишься и считаешь черную кошку несуществующей».
Еще больше забот было с братом Николаем. Здоровье этого милого пьяницы с давних пор беспокоило всю семью. Но в марте 1889 года состояние его резко ухудшилось: брюшной тиф осложнился воспалением легких. Чехов сам энергично лечил брата, но, излечив от тифа, убедился, что у того начался туберкулезный процесс. Консультации коллег привели к подтверждению диагноза. Надеясь, что отдых на природе помешает болезни прогрессировать, Антон уехал с Николаем в конце апреля в поместье на Луке, где он в очередной раз снял дачу у Линтваревых. Здесь Чехов ощутил прилив радости, окунувшись в деревне в мир весенней природы: глаз радовали цветущие яблони и вишни, слух услаждали соловьиные трели и «пение» кукушек, а главное – он снова встретился с любимыми друзьями.
Но радость длилась недолго. С каждым днем Николай все слабел, его трепала лихорадка. Лежа он задыхался, потому спал в кресле. Видя, что брат тает как свечка, Чехов не мог не задумываться и о собственном здоровье. Тягостные мысли терзали его, когда он наблюдал за вспыльчивым, раздражительным, капризным больным: не присутствует ли он сейчас при репетиции своей собственной кончины? А брату Александру писал о Николае вот что: «У него хронический легочный процесс – болезнь, не поддающаяся излечению. Бывают при этой болезни временные улучшения, ухудшения и in statu,[164] и вопрос должен ставиться так: как долго будет продолжаться процесс? Но не так: когда выздоровеет? Николай бодрее, чем был. Он ходит по двору, ест и исправно скрипит на мать. Капризник и привередник ужасный.
Привезли мы его в первом классе и пока ни в чем ему не отказываем. Получает все, что хочет и что нужно. Зовут его все генералом, и, кажется, он сам верит в то, что он генерал. Мощи».[165]
Прикованный к изголовью больного, Антон старался забыть о своих тревогах, углубившись в чтение. «Обломов» Гончарова его разочаровал, Гоголь «привел в экстаз» своей живостью, сочным, ярким языком, «Ученик» Поля Бурже показался романом умным, интересным, но фальшивым и пагубным для читателя. Антон не мог понять этого «претенциозного похода против материалистического направления».[166]«Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины. <…> Я думаю, что, когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо является вопрос: где тут душа?»[167]
Теряя последние силы, Николай становился все более сердечным, ласковым, покорным. Но, даже сочувствуя брату от всей души, Чехов страдал от того, что не мог отойти от больного ни на минуту. Чувствуя себя бесконечно виноватым, он мечтал «подышать другим воздухом», мечтал забыть запах грязного белья, плевательниц, сбежать – на юг, в Одессу или даже – во Францию. «Я был бы рад удрать в Париж и взглянуть с высоты Эйфелевой башни на Вселенную, – делился Антон своими чаяниями с писателем Тихоновым, – но – увы! – я скован по рукам и ногам и не имею права двинуться с места ни на один шаг. У меня болен чахоткою мой брат-художник, который живет теперь со мной».[168]
В середине июня в поместье на Луке приехал Александр Чехов. До него здесь появился Иван. Дежурство у постели больного было обеспечено, и Чехов почувствовал, что морально готов позволить себе небольшой отдых. Он[169] уехал в Полтавскую губернию – в гости к своим друзьям Смагиным. Рассчитывал провести там четыре-пять дней. В дороге его настигла буря, дул холодный ветер, начался проливной дождь, дороги оказались грязными, – словом, все было так, говорил Антон, будто небо решило наказать его за то, что он оставил свой пост. И действительно: он прибыл в имение Смагиных поздно ночью, а наутро крестьянин принес ему из Миргорода вымокшую телеграмму: «Коля скончался». Хотя печальную новость нельзя было назвать неожиданной, Чехов был убит горем. Он тут же – под ливнем – отправился на ближайшую железнодорожную станцию, чтобы ехать назад. Вот как описывает Антон другу своему Плещееву эту поездку и возвращение домой: «Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом по железной дороге и ждать на станциях по 8 часов… В Ромнах я ждал с 7 вечера до 2 ч[асов] ночи. От скуки пошел шататься по городу. Помню, сижу в саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за бурой стеною, около которой сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму.
Дома я застал горе. Наша семья еще не знала смерти, и гроб пришлось видеть у себя впервые.
Похороны мы устроили художнику отличные. Несли его на руках, с хоругвями и проч. Похоронили на деревенском кладбище под медовой травой; крест виден далеко с поля. Кажется, что лежать ему там очень уютно».[170]
Несмотря на усталость, Антон, который держался мужественней всех в семье, взял на себя все формальности, связанные с похоронами брата. Много думал о нем. Если в прошлом и были у него грехи, он искупил их страданиями, написал Чехов одному из ближайших друзей Николая. Ощущая навалившуюся на него огромную пустоту, подавленный горем, Антон одновременно испытывал – сам стыдясь этого – облегчение. «Вероятно, я уеду куда-нибудь. Куда? Не вем», – сообщал он в процитированном выше письме Плещееву, а с Лейкиным, позже, делился воспоминаниями о происшедшем: «Последние дни Николая, его страдания и похороны произвели на меня и всю семью удручающее впечатление. На душе было так скверно, что опротивели и лето, и дача, и Псел. Единственным развлечением были только письма добрых людей, которые, узнав из газет о смерти Николая, поспешили посочувствовать моей особе. Конечно, письма пустое дело, но когда читаешь их, то не чувствуешь себя одиноким, а чувство одиночества самое паршивое и нудное чувство.
После похорон возил я всю семью в Ахтырку, потом неделю пожил с ней дома, дал ей время попривыкнуть и уехал за границу. На пути к Вене со станции Жмеринка я взял несколько в сторону и поехал в Одессу…»[171]
Чехова мучила совесть из-за того, что он собирается покинуть семью в момент, когда ее постигло такое глубокое горе, в период траура по брату, и он выждал две недели, только 2 июля пустившись в дорогу, не очень понимая, в каком направлении ему больше хочется ехать: то ли на Кавказ, то ли во Францию, куда давно зазывали Левитан и Лейкин и где происходила Всемирная выставка, то ли, может быть, в Вену, к Суворину… Решил было – в Париж, но от Жмеринки в конце концов он, как мы видели, свернул даже и не в Вену, а в Одессу: по приглашению, с одной стороны, приятеля – литератора Сергеенко (познакомившего его там с Потапенко), а с другой – актера Ленского, который находился в городе на гастролях с труппой Малого театра. Забавная, беззаботная актерская компания помогла ему немного приглушить боль потери. Он жил в одном отеле с артистами, купался с ними каждый день в море, объедался мороженым, а после спектаклей обсуждал их с новыми друзьями до двух часов ночи. Актрису Каратыгину удивляло, что такой приличный человек, как Чехов, – в строгом сером костюме, с изящными манерами – лузгает семечки, как крестьянин.[172] Прошло десять дней – и Чехова стала утомлять забавлявшая его вначале болтовня этого милого курятника, он оставил Одессу и перебрался в Ялту. Труппа Малого театра проводила писателя до пристани, артисты подарили ему два галстука.
Оказавшись в Ялте, Чехов совершенно уже перестал понимать, куда он попал. Стояла удушающая жара, надоедливые поклонники ломились в двери, встречавшиеся на улицах женщины выглядели ряжеными и источали аромат сливочного мороженого… Новое путешествие описано все тому же Плещееву так: «…можете себе представить, я не за границей и не на Кавказе, а вот уже две недели одиноко сижу в полуторарублевом номере, в татарско-парикмахерском городе Ялте. Ехал я за границу, но попал случайно в Одессу, прожил там дней десять, а оттуда, проев половину своего состояния на мороженом (было очень жарко), поехал в Ялту. Поехал зря и живу в ней зря. Утром купаюсь, днем умираю от жары, вечером пью вино, а ночью сплю. Море великолепно, растительность жалкая, публика всплошную […] или больные. Каждый день собираюсь уехать и все никак не уеду. А уехать надо. Совесть загрызла. Немножко стыдно сибаритствовать в то время, когда дома неладно. Уезжая, я оставил дома унылую скуку и страх.
Пьесу начал было дома, но забросил. Надоели мне актеры. Ну их!
У меня сегодня радость. В купальне чуть было не убил меня мужик длинным тяжелым шестом. Спасся только благодаря тому, что голова моя отстояла от шеста на один сантиметр. Чудесное избавление от гибели наводит меня на разные, приличные случаю мысли.
В Ялте много барышень и ни одной хорошенькой. Много пишущих, но ни одного талантливого человека. Много вина, но ни одной капли порядочного. Хороши здесь только море да лошади-иноходцы. Едешь верхом на лошади и качаешься, как в люльке. Жизнь дешевая. Вообще чудаков здесь много».[173]
Несмотря на жару и на колдовское притяжение синего моря, простирающегося на сколько хватит взгляда, Чехов написал в Ялте большую часть странной и отнимающей всякую надежду повести «Скучная история». Вернувшись 5 сентября в Москву, он сообщает 13-го Тихонову, что практически закончил над ней работу, и сетует на то, что вещь получилась такой тяжелой, что ею можно убить человека, – тяжелой не только по количеству страниц, но и по тому, что на них можно прочесть. «Нечто неуклюжее и громоздкое» – так он определяет повесть, но уточняет, что подступил в ней к новому для себя сюжету. В написанном неделей раньше письме Анне Евреиновой, редактору журнала «Северный вестник», говорит: «Сюжет рассказа новый: житие одного старого профессора, тайного советника. Очень трудно писать. То и дело приходится переделывать целые страницы, так как весь рассказ испорчен тем отвратительным настроением, от которого я не мог отделаться во все лето»,[174] а Плещеева 14 сентября информирует уже об ответной телеграмме Евреиновой, снова возвращается к собственной оценке повести и пытается предугадать реакцию на нее: «На телеграмму Анны Михайловны я ответил письмом, где умолял подождать до ноябрьск[ой] книжки; ответ я получил такой: „Да будет по Вашему желанию. Отложим“. Вы поймете всю цену и прелесть этого ответа, если вообразите себе г. Чехова, пишущего, потеющего, исправляющего и видящего, что от тех революционных переворотов и ужасов, какие терпит под его пером повесть, она не становится лучше ни на единый су. <…>
В моей повести не два настроения, а целых пятнадцать; весьма возможно, что и ее Вы назовете дерьмом. Она в самом деле дерьмо. Но льщу себя надеждою, что Вы увидите в ней два-три новых лица, интересных для всякого интеллигентного читателя; увидите одно-два новых положения. Льщу себя также надеждою, что мое дерьмо произведет некоторый гул и вызовет ругань во вражеском стане. А без этой ругани нельзя, ибо в наш век, век телеграфа, театра Горевой и телефонов, ругань – родная сестра рекламы».[175] В письме же другому своему постоянному корреспонденту, Суворину, утверждает с не меньшей горячностью, что не разделяет идей своего героя: «Если Вам подают кофе, то не старайтесь искать в нем пива. Если я преподношу Вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Покорно Вас благодарю. Во всей повести есть только одна мысль, которую я разделяю и которая сидит в голове профессорского зятя, мошенника Гнеккера, это – „спятил старик!“. Все же остальное придумано и сделано… Где Вы нашли публицистику?»[176]
Тема «Скучной истории» и впрямь «придуманная»: предвидя близкую свою кончину, старый профессор Николай Степанович, увенчанный славой и уставший донельзя, подводит итоги своего существования на бренной земле, своей деятельности и приходит к неутешительному выводу: вся его жизнь – любовь к тишине, поведение по отношению к жене и дочери, к воспитаннице Кате, его мнения о коллегах и учениках, его труды, его явная успешность, – все это в целом «лишено всякого смысла». Убедившись в очевидности столь плачевного духовного краха, он перестает выносить присутствие своих близких, отдаляется даже от самой любимой из всех – Кати – и отправляется дожидаться смерти в гостиничном номере в Харькове.
Несмотря на все, что автор повести говорил по этому поводу, читающему ясно, что эта тоска, это одиночество старого профессора более чем сходны с собственными чеховскими настроениями того времени. С его собственным смятением, с его собственными неурядицами. Он точно так же страдал от отсутствия идеала, точно так же открыл для себя тщету всякого успеха, точно так же воспринимал смерть с холодной безмятежностью агностика. Преждевременная кончина брата Николая вовсе не приблизила Антона к Богу, а всего лишь убедила в том, что абсолютное недоступно нашему пониманию и что судьба человека не более чем движение к пустоте, к черной дыре.
В литературной среде некоторые сравнивали – не в пользу Чехова – его «Скучную историю» со «Смертью Ивана Ильича» Льва Толстого, опубликованной тремя годами раньше. Действительно, обе вещи говорят о том, как человек воспринимает саму идею смерти. Но у Толстого мысль о близком уходе из жизни ужасает человека, пока он не открывает для себя в смерти обещание божественного света, тогда как у Чехова никакое умиротворение не снисходит на старого профессора в ожидании прихода вечной ночи. Таким образом, скептик Чехов снова противопоставляет себя верующему Толстому. Первый идет по жизни с достойным и спокойным неверием, второй, испытывая одновременно муки и озарения, проповедует, что человек не должен искать никаких земных радостей, если хочет спасти свою душу.
Как Чехов и предвидел, критика его «Скучной истории» в целом оказалась довольно суровой. Тем не менее прославленный Михайловский, до сих пор невосприимчивый к литературному творчеству Чехова, эту вещь удостоил похвал. Он говорил, что, коли рассказ так прекрасен и так схож с жизнью, это означает, что автор вложил в него собственные страдания. Если же говорить о Плещееве, то он написал Антону 27 сентября 1889 года, что никогда еще тот не создавал такой сильной, такой глубокой вещи, как это творение, что интонации старого ученого потрясающе узнаваемы и что даже несколько субъективных замечаний, в которых проявляется личность писателя, ничуть не вредят целому.
В то время, когда все это писалось, когда Чехов переживал реакцию критики и читающей публики на свою «Скучную историю», он уже приступил к созданию новой пьесы – «Леший». Сначала они собирались писать эту драму вместе с Сувориным, но, поскольку тот был слишком занят, Антон решил трудиться над ней в одиночку. Словно бы опровергая опыт, накопленный в работе над «Ивановым», на этот раз автор мечтал избежать всякой театральности, увлечь зрителя не сценическим действием, но душевными движениями героев, показать жизнь такой, какая она есть: с ее простотой и полутонами. Словом, Чехову хотелось добиться на подмостках того же эффекта, какого он достиг на страницах «Скучной истории».
Законченная 5 октября 1889 года пьеса «Леший» была немедленно подвергнута цензуре, прошла ее, затем ее прочитали в чтецком комитете Санкт-Петербургского Александринского театра и… отвергли под предлогом того, что в ней нет «никаких театральных эффектов, никаких интересных ситуаций и никаких привлекательных персонажей». Ленский посоветовал в то время Чехову единственное: писать рассказы, ибо, по его мнению, тот слишком презирает сцену и вообще любую драматическую форму повествования. Вы слишком мало уважаете все это, писал знаменитый актер, чтобы писать пьесы, представляющие собой куда более трудную форму выражения, чем беллетристика, да и – простите! – слишком избалованы успехом, чтобы осмелиться, если можно так выразиться, начать с нуля в изучении театра и благодаря этому полюбить его. А драматург Немирович-Данченко, тоже познакомившийся с пьесой, забил в ее гробовую доску последний гвоздь, сказав, что Ленский прав в том, что Чехов попросту игнорирует требования сцены, но со своей стороны он объяснил бы это не столько презрением к ней, сколько нехваткой знания, то бишь невежеством.
Удивленный таким вердиктом, Чехов тем не менее постарался не подавать вида, что расстроен им, поблагодарил Ленского за письмо и объявил ему, что не станет больше писать для театра – разве что мелкие штучки, вроде «Свадьбы», однако за непринужденностью, с которой писатель отвечал критикам, скрывалось глубоко раненное самолюбие. В письме Суворину от 13 октября 1889 года он так изложил судьбу пьесы и свое восприятие отношения к ней: «…едва успев кончить повесть и измучившись, я разбежался и по инерции написал четырехактного „Лешего“, написал снова, уничтожив все, написанное весной. Работал я с большим удовольствием, даже с наслаждением, хотя от писанья болел локоть и мерещилось в глазах черт знает что. За пьесой приехал ко мне Свободин и взял ее для своего бенефиса (31 октября). Пьеса читалась Всеволожским, Григоровичем и K°. О дальнейшей судьбе ее, коли охота, можете узнать от Свободина, лица заинтересованного, и от Григоровича, бывшего председателя того военно-полевого суда, который судил меня и моего „Лешего“. Пьеса забракована. Забракована ли она только для бенефиса Свободина (великие князья будут на бенефисе) или же вообще для казенной сцены, мне неизвестно, а уведомить меня об этом не сочли нужным».[177]
Но больше всего раздражал Чехова разнесшийся по Санкт-Петербургу слух, согласно которому отставной профессор Серебряков, один из персонажей «Лешего», – карикатура на Суворина. Он умоляет друга не верить ни единому слову из этих злобных сплетен: «И как бы все обрадовались, если бы я подсыпал Вам в чай мышьяку или оказался шпионом, служащим в III отделении».[178]
Несмотря на то что и сам Чехов стал уже сомневаться в ценности своего произведения, он, следуя советам Немировича-Данченко, внес в пьесу кое-какие исправления и передал для постановки в московский частный театр М. Абрамовой, где «Леший» в конце концов и был принят. Однако после первого же представления, 27 декабря 1889 года, театральные критики словно псы, сорвавшиеся с цепи, набросились на произведение, которое, по их мнению, нарушало все сценические законы и претендовало на то, чтобы воспроизводить жизнь во всей ее банальности. Чехов воздержался от возражений, засунул пьесу в ящик стола и отказался публиковать ее. Много лет спустя он вернулся к рукописи, и та вдохновила драматурга на создание одного из его шедевров – пьесы «Дядя Ваня».
Смерть Николая, дурное отношение прессы к «Скучной истории», провал «Лешего» сломили дух Чехова, у него почти не осталось сил на моральное сопротивление. Конечно, моменты радости случались, и обязан ими был Антон новым друзьям, таким, например, как композитор Петр Чайковский, но в целом он все больше склонялся к пессимизму и мизантропии. Большая часть современников вызывала у него разочарование, и первым в этом ряду – Лев Толстой. Восхищаясь им как художником, Чехов отказывался идти за ним как мыслителем. Последняя вещь старого мастера, «Крейцерова соната», показалась ему всего лишь иллюстрацией к имитации битвы. Тем не менее он пишет Плещееву: «Неужели Вам не понравилась „Крейцерова соната“? Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная – тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть „Это правда!“ или „Это нелепо!“. Правда, у нее есть очень досадные недостатки. Кроме всего того, что Вы перечислили, в ней есть еще одно, чего не хочется простить ее автору, а именно – смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. Так, его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами. Но все-таки эти недостатки разлетаются, как перья от ветра; ввиду достоинства повести их просто не замечаешь, а если заметишь, то только подосадуешь, что повесть не избегла участи всех человеческих дел, которые все несовершенны и несвободны от пятен».
Действительно, будучи писателем научной формации, Чехов не мог стерпеть у Толстого высокомерного пренебрежения наукой. То же самое относилось и к Достоевскому, о котором он говорил Суворину: «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий».[179] Однако, внутренне отгораживаясь от Толстого и Достоевского, Чехов не примыкал, да и не считал себя ближе к другому краю – к тем, кто исповедовал сумбурные либеральные идеи. Уважая интеллигенцию, он опасался интеллектуалов. «Вялая, апатичная, лениво философствующая интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятикопеечный бордель, которая брюзжит и охотно отрицает все, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать; которая не женится и отказывается воспитывать детей и т. д. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях…»[180]
Впрочем, и самим собой Чехов был доволен не больше. «…На этом свете необходимо быть равнодушным, – пишет он Суворину 4 мая 1889 года. – Только равнодушные люди способны ясно смотреть на вещи, быть справедливыми и работать – конечно, это относится только к умным и благородным людям; эгоисты же и пустые люди и без того достаточно равнодушны. <…> Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре или, увлекшись работою, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать: не совершаю я потому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей. <…> Страсти мало…» Эту последнюю фразу Чехов станет часто повторять в течение всей оставшейся жизни. Несколько месяцев спустя он выдает тому же Суворину такой мрачный протокол своего существования вчера, сегодня и завтра: «…очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, пуды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина – и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда. <…> Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда; мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев».[181] И дальше: «В январе мне стукнет 30 лет. Подлость. А настроение у меня такое, будто мне 22 года».[182]
И вдруг в самой гуще тумана вспыхнула искра. Это произошло в конце 1889 года. Читая конспекты брата Миши, сделанные им, студентом-юристом, на лекциях по уголовному праву, судопроизводству и тюрьмоведению, Чехов прошептал: «Все наше внимание к преступнику сконцентрировано на нем до момента вынесения приговора, однако стоит отправить его на каторгу, в тюрьму, – о нем забывают совершенно. Но что же происходит с ним там?» Начиная с этого мгновения, мысль о путешествии не оставляла писателя. Его место – не здесь. Он должен порвать с этим миром злословия и мишуры. Бежать в глубь Сибири – на край ее. Забыть гримасничанье завистливых литераторов, чтобы посмотреть в лицо настоящему страданию: тому, которое терзает каторжников на острове Сахалин, что в Тихом океане. Чем больше Антону казалось, что такая экспедиция непосильна для него, тем больше путешествие его соблазняло. Наконец у него появилась великая цель в жизни! Наконец он может помыслить о будущем с интересом и гордостью!
Глава VIII От Сахалина до Парижа
Всем друзьям Чехова его намерение уехать показалось странным. Как это, говорили они, человек с таким слабым здоровьем, человек, для которого искусство составляет единственный смысл жизни, может рисковать, отправляясь в столь опасное, утомительное и бесполезное путешествие? Чтобы оправдаться перед ними, он изобретал разные причины. То ссылался на отвращение к суетности литературной среды, в которой вынужден вращаться здесь, то на физическую необходимость сменить местопребывание, то на писательскую – познать русскую действительность во всем ее ужасе, то на чисто научный интерес к судьбе каторжников в Сибири. Бессознательно все эти – столь разные – мотивы складывались и умножались один на другой в его мозгу, чтобы укрепить решимость, но некоторые из самых близких Антону людей подумывали: а не является ли для него это бегство на край света всего лишь попыткой забыть неудачу, которую он потерпел в любви? По крайней мере одна женщина была в этом абсолютно убеждена. Ее звали Лидией Авиловой. Спустя сорок три года после смерти Чехова в книге воспоминаний[183] она утверждала, что Антон был безумно влюблен в нее и сбежал на Сахалин исключительно от отчаяния. В поддержку своей романтической версии она не приводит никаких доказательств, зато здесь много запоздалой экзальтации. Когда Лидия познакомилась в 1889 году с Чеховым, она была молодой женщиной двадцати шести лет, довольно красивой стройной блондинкой, у нее имелись муж-чиновник, ребенок,[184] бурное воображение и легкое перо. Она пописывала в колонки новостей и мечтала выбиться в писатели, войти в литературную среду. При первой же встрече с Чеховым у сестры Надежды она почувствовала, как у нее в душе «точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета». Вряд ли и с ним произошло то же самое, и когда он приехал в Санкт-Петербург в следующем году, то не сделал даже попытки с нею увидеться. Она написала ему – он не ответил. Три года спустя сухо извинился за это: «Когда-то я получил от Вас письмо, в котором Вы делали мне запрос по поводу идеи какого-то нестоящего моего рассказа. Будучи тогда с Вами мало знаком и забыв, что Ваша фамилия по мужу – Авилова, я забросил Ваше письмо, а марку прикарманил – так я поступаю вообще со всеми запросами, а наипаче с дамскими. Потом же в Петербурге, когда Вы намекнули мне насчет этого письма, мне вспомнилась Ваша подпись, и я почувствовал себя виноватым».[185]
На самом деле если причиной бегства и было разочарование, то разочарование не любовное, а моральное и литературное. Недовольный тем, как он живет и как пишет, Чехов испытывал необходимость порвать с рутиной повседневности и спастись, сбежав от других, восстановиться при помощи сильного потрясения. Та степень усталости и безразличия, которая была характерна для него сейчас, требовала шоковой терапии. И он писал Суворину, все еще пытавшемуся отговорить его от поездки: «Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но Вы, вероятно, больше, чем я. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий… Я хочу написать хоть 100–200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как Вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25–30 дней, не больше, все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать Вас письмами. Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или горечью? И т. д. и т. д. Так-то, государь мой. Все это неубедительно, но ведь и Вы пишете столь же неубедительно. Например, Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин – это единственное место, где можно изучать колонизацию из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен? Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно. Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации. В наше же время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего; тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками».[186]
Приняв решение как следует изучить существование каторжников на острове Сахалине, Чехов выработал собственную методику. Он изучал все касающиеся этой проблемы труды. Маша с подругами пропадала в Румянцевской библиотеке, где они по указанию Антона переписывали важные для него куски из книг, Александр в поисках материалов исследовал подшивки старых санкт-петербургских газет. Голова Чехова была буквально нафарширована научными, служебными и статистическими данными, и он утверждал, что теперь он не писатель, а географ, геолог, метеоролог, этнолог, страдающий болезнью, именуемой «сахалиномания».
Тем не менее в это же самое время он опубликовал седьмой сборник рассказов, посвященный Чайковскому, под названием «Хмурые люди» и отправил Суворину для его газеты «Новое время» довольно длинный рассказ «Черти» (впоследствии публиковавшийся под названием «Воры»). Героями этого рассказа стали два наглых и изворотливых конокрада, которые обокрали глупого и наивного хвастуна фельдшера. Когда Суворин дружески упрекнул автора в том, что тот выказал мало неодобрения в адрес конокрадов, Чехов снова, и с куда большей силой, чем прежде, вернулся к вопросу о необходимости для писателя быть беспристрастным по отношению к персонажам. «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч., – пишет Антон 1 апреля 1890 года. – Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, это люди культа и что конокрадство есть не просто кража, а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам».[187]
Убедила ли Суворина эта речь в защиту творческой объективности, не убедила ли, он тем не менее помог Чехову подготовиться к путешествию. Он снабдил Антона бланком корреспондента «Нового времени», порекомендовал его своим влиятельным друзьям – представителям власти и поселил у себя, когда тот приехал в столицу хлопотать о свободном пропуске повсюду на Сахалине. Самой важной из персон, которых посетил тогда Чехов, был начальствовавший в Главном тюремном управлении Галкин-Враский. Высокий чиновник весьма любезно принял писателя, притворился, что план путешествия его сильно заинтересовал, но не дал никаких советов и никаких рекомендательных писем. Более того, стоило Чехову выйти за порог управления, Галкин-Враский направил на остров Сахалин, тамошней тюремной администрации, секретное предписание не допускать встреч «незваного гостя» с политическими ссыльнокаторжными.
Когда Чехов вернулся в Москву, город сотрясали студенческие демонстрации: молодые люди требовали полной автономии университета, допуска евреев на любые факультеты без ограничений – то есть ликвидации процентной нормы, прекращения полицейского надзора за студентами. То и дело происходили бурные митинги, столкновения с казаками, совершались незаконные аресты молодежи. Чехов с интересом следил за событиями, но не выказывал открыто симпатии к нарушителям спокойствия. Как и в то время, когда он учился сам, Антон полагал, что дело юношества – учиться, а не вмешиваться в политику.
День отъезда приближался – ему хотелось отбыть в начале весны, чтобы застать сибирские реки уже свободными ото льда. А пока Чехов подводил безжалостные итоги своей жизни и своего творчества. Повторяя, что писателю не пристало читать мораль в адрес читателя, он утверждал, что сам – такой же человек, как другие, с весьма посредственными достоинствами и главной чертой характера, сводящейся к отсутствию вражды и озлобленности по отношению к себе подобным. «Вы пишете, что Вам хочется жестоко поругаться со мной „в особенности по вопросам нравственности и художественности“, говорите неясно о каких-то моих преступлениях, заслуживающих дружеского упрека, и грозите даже „влиятельной газетной критикой“, – пишет он Леонтьеву (Щеглову) 22 марта 1890 года. – Если зачеркнуть слово „художественности“, то вся фраза, поставленная в кавычки, становится яснее, но приобретает значение, которое, по правде говоря, меня немало смущает. Жан, что такое? Как понимать? Неужели в понятиях о нравственности я расхожусь с такими людьми, как Вы, и даже настолько, что заслуживаю упрека и особого ко мне внимания влиятельной критики? Понять, что Вы имеете в виду какую-либо мудреную, высшую нравственность, я не могу, так как нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна, а именно та, которая дала нам во время оно Иисуса Христа и которая теперь мне, вам и Баранцевичу мешает красть, оскорблять, лгать и проч. Я же во всю мою жизнь, если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в рассказах, ни в водевилях не пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола его, ни всякого скота его, не крал, не лицемерил, не льстил сильным и не искал у них, не шантажировал и не жил на содержании. Правда, в лености житие мое иждих, без ума смеяхся, объедохся, опихся, блудил, но ведь все это личное и все это не лишает меня права думать, что по части нравственности я ни плюсами, ни минусами не выделяюсь из ряда обыкновенного. Ни подвигов, ни подлостей – такой же я, как большинство; грехов много, но с нравственностью мы квиты, так как за грехи я с лихвой плачу теми неудобствами, какие они влекут за собой. <…>
А слова „художественности“ я боюсь, как купчиха боится жупела. Когда мне говорят о художественном и антихудожественном, о том, что сценично или не сценично, о тенденции, реализме и т. п., я теряюсь, нерешительно поддакиваю и отвечаю банальными полуистинами, которые не стоят и гроша медного. Все произведения я делю на два сорта: те, которые мне нравятся, и те, которые мне не нравятся. Другого критериума у меня нет, а если Вы спросите, почему мне нравится Шекспир и не нравится Златовратский, то я не сумею ответить. <…>
Если критика, на авторитет которой Вы ссылаетесь, знает то, что мы с Вами не знаем, то почему она до сих пор молчит, отчего не открывает нам истины и непреложные законы? Если бы она знала, то, поверьте, давно бы указала нам путь, и мы знали бы, что нам делать… и нам не было бы так скучно и нудно, как теперь, и Вас не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин. Но критика солидно молчит или же отделывается праздной дрянной болтовней. Если она представляется Вам влиятельной, то это только потому, что она глупа, нескромна, дерзка и криклива, потому что она пустая бочка, которую поневоле слышишь.
Впрочем, плюнем на все это и будем петь из другой оперы. Пожалуйста, не возлагайте литературных надежд на мою сахалинскую поездку. Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор».[188]
Прошло совсем немного времени после этой исповеди, и вот в «Русской мысли» Чехов читает отвратительную статью Лаврова, в свою очередь упрекающего его в том, что он, дескать, «беспринципный писатель». Обычно Антон пропускал подобные замечания мимо ушей, но тут возмутился, решил взять реванш и так написал издателю журнала Вуколу Лаврову: «Вукол Михайлович! В мартовской книжке „Русской мысли“ на 147 странице библиогр[афического] раздела я случайно прочел такую фразу: „Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых“ и т. д. На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа.
Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я не был никогда.
Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно выбросил бы за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно. Если допустить, что под беспринципностью Вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатающийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и проч., то в этом отношении „Русская мысль“ должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня – и в этом виноваты не мы с Вами.
Если судить обо мне как о писателе с внешней стороны, то и тут едва ли я заслуживаю публичного обвинения в беспринципности. До сих пор я вел замкнутую жизнь, жил в четырех стенах… всегда настойчиво уклонялся от участия в литературных вечерах, вечеринках, заседаниях и т. п., без приглашения не показывался ни в одну редакцию, старался всегда, чтобы мои знакомые видели во мне больше врача, чем писателя, короче, я был скромным писателем, и это письмо, которое я теперь пишу, – первая нескромность за все время моей десятилетней деятельности. С товарищами я нахожусь в отличных отношениях; никогда я не брал на себя роли судьи их и тех журналов и газет, в которых они работают, считая себе некомпетентным и находя, что при современном зависимом положении печати всякое слово против журнала или писателя является не только безжалостным и нетактичным, но и прямо-таки преступлением. До сих пор я решался отказывать только тем журналам и газетам, недоброкачественность которых являлась очевидною и доказанною, а когда мне приходилось выбирать между ними, то я отдавал преимущество тем из них, которые по материальным или другим каким-либо обстоятельствам наиболее нуждались в моих услугах, и потому-то я работал не у Вас и не в „Вестнике Европы“, а в „Северном вестнике“ и потому-то я получал вдвое меньше того, что мог бы получать при ином взгляде на свои обязанности.
Обвинение Ваше – клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором; объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у Вас в редакции, как мне известно, сидят безусловно порядочные и воспитанные люди, которые читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое свое слово. Мне остается только указать Вам на Вашу ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно».[189]
Скинув тяжкий груз со своей души, Антон продолжил приготовления к отъезду. Близким, встревоженным теми опасностями, с которыми ему, возможно, придется встретиться, отвечал шуточками, хотя знал, что путешествие будет не только трудным, но и опасным. «На Сахалине много медведей и беглых, – писал он Наташе Линтваревой, – если мною пообедают господа звери или зарежет какой-нибудь бродяга, то прошу не поминать лихом».
«Если на Сахалине не съедят медведи и каторжные, если не погибну от тифонов у Японии, а от жары в Адене, то возвращусь в декабре», – писал он Щеглову.
Шуточки есть и в письме к Суворину: «Купил себе полушубок, офицерское непромокаемое пальто из кожи, большие сапоги и большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров. Вооружен с головы до ног».
Но было в этом же письме и искреннее признание: «У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну»; правда, Чехов тут же, как обычно, свернул на шутку: «Хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной боли…» В этом же письме есть слова, напоминающие завещание: «В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что все, что имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре: она заплатит мои долги».
«Увидимся в декабре, – прощался Чехов с издателем „Осколков“ Голике. – А может быть, и никогда уже больше не увидимся».
Михаил, чтобы поднять авторитет брата, писал Линтваревым, что Чехов едет на Сахалин от Министерства внутренних дел. Чехов опровергал: «Я сам себя командирую, за собственный счет». Корреспондентский билет «Нового времени» не давал ему никаких материальных благ, Чехов у Суворина только взял тысячу рублей – аванс за путевые очерки для газеты.
Отъезд был назначен на 21 апреля 1890 года. В тот вечер вся семья и несколько друзей проводили Чехова на один из московских вокзалов – Ярославский. Поболтали немножко – не без нервозности – в зале ожидания, стараясь скрыть печаль и тревоги, связанные с разлукой. Доктор Кувшинников повесил через плечо друга особую бутылку коньяка в кожаном футляре, взяв с отъезжающего клятву не выпить из нее ни капли, пока тот не достигнет берегов Тихого океана, что было в точности и исполнено. Мать Антона и его сестра Мария расплакались. Очаровательная Лика Мизинова прятала подступавшие слезы за полуулыбкой. Тем утром Чехов подарил ей свою фотографию с иронической надписью, смысл которой сводился к тому, что Антон бежит на Сахалин именно от этого «прелестного создания». В последний момент брат Чехова Иван и его друзья (Кувшинниковы, Левитан и «астрономка» Ольга Кундасова, всю жизнь тайно влюбленная в Чехова) решили подняться в вагон и проехать с путешественником до Троице-Сергиевой лавры, что в шестидесяти шести верстах от Москвы. Остальные простились с ним на вокзале.
Маршрут предполагался такой: поездом до Ярославля, затем пароходом – по Волге и Каме – до Перми, оттуда снова поездом в Тюмень, из Тюмени к озеру Байкал на лошадях, дальше – опять пароход и упряжки попеременно до самого побережья Тихого океана. Протяженность маршрута составляла почти десять тысяч верст, четыре тысячи из которых приходились на передвижение в дрянных повозках по дрянным проселочным дорогам. Было где сломать шею и более крепкому, чем Антон, путешественнику.
Поначалу на пароходе, идущем от Ярославля до Перми, Чехов испытал чувство покоя и полноты существования. Ни радости, ни грусти не наводили на него однообразные пейзажи по берегам. «Мне не весело и не скучно, а так, какой-то студень на душе, – писал Антон сестре 24 апреля 1890 года. – Я рад сидеть неподвижно и молчать. Сегодня, например, я едва ли сказал пять слов», а 29-го из Екатеринбурга рассказывал ей же о Каме подробнее: «…прескучнейшая река. Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около бочки с нефтью или куля с воблою и не переставая тянуть сиволдай. Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи – единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода – событие».[190]
И все-таки писатель нашел себе развлечение даже посреди этого тоскливого пути: он наблюдал за тем, как один из пассажиров, прокурор судебной палаты, «человек 43 лет, недовольный жизнью, либерал, скептик и большой добряк», читал его рассказ «В сумерках» и обсуждал его со спутниками. В Екатеринбурге, куда Чехов прибыл поездом, он остановился в «недурной», по его словам, «Американской гостинице», где провел «2–3 дня, которые употребил на починку своей кашляющей и геморройствующей особы».[191] Почувствовав себя лучше, сел в поезд на Тюмень, куда и прибыл 3 мая. Именно здесь он открыл для себя сибирскую равнину. Дальше железная дорога не шла, и Антону пришлось продолжать путешествие в наемном экипаже… Впрочем, предоставим описание начала пути самому Чехову: «Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последних: все равно. Посадили меня, раба Божьего, в корзинку-плетушку и повезли на паре. Сидишь в корзине, глядишь на свет Божий, как чижик, и ни о чем не думаешь… Холодно ехать… На мне полушубок. Телу ничего, хорошо, но ногам зябко. Кутаю их в кожаное пальто – не помогает… На мне двое брюк. Ну-с, едешь, едешь… Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки… Вот перегнали переселенцев, потом этап… Встретили бродяг с котелками на спинах; эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтоб взять себе ее юбку на портянки, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами – сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна.
…Народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Комнаты у них убраны просто, но чисто, с претензией на роскошь; постели мягкие, все пуховики и большие подушки, полы выкрашены или устланы самоделковыми холщовыми коврами. Это объясняется, конечно, зажиточностью… Но не все можно объяснить зажиточностью и сытостью, нужно уделить кое-что и манере жить. Когда ночью входишь в комнату, в которой спят, то нос не чувствует ни спирали, ни русского духа. Правда, одна старуха, подавая мне чайную ложку, вытерла ее о задницу, но зато вас не посадят пить чай без скатерти, при вас не отрыгивают, не ищут в голове; когда подают воду или молоко, не держат пальцы в стакане, посуда чистая, квас прозрачен, как пиво, – вообще чистоплотность, о которой наши хохлы могут только мечтать, а ведь хохлы куда чистоплотнее кацапов! Хлеб пекут тут превкуснейший; я в первые дни объедался им. Вкусны и пироги, и блины, и оладьи, и калачи, напоминающие хохлацкие ноздреватые бублики. Блины тонки… Зато все остальное не по европейскому желудку. <…>
К вечеру лужи и дороги начинают мерзнуть, а ночью совсем мороз, хоть доху надевай. Бррр! Тряско, потому что грязь обращается в кочки. Выворачивает душу… К рассвету страшно утомляешься, от холода, тряски и колокольчиков; страстно хочется тепла и постели. Пока меняют лошадей, прикурнешь где-нибудь в уголке и тотчас же заснешь, а через минуту возница уже дергает за рукав и говорит: „Вставай, приятель, пора!“ Во вторую ночь я стал чувствовать острую зубную боль в пятках. Невыносимо больно. Спрашиваю себя: не отморозил ли?
Виноваты оказались ботфорты, узкие в задниках. Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизной. Дешевизна русского товара – это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком ходить, чем в дешевых сапогах. Представьте мое мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить в Ишиме валенки… Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и грязи».[192]
Измученный ухабами, оглушенный монотонным звуком колокольчика под дугой, Чехов подумывал о том, хватит ли у него сил продолжить путь до намеченной цели. Вообще-то этой пытке предстояло длиться двенадцать дней. Но в первые же три дня разболелись ключицы, плечи, позвонки, копчик… «Ни сидеть, ни ходить, ни лежать», как пишет Антон в том же письме. И добавляет: «Но зато прошли все головные и грудные боли, разыгрался донельзя аппетит, а геморрой точно в рот воды набрал – молчок. От напряжения, от частой возни с чемоданами и проч., а быть может, и от прощальных попоек в Москве у меня бывало кровохаркание, которое наводило на меня нечто вроде уныния, возбуждая мрачные мысли, и которое к концу пути прекратилось; теперь даже кашля нет; давно я так мало кашлял, как теперь, после двухнедельного пребывания на чистом воздухе. После же первых трех дней вояжа мое тело привыкло к тряске и для меня наступило время, когда я стал не замечать, как после утра наступал полдень, а потом вечер и ночь».[193]
В ночь под 6 мая, когда Чехова в «тарантасике» вез какой-то милый старичок на паре, произошло дорожно-транспортное происшествие, как сказали бы сейчас. «Тарантасик» в темноте столкнулся поочередно… с тремя почтовыми тройками, несшимися навстречу во весь дух! Если бы я умел спать в тарантасе, пишет Антон, то вернулся бы домой инвалидом или всадником без головы. «Результаты крушения: сломанные оглобли, изорванные сбруи, дуги и багаж на земле. Оторопевшие, замученные лошади и страх от мысли, что сейчас была пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик погнал лошадей, а во вторых двух тройках ямщики спали, и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому было править ими. Очнувшись от переполоха, мой старик и ямщики всех трех троек стали неистово ругаться. Ах, как ругались! Я думал, что кончится дракой. Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь среди этой дикой ругающейся орды, среди поля, перед рассветом, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодный ночной воздух! Ах, как тяжко на душе! Слушаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир, что тебя сейчас затопчут… После часовой ругани мой старик стал связывать веревочками оглобли и сбрую; пошли в ход и мои ремни. До станции дотащились кое-как, еле-еле, то и дело останавливались…»[194]
Прошло еще несколько дней и начались ужасные сибирские дожди с сильным ветром, шли они днем и ночью, Иртыш разлился и затопил луга, по дорогам стало не проехать. Порой кучеру и пассажиру приходилось вылезать из возка и вести лошадей через целые болота грязи…
В селах, где Чехов останавливался для ночлега или отдыха, его поражала многонациональность населения: тут были и ссыльные русские, и украинцы, и татары, и поляки, и евреи – «здесь они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют и называются крестьянами, потому что они в самом деле и de jure и de facto крестьяне. Пользуются они всеобщим уважением и… их нередко выбирают в старосты».[195] Антон рассказывал родным подробно о многих представителях разных народов, с какими ему пришлось повстречаться на пути, и заканчивал этот этнографо-социологический экскурс словами: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей».[196]
И все-таки на этой земле он по-прежнему страдал от неудобоваримой пищи. Просто кошмаром стало традиционное блюдо, которым его потчевали повсюду: «утячья похлебка».
«Это совсем гадость: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и невареный лук; утиные желудки не совсем очищены от содержимого и потому, попадая в рот, заставляют думать, что рот и recrum[197] поменялись местами, – рассказывает Чехов все в том же длинном майском письме родным. – Я раз попросил сварить суп из мяса и изжарить окуней. Суп мне подали пресоленый, грязный, с заскорузлыми кусочками кожи вместо мяса, а окуни с чешуей. Варят здесь щи из солонины, ее же и жарят. Сейчас мне подавали жареную солонину: преотвратительно; пожевал и бросил. Чай здесь пьют кирпичный. Это настой из шалфея и тараканов – так по вкусу, а по цвету – не чай, а матрасинское вино».[198]
Еще горестнее и забавнее Антон описывал «продовольственную проблему» в письме Суворину: «Всю дорогу я голодал, как собака. Набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и проч. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал.
В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы, но что за колбаса! Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки; когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу! Поел раза два и бросил».[199]
Ливни донимали путешественника до самого Томска, куда он, совершенно разбитый, прибыл 15 мая. Здесь он отдохнул несколько дней и написал шесть маленьких статеек в жанре «сибирских впечатлений» для «Нового времени». О городе в том же письме сообщил, что тот показался ему скучным и нетрезвым, «красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское. Замечателен сей город тем, что здесь мрут губернаторы»… Себя описал с юмором: «От ветра и дождей у меня лицо покрылось рыбьей чешуей, и я, глядя в зеркало, не узнаю прежних благородных черт». Общество и времяпрепровождение – тоже: «Стоп! Докладывают, что меня желает видеть помощник полицеймейстера. Что такое?!
Тревога напрасная. Полицейский оказывается любителем литературы и даже писателем; пришел ко мне на поклонение. Поехал домой за своей драмой и, кажется, хочет угостить меня ею…
Вернулся полицейский. Он драмы не читал, хотя и привез ее, но угостил рассказом. Не дурно, но только слишком местно. Показывал мне слиток золота. Попросил водки. Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки. Говорил, что у него завелась „любвишка“ – замужняя женщина; дал прочесть мне прошение на высочайшее имя насчет развода. Затем предложил мне съездить посмотреть томские дома терпимости.
Вернувшись из домов терпимости. Противно. Два часа ночи».[200]
Остановку в Томске Антон использовал для того, чтобы купить себе повозку, обновить снаряжение, подвести итоги трат. «Ах, какие расходы! Гевалт! Благодаря разливу я везде платил возницам почти вдвое, а иногда втрое, ибо работа каторжная, адская. Чемодан мой, милейший сундучок, оказался неудобным в дороге: занимает много места, толкает в бок, гремит, а главное – грозит разбиться. <…> Что ж? Оставлю свой чемодан в Томске на поселении, а вместо него купил себе какую-то кожаную стерву, которая имеет то удобство, что распластывается на дне тарантаса, как угодно. Заплатил 16 рублей. Далее… На перекладных скакать до Амура – это пытка. Разобьешь и себя, и весь свой багаж. Посоветовали купить повозку. Купил сегодня за 130 рублей. Если не удастся продать ее в Сретенске, где кончается мой лошадиный путь, то я останусь на бобах и завою. Сегодня обедал с редактором „Сибирского вестника“ Картамышевым. Местный Ноздрев, широкая натура… Пропил 6 рублев».[201]
И вот – в новой повозке – Чехов покидает 21 мая Томск, чтобы двинуться к Иркутску, расположенному на расстоянии в полторы тысячи верст. Где-то на полпути – Красноярск, откуда он отправляет письмо сестре, точнее, как обычно, всей семье:
«Еду с двумя поручиками и с одним военным доктором, которые все держат путь на Амур. Таким образом, револьвер является совершенно лишним. С такой компанией и в ад не страшно. Сейчас пьем чай на станции, а после чаю пойдем смотреть город».[202]
И в том же письме: «Красноярск красивый интеллигентный город; в сравнении с ним Томск свинья в ермолке и моветон. Улицы чистые, мощеные, дома каменные, большие, церкви изящные… Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему тут излюбленное место для ссылки».[203]
Но ведь до Красноярска надо было еще доехать! А ужаснее этой дороги, кажется, и придумать невозможно: «Что за убийственная дорога! Еле-еле дополз до Красноярска и два раза починял свою повозку; лопнул сначала курок – железная, вертикально стоящая штука, соединяющая передок повозки с осью; потом сломался под передком так называемый круг. Никогда в жизни не видывал такой дороги, такого колоссального распутья и такой ужасной запущенной дороги. Буду писать о ее безобразиях в „Новом времени“…»[204] Мало того, что на таких ужасных дорогах Чехов изнемогал от тряски и прочих неудобств: порой приходилось ждать, когда кончится ремонт на пронизывающем ветру, на обочине, а то и двигаться пешком до следующей станции, куда он прибывал обтрепанным и вымокшим до костей, – все эти починки еще и стоили бешеных денег. Впрочем, тут он винил и себя самого: «…расходы страшенные. Нигде так сильно не сказывается житейская непрактичность, как в дороге. Плачу лишнее, делаю ненужное, говорю не то, что нужно, и жду всякий раз того, что не случается».[205] Оказавшись в месте ближайшего назначения, путешественник плюхался на дрянной матрас постоялого двора и мгновенно засыпал, опьяненный усталостью и свежим воздухом.
После окруженного горами Красноярска началась настоящая сибирская тайга: густые, непроходимые бесконечные леса. «В последнем большом письме я писал вам, что горы около Красноярска похожи на Донецкий кряж, но это неправда; когда я взглянул на них с улицы, то увидел, что они, как высокие стены, окружают город, и мне живо вспомнился Кавказ. А когда перед вечером, уезжая из города, я переплывал Енисей, то видел на другом берегу совсем уж Кавказские горы, такие же дымчатые, мечтательные… Енисей широкая, быстрая, гибкая река; красавец, лучше Волги… Итак, горы и Енисей – это первое оригинальное и новое, встреченное мною в Сибири. <…>
От Красноярска до Иркутска всплошную тянется тайга. Лес не крупнее Сокольничьего, но зато ни один ямщик не знает, где он кончается. Конца краю не видать. Тянется на сотни верст… Когда въедешь на гору и глянешь вперед и вниз, то видишь впереди гору, с боков тоже горы – и все это густо покрыто лесом. Даже жутко делается. Это второе оригинальное и новое…».[206] Это – из письма Марии, семье. А в заметке, посланной Суворину для «Нового времени», чуть иначе: «На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так по крайней мере думал я, стоя на берегу широкого Енисея… Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега».[207]
Путешествие продолжалось, на смену холоду и дождям пришли жара, духота и пыль. Пыль эта проникала в рот, нос, прилипала к вспотевшей шее, она оказывалась даже в карманах одежды. Но Чехов продолжал, не скрывая дорожных тягот, делать, так сказать, хорошую мину при плохой игре. «От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки… сломается что-нибудь, и скуку… Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в такое путешествие, – писал он Лейкину. – Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека. Енисей, тайга, станция, ямщики, дикая природа, дичь, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые от отдыха, – все, вместе взятое, так хорошо, что и описать не могу».[208]
4 июня наконец приехали в Иркутск, где Чехову представилась возможность с наслаждением воспользоваться всеми благами цивилизации. Парная, удобная постель, чистая одежда, прогулка по «превосходному городу», который Чехов называет то «совсем интеллигентным», то «совсем Европой», тут есть и театр, и музей, и городской сад с музыкой, и хорошие гостиницы… А нет – уродливых заборов, нелепых вывесок и пустырей с надписями о том, что нельзя останавливаться… И Антон, едва выспавшись после бани, сразу же садится писать родным – как для того, чтобы описать свои приключения, так и в надежде узнать что-то новое об их жизни, дать советы и указания. Его интересует, лечит ли мать, как обещала ему перед разлукой, свою больную ногу, он спрашивает, как Мишины любовные делишки, был ли на юге Иван, кланяется тетке Федосье и ее сыну, спрашивая об их новостях. Александра просит, «надев штаны», сходить в книжный магазин «Нового времени», получить деньги за книги брата и выслать Маше полностью, а тех, кто живет в Москве: «17-го отслужите обедню,[209] а 29-е[210] отпразднуйте торжественнее, буду мысленно присутствовать с вами, а вы выпейте за мое здоровье».[211] Затем, вспомнив красавицу Лику Мизинову, шутит, что, должно быть, влюблен в нее, потому как видел вчера во сне: там она выглядела «королевой» в сравнении с сибирскими женщинами, не умеющими ни одеваться, ни смеяться, ни петь, да и вообще похожими на мороженую рыбу, и, только превратившись в моржа или тюленя, он оказался бы способен поухаживать за ними.
Продав в Иркутске свою чиненую-перечиненую повозку, Антон отправился в путь вместе с тремя офицерами, с которыми познакомился в Красноярске. Очень скоро их общество наскучило ему, стало тяготить: невежественные и спесивые, они то принимались петь, то хохотать до упаду и при этом с апломбом рассуждали обо всем, в чем не понимали ничего. И только красота пейзажей утешала Чехова, вынужденного слушать дурацкую болтовню спутников. Вид озера Байкал – настоящего внутреннего моря шириной в восемьдесят шесть верст! – заставил его замереть от восторга: «Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары, которая берет начало из Байкала и впадает в Енисей. Зрите карту. Берега живописные. Горы и горы, на горах всплошную леса. Погода чудная, тихая, солнечная, теплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров; мне было так хорошо, что и описать нельзя. Это, вероятно, после сиденья в Иркутске и оттого, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то новое и оригинальное. Ехали по берегу, доехали до устья и повернули влево; тут уж берег Байкала, который в Сибири называется морем. Зеркало. Другого берега, конечно, не видно: 90 верст. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и налево видны мысы, которые вдаются в море вроде Аю-дага или феодосийского Кохтебеля. Похоже на Крым».[212] К сожалению, пришлось ожидать тут три дня прибытия парохода. Разместившись в «квартире-сарайчике», не имея другой еды, кроме гречневой каши («Население питается одной только черемшой. Нет ни мяса, ни рыбы; молока нам не дали, а только обещали… Купил я гречневой крупы и кусочек копченой свинины, велел сварить размазню; невкусно, но делать нечего, надо есть. Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли…»[213]), которую предлагалось запивать плохой водкой, уставший от пустословия спутников, Чехов еще и опасался клопов и тараканов. «Опротивело мне спать, – пишет он сестре. – Каждый день постилаешь себе на полу полушубок шерстью вверх, в голову кладешь скомканное пальто и подушечку, спишь на этих буграх в брюках и жилетке… Цивилизация, где ты?»[214]
Сэкономив сутки, но оказавшись во имя этого на борту пароходишки, «вся палуба которого была занята обозными лошадьми, которые неистовствовали, как бешеные», Чехов с обрыдшими ему спутниками прибыл «за море» – в Клюево. «В Клюеве сторож взялся довезти наш багаж до станции, – пишет Антон матери 20 июня уже из каюты первого класса на борту большого амурского парохода „Ермак“, – он ехал, а мы шли позади телеги пешком по живописнейшему берегу. Скотина Левитан, что не поехал со мной. Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый». Так, без особых приключений, вовремя добрались через станцию Боярскую до Сретенска, где надо было садиться на пароход. «О том, как я ехал по берегу Селенги и потом через Забайкалье, расскажу при свидании, – продолжает Чехов, – а теперь скажу только, что Селенга – сплошная красота, а в Забайкалье я находил все, что хотел: и Кавказ, и долину Псёла, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью – по Донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уже Полтавская губерния – и так всю тысячу верст. <…> Ну-с, ехали, ехали и сегодня утром прибыли в Сретенск, ровно за час до отхода парохода, заплативши ямщикам на двух последних станциях по рублю на чай.
Итак, конно-лошадиное странствие мое кончилось. Продолжалось оно два месяца (выехал я 21 апреля). Если исключить время, потраченное на жел. дороги и пароходы, 3 дня, проведенные в Екатеринбурге, неделю в Томске, день в Красноярске, неделю в Иркутске, два дня у Байкала и дни, потраченные на ожидание лодок во время разлива, то можно судить о быстроте моей езды. Проехал я благополучно, как дай Бог всякому. Я ни разу не был болен и из массы вещей, которые при мне, потерял только перочинный нож, ремень от чемодана и баночку с карболовой мазью. Деньги целы. Проехать так тысячи верст мало кому удается.
Я до такой степени свыкся с ездой по тракту, что мне теперь как-то не по себе и не верится, что я не в тарантасе и что не слышно дар-валдая. Странно, что, ложась спать, я могу протянуть ноги вовсю и что лицо мое не в пыли. Но всего страннее, что бутылка коньяку, которую дал мне Кувшинников, еще не разбилась и что коньяк цел до капли. Обещал раскупорить его только на берегу Великого океана».[215]
Итак, чтобы обеспечить себе одиночество в дальнейшем путешествии, Чехов покупает билет в каюту первого класса на пароходе «Ермак». Ему давно надоели три болтливых офицера, которые ко всему еще и заняли у него сто пятьдесят рублей, причем о возврате долга и речи быть не могло. Уединившись в каюте, Антон надеялся написать там новые путевые очерки, но корабль трясло, как в лихорадке. И пришлось ему отказаться от работы и довольствоваться тем, что созерцать восхитительные пейзажи, медленно проплывавшие перед его глазами. Изумительная страна, написал он в те дни Плещееву, можно сказать, что только после Байкала начинается поэзия Сибири, до него – сплошь проза…
Когда пароход, пройдя по Шилке, добрался до Амура, восторгу Чехова уже не было предела. Бинокль словно прирос к его глазам: «Берега до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться тут жить… Проплыл я по Амуру 1000 верст и видел миллион роскошнейших пейзажей; голова кружится от восторга… Удивительна природа. А как жарко! Какие теплые ночи! Утром бывает туман, но теплый.
Я осматриваю берега в бинокль и вижу чертову пропасть уток, гусей, гагар, цапель и всяких бестий с длинными носами. Вот бы где дачу нанять!» – пишет Антон сестре 23–26 июня.[216] А рассказывая, как на остановках наведывается в деревни, описывает местные обычаи и нравы: «Деревни здесь такие же, как на Дону; разница есть в постройках, но не важная. Жители не исполняют постов и едят мясо даже в Страстную неделю; девки курят папиросы, а старухи трубки – это так принято. Странно бывает видеть мужичек с папиросами! А какой либерализм! Ах, какой либерализм!
На пароходе воздух накаляется докрасна от разговоров. Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда, либеральничай сколько влезет… Доносы не приняты. Бежавший политический свободно может проехать на пароходе до океана, не боясь, что его выдаст капитан. Это объясняется отчасти и полным равнодушием ко всему, что творится в России. Каждый говорит: какое мне дело?»[217]
А Суворину, намекая на его генеральский чин, пишет так: «Ваше превосходительство! Проплыл я по Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейзажей, а ведь до Амура были Байкал, Забайкалье… Право, столько я видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на Амуре оригинальные, интересные, жизнь не похожа на нашу. Только и разговора, что о золоте. Золото, золото и больше ничего». Чуть раньше: «Представьте себе Сурамский перевал, который заставили быть берегом реки, – вот Вам и Амур. Скалы, утесы, леса, тысячи уток, цапель и всяких носатых каналий, и сплошная пустыня. Налево русский берег, направо китайский. Хочу на Россию гляжу, хочу – на Китай. Китай так же пустынен и дик, как и Россия: села и сторожевые избушки попадаются редко». А чуть позже: «Я и в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России…»[218]
9 июля, дважды сменив суда, Чехов наконец оказался в Татарском проливе и увидел – «с восхищением и гордостью» – показавшийся вдали берег Сахалина. Два дня спустя корабль бросил якорь в бухте у Александровска, административного центра острова, его своеобразной столицы, которая служила пристанищем и тюремным властям.
Антон высадился в порту вместе с этапом каторжников, в тот же день познакомился с местным тюремным врачом Перлиным, который предложил поселиться у него в доме, на что путешественник охотно согласился. Город, насчитывавший почти три тысячи обитателей, показался ему чистым, но угрюмым и молчаливым. По улицам, звеня кандалами, двигались цепью каторжники, идя на работу или возвращаясь оттуда. На Сахалине в то время было пять колоний: когда каторжник отбывал наказание, то оставался жить в одной из них. Здесь оказалось и несколько свободных женщин, которые приехали вслед за мужьями, отбывающими на Сахалине срок. Все это объяснил писателю начальник острова генерал Кононович, принявший его чрезвычайно любезно, проговорив с гостем больше часа. Генерал показался Чехову человеком интеллигентным и порядочным, он даже пообещал приезжему помочь в его изысканиях и открыть для него тюремные архивы. Расположение местных властей к московскому гостю подтвердил несколько дней спустя и приамурский генерал-губернатор барон Корф, приехавший почти одновременно с Чеховым на остров после пятилетнего перерыва и позволивший Чехову свободно ездить по всей территории, знакомиться с официальной документацией и опрашивать заключенных, кроме политических ссыльных.[219] На торжественном обеде в честь Корфа тот, бравируя своим гуманным отношением к тем, кого он называл «несчастными», заявил, будто их жизнь здесь куда легче, чем в России и даже в Европе. А чуть позже, когда Антон явился к нему с корреспондентским своим бланком, изложил свой взгляд на сахалинскую каторгу и колонию, предложив записать все сказанное им под заголовком «Описание жизни несчастных». Чехов охотно выполнил просьбу, однако вынес из записанного тогда убеждение, что это человек великодушный и благородный, но что «жизнь несчастных» была знакома ему не так близко, как он думал. В подтверждение опубликовал несколько строк, записанных под диктовку генерал-губернатора: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. Бессрочная каторга ограничивается двадцатью годами. Каторжные работы не тягостны. Труд подневольный не дает работнику личной пользы – в этом его тягость, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет».[220]
Несмотря на эти более чем оптимистические заверения, Чехов был полон решимости провести строгое исследование – и не в качестве писателя, а в качестве ученого. Для этого прежде всего он задумал осуществить по возможности полную перепись населения. Это позволяло ему, под предлогом необходимости получить статистические данные, познакомиться в том числе и с самыми закоренелыми преступниками. Для этого Чехов заказал в типографии при полицейском управлении опросный лист – карточку из тринадцати пунктов и сразу же принялся за работу: в одиночку, без чьей-либо помощи. Он вставал в пять утра и посещал – иногда один, иногда в сопровождении охранника, вооруженного револьвером, порой, как пишет сам, в сопровождении какого-нибудь каторжника или поселенца, бравшего на себя от скуки роль проводника, – подряд все тюрьмы, все барачные поселения, все избы острова, не упуская из виду ни рудников, ни шахт, беседуя с безграмотными скотами (как иначе назвать людей, почти потерявших человеческий облик?), смотревшими на него с полным непониманием, с убийцами, чей взгляд казался угрожающим, с насмешливыми и подозрительными ворами, с «нищими духом»… И все они были в кандалах…
«Ссыльное население смотрело на меня как на лицо официальное, а на перепись – как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так часты и обыкновенно ни к чему не ведут, – будет потом написано в книге „Остров Сахалин“. – Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало в ссыльных некоторое любопытство».[221]
И, кто бы ни попадался Антону на пути во время переписи, каждый – благодаря доброжелательному его тону и спокойному обращению – неизменно проникался к нему доверием. Не проходило и нескольких минут, как беседа становилась дружеской. Таким образом собственной рукой Чехов заполнил около десяти тысяч листков.[222] Непрерывная работа привела писателя к нервному истощению: появилось «мерцание в глазах», как он это называл, после него всякий раз начинались страшные мигрени. Но Антон и не думал об отдыхе. По мере того как продвигалась работа, он все больше убеждался в том, насколько Сахалин, вопреки утверждениям барона Корфа, был царством беззакония, самоуправства, жестокости и лжи. Губернатор Кононович на словах был яростным противником телесных наказаний, но тем не менее в двухстах или трехстах метрах от его дома каждый день кого-то наказывали плетьми. Разве мог он об этом не знать?
Стесненные в действиях, прикованные к своим тачкам, некоторые из каторжников вынуждены были работать, проползая на животе по низким штрекам угольных шахт. В Александровской больнице не хватало лекарств, самых простых медикаментов, больных размещали на нарах или просто на полу. Преступникам был запрещен вход в церковь. Над этими жалкими вонючими отбросами человечества властвовали охранники, жестокость и несправедливость которых ничем невозможно было смягчить. У тюремных начальников были все права, у заключенных – никаких прав. Как было не потерять в подобных условиях остатки человеческого достоинства? «У ссыльных наблюдаются пороки и извращения, свойственные по преимуществу людям подневольным, порабощенным, голодным и находящимся в постоянном страхе. Лживость, лукавство, трусость, малодушие, наушничество, кражи, всякого рода тайные пороки – вот арсенал, который выставляет приниженное население, или по крайней мере громадная часть его, против начальников и надзирателей, которых оно не уважает, боится и считает своими врагами. Чтобы избавиться от тяжелой работы или телесного наказания и добыть себе кусок хлеба, щепотку чаю, соли, табаку, ссыльный прибегает к обману, так как опыт показал ему, что в борьбе за существование обман – самое верное и надежное средство. Кражи здесь обычны и похожи на промысел. Арестанты набрасываются на все, что плохо лежит, с упорством и жадностью голодной саранчи, и при этом отдают преимущество съестному и одежде. Воруют они в тюрьме, друг у друга, у поселенцев, на работах, во время нагрузки пароходов, и при этом по виртуозной ловкости, с какою совершаются кражи, можно судить, как часто приходится упражняться здешним ворам. <…>
Ссыльный развлекается тайно, воровским образом. Чтобы добыть стакан водки, который при обыкновенных условиях обходится только в пятак, он должен тайно обратиться к контрабандисту и отдать ему, если нет денег, свой хлеб или что-нибудь из одежи. Единственное духовное наслаждение – игра в карты – возможно только ночью, при свете огарков, или в тайге. Всякое же тайное наслаждение, часто повторяемое, обращается мало-помалу в страсть; при слишком большой подражательности ссыльных один арестант заражает другого, и в конце концов такие, казалось бы, пустяки, как контрабандная водка и игра в карты, ведут к невероятным беспорядкам. <…> Картежная игра, как эпидемическая болезнь, овладела уже всеми тюрьмами; тюрьмы представляют собою большие игорные дома, а селения и посты – их филиальные отделения».[223]
За преступлениями всегда следуют наказания. «Наказания, которые полагаются каторжным и ссыльным, – пишет Чехов, – отличаются чрезмерною суровостью… Наказания, унижающие преступника, ожесточающие его и способствующие огрубению нравов и давно уже признанные вредными для свободного населения, оставлены для поселенцев и каторжных, как будто ссыльное население подвержено меньшей опасности огрубеть, ожесточиться и окончательно потерять человеческое достоинство. Розги, плети, прикование к тележке – наказания, позорящие личность преступника, причиняющие его телу боль и мучения, – применяются здесь широко. Наказание плетями или розгами полагается за всякое преступление, будь то уголовное или маловажное; применяется ли оно, как дополнительное, в соединениями с другими наказаниями, или самостоятельно, оно все равно составляет необходимое содержание всякого приговора».[224]
Движимый намерением дойти до последнего круга этого ада, Чехов решился присутствовать при наказании плетьми. Чуть ли не больной от ужаса, он глядел, как врач выслушивает сердце преступника, чтобы решить, способен ли тот вынести положенные девяносто ударов, с каким поистине садистским любопытством, «умоляющим голосом, точно милостыни», просит военный фельдшер разрешения понаблюдать за происходящим, как медленно и методично похожий на силача-акробата, сам в свое время присланный на каторгу за убийство жены палач привязывает арестанта к «кобыле» – специальной скамье с отверстиями для привязывания рук и ног, а потом начинает экзекуцию, во время которой безмятежный надзиратель «дьячковским голосом» подсчитывает удары… Жертва визжит от боли, по обнаженному телу несчастного пробегает судорога, человек на глазах превращается в бесформенную массу окровавленной плоти.
«Палач стоит сбоку, – напишет потом Чехов в своей книге, – и бьет так, что плеть ложится поперек тела. После каждых пяти ударов он медленно переходит на другую сторону и дает отдохнуть полминуты. У Прохорова[225] волосы прилипли ко лбу, шея надулась; уже после 5—10 ударов тело, покрытое рубцами еще от прежних плетей, побагровело, посинело; кожица лопается на нем от каждого удара.
– Ваше высокоблагородие! – слышится сквозь визг и плач. – Ваше высокоблагородие! Пощадите, ваше высокоблагородие!
И потом, после 20–30 удара, Прохоров причитывает, как пьяный или точно в бреду:
– Я человек несчастный, я человек убитый… За что же это меня наказывают?
Вот уже какое-то странное вытягивание шеи, звуки рвоты… Прохоров не произносит ни одного слова, а только мычит и хрипит; кажется, что с начала наказания прошла целая вечность, но надзиратель кричит только: „Сорок два! Сорок три!“»[226] Задолго до конца экзекуции писатель, испытывая отвращение, вышел на улицу. Но даже на расстоянии он слышал монотонный голос надсмотрщика, подсчитывавшего удары, снова входил и выходил, а тот все еще считал… «Наконец, девяносто. Прохорову быстро распутывают руки и ноги и помогают ему подняться. Место, по которому били, сине-багрово от кровоподтеков и кровоточит. Зубы стучат, лицо желтое, мокрое, глаза блуждают. Когда ему дают капель, он судорожно кусает стакан… Помочили ему голову и повели в околоток.
– Это за убийство, а за побег еще будет особо, – поясняют мне, когда мы возвращаемся домой.
– Люблю смотреть, как их наказывают! – говорит радостно военный фельдшер, очень довольный, что насытился отвратительным зрелищем. – Люблю! Это такие негодяи, мерзавцы… вешать их!
От телесных наказаний грубеют и ожесточаются не одни только арестанты, но и те, кто наказывают и присутствуют при наказании. Исключения не составляют даже образованные люди»,[227] – делает вывод Антон, а в письме к Суворину рассказывает: «Присутствовал на наказании плетьми, после чего ночи три-четыре мне снился палач и отвратительная кобыла».[228]
Надо сказать, что нервная система Антона подвергалась испытаниям и менее наглядным. На Сахалине жили и женщины-каторжницы (примерно десять процентов всех заключенных), и свободные женщины, приехавшие сюда разделить участь своих приговоренных к каторге мужей. Как тем, так и другим для того, чтобы выжить, приходилось заниматься проституцией. Тюремщики приберегали для себя самых молодых и привлекательных, другие доставались их «подопечным». Продажа матерями совсем юных девушек богатым поселенцам или надсмотрщикам была здесь привычным делом. «Ввиду громадного спроса, – пишет Чехов, – занятию проституцией не препятствуют ни старость, ни безобразие, ни даже сифилис в третичной форме. Не препятствует и ранняя молодость. Мне приходилось встречать на улице в Александровске девушку шестнадцати лет, которая, по рассказам, стала заниматься проституцией с 9 лет. У девушки этой есть мать, но семейная обстановка на Сахалине далеко не всегда спасает девушек от гибели. Рассказывают про цыгана, который продает своих дочерей и при этом сам торгуется. Одна женщина свободного состояния в Александровской слободке держит „заведение“, в котором оперируют только одни ее родные дочери. В Александровске вообще разврат носит городской характер».[229]
Тощие, растерянные, неухоженные, безграмотные, одетые в лохмотья дети, живущие на острове, были развращены сызмальства. Некоторые и вовсе не знали своих родителей. Но тем не менее Чехов полагал, что присутствие детей оказывает ссыльным нравственную поддержку и что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения.
При этом в XVII главе книги, почти целиком посвященной детям, писатель с горечью замечает:
«Под какими впечатлениями воспитываются сахалинские дети и какие впечатления определяют их душевную деятельность, читателю понятно из всего вышеописанного. Что в России, в городах и деревнях, страшно, то здесь обыкновенно. Дети провожают равнодушными взглядами партию арестантов, закованных в кандалы; когда кандальные везут тачку с песком, то дети цепляются сзади и хохочут. Играют они в солдаты и арестанты. <…> Сахалинские дети говорят о бродягах, розгах, плетях, знают, что такое палач, кандальные, сожитель. Обходя избы в Верхнем Армудане, я в одной не застал старших; дома был только мальчик лет десяти, беловолосый, сутулый, босой; бледное лицо покрыто крупными веснушками и кажется мраморным.
– Как по отчеству твоего отца? – спросил я.
– Не знаю, – ответил он.
– Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно.
– Он у меня не настоящий отец.
– Как так – не настоящий?
– Он у мамки сожитель.
– Твоя мать замужняя или вдова?
– Вдова. Она за мужа пришла.
– Что значит – за мужа пришла?
– Убила.
– Ты своего отца помнишь?
– Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила».[230]
11 сентября Чехов в последний раз посетил южную часть острова и проинформировал Суворина, что гордится результатами своей работы: «…на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд». Но дальше жалуется: «Когда вспоминаю, что меня отделяет от мира 10 тысяч верст, мною овладевает апатия. Кажется, что приеду домой через сто лет».[231] И от матери не скрывает ни усталости, ни разочарования: «Я соскучился, и Сахалин мне надоел. Ведь вот уж три месяца, как я не вижу никого, кроме каторжных, или тех, которые умеют говорить только о каторге, плетях и каторжных. Унылая жизнь».[232]
Но вот наконец и отъезд! 13 октября Чехов поднимается на борт судна под названием «Петербург», которому предстоит, обогнув Азию, довезти путешественника до Одессы. Возвращение домой морем длилось больше двух месяцев, но в сравнении с переездом через Сибирь оно выглядело чуть ли не туристическим круизом. Одно время Чехов подумывал заехать по пути домой в Соединенные Штаты, но пришлось от этого отказаться: слишком дорого обошлась бы эта экскурсия. Отказался и от посещения Японии: миновал ее из-за холеры, преследовавшей его, как он шутил, «своими зелеными глазами». Гонконг с его чудесной бухтой чрезвычайно понравился Антону. Он, чуть стыдясь, признавался Суворину, что «ездил… на дженерихче, т. е. на людях, покупал у китайцев всякую дребедень», но с совсем другим чувством вспоминал о том, что «возмущался, слушая, как мои спутники-россияне бранят англичан за эксплуатацию инородцев. Я думал: да, англичанин эксплуатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, вы тоже эксплуатируете, но что вы даете?»[233] Он любовался бурным движением джонок в порту, ему нравились конки, железная дорога, взбегающая на гору, прогулки в колясочке рикши…
После выхода из гонконгского порта «Петербург» попал в шторм такой силы, что катастрофа казалась неизбежной. Капитан посоветовал Чехову держать при себе револьвер, чтобы можно было покончить с собой в случае кораблекрушения, ведь в воде кишели акулы. «Пароход был пустой и делал размахи в 38 градусов, так что мы боялись, что он опрокинется. Морской болезни я не подвержен – это открытие меня приятно поразило», – продолжается рассказ о путешествии домой в том же письме, и в следующей же фразе – о том, что поразило неприятно, о том, с каким тяжелым сердцем присутствовал на похоронах, происходивших в согласии с морскими обычаями: «По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море».[234] Это событие так потрясло писателя, что вскоре он сочинил рассказ – «Гусев», герой которого умирает в плавании, его вот так же, как виденных Чеховым на корабле покойников, выбрасывают за борт, и он идет ко дну, на пути к которому его ждет акула с жадно раскрытой пастью…
Если Сингапур показался Чехову печальным («…Мне почему-то было грустно; я чуть не плакал»), то на Цейлоне он, наоборот, открыл для себя земной рай («Здесь, в раю, я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами»). На Цейлоне Антон, кроме пальм, видел и слонов, и кобр, и индийских факиров, творивших настоящие чудеса, а главное – тех самых «бронзовых женщин» с таинственными улыбками. «Когда заведу детей, – исповедуется он Суворину, – скажу им не без гордости: „Сукин ты сын, знай же, что у меня в жизни была любовь с черноглазой индусской женщиной. А где и когда? Лунной ночью в лесу из кокосовых пальм!“ Михаил, очевидно, по рассказам брата, говорит об этом так: „За все эти перипетии он был вознагражден потом на острове Цейлон, в этом земном раю. Здесь он, под самыми тропиками, в пальмовом лесу, в чисто феерической, сказочной обстановке, получил объяснение в любви от прекрасной индианки“».[235] Своей любовной авантюрой Чехов похвалился и в письме брату Александру, который в ответ передал поклон его безымянной супруге, а также детишкам, которых он наплодил, путешествуя, по всему свету. Вот таким образом теперь и на Цейлоне заведутся Чеховы, посмеивался Александр. А Антон? Не имея возможности привезти в Россию жену цейлонского происхождения, он довольствовался тем, что приобрел на острове трех мангустов[236] с намерением акклиматизировать этих животных в России.
Тринадцать дней безостановочного плавания, последовавшие за визитом на Цейлон, показались Чехову вечностью. Единственной его радостью в эти долгие дни стало купание в открытом море. Он плавал рядом с кораблем, а матросы развлекались, глядя на него. Были и серьезные потрясения – как вид на гору Синай и на Константинополь, хотя в глубине души писатель чувствовал, что с него уже хватит экзотики. Сердцем, духом, душой и желудком он стремился поскорее попасть на родину.
И вот 1 декабря 1890 года нога его ступила наконец на российскую землю: пароход прибыл в Одессу. Антон немедленно сел в поезд, идущий в Москву. Предупрежденные телеграммой, Евгения Яковлевна и Михаил приехали встречать сына и брата в Тулу, где обнаружили его в вокзальном буфете с попутчиками. Столик окружала толпа любопытных: всем хотелось видеть мангустов, гуляющих по скатерти и заглядывающих в тарелки едоков. Объятия, слезы радости… Затем – снова в поезд, до Москвы оставалось всего ничего. А здесь Чеховы отправились уже не на Садовую-Кудринскую, в дом-комод, а на Малую Дмитровку, куда семья из соображений экономии перебралась еще осенью, в очередной раз сменив квартиру.
После семи месяцев изнурившего его паломничества Чехов был счастлив, найдя спокойное убежище среди родных, друзей и книг. «Ура! Ну вот наконец я опять сижу у себя за столом, молюсь своим линяющим пенатам и пишу к Вам. У меня теперь такое хорошее чувство, как будто я совсем не уезжал из дома. Здоров и благополучен до мозга костей», – написал он Суворину.[237] Чувство благополучия усиливалось от сознания того, что Антон вернулся домой, чтобы передать соотечественникам послание чрезвычайной важности. Он, совсем еще недавно проповедовавший, что писатель не должен учить себе подобных, ощущал себя теперь носителем истины, которую надо как можно скорее донести до людей. «Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы», – повторял он. Документов, собранных им на Сахалине, оказалось так много, что он в шутку грозил жениться на ком попало, лишь бы девица была способна разобраться в его бумагах. До чего ничтожными и смехотворными казались ему литературные споры и склоки теперь, когда он увидел то, что увидел! «До поездки „Крейцерова соната“ была для меня событием, – пишет он Суворину, – а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел – черт меня знает».[238]
Ему хотелось немедленно отчитаться перед всем миром о результатах своего пребывания на Сахалине, по горячим следам рассказать о злоупотреблениях тюремной администрации, об унижениях, которым подвергаются каторжники, об ужасающих условиях жизни женщин и детей. Но новый дом, маленький и шумный, стоящий в глубине двора, вовсе не располагал к работе. Толпы друзей, журналистов, просто любопытных осаждали двери. Кроме того, чересчур подвижные мангусты досаждали кошкам и собакам. Поскольку тут нельзя было вцепиться зубами в кобру – за неимением оной, – зверьки не задумываясь нападали на все подряд: одежду, обувь, продукты… «Ах, ангел мой, если б Вы знали, каких милых зверей привез я с собой из Индии! Это – мангусы, величиною со средних лет котенка, очень веселые и шустрые звери. Качества их: отвага, любопытство и привязанность к человеку. Они выходят на бой с гремучей змеей и всегда побеждают, ничего и никого не боятся; что же касается любопытства, то в комнате нет ни одного узелка и свертка, которого бы они не развернули; встречаясь с кем-нибудь, они прежде всего лезут посмотреть в кармане: что там? Когда остаются одни в комнате, начинают плакать. Право, стоит приехать из Петербурга, чтобы посмотреть их», – пишет он Леонтьеву (Щеглову),[239] а в письме Лейкину в тот же день, но, видимо, чуть позже хотя и дает своим зверькам ту же характеристику, но поведение их описывает несколько иначе: «Из Цейлона я привез с собою в Москву зверей, самку и самца, перед которыми пасуют даже Ваши таксы и превосходительный Апель Апелич.[240] Имя сим зверям – мангус. Это помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Сейчас они сидят в клетке, куда посажены за дурное поведение: они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, вообще ведут себя, как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Мангусов нет нигде в зоологических садах, они редкость. Брем никогда не видел их и описал со слов других под именем „мунго“. Приезжайте посмотреть на них».[241]
Вскоре мангусты сотворили в квартире такой беспорядок, что Чехову пришлось отдать двоих в Московский зоопарк, надеясь, что, оставшись в одиночестве, третий зверек перестанет быть таким эксцентричным. Но и им у писателя совершенно не было времени заниматься. Финансы семьи таяли, опускаться ниже было некуда. Чтобы как-то поправить дела, писателю пришлось срочно отредактировать написанный во время путешествия рассказ «Гусев» и отправить его в «Новое время». После этого, отложив пока репортаж с Сахалина, он, на пределе сил, принялся за новую повесть – «Дуэль». Работа ради хлеба насущного мешает мне заняться Сахалином, жаловался Антон Суворину.
К профессиональным делам и семейным заботам, все более угнетающим, прибавились и проблемы со здоровьем. Хотя в долгом путешествии Антон чувствовал себя относительно хорошо, стоило ему вернуться в Москву, сразу же начались дикие головные боли, приступы кашля, его одолевала слабость, перебои в сердце. 17 декабря он пишет своему обычному исповеднику Суворину, что «после тропиков простудился: кашель, жар по вечерам и голова болит», а еще через неделю приводит новые подробности: черт его знает, что со мной происходит, в любой момент сердце останавливается и в течение нескольких секунд вовсе не бьется…
От всего этого портилось настроение. Друзья стали утомлять Чехова, докучливые посетители вызывали желание кусаться, он не мог больше терпеть ни присутствия брата Михаила, возгордившегося новеньким мундиром чиновника шестого класса, ни умиления родственников этим ничтожным успехом «вхождения во власть».
И в первые же дни нового 1891 года Антон сбежал в Петербург, снова – охота к перемене мест. 8 января он прибыл в столицу и обосновался у Сувориных. Но и здесь незнакомые люди бесконечно терзали его вопросами о путешествии. В одном из писем сестре он называет свою жизнь стихийным бедствием, жалуется, что не успевает строки дописать, как раздается звонок в дверь и кто-нибудь заявляется поговорить о Сахалине, в другом сообщает: «Я утомлен, как балерина после пяти действий и восьми картин. Обеды, письма, на которые лень отвечать, разговоры и всякая чепуха».[242]
Но приходится принимать все это: отвечая на любые приглашения, Чехов пытается создать общественное мнение, которое помогло бы решить проблемы несчастных сахалинских детей. Он рассчитывает, что его гости хотя бы соберут школьные учебники, чтобы отправить их маленьким каторжанам. И, несмотря на уклончивость и сдержанность власть имущих, ему таки удается получить две тысячи книжек, которые затем упакуют в ящики и пошлют ребятишкам на край света…
Путешествие Чехова на Сахалин, оцененное поклонниками писателя как проявление великодушия, некоторые писатели и журналисты, боявшиеся Антона как соперника, воспринимали с насмешкой. Упрекали его в подражании Достоевскому, раз он захотел побывать в среде каторжан, упрекали в том, что он стремится сделать себе рекламу за счет заключенных. С первых же дней пребывания в столице Чехов почувствовал за улыбками и поздравлениями непонятную ему враждебность. «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей»,[243] – пишет он Марии в том же письме, что процитировано чуть выше.
Между другими появилась – за подписью Буренина – и статья в «Новом времени», в которой Чехова, как, впрочем, и Короленко, и Успенского, ставили в ряд писателей, что начинают увядать, вместо того чтобы «расцветать не по дням, а по часам». Далее в этой статье содержался уже намек только на Чехова: «Подобные средние таланты разучаются смотреть на окружающую жизнь и бегут куда глаза глядят, в Сибирь, за Сибирь – во Владивосток, на Сахалин».[244] Другая сплетня, передававшаяся из уст в уста, гласила: раз Чехов отправился на Сахалин, то исключительно потому, что вдохновение его угасло, а там он в отчаянии безуспешно искал новые сюжеты. Говорили еще, будто своими успехами писатель обязан целиком и полностью финансовой поддержке богатейшего издателя «Нового времени», который управлял продвижением своего друга. Более того, Леонтьев (Щеглов) упоминает в своем «Дневнике» о том, что несколько молодых и злоязычных собратьев по перу распространяют и такой слух: «Чехов попросту содержанка Суворина».
Настороженный злословием, не оставлявшим его в покое, Чехов тем не менее ничуть не изменил привязанности и почтения к тому, кого считал своим лучшим другом, и, когда Суворин предложил ему совершить вместе большое путешествие по Европе, с радостью согласился. В одном из посланий Киселевой он, ссылаясь на то, что, в сущности, не успел еще отдохнуть хорошенько после долгого вояжа, шутил: «В писании сказано: он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Так и я: ахнуть не успел, как уже неведомая сила опять влечет меня в таинственную даль»,[245] в другом – самому Суворину – открыто радовался тому, что они отправляются в путь, говорил, что согласен ехать, куда только друг пожелает, что душа его полна восторга и что было бы огромной глупостью с его стороны отказаться, потому как вряд ли еще представился бы подобный случай. Сестра, видя поистине мальчишескую увлеченность Чехова возможностью странствий, только вздыхала: «Непоседа ты, Антоша!»
Однако, прежде чем устремиться к новым впечатлениям и новым открытиям – там, за горизонтом, Чехов решил увидеть ту, чей талант превозносил весь Петербург: знаменитую Дузе, которая в это время гастролировала в столице с «Антонием и Клеопатрой» Шекспира. Я не итальянец, писал он сестре, но она так великолепно играла, что мне казалось, будто я понимаю каждое слово. В понедельник, 17 марта, Антон с Сувориным и сыном последнего Алексеем уехали за границу.
Если по Сибири, всего несколько месяцев тому назад, Чехов путешествовал в раздолбанных повозках, в которых его подбрасывало на ухабах, теперь он наслаждался комфортом спальных вагонов «с зеркалами, большими окнами и коврами». Эта бонбоньерка на колесах рождала в нем ощущение, будто в нем поселилась «душа Нана железных дорог». Все, на его взгляд, выглядело элегантным и изысканным. Роскошные магазины приглашали осуществить самые безумные мечты. Огромные церкви были построены так, что напоминали «кружевную паутину». Кучера фиакров, словно денди, носили цилиндры и – вещь в России невероятная! – ожидали седоков, почитывая газетки. На каждой улице он натыкался на книжный магазин. «Странно, – писал Чехов сестре, – что здесь можно все читать и говорить, о чем хочешь».[246]
Накупив подарков для родных и приобретя несколько галстуков для себя, Антон с Сувориными двинулся в сторону Венеции, где русские путешественники остановились в отеле Бауэра. Чехов был просто ослеплен открывшимся ему городом-музеем. «Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел, – пишет он на третий день пребывания брату Ивану. – Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изумительная, и нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса. Плывешь в гондоле и видишь дворцы дожей, дом, где жила Дездемона, дома знаменитых художников, храмы… А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование. <…>Мережковский,[247] которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь, в мире красоты, богатства и свободы, не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».[248]
В отличие от Мережковского, на которого особенное впечатление произвели архитектура города и сокровища в его собраниях произведений искусств, Чехову были не в меньшей степени интересны ничего вроде бы не значащие детали: физиономия гида с лысым черепом, голос торговки фиалками, звуки мандолины в сумерках, бесконечный перезвон колоколов или сборища голубей посреди площади Святого Марка. Но его восхищение Венецией с первыми дождями стало угасать. «Venezia bella»[249] сразу же перестала быть «bella»,[250] пишет он сестре, от всей этой воды создается ощущение печали и скуки, и хочется поскорее сбежать отсюда туда, где солнечно.
Итак, разочарования начались уже в Венеции, дальнейшее же путешествие по Италии – Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь – вообще подарило писателю меньше радостей, чем разочарований. Как добросовестный и усердный турист он посещал все места, какие положено, но чудес оказалось в избытке, и аппетит перестал «расти во время еды», а наоборот – наступило пресыщение. Он устал бегать по музеям и рассматривать памятники. «От хождения болит спина и горят подошвы», – писал он родным.[251] А Киселевой из Рима – подробнее: «Видел я все и лазил всюду, куда приказывали. Давали нюхать – нюхал. Но пока чувствую одно утомление и желание поесть щей с гречневой кашей. Венеция меня очаровала, свела с ума, а когда выехал из нее, наступили Бэдекер и дурная погода».[252] К концу каждого дня ему начинало казаться, будто этот «Бэдекер» он проглотил и тот застрял у него в желудке. Вечный город, где Антон так затосковал по гречневой каше, не понравился: в дождливую погоду напомнил Харьков; Неаполь, пленив красотой бухты, неприятно поразил грязью на улицах. Но все-таки страна в целом показалась благословенным краем, и он повторял, что, был бы художником, непременно поселился бы в Италии зимой. «Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство и в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость», – поделится он впечатлениями с Машей.[253]
Каждодневной заботой Чехова в поездке были непомерные расходы. Он утверждал, что, поехав один, мог бы уложиться в четыреста рублей, а вот Суворин заставляет его жить «как дож или как кардинал», останавливаться в лучших отелях и посещать самые роскошные рестораны. В конце концов, как предполагал Антон, его долг издателю и другу вырастет по меньшей мере до тысячи, и снова он не сможет рассчитывать ни на кого и ни на что, кроме собственного адского труда, чтобы расплатиться.
Следующей страной, куда Суворин привез Чехова, стала Франция. По дороге заехали в Монте-Карло, атмосферой своей показавшийся писателю похожим «на хорошенький… разбойничий вертеп». Вся жизнь на этой горе была ради денег, ради карт, вся жизнь – только напоказ. Самый воздух был словно бы пропитан этим наваждением. Но тем не менее Чехов отправился в казино и, охваченный лихорадкой, свойственной игрокам в рулетку, просадил там девятьсот франков. «Конечно, ты воскликнешь по моему адресу „какой позор! какое бесчестье!“, – оправдывался он перед братом Мишей в письме от 15 апреля, – мы, мол, такие бедные, а он играет в рулетку! Это вполне справедливо, и я разрешаю вам придушить меня по возвращении, но на самом деле доволен собой. По крайней мере теперь смогу сказать внукам, что играл в рулетку и знаю, какие ощущения дает эта игра».
Шутки шутками, проигрыш проигрышем, но внезапная страсть к игре отнюдь не помешала Чехову вынести приговор ее святилищу. Потому что продолжает письмо он так: «…Боже ты мой, Господи, до какой степени презренна и мерзка эта жизнь с ее артишоками, пальмами, запахом померанцев! Я люблю роскошь и богатство, но здешняя рулеточная роскошь производит на меня впечатление роскошного ватерклозета. В воздухе висит что-то такое, что, вы чувствуете, оскорбляет вашу порядочность, опошляет природу, шум моря, луну».[254]
Приведенный в ужас Монте-Карло, названным в конце концов «кокоткой», Чехов сначала прельстился Парижем как «очагом цивилизации». Однако первый же непосредственный контакт с городом оказался суровым. Побежав в первый же день осматривать Эйфелеву башню, писатель неожиданно для себя, увлеченный людским потоком, очутился в самой гуще рабочих, вышедших на первомайскую демонстрацию.[255] Полиция наступала на манифестантов, и Чехов хвастался в письмах, что тоже «сподобился»: ажан схватил его за лопатку и стал толкать впереди себя.
Но это небольшое приключение ничего не изменило в чеховских планах знакомства со столицей Франции. Он побродил по Всемирной выставке, восхитился «очень, очень высокой» Эйфелевой башней, посмеялся, глядя на восковые фигуры музея Гревен, даже поприсутствовал на заседании парламента. Демонстрация в Париже была не единственной, прошли они также в Лионе, Марселе и маленьком городке Фурми, где народные волнения длились несколько дней и где в стычках с полицией было девять человек убито и шестьдесят ранено. Депутаты сделали по этому случаю соответствующий запрос министру внутренних дел, вот Чехов и отправился в парламент послушать, как пройдет обсуждение этого запроса. «Заседание было бурное и в высшей степени интересное», – написал он Маше, но о подробностях умолчал. Однако можно понять, что для русского человека было удивительно: как это обыкновенные представители народа могут, да еще с подобной горячностью, нападать на местные власти? Решительно – во Франции революция 1789 года еще не закончилась!
Перед отъездом в Москву Чехов решил посетить художественный салон. Там он убедился, что русские художники идут далеко впереди французских, и написал сестре Маше: «В сравнении с французскими пейзажистами… Левитан король».[256] Правда, незадолго до того Антон разбил свое пенсне, и близорукость мешала ему оценить новые для него картины по достоинству, более того – той же Маше он пожаловался, что без очков стал настоящим мучеником, а брата Мишу попросил прислать другое пенсне, оставленное дома. В остальном его куда меньше интересовали музеи и выставки, чем тысячи личин, в которых представали ему бурлящие улицы Парижа, шумные и веселые, чем террасы маленьких кафе, где рядом с сидящими за столиками парижанами он чувствовал себя среди своих. В противоположность тому, что происходило в России, здесь Чехов отмечал почти полное отсутствие военщины. И говорил, что во Франции рождается странное ощущение полной – почти до беспорядка – свободы, а французский народ называл «превосходным».
Новый приятель Чехова из русской колонии в Париже, оказавшийся, впрочем, давним знакомым (будучи гимназистом, жил нахлебником в семье Чеховых в Таганроге), журналист Павловский решил познакомить Антона с ночной жизнью города и принялся водить его по кабачкам, кунсткамерам, кафешантанам. Но оказалось, что именно этот Париж, до которого всегда столь охочи приезжие, и не понравился писателю. «Человеки, подпоясывающие себя удавами, дамы, задирающие ноги до потолка, летающие люди, львы, кафешантаны, обеды и завтраки начинают мне противеть, – сообщил он Маше. – Пора домой. Хочется работать».[257]
В том году впервые Чехов оказался на Пасху вдали от семьи. Еще в Ницце в Вербное воскресенье он пошел в православную церковь. Но вместо вербы там были пальмовые ветви, в хоре пели не мальчики, а дамы, и все это напоминало Антону не богослужение, а оперу. «Без вас мне в Пасхальную ночь будет ужасно скучно…» – признавался он родным.[258] Так и получилось: праздничная литургия в православной церкви при посольстве не смогла заменить ему оживленных улиц Москвы, перезвона кремлевских колоколов, домашнего стола с крашеными яйцами, куличами и пасхой, традиционными пасхальными яствами, троекратного обмена поцелуями со знакомыми и незнакомыми людьми, сопровождавшегося возгласом «Христос воскресе!». Но Суворин все еще просил не укладывать чемоданов.
И только 27 апреля Чехов смог написать брату Михаилу, что сегодня же выезжает в Россию – хватит, дескать, путешествовать, с меня довольно. Повторил то же, что уже сказал Маше: «Хочется работать» – и подписался по-французски: «Ton Antoine».[259]
«Антуан» прибыл в Москву 2 мая 1891 года, проведя за границей почти шесть недель. На Сахалине он увидел воочию все мерзости рабства, на Западе познакомился с самой сутью цивилизации. Россия, куда он возвращался с сыновней любовью, располагалась для него между двумя этими крайностями.
Глава IX Помещик
На следующий день после возвращения к родным пенатам Чехов, даже не распаковав чемоданов, отправился вместе со всем семейством на снятую без него дачу в Алексине неподалеку от Москвы. Нашел эту летнюю резиденцию, пока брат путешествовал, Михаил. В домике было четыре комнаты, окна выходили на Оку и на железнодорожный мост. С самого начала Чехову показалось здесь тесно, неуютно, да и вообще эта дача, как он признавался, не вызвала в нем никаких ощущений, кроме печали и скуки. Две недели спустя Антон Павлович принял решение убраться подальше от Алексина, подвернулся удобный случай, и все семейство снова переместилось – несколькими верстами дальше, в Богимово, чтобы занять там второй этаж огромного дома, при котором был устроен великолепный старинный парк с аллеями и прудами. «Заброшенной поэтической усадьбой» называл новую свою резиденцию писатель. «Что за прелесть, если бы Вы знали! – рассказывает он Суворину. – Комнаты громадные, как в Благородном собрании, парк дивный с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих стариков и все, все удобства. Цветет сирень, яблони, одним словом – табак! <…> Ну отчего бы Вам не приехать ловить рыбу? Здесь карасей и раков видимо-невидимо».[260] А в другом письме тому же адресату: «Какое раздолье! В моем распоряжении верхний этаж большого барского дома. Комнаты громадные; из них две величиною с Ваш зал, даже больше; одна с колоннами; есть хоры для музыкантов. Когда мы устанавливали мебель, то утомились от непривычного хождения по громадным комнатам. Прекрасный парк; пруд, речка с мельницей, лодка – все это состоит из множества подробностей просто очаровательных… Караси отлично идут на удочку. Я вчера забыл о всех печалях: то у пруда сижу и таскаю карасей, то в уголке около заброшенной мельницы и ловлю окуней… Я буду ждать Вас. Хорошо бы Вам поспешить, а то скоро перестанут петь соловьи и отцветет сирень».[261]
Писатель устроился наконец там, где у него были все условия для труда и отдыха.
Но по-прежнему мучительными оставались денежные проблемы. Путешествуя по Европе, Чехов сильно задолжал Суворину. И пусть теперь сестра Мария и братья Михаил и Иван стали сами зарабатывать на жизнь, оставался Александр, который буквально вопил о своей нищете после рождения очередного малыша,[262] да и отец, который, перестав работать у Гаврилова, поселился с семьей, тоже вошел в число нахлебников. Чтобы пополнить семейный бюджет, Чехов решил вести атаку сразу по трем фронтам: по понедельникам, вторникам и средам он станет работать над своим очерком о Сахалине, где покажет, как каторжники, лишенные всякой надежды вернуться в родные края, теряют одновременно и представления о нравственности, и понятия о реальности; по четвергам, пятницам и субботам будет продолжать трудиться над повестью «Дуэль», а воскресенье отведет на «рукоделие»: вместо других развлечений примется пописывать короткие рассказы.
Поднимаясь на рассвете – часа в четыре, в пять, не позже, он сам варил себе кофе, потом садился за работу, но не за столом, а на подоконнике: так, отрывая взгляд от бумажного листа, он видел парк… В одиннадцать часов – перерыв: либо поход за грибами, либо рыбная ловля. После обеда, который собирал семью всегда в одно и то же время, в час дня, короткий сон, а едва проснувшись – снова за перо, и так – до вечера. Терзаемый угрызениями совести, Чехов сознавался, что ему куда интереснее писать «Дуэль», чем «Остров Сахалин», и что нередко он мошенничает, отдавая дни, предназначенные репортажу с острова, этой повести. А репортаж между тем продвигался медленно, мучительно и неуверенно. «Пишу свой Сахалин и скучаю, скучаю… Мне надоело жить в сильнейшей степени», – делится он с Сувориным, но спустя всего двое суток разъясняет, как на самом деле складывается работа: «Сахалин подвигается. Временами бывает, что мне хочется сидеть над ним 3–5 лет и работать над ним неистово, временами же в часы мнительности взял бы да и плюнул на него. А хорошо бы, ей-богу, отдать ему годика три! Много я напишу чепухи, ибо я не специалист, но, право, напишу кое-что и дельное. А Сахалин тем хорош, что он жил бы после меня сто лет, так как был бы литературным источником и пособием для всех, занимающихся и интересующихся тюрьмоведением».[263]
Отдав трудам праведным почти все утреннее и пополуденное время, Чехов с облегчением возвращался в семейный круг за ужином. Встав из-за стола, хозяева и гости собирались в огромной гостиной и болтали там, как заведено у русских, обо всем на свете, беспечно засиживаясь за разговорами допоздна. Как всегда, в доме было полно народу. Чехов чувствовал себя, по собственному признанию, как рак в садке с кучей других раков. Были здесь Наташа Линтварева с ее заразительным смехом, зоолог Вагнер, занимавшийся исследованием пауков и отчаянно споривший со всеми о наследственности и естественном отборе, была семья Киселевых, приезжал художник Левитан, а главное – Лика Мизинова.[264]
За последние два года эта прелестная девушка стала близким другом всей семьи. Лика была на десять лет моложе Антона Павловича, пылала к нему робкой страстью и каждый день ждала, что он ответит ей тем же. Он же, со своей стороны, хотя и был сильно привязан к милой Лике, взял на себя в их отношениях роль любящего, но насмешливого старшего брата. И, не признаваясь в этом даже себе самому и постоянно подшучивая над Ликой, стремился уберечь себя от колдовского очарования, исходившего от нее – с ее свежестью, пикантностью, меланхолическим остроумием. Изо всех сил Чехов старался защитить свое внутреннее одиночество, приносившее ему страдания, но необходимое для работы. Что ему делать с женщиной, пусть даже и желанной, если вся его жизнь состоит из чернил и бумаги? Польщенный тайной любовью, которая расцветала в его тени, он не хотел ни поощрять Лику с ее робким чувством, ни разочаровывать ее и писал ей нежно-насмешливые записочки, которые можно было трактовать как угодно. Он давал девушке забавные прозвища, советовал бежать от этого прохвоста Левитана, обольстителя юных девиц, критиковал саму Лику за то, что она, дескать, ест слишком много мучного, курит, позволяет себе лениться и склонна к беспорядку. Укоряя девушку в том, что она не приехала, как обещала, Чехов пишет: «Мы часто ходим гулять, причем я обыкновенно закрываю глаза и делаю правую руку кренделем, воображая, что Вы идете со мной под руку», или даже – «Я люблю Вас страстно, как тигр, и предлагаю Вам руку. Предводитель дворняжек Головин-Ртищев. P.S. Ответ сообщите мимикой. Вы – косая». Лика отвечала в тон: «Мне ужасно хочется попасть поскорее в Богимово и повисеть у Вас на руке, чтобы потом у Вас три месяца ломило и сводило руку и Вы постоянно вспоминали бы обо мне с проклятием».[265]
Итак, в шутку Антон Павлович на разные лады предлагал Лике руку, но в действительности еще более, чем всегда, хотел сохранить эту руку свободной, чтобы писать. Убежденный холостяк, даже в то время, когда Лика жила под его кровом, он объявлял Суворину: «Жениться я не намерен. Я бы хотел теперь быть маленьким, лысым старичком, сидеть за большим столом в хорошем кабинете».[266]
Иногда, чтобы вечера в Богимове проходили повеселее, там играли в рулетку, смастеренную Чеховым, причем он сам исполнял роль крупье. Дети Киселевых – «киселята» от восьми до двенадцати лет – инсценировали рассказы Чехова, ставя и разыгрывая домашние спектакли, после них показывали «живые картины», а иногда и устраивали факельные шествия по парку, страшно всех, в том числе и писателя, порой принимавшего в них участие, забавлявшие. Дети были буквально околдованы мангустом. Однажды тот потерялся в лесу, повергнув тем самым все семейство в глубочайшее уныние, но через некоторое время нашелся, по случаю чего был устроен праздник.
Как обычно, местные крестьяне приходили лечиться к доктору, которого им словно бы сам Бог послал. Об одном случае Чехов так рассказывает в письме к Суворину: «Везла баба рожь и свалилась с воза вниз головой. Страшно разбилась: сотрясение мозга, вытяжение шейных позвонков, рвота, сильные боли и проч. Привезли ее ко мне. Она стонет, охает, просит у Бога смерти, а сама глядит на мужика, который ее привез, и бормочет: „Ты, Кирилл, брось чечевицу, после отмолотишь, а теперь овес молоти“. Я ей говорю, что после об овсе, а теперь, мол, есть поговорить о чем посерьезнее, а она мне: „Овес-то у него очень хороший!“ Хлопотливая, завидющая баба. Таким легко помирать».[267]
Вместе с этим письмом Чехов отправил Суворину рукопись законченной им «Дуэли». Что до сахалинского репортажа, тот опять застопорился. Для самого писателя этот рассказ о каторге стал похож на каторжные работы. Недовольный этим и самим собой, он признается несколько дней спустя все тому же Суворину: «В последнее время я стал чертовски мнителен. Мне все кажется, что на мне штаны скверные, и что пишу я не так, как надо, и что даю больным не те порошки. Это психоз, должно быть», и чуть дальше: «У меня в сарае холодно. Я бы хотел теперь ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, никогда я не буду толстовцем! В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества – культуру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах и остроте мысли!» – и сразу за этим повторяет, видимо, понравившуюся самому свою майскую шутку: «Ах, поскорее бы сделаться старичком и сидеть бы за большим столом!»[268]
Ему было уже невмоготу жить в Богимове. С приближением осени он размечтался о том, чтобы отправиться вслед за перелетными птицами, вот только куда? В Крым, в Норвегию, в Америку?
Но мечты так и остались мечтами: в начале сентября Чехов возвращается в семейное гнездышко на Малой Дмитровке. Жизнь в деревне, общение с природой и крестьянами только в еще большей степени настроили его против блуждавших в тумане русских интеллектуалов. Для начала он в гневе напал на Льва Толстого: «Я третьего дня читал его „Послесловие“. Убейте меня, но это глупее и душнее, чем „Письма к губернаторше“,[269] которые я презираю. Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ничего ему за это не будет. Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из „Холстомера“».[270] Так Чехов писал Суворину 8 сентября, но проходит всего каких-нибудь два с небольшим месяца – и вот он уже восхищается благородством великого старца с бородой пророка, преклоняется перед авторитетом писателя, царящего в России из глубины своего уединения в Ясной Поляне. В тот год случилась страшная засуха, и на страну обрушился голод. Опасаясь крестьянских волнений, правительство подвергало жестокой цензуре наиболее тревожные статьи в прессе, одновременно с этим запретив частным лицам собирать средства и оставив возможность помогать жертвам только Красному Кресту и Церкви. Толстой немедленно отозвался. Используя именно авторитет свой, делавший его неуязвимым, писатель беспрерывно призывал общество к милосердию, собирал деньги, объезжал сам наиболее пострадавшие края, создавая там с помощью своих дочерей сотни пунктов, где выдавалось бесплатное питание голодающим. Восхищенный этой благотворительной кампанией, в одиночку организованной писателем под носом у бездействующего правительства, Чехов восклицает: «Толстой! Ах, этот Толстой! В наше время – это не человек, это сверхчеловек, это Юпитер!»[271]
Сам он хотел бы как врач прийти на помощь тысячам голодающих крестьян и уже связался со старым знакомым – Евграфом Егоровым, земским начальником в Нижегородской губернии. Но заразился от приехавшего к нему потолковать о литературе Суворина сильнейшим гриппом, который дал осложнения на легкие, а в результате – промаялся целый месяц, не вставая с постели. И без того чрезвычайно медленный процесс выздоровления был усугублен целой серией печальных событий: один за другим умирали любимые, близкие люди: тетя Федосья, поэт Пальмин, дорогая его сердцу Зинаида Линтварева… Тетка Федосья скончалась от семейной болезни – туберкулеза, и у Чехова теперь уже не осталось ни малейших сомнений насчет собственной судьбы. Но тем не менее он отказывался от всякого активного лечения, от всякого последовательного курса терапии. Думаю, что здоровье мое уже никогда не станет таким крепким, каким было когда-то, пишет он Суворину еще 18 ноября, но что тут остается, кроме как положиться на Бога! Говорит, что уход за ним и забота о его физическом состоянии вызывают у него отвращение, что не хочет лечиться, что готов пить минеральные воды и принимать хинин, но даже и не позволит никому свои легкие выслушать…
И как только Чехов – по его собственному выражению, «похожий на утопленника» – смог подняться с постели, он кинулся в бурную деятельность, стремясь помочь Егорову в осуществлении его планов спасения. Вот как он описывает это, одновременно призывая принять участие в операции, помещику Смагину: «Я сижу безвыездно в Москве, но между тем дело мое в Нижегородской губ. кипит уже, кипит! Я вместе со своим приятелем, земским начальником, прекраснейшим человеком, в самом глухом участке Нижегор. губ., где нет ни помещиков, ни докторов, ни даже интеллигентных девиц, которых теперь даже в аду много, затеяли маленькое дельце, на котором думаем нажить этак тысяч по сто. Помимо всяких голодных дел, мы главным образом стараемся спасти урожай будущего года. Оттого, что мужики за бесценок, за гроши продают своих лошадей, грозит серьезная опасность, что яровые поля будут не вспаханы и что таким образом опять повторится голодная история. Так вот мы скупаем лошадей и кормим, а весною возвратим их хозяевам. Дело наше стоит уже крепко на ногах, и в январе я поеду туда созерцать плоды. Пишу Вам сие вот для чего. В случае если во время шумного пира Вам или кому-нибудь случится собрать хоть полтинник в пользу голодающих, или если какая-нибудь Коробочка завещает с тою же целью рубль, и если Вы сами выиграете в стуколку 1000 рублей, то помяните нас грешных в своих святых молитвах и уделите нам частицу от щедрот! Это не сейчас, а когда угодно, но не позже весны. Весною лошади уже будут не наши. О каждой потраченной копейке жертвователь получит самый подробный отчет».[272] В надежде собрать приличную сумму Чехов публиковал обращения в газетах, сотнями отправлял такие письма, как Смагину, своим приятелям или просто знакомым, делал визиты к предполагаемым благотворителям. Играю в даму-патронессу, – пошутил он в письме к архитектору Шехтелю. И деньги постепенно начали поступать, правда, очень мелкими суммами. Антон Павлович скрупулезно их подсчитывал, а как только удавалось собрать хотя бы несколько рублей – капля в море! – посылал их своему другу в Нижегородскую губернию.
Разочарованный тем, как медленно движется дело, Чехов в конце декабря отправился в Санкт-Петербург, чтобы попытаться там собрать более внушительные суммы. Не успел он приехать, как на него посыпались приглашения на светские приемы и обеды, где довелось встретиться с собратьями по перу, о которых он теперь уже и не знал, то ли искать их общества, то ли опасаться его. На следующий день после встречи Нового года Чехов с Сувориным отправился к Худекову[273] на обед в честь 25-летия его издания и здесь снова, после долгого перерыва, встретил Лидию Авилову. По свидетельству молодой женщины, хотя после первой ее встречи с Антоном Павловичем прошло целых три года, разговор тут же принял весьма романтический характер. Если верить ей, то говорили они, ощущая присутствие рока, что с трудом можно представить себе, когда речь идет о Чехове: будто бы они встретились впервые в какой-то прошлой жизни, а все дальнейшее было медленным движением сквозь века навстречу друг другу, вплоть до нынешнего свидания. Антон Павлович якобы сказал Лидии, что когда они встретились три года назад, то не познакомились, а просто нашли друг друга после долгой разлуки, и такое чувство, чувство давней близости, может быть только взаимным; на ее слова, что в той, давно забытой жизни, они были друг другу кем угодно, только не мужем и женой, собеседник якобы возразил: не кто угодно, а любящие друг друга люди, молодые и погибшие при кораблекрушении… И так далее – со множеством подробностей. Может быть, Чехов и говорил все это, но – шутя, тогда как Лидия Авилова принимала все его заверения за чистую монету. Больше того, она утверждала, будто, представив Чехова своему мужу, заметила, что мужчины поклонились друг другу с ледяной вежливостью. Прощаясь, Лидия пообещала Чехову, что станет присылать ему свои рассказы, тот любезно согласился их читать. Они всего лишь время от времени обменивались письмами, изредка встречались. Но это не помешало Лидии Авиловой объявить в своей книге «А.П. Чехов в моей жизни», что между ними была история любви, никому не известная, хотя она длилась десять лет…
Однако сам Чехов был настолько далек от того, чтобы чувствовать себя замешанным в эту «историю любви», что даже не искал возможности снова увидеть пылкую молодую женщину в течение всего времени своего пребывания в Санкт-Петербурге. Зато он очень сильно заинтересовался в это же время очаровательной украинской актрисой Марией Заньковецкой, пообещал написать пьесу специально для нее, провел с ней ночь, попивая шампанское, и повез кататься на санках с ледяных гор в окрестностях столицы.
А как же голод на фоне всех этих пиров и праздников? Нет, Чехов конечно же не забывал о несчастных крестьянах, как бы его жизнь ни выглядела со стороны. Едва вернувшись в Москву,[274] он тут же уехал в Нижний Новгород, чтобы встретиться там со своим другом Егоровым и обсудить, что бы еще можно было сделать в помощь голодающим. Предавшись заботам об этих людях, он испытывал странное ощущение, будто продолжает свою деятельность на пользу каторжников Сахалина. Здесь, как и там, он трудился ради того, чтобы возвысить человеческое достоинство. Несмотря на сильные морозы, он решил объездить в санях наиболее пострадавшие деревни. Во время одного из таких путешествий попал в снежную бурю, чуть не заблудился и потом признавался, что было ему очень страшно. На местах положение и впрямь оказалось драматическим. Пусть даже власти, под впечатлением от происходящего, не пресекали больше частной инициативы, но, несмотря на все усилия Чехова, благотворители попадались все реже и реже. Не было бы никакого голода в Нижнем Новгороде, писал он Суворину 22 января 1892 года, если бы слова у москвичей и петербуржцев не расходились с делами. После недели странствий по занесенным снегом проселочным дорогам серьезная простуда, осложнившаяся сильной болью в спине, вынудила Антона Павловича как можно скорее вернуться в Москву, чтобы полечиться.
Дома он узнал, что поведение оставшегося мангуста окончательно вышло за рамки приличий и тот творит нечто невообразимое, а потому первым делом, ощущая смутное чувство вины, решился отдать и этого мангуста в Московский зоопарк, где уже находились двое его «соплеменников». Наступило короткое время передышки, Чехов успел написать несколько писем, но уже 2 февраля 1892 года отправился в новую экспедицию: на этот раз вместе с Сувориным в Воронеж. Пребывание там дало больше результатов, чем в Нижнем Новгороде, но присутствие рядом Суворина придавало поездке официальный характер, и это раздражало Чехова. Заметный в России человек, пользующийся доверием правительства, издатель «Нового времени» производил огромное впечатление на местные власти. В связи с его приездом были организованы приемы, обеды и ужины, на которых Антону Павловичу, тая в сердце гнев, приходилось присутствовать. Он просто не мог вынести противной его душе обстановки, этих роскошно накрытых столов в ту пору, когда мужики в деревнях умирали с голоду. Друг казался ему смешным, когда принимался играть роль авторитетного и обаятельного администратора, неизменно проявляя при этом полную свою некомпетентность и безалаберность, запутывая все, что только возможно было запутать.
Едва выдержав десять дней, Чехов вернулся в Москву с ощущением, что потерял кучу времени на пустую болтовню. В сравнении с полупровалом собственной миссии успех Толстого в борьбе с голодом казался ему еще более впечатляющим. Старый пророк-утопист из Ясной Поляны сумел организовать помощь голодающим куда лучше, чем практикующий врач с прагматическим настроем ума! На самом деле с годами Чехов все меньше и меньше воспринимал себя как врача, но был убежден, что и как писателю ему не хватает надлежащего образа жизни и обстановки, которая способствовала бы расцвету его искусства. «Ах, подруженьки, как скучно! – с горечью писал он Суворину еще в октябре 1891 года. – Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке, с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита – это не жизнь, а какой-то […] и больше ничего».[275]
Единственным лекарством от этой «скуки», как ему казалось, могла бы стать покупка удобного дома в деревне. Благодаря этому он смог бы, во-первых, сократить свои расходы, потому что всякому известно: жизнь в деревне дешевле городской; во-вторых, на свежем воздухе он поправил бы свое здоровье; в-третьих, избежал бы городской суеты; в-четвертых, поскольку его меньше тревожили бы свои и посторонние, он смог бы посвятить себя творениям, рассчитанным на долгий срок работы. Впрочем, даже если он поселится в деревне, ничто ведь не помешает ему зимой ездить в Санкт-Петербург, чтобы встречаться там с друзьями и знакомиться с театральными премьерами… «Ах, свободы, свободы! Если я буду проживать не больше двух тысяч в год, что возможно только в усадьбе, то я буду абсолютно свободен от всяких денежно-приходо-расходных соображений. Буду тогда работать и читать, читать…»[276] – писал он в одном из писем Суворину, а спустя неделю уточнял: «А я все мечтаю и мечтаю. Мечтаю о том, как в марте переберусь из Москвы на хутор, а в октябре-ноябре приеду в Питер жить до марта. Хочется прожить в Питере хоть одну зиму, а это возможно только при одном условии – если я в Москве не буду иметь берлоги. И мечтаю, как все пять месяцев я буду говорить с Вами о литературе и делать в „Новом времени“ то, что умею. А на хуторе медицина во всю ивановскую».[277]
Поскольку Чехов очень любил Украину, для начала он попросил приятеля своего Смагина подыскать ему хутор где-нибудь поближе к реке Псёл. «Если я в этом году не переберусь в провинцию, – писал он тому, – и если покупка хутора почему-либо не удастся, то я по отношению к своему здоровью разыграю большого злодея. Мне кажется, что я рассохся, как старый шкаф, и что если в будущий сезон я буду жить в Москве и предаваться бумагомарательным излишествам, то Гиляровский прочтет прекрасное стихотворение, приветствуя вхождение мое в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чихнуть, а только лежи и больше ничего. Уехать из Москвы мне необходимо».[278] Мария Павловна отправилась на Полтавщину знакомиться с присмотренными Смагиным хуторами, но ни один из трех не подошел. Ничего не вышло и с покупкой усадьбы рядом с имением М.Заньковецкой, принявшей горячее участие в поисках хутора, на этот раз в Черниговской губернии. Но Чехов горел нетерпением, и потому семья стала искать поместье по объявлениям в газетах. Одно из них привлекло внимание Антона Павловича, хотя речь шла отнюдь не об Украине, а о местности всего лишь в восьмидесяти верстах от Москвы, два с половиной часа дороги, если ехать поездом. В последних числах января 1892 года, в самом разгаре зимы, Маша с Михаилом отправились на разведку в деревню Мелихово, где находилось предлагавшееся им имение художника Сорохтина. Тринадцать верст от железной дороги им пришлось проехать на санях, все было завалено снегом, ничего толком не рассмотреть, дом внутри оказался грязен и требовал ремонта, но поместье брату и сестре понравилось, и по возвращении домой они доложили Антону Павловичу, что считают его удобным и что купить его стоит. Чехов пришел в восторг от услышанного и, даже не побывав в Мелихове сам, начал переговоры о покупке. Второго февраля у нотариуса было уже заключено так называемое домашнее условие, а владельцу усадьбы выдан задаток. Сам Антон Павлович отправился познакомиться со своей собственностью только спустя две недели – за неделю до того, как семья перебралась в Мелихово окончательно, но к тому времени закончился ремонт дома, все было вычищено, и знакомство его не разочаровало. Вот как описывает Мария Павловна это имение: «Усадьба находилась в самой деревне. Размер ее был весьма солидный – двести тринадцать десятин,[279] из которых больше ста – лесу. Нам понравился дом: достаточно просторный, крытый железом, с террасой в сторону сада. <…> В саду были липовая аллея, фруктовые деревья, недалеко от дома – небольшой пруд. Различные службы, сараи и амбары были новые».[280] Правда, в доме не было туалетов…
Лучшую в доме комнату отвели писателю в качестве рабочего кабинета – большую, угловую, с выходившими в сад тремя окнами в итальянском стиле – без переплетов. Для брата Александра Антон Павлович составил перечень того, что было приобретено вместе с имением: три лошади, фортепиано, корова, четыре гуся, две собаки, десяток ощипанных кур, сани, телеги… Продавец утверждал, что, если вести хозяйство усердно, имение может приносить две тысячи рублей дохода в год, потому он и запрашивает относительно высокую цену: тринадцать тысяч. Действительно, сумма намного превосходила намеченную Чеховым на покупку хутора, такого он не представлял себе даже в самых дерзких мечтах. И опять встала проблема, где взять деньги на покупку, если единственный способ заработка – его «писанина». И снова пришел на помощь Суворин. Банк «Нового времени» ссудил Чехову необходимые при заключении сделки первые четыре тысячи, а затем им была подписана ипотечная рассрочка на пять лет. «Покупать имение скучно, – пишет он Суворину после поездки в Мелихово, – это раздражающая пошлость. Все время, после того как мы расстались, я делал глупости и среди пошляков чувствовал себя непрактическим дураком, который берется не за свое дело. Я рыскал по всякого рода паразитным учреждениям и платил вдвое больше, чем рассчитывал… Формальности по покупке обошлись мне дороже тысячи рублей».[281] Зато какое облегчение Антон Павлович испытал, когда все бумаги были подписаны! Уже 3-го марта он все тому же Суворину сообщает, что просто счастлив оттого, что нет больше квартиры в Москве и что это такое удобство, о каком он никогда в жизни и мечтать не мог.
4 марта он пускается в дорогу с частью своего семейного клана: родителями, сестрой, младшим братом Мишей.[282] Чехов увозил в имение целую гору сундуков, чемоданов, узлов и огромный запас лекарств. Поля и сад в Мелихове были пока еще покрыты снегом. Дом, долго простоявший заброшенным, принимая новых хозяев, «выглядел глупым и наивным». Но стоило усадьбу протопить и смахнуть пыль отовсюду, как Чехову уже показалось, будто он тут прожил годы. Все семейство спешно обустраивалось на новом месте. Назавтра по приезде Антон Павлович отправил брату Ивану просьбу прислать как можно быстрее метлу, щетку для чистки лошадей, двадцать фунтов гвоздей, двадцать фунтов ржаного хлеба и пять французских булок… Он находил себе развлечения: в нескольких шагах от дома находился небольшой пруд, так вот Чехов раз по пять на дню выходил из дому только для того, чтобы подкинуть туда снега – летом будет больше воды! И Суворину пишет в эти дни, что настроение у него превосходное, что в кабинете ему уютно, что дел по дому уйма, – и перечисляет их все, от пресловутого кидания снега в замерзший пруд до переноса кухни в служебные постройки, что, не будь у него работы, так и оставался бы сутками на природе.
В эти дни радостного беспорядка – со стуком топоров и молотков, с перестановками мебели и так далее – Чехов получает неожиданное и удивительное письмо от Лидии Авиловой. Она уже присылала ему до того свои рассказы, и он оба раза ответил ей вполне доброжелательно, за одно похвалив, за другое пожурив, – словом, так, как всегда поступал по отношению к дебютантам в литературе, обращавшимся к нему за советом. Но на этот раз в письме молодой женщины и речи не было о литературе. С гневом и возмущением она рассказывала писателю о скандальных слухах, которые разнеслись по Санкт-Петербургу и дошли до ее мужа. Согласно этой сплетне, в вечер ее последней встречи с Антоном Павловичем, состоявшейся за два с лишним месяца до письма, тот напился в ресторане допьяна и объявил друзьям о намерении соблазнить Лидию, заставить ее развестись с мужем, а затем жениться на ней. Ответ Чехова был резким и оскорбительным. Он не мог позволить этой прелестной истеричке упрекать его в том, что он будто бы «втоптал ее имя в грязь» <…> «Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик, – заявляет он. – Вы пишете о каких-то „странных вещах“, которые я будто бы говорил у Лейкина, затем – просите во имя уважения к женщине не говорить о Вас „в этом духе“ и, наконец, даже „за одну эту доверчивость легко обдать грязью“… Что сей сон значит? Я и грязь… Мое достоинство не позволяет мне оправдываться; к тому же обвинения Ваши слишком неясны, чтобы в них можно было разглядеть пункты для самозащиты. Насколько могу понять, речь идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли? Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Или же если нельзя не верить, то уж верьте всему, не в розницу, а оптом: и моей женитьбе на пяти миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей, и т. п. Успокойтесь, Бога ради. Если я недостаточно убедителен, то поговорите с Ясинским, который после юбилея[283] вместе со мною был у Лейкина. Помню, оба мы, я и он, долго говорили о том, какие хорошие люди Вы и Ваша сестра… Мы оба были в юбилейном подпитии, но если бы я был пьян, как сапожник, или сошел с ума, то и тогда бы не унизился до „этого духа“ и „грязи“ (поднялась же у Вас рука начертать это словечко!), будучи удержан привычною порядочностью и привязанностью к матери, сестре и вообще к женщинам. Говорить дурно о Вас, да еще при Лейкине!
Впрочем, Бог с Вами. Защищаться от сплетен – это все равно, что просить у [жида] взаймы: бесполезно. Думайте про меня, как хотите…»[284]
В начале этого самого письма Чехов, не слишком злопамятный, дает своей суматошной корреспондентке несколько литературных советов, которые определяют его собственную позицию в искусстве: «…когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны».[285]
Все равно, что посоветовать стоящему на огне котелку с водой не кипеть… К счастью, столичные пересуды не пересилили обаяния мелиховской весны: таял снег, из-под которого проступали островки свежей зеленой травы, крошечные ручейки пробивали себе дорогу к реке, скворцы пристраивались на ветках деревьев, где уже набухали первые почки… Вопреки очевидности Чехов никак не мог поверить, что его давняя мечта наконец осуществилась: внук крепостного крестьянина в тридцать два года стал землевладельцем, помещиком! Как Толстой! И все это – землю, камни, леса – он не унаследовал от родителей, всем этим он обязан только своему перу! Это его персонажи – от самых скромных до самых причудливых – подарили ему землю и все, что на ней. Иногда столь неожиданный поворот судьбы заставлял его думать, что он не зря прожил жизнь, и он в шутку сравнивал себя с римским патрицием Цинциннатом, который жил в пятом столетии до нашей эры и, согласно преданию, мог служить образцом скромности, доблести и верности гражданскому долгу. «Мы живем в собственном имении, – пишет он в Петербург брату Александру. – Как некий Цынцынатус провожу все время в труде и кушаю хлеб свой в поте лица. Мамаша сегодня говела и ездила в церковь на собственной лошади; папаша вывалился из саней – до того был стремителен бег коня!
Папаша по-прежнему философствует и задает вопросы вроде: зачем тут лежит снег? Или: почему там есть деревья, а здесь нет? Читает все время газеты и потом рассказывает матери, что в Петербурге учреждается общество для борьбы с классификацией молока. Подобно всем таганрожцам, не способен ни к какой другой деятельности, кроме как возжиганию светильников. С мужиками говорит строго. <…>
Пруд был вырыт в саду, в 20 шагах от дома. Глубок, 6 аршин. Что за удовольствие наполнять его снегом и предвкушать то время, когда из недр его будет выплескиваться рыба. А канавки?.. Разве копать канавки менее приятно, чем редактировать „Пожарного“?[286] А вставать в 5 часов с сознанием, что тебе никуда не нужно идти и что к тебе никто не придет? А слушать, как поют петелы, скворцы, жаворонки и синицы? А получать из иного мира кипы газет и журналов?»[287] И после всех этих вопросов и предложения Саше тоже купить поместье Антон Павлович подписывается: «Твой Цынцынатус».
Пока Чехов привыкал к новому своему социальному положению помещика, литературная деятельность его несколько замедлилась. Написав единым духом рассказ «Бабы», который одни современники оценили чрезвычайно высоко, так как в нем был прекрасно изобличен тип народного Тартюфа, развратника, лицемера и безбожника, а другие упрекали автора в шаткости нравственных основ, в результате чего книжка, вышедшая отдельным изданием, была запрещена для школьных библиотек и народных читален, Чехов наконец опубликовал и повесть «Дуэль»,[288] работа над которой, как выразился автор, стоила ему «фунта нервов» и которая тоже вызвала самые противоречивые отклики. Местом действия автор выбрал обычный город на водах, главными героями стали люди прямо противоположных характеров: слабый и безвольный Лаевский, интеллектуал-неудачник, и молодой зоолог фон Корен, который рассматривает первого как паразита и упрекает его в том, что он сваливает вину за собственное моральное падение на эпоху и общество.[289] Ненависть к мягкотелости и лицемерию Лаевского заходит у фон Корена так далеко, что приводит к вызову на дуэль. Но, встретившись с оружием в руках, противники обмениваются выстрелами безрезультатно. Тем не менее их встреча для обоих даром не прошла. Как один, так и другой, оказавшись на пороге смерти, переживают глубокие изменения в характере. Лаевский решает вести более достойное существование, а фон Корен – быть более терпимым в суждениях о себе подобных. Прежде чем уехать из города, он даже наносит визит человеку, которого намеревался убить, и говорит ему: «Не поминайте меня лихом, Иван Андреич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор… Правда, как вижу теперь, к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды».[290] А Лаевский, «с тоскою глядя в беспокойное темное море», где исчезает в волнах лодка, увозящая фон Корена, думает: «Да, никто не знает настоящей правды… <…> Лодку бросает назад, делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот ее уже и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни… В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды…»[291]
Несмотря на оптимистический финал, «Дуэль» предстает произведением горьким и жестоким. Рисуя образ Лаевского, Чехов снова сводит счеты с частью русской интеллигенции. Он чувствует омерзение к этим рафинированным умам, работающим вхолостую, к этим высокопарным и бесплодным речам. Как может сочетаться черствое сердце со столь хорошо подвешенным языком? Ненависть Чехова к фарисеям от культуры была такова, что он даже написал фельетон, целью которого стало разоблачение их вызывающего невежества и никчемности, и послал свое сочинение Суворину с просьбой напечатать анонимно. В этом памфлете, озаглавленном «В Москве» и подписанном «Кисляев», он нападал на тех, кому «мучительно скучно» потому лишь, что они необразованны и некультурны, при этом считая себя очень умными и необычайно важными, на интеллектуалов, завороженных созерцанием собственного пупа и неспособных осуществить на деле грандиозные идеи, которыми упиваются. Глашатай этих бесполезных и претенциозных людей, герой фельетона – «московский Гамлет», так говорит о своей хронической разочарованности во всех и во всем: «Я ворочаюсь под своим одеялом с боку на бок, не сплю и все думаю, отчего мне так мучительно скучно, и до самого рассвета в ушах моих звучат слова: „Возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать“».[292] То есть в самом финале вспоминает приведенный на первой странице фельетона совет, данный ему каким-то незнакомым господином, когда он в гостях стал спрашивать, что ему делать от скуки.
Но, может быть, лекарством от нигилизма могла стать доктрина Толстого? Нет, отвечает Чехов, только вера в науку и надежда на нравственный и материальный прогресс всякого отдельного индивидуума. А такого нравственного и материального прогресса не достигнешь, если станешь, по рекомендации мудреца из Ясной Поляны, опускать культурного человека на уровень мужика, напротив – следует поднять мужика до уровня культурного человека. Полный абсурд – проповедовать нравственную чистоту, отказ от табака и алкоголя, проклинать медиков, предавать анафеме произведения искусства, полный абсурд – желать возрождения мира посредством земледелия и невежества, полный абсурд – отворачиваться от потрясающих открытий, сделанных учеными. Будущее произрастает в научных лабораториях, а не в деревенских избах. Воспевая обскурантизм, Толстой отрицал жизненный импульс, свойственный всему человечеству. Он тормозил естественное стремление духа к свету и благополучию. На самом деле этот защитник смиренных был одержим гордыней. Он витийствовал, гремел словами, приговаривал, отпускал грехи. Подобное авторитарное поведение возмущало Чехова, который не признавал за собой права судить себе подобных. За несколько лет до описываемых нами событий он писал Леонтьеву (Щеглову): «Не дело психолога понимать то, чего он не понимает. Паче сего, не дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Все знают и понимают только дураки и шарлатаны».[293]
Этот продиктованный здравым смыслом протест против утопии не мешал Чехову относиться к Толстому с особой нежностью. Перечитывая «Войну и мир», он писал Суворину: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю „Войну и мир“. Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, – все это хорошо, умно, естественно и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон, – это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению».[294] На самом деле, чем больше Чехов восхищался Толстым-романистом, тем активнее отрицал яснополянского мудреца как мыслителя. Как будто, удаляясь от литературы, Толстой предавал не только свое призвание, но предавал лично его, Чехова, почитающего Толстого самым великим русским писателем. Тогда как Толстой, сидя в своем имении, объявлял вслед за Прудоном, что собственность есть кража, и страдал, считая обладание большим имением проклятием, Чехов расцветал, оказавшись на своей новоприобретенной земле, и смеясь признавал, что счастлив проснуться капиталистом после всей жизни, проведенной в тяжком труде. Первый в бешенстве пытался плыть против течения своего века, второй скромно следовал ему, стараясь удержаться на поверхности и оставить о нем беспристрастные свидетельства.
Глава Х Мелихово
Как обычно бывало с Чеховым, слепой восторг вскоре уступил место холодной трезвости. С первых же погожих дней все недостатки «герцогства», как он прозвал Мелихово, бросились ему в глаза. Дом, в котором был всего один этаж и целых десять комнат, трещал по всем швам. Клопы и тараканы размножались со страшной быстротой. Каждое утро в расставленных по дому мышеловках находили невероятное количество мышей. Слишком чувствительный для того, чтобы уничтожать их на месте, Чехов относил мышей в ближайший лесок и выпускал, надеясь, что случившаяся неприятность станет для грызунов уроком, а значит, они не вернутся в дом назавтра.
Чтобы сделать свое жилище более удобным, Антон Павлович нанял плотников, маляров, каменщиков, и, выполняя его распоряжения, рабочие починили кровлю, укрепили цементом изразцовые печи, вырыли новые колодцы, отремонтировали сараи и другие службы, поставили дополнительную дверь при входе в кабинет, чтобы не было сквозняков, наконец, оборудовали отличный современный ватерклозет.
Вся семья погрузилась в обустройство имения: мать вела хозяйство, отец вырубал кустарник в аллеях, Маша царствовала в огороде, Михаил занимался полевыми работами, сам же Антон Павлович посвятил себя фруктовому саду и «парку». Он посадил двадцать четыре яблони, шестьдесят вишен, елки, вязы, лилии, розы… Самый вид цветов зачаровывал его и вызывал чувство благодарности. Он, интеллигент с неумелыми руками, был счастлив помогать, пусть даже совсем немного, бурному расцвету природы. С началом настоящей весны он восторженно пишет Суворину: «…в природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своей поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы один лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава. День тянется, как вечность. Живешь, как в Австралии, где-то на краю света; настроение покойное, созерцательное и животное в том смысле, что не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда, издали, люди кажутся очень хорошими, и это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе около людей бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя и вспоминаю о своих кредиторах, которые когда-нибудь выгонят меня из моей благоприобретенной Австралии».[295]
Кроме двоих крестьян, которые трудились в поле, семью Чеховых обслуживали теперь еще кухарка и горничная. Чехов говорил, что живет как лорд. Его родители и сестра чувствовали себя полноправными владельцами поместья в этом уголке земли, который Антон Павлович подарил им. Каждая комната соответствовала образу ее обитателя: монашеская келья отца с иконами, толстенными книгами Священного Писания, запахом ладана; светлая и хорошо проветренная материнская – с накрахмаленными занавесками, большими корзинами для белья и швейной машинкой; Машина девичья – с узкой кроватью, цветами в вазах и портретом Антона, который словно бы присматривал за сестрой; рабочий кабинет самого писателя – с огромными, чисто вымытыми окнами, широким диваном, на котором можно было поваляться после обеда, полками, уставленными книгами, столом, заваленным бумагами… Главной заботой матери было приготовление вкусной еды для своего сына – знаменитого сочинителя. Отец тоже почитал Антона Павловича главой семьи, но все-таки ему было трудно отодвинуться на второй план. Сам же Чехов, несмотря на природную снисходительность, никак не мог забыть деспотизма Павла Егоровича, от которого так настрадался в детстве. И в то время как слабости и привычки матери трогали его сердце, любые подобные же проявления со стороны отца – раздражали, действовали на нервы. Его удивляло, что этот человек, ни в чем не преуспевший в жизни, продолжал и на ее закате играть роль важной особы, разглагольствовать, наставлять, вмешиваться во все с ошеломляющей неумелостью. Павел Егорович вел дневник, куда старательно записывал кудрявым своим почерком имена гостей – с часом приезда и отъезда каждого, температуру воздуха и тому подобные сведения. С возрастом он стал еще более религиозным, не пропускал ни одной церковной службы, громко читал молитвы у себя в комнате, пел псалмы, а в дни праздников обходил дом с курящейся кадильницей. Все братья Антона Павловича теперь жили вполне прилично. Иван преуспевал в своей учительской работе, Михаил стал чиновником, Александр, продолжавший свою карьеру в журналистике, так поднялся по служебной лестнице, что тоже захотел купить себе небольшое имение. Братья часто наезжали в Мелихово во время летних отпусков и в выходные дни. Чехов, конечно, относился к ним с симпатией, но всю свою нежность отдавал сестре. Обутая в грубые башмаки, повязав на голову белый платок, Маша работала за четверых в поле и с ревнивой заботой оберегала покой брата-писателя. Она его просто обожала, боготворила, она не могла пойти ни на какие компромиссы в этой любви, граничившей с жертвенностью. Скорее всего именно из-за любви к брату она и не думала о замужестве. Раз уж был в ее жизни такой великий человек, как она могла променять его на кого-то ради вульгарного удовлетворения чувственности? Да и личную жизнь Антона Павловича сдерживали те же тормоза. Между ним и другими женщинами неизменно вставал образ сестры. Зачем ему жена, если есть Маша? Легкий флирт, мимолетные романы во время отдыха – это да, но никогда он не позволял себе зайти дальше. Мария Павловна в глубине души одобряла холостяцкие привычки и развлечения брата. Что касается меня, писал Чехов Суворину 18 октября 1892 года, «…жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним! Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви».[296]
Обеспокоенный будущим брата, Александр в одном из писем упрекал Антона за его поведение, обвинял в том, что он живет «как архимандрит», что золотые мгновения жизни проходят для него бесследно и все, что ему в конце концов останется, – это отправиться в зоосад и обсудить с мангустом радости холостяцкой жизни. Критикуя двусмысленные отношения Антона с сестрой, он добавлял, что убежден, будто в них есть какая-то фальшь. Говорил, что, дескать, стоит Антоше сказать ласковое словечко, Маша уже готова на все, что она страшно боится за него и что видит в нем самого благородного и самого достойного человека на свете.
Подтверждением его слов может служить странное событие. Летом 1892 года среди других гостей в Мелихове побывал и Александр Смагин, чрезвычайно привлекательный молодой человек, с которым Чеховы встречались однажды в имении Линтваревых.[297] Немножко и вполне невинно поухаживав за Машей, Смагин внезапно воспылал страстью и сделал ей предложение. В полном смятении, чувствуя, что не в силах ни на что решиться, девушка отправилась просить совета. Но у кого? Уж конечно, не у отца! И не у матери! Разумеется, у Антона. Ведь это он в семье самый мудрый. Собрав все свое мужество, Маша отправилась в рабочий кабинет брата и честно сказала ему: «Знаешь, Антоша, я решила выйти замуж…»[298] Чехов, естественно, догадался, кто претендует на роль жениха, но в ответ промолчал, даже не задал никаких вопросов. Молчание брата напугало ее. «Брат, конечно, понял, за кого, но ничего мне не ответил, – напишет впоследствии в своих воспоминаниях Мария Павловна. – Потом я почувствовала, что брату эта новость неприятна, хотя он продолжал молчать. Да и что, в сущности, он мог сказать? Я понимала, что он не сможет сознаться, что ему будет тяжело, если я уйду в другой дом, в свою новую семью… Он никогда не произнес бы слова „нет“…»[299] Так и не дождавшись от брата никакой реакции, Маша вышла из кабинета и, растерянная, беспомощная, вернулась в свою комнату, где долго плакала. Прошло несколько дней – Чехов глухо молчал, избегая разговоров с сестрой о ее предполагаемом замужестве. «Антон Павлович по-прежнему ни слова не говорил мне по поводу моего признания, но как-то меньше шутил, был сдержан при обращении ко мне. Много я думала, – рассказывается дальше в мемуарах Марии Павловны Чеховой. – Любовь к брату, моя привязанность к нему решили все дело. Я не смогла пойти на то, чтобы причинить брату неприятность, расстроить привычный образ его жизни, лишить его той творческой обстановки, которую я всегда старалась создавать ему. Я сообщила Смагину о своем отказе, чем причинила и ему страдание. Он послал мне резкое письмо с упреками…»[300]
Едва дело таким образом уладилось, Чехов вздохнул с облегчением: уж слишком он испугался. Никогда до того дня он не сознавал, какую большую роль играет сестра в гармонии его повседневной жизни. Решительно, Маша стала ее опорой. Нет, со стороны Антона Павловича это не была безотчетная ревность. В нем взыграл, скорее, инстинкт самосохранения в самой эгоистичной форме. Для того чтобы Чехов чувствовал себя счастливым, ему была необходима рядом Маша – сдержанная, скромная, трудолюбивая, любящая, и никто не имел права посягать на то, чтобы отвлечь ее от призвания служить брату. Брат и сестра были созданы друг для друга, они не нуждались ни в ком, чтобы наслаждаться полнотой нежности и уважения друг к другу, они образовали неразлучную пару, которой были чужды низменные требования плоти. Но все-таки угрызения совести самую малость мучили Антона Павловича, и ему пришлось притворяться, будто он удивлен отказом от столь подходящего предложения руки и сердца со стороны девушки двадцати семи лет. На самом деле ему просто удобнее было верить в то, что Маша разделяет его склонность к холостяцкой жизни. И именно эту версию он отстаивал несколько недель спустя в письме к Суворину. «Антон Павлович, видимо, не догадывался, какие сложные чувства наполняли меня тогда. Когда лет через двадцать я издавала эпистолярное наследие брата, я познакомилась с его письмами к Суворину. Из них я узнала, что Антон Павлович писал ему в то время: „Сестра замуж не вышла, но роман, кажется, продолжается в письмах. Ничего не понимаю. Существует догадка, что она отказала и на сей раз. Это единственная девица, которой искренно не хочется замуж…“ – приводит слова Чехова в своих воспоминаниях его сестра и добавляет: „Прочитав это, я была рада, что брат не догадался тогда о правде.
Спустя уже более сорока лет после этого, когда мы оба уже были старыми, я получила от А.И. Смагина письмо, в котором он тепло вспоминал о чувствах, пережитых в наши молодые годы. Но он так и не узнал о причине моего отказа“».[301]
Многочисленные гости Мелихова и не заметили скромного романа Маши и Смагина. В доме бесконечно мелькали люди, и было совершенно невозможно в такой обстановке остановить внимание на ком-либо одном. Тут были знакомые Чехова и Маши, соседи, любопытные, местные доктора, дальние родственники со своими выводками. Раскладные кровати ставили в каждом углу, некоторых укладывали на ночлег по четверо в одной комнате, других – даже в коридоре.
«Ах, если б Вы знали, как я утомлен! – рассказывает Антон Павлович Суворину. – Утомлен до напряжения. Гости, гости, гости… Моя усадьба стоит как раз на Каширском тракте, и всякий проезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне и погреться, а иногда даже и ночевать остаться. Одних докторов целый легион! Приятно, конечно, быть гостеприимным, но ведь душа меру знает. Я ведь и из Москвы-то ушел от гостей…»[302]
В толпе людей, Чехову, в общем, безразличных, было тем не менее несколько друзей, дорогих его сердцу: очаровательная Лика Мизинова, юная поэтесса Щепкина-Куперник, Наташа Линтварева с ее заливистым смехом, художник Левитан с его переменчивыми настроениями. Привлеченный типично русскими пейзажами Мелихова, Левитан создал тут несколько полотен, исполненных нежной печали. Но он не только писал картины. Мария Павловна рассказывает об одном происшествии, связанном с Левитаном: «В первый же его приезд Антон Павлович ходил вместе с ним на охоту. Однажды они принесли вдвоем одного вальдшнепа, да и тому были не рады: вальдшнеп был Левитаном только подстрелен, и его нужно было добивать, а на это ни один из „охотников“ не был способен…» А вот та же история в изложении брата: «У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: „Голубчик, ударь его головкой по ложу…“ Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать».[303]
Прогуливаясь с Левитаном, Чехов ни словом не обмолвился о своем рассказе «Попрыгунья», отправленном в журнал «Север» и совершенно явно вдохновленном связью его друга-художника с Софьей Кувшинниковой, женой одного московского врача. Разумеется, возраст и внешность персонажей этой истории отличались от возраста и внешности реальных действующих лиц, но, несмотря на все усилия автора замести следы, сходство бросалось в глаза. Как и в действительности, героиня «Попрыгуньи» красавица Ольга была светской молодой женщиной, которая скучала, живя со слишком умным и образованным мужем доктором Дымовым. Она встречалась с художниками в надежде сколько-нибудь возвыситься, обнаружила в себе талант к живописи, а потом настолько потеряла голову, что после путешествия на Волгу с художником Рябовским стала его любовницей. Ей казалось, будто она изменяет весьма обычному человеку с гением. И только после смерти мужа, услышав, с каким почтением и восторгом о нем говорят, Ольга понимает, как ошиблась. В этой замечательной по психологической тонкости и сдержанности новелле Чехов снова противопоставляет блеск мишуры и поверхностного успеха скромности и достоинству ученого, работающего в тени.
В то время как широкая публика восхищалась «Попрыгуньей», в художественных кругах негодовали. Левитан, опознавший в Рябовском себя самого, порвал отношения с Чеховым и мечтал даже вызвать бывшего друга на дуэль. Истинная «попрыгунья» отказала писателю, изобразившему ее в виде злой карикатуры, от дома. А Чехов? Прекрасно сознавая, что использовал личную жизнь нескольких своих знакомых для того, чтобы создать рассказ, он тем не менее притворялся, будто не понимает причин такого возмущения. «Вчера я был в Москве, но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей, – пишет он Лидии Авиловой. – Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей „Попрыгуньи“ („Север“ № 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».[304]
Чрезвычайно расстроенный ссорой с другом, Чехов, однако, не чувствует себя виновным. Согласно его убеждениям, писатель имеет право, даже должен питать свои творения элементами, которыми снабжает его жизнь. Без такого постоянного взаимообмена между реальностью и вымыслом литература, по его мнению, засохла бы на корню. Впрочем, как раз тогда, когда его дружба с Левитаном оказалась под угрозой, он нашел утешение в новой дружбе, куда более нежной и волнующей. Прекрасная Лика, которая часто посещала Мелихово, заняла в его существовании главное место. В письмах, адресованных ей, сквозь обычную иронию просвечивает теперь искреннее чувство. «Жду Вас и мечтаю о Вашем приезде, как житель пустыни бедуин мечтает о воде», – пишет он.[305] Или – «Приезжайте, милая блондиночка, поговорим, поссоримся, помиримся; мне без Вас скучно, и я дал бы пять рублей за возможность поговорить с Вами хотя бы в продолжение пяти минут. <…> Придите к нам, хорошенькая Лика, и спойте. Вечера стали длинные, и нет возле человека, который пожелал бы разогнать мою скуку».[306] Или – просто «Приезжайте!», или – подробно: «Все мы с нетерпением ожидаем Вашего приезда. Комнаты приняли благообразный вид, стало просторно, и вчера целый день мы чистили сарайчик, в котором будут помещаться дорогие гости. <…> Вам у нас будет удобно. Если в нашей усадьбе и нет кое-каких удобств, то мы постараемся, чтобы Вы в этих удобствах не нуждались».[307]
Новый взрыв интереса к Лике не ускользнул от внимания Маши. Она с любопытством наблюдала за развитием игры, которая так нравилась ее брату. То он делал шаг навстречу девушке, то, словно испугавшись, отступал. В начале весны Антон Павлович, пытаясь развеять иллюзии Лики, писал ей: «Когда же весна? Лика, когда весна? Последний вопрос понимайте буквально, а не ищите в нем скрытого смысла. Увы, я уже старый молодой человек, любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для той птицы, которую я люблю! Лика, не тебя так пылко я люблю. Люблю в тебе я прошлые страданья и молодость погибшую мою».[308] Но два дня спустя переменил тон: «Напишите мне, Мелита, хотя две строчки. Не предавайте нас преждевременному забвению. По крайней мере, делайте вид, что Вы нас еще помните. Обманывайте нас, Лика. Обман лучше, чем равнодушие. <…> Ваш от головы до пяток, всей душой и всем сердцем, до гробовой доски, до самозабвения, до одурения, до бешенства».
Ответив на призыв Чехова, Лика приехала в Мелихово, и сразу же снова начались колебания, сомнения, тайные перешептывания, объяснения, попытки соблазнить, за которыми следовала горькая неловкость. Двусмысленная ситуация волновала девушку, больше того – раздражала, тем более что Чехов, как ей казалось, получал от нее удовольствие. Подводя итоги своего тогдашнего состояния духа: наслаждения от чувственных отношений, смешанного со страхом женитьбы, – Чехов напишет Мизиновой 28 июня 1892 года: «Благородная и порядочная Лика! Как только Вы написали мне, что письма мои ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, и вот пишу Вам теперь длинное письмо без страха, что какая-нибудь тетушка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как Вы. Со своей стороны тоже спешу успокоить Вас, что письма Ваши в глазах моих имеют значение лишь душистых цветов, но не документов; передайте барону Штакельбергу, кузену и драгунским офицерам, что я не буду служить им помехой. Мы, Чеховы, в противуположность им, Балласам, не мешаем молодым девушкам жить. Это наш принцип. Итак, Вы свободны. <…>…Осенью же начну строиться в своей лесной пустыне, и для полноты моего благоденствия у меня не будет хватать только тех трех тысяч, о которых я Вам говорил. Канталупа, я знаю: вступив в зрелый возраст, Вы разлюбили меня. Но в благодарность за прежнее счастье пришлите мне три тысячи. Это Вас ни к чему не обяжет, я же не останусь в долгу и пришлю Вам зимой сливочного масла и сушеных вишен. <…> В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и в сущности я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте голове моей закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею. Воображаю, как злорадно торжествуете и как демонски хохочете Вы, читая эти строки… Ах, я, кажется, пишу глупости. Порвите это письмо. Извините, что письмо так неразборчиво написано и не показывайте его никому. Ах, ах! <…> Ну, до свидания, кукуруза души моей. Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас. Пишите мне о Ваших успехах. Будьте благополучны и не забывайте побежденного Вами Царя Мидийского».[309]
Однако ни любезничанье с прекрасной Ликой, ни докучливые гости не могли надолго оторвать Чехова от его письменного стола. Ему казалось, что в Мелихове он отдыхает, работая. В то лето было написано несколько рассказов: «Жена», «Соседи», а главное – «Палата № 6», действие которого, разворачиваясь в провинциальной больнице, возвращало Антона Павловича к его профессии врача.
Несмотря на свои литературные успехи, Чехов никогда не переставал интересоваться медициной. В деревне еще в большей степени, чем в городе, его осаждали больные. Каждый или почти каждый день со всей округи приходили мужики, рабочие, крестьяне с детьми, иные шли за двадцать пять верст, чтобы посоветоваться со своим доктором. Он принимал пациентов по утрам, занимался ими доброжелательно и тщательно, заполнял на каждого особый листок с историей болезни, бесплатно раздавал привезенные с собой из Москвы лекарства. Те, кто платил за помощь, случались чрезвычайно редко. С самого рассвета нищие пациенты выстраивались в очередь во дворе усадьбы. Еще не пробудившийся дом напоминал в такое время лечебницу. Репутация Чехова как отличного врача настолько быстро распространилась по всей округе, что в июле 1892 года, когда окрестному населению угрожала холера, уездный советник по гигиене попросил Антона Павловича принять все необходимые профилактические меры, чтобы избежать эпидемии. Чехов сразу же согласился, перечитал самые свежие научные труды по интересующей его проблеме и велел построить на своем участке, включавшем двадцать пять деревень, четыре фабрики и один монастырь, оборудованные всем необходимым бараки, чтобы изолировать в них заболевших от здоровых. Поскольку ему не хватало денег, чтобы платить по счетам, он обратился к друзьям, соседям и богатым фабрикантам, и благодаря его «нищенскому красноречию» (так определял он сам) было построено два превосходных барака, как он писал Суворину, и пять не превосходных, а скверных. «Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции, – добавлял он. – Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень» – и жаловался: «Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, – это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится. Холера уже в Москве и в Московск. уезде. Надо ждать ее с часу на час. Судя по ходу ее в Москве, надо думать, что она уже вырождается и что запятая начинает терять свою силу. Надо также думать, что она сильно поддается мерам, которые приняты в Москве и у нас. Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь… <…> Я ужасался от восторга, читая про холеру. В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, которые совершаются теперь на наших глазах. Жаль, что Вы не врач и не можете разделить со мной удовольствия, т. е. достаточно прочувствовать и сознать и оценить все, что делается. <…>
Конечно, о литературе и подумать некогда. Не пишу ничего. От содержания я отказался, дабы сохранить себе хоть маленькую свободу действий, и потому пребываю без гроша. <…>
Когда Вы узнаете из газет, что холера уже кончилась, то это значит, что я уже опять принялся за писанье. Пока же я служу в земстве, не считайте меня литератором. Ловить зараз двух зайцев нельзя».[310]
Он ездил по плохим дорогам в дрянных повозках, высаживался – совершенно разбитый – в деревнях, где осматривал крестьян с подозрительными симптомами, чтобы предотвратить бедствие, а заодно лечил от тифа, скарлатины, дифтерии. За несколько недель перед его глазами прошли тысячи больных. «Мне скучно, но в холере, если смотреть на нее с птичьего полета, очень много интересного. <…> Мы, уездные лекаря, приготовились: программа действий у нас определенная, и есть основание думать, что в своих районах мы тоже понизим процент смертности от холеры. Помощников у нас нет, придется быть и врачом и санитарным служителем в одно и то же время; мужики грубы, нечистоплотны, недоверчивы; но мысль, что наши труды не пропадут даром, делает все это почти незаметным. Из всех серпуховских докторов я самый жалкий; лошади и экипаж у меня паршивые, дорог я не знаю, по вечерам ничего не вижу, денег у меня нет, утомляюсь я очень скоро, а главное – я никак не могу забыть, что надо писать, и мне очень хочется наплевать на холеру и сесть писать. И с Вами хочется поговорить. Одиночество круглое».[311]
Несмотря на жгучее желание «плюнуть на холеру», Чехов этого не сделал, и благодаря его усилиям участок Антона Павловича холеры избежал. Но он не испытывал никакой гордости. Скептицизм не допускал довольства собой. Однако во всех письмах того времени он не упускает случая сказать, что работа по предупреждению эпидемии, которую он вел в сотрудничестве с местными властями, позволила ему утвердиться в мнении: среди чиновников и землевладельцев много людей доброй воли, в провинции существует интеллигенция «очень милая и интересная», а главное – честная, чем отличается от мерзкой интеллигенции больших городов. Что же до тех, кто под предлогом эпидемии пытается возбудить в народе недовольство и довести дело до волнений политического характера, то на их счет Антон Павлович тоже высказывается вполне определенно, жалуясь, правда, на то, что у него не хватает резких слов, дабы припечатать их так, как следовало бы. «О холерных бунтах уже ничего не слышно. Говорят о каких-то арестах, прокламациях и проч. Говорят, что литератор Астырев приговорен к 15-летней каторге, – пишет он все в том же письме тому же адресату. – Если наши социалисты в самом деле будут эксплоатировать для своих целей холеру, то я стану презирать их. Отвратительные средства ради благих целей делают и самые цели отвратительными. Пусть выезжают на спинах врачей и фельдшеров, но зачем лгать народу? Зачем уверять его, что он прав в своем невежестве и что его грубые предрассудки – святая истина? Неужели прекрасное будущее может искупить эту подлую ложь? Будь я политиком, никогда бы не решился позорить свое настоящее ради будущего, хотя бы мне за золотник подлой лжи обещали сто пудов[312] блаженства».[313]
Как всегда, с приближением зимы настроение Чехова ухудшилось. Вид пустынных заснеженных полей, деревьев с голыми ветвями, мужиков, кутающихся в лохмотья, еще больше склонял его к меланхолии. Съездив несколько раз на короткое время в Москву, он попытался развлечься в Санкт-Петербурге у Суворина. А когда тот осенью заболел, то, опасаясь летального исхода, написал Леонтьеву (Щеглову), что это была бы такая потеря, что он постарел бы на десять лет. А несколькими месяцами позже пишет самому Суворину: «Обидно, что Вы уезжаете за границу. Когда я прочел об этом в Вашем письме, то у меня в нутре точно ставни закрыли. В случае беды или скуки камо пойду? К кому обращусь? Бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а кроме Вас я ни с кем не переписываюсь и ни с кем долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всех моих знакомых, а значит, что я к Вам привык и что только с Вами чувствую себя свободно».[314]
Тем не менее к концу 1893 года Чехов окончательно решился на разрыв с «Новым временем» и намеревался отныне публиковать свои рассказы в «Русской мысли», отличавшейся более либеральными взглядами. Переход писателя в другое издание, разумеется, задел Суворина, но дружба его с Антоном Павловичем устояла перед этим мимолетным испытанием.
Вернувшись 29 января 1893 года в Мелихово, Чехов с отчаянием погрузился в белое ледяное безмолвие: снег, морозы, тишина… Ему казалось, что зелени и солнца он уже никогда не увидит. Еще в ноябре он писал все тому же Суворину: «Днем валит снег, а ночью во всю ивановскую светит луна, роскошная, изумительная луна. Великолепно. Но тем не менее все-таки я удивляюсь выносливости помещиков, которые поневоле живут зимою в деревне. Зимою в деревне до такой степени мало дела, что если кто не причастен так или иначе к умственному труду, тот неизбежно должен сделаться обжорой и пьяницей или тургеневским Пегасовым.[315] Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи – все это располагает к лени, равнодушию и к большой печени».[316]
Как обычно, Антон Павлович размечтался о дальних далях – сбежать бы куда-нибудь: в Индию, в Японию, в Южную Африку, есть еще Мадера и даже – чем черт не шутит? почему бы и нет? – Сахалин… В Санкт-Петербурге он встретился с сыном Толстого, Львом Львовичем, и они разработали план совместной поездки весной в Чикаго, на открытие Всемирной выставки, но Чехов быстро отказался от этого намерения – не хватало денег. Впрочем, и здоровье не позволило бы ему отправиться в эту новую экспедицию. Кашель все усиливался. Когда брат застал Антона Павловича во время очередного приступа с кровохарканием и спросил, что это с ним, тот «смутился, испугался своей оплошности, быстро смыл мокроту и сказал:
– Это так, пустяки… Не надо говорить Маше и матери», – вспоминает Михаил Чехов и добавляет: «Ко всему этому присоединилась еще мучительная боль в левом виске, от которой происходило надоедливое мелькание в глазу (скотома). Но все эти болезни овладевали им приступами. Пройдут – и нет. И снова наш Антон Павлович весел, работает – и о болезнях нет и помина».[317] Верный нежеланию лечиться, не позволяя никому прослушать свои легкие, Чехов – словно бы в оправдание – писал Суворину в августе 1893 года, что ужасного люди не боятся, зато то, что вызывает их опасения, как правило, совсем не ужасно. И делал отсюда вывод: я умру от болезни, которой совсем не боюсь, следовательно, от того, чего я боюсь, я не умру…
Мало было туберкулеза и страшных сердцебиений, сменявшихся «замираниями», – Чехов сильно страдал еще от одной болезни, о которой не решался говорить ни с кем, кроме брата Миши и Суворина. «Начну с того, что я болен, – сообщал он последнему. – Болезнь гнусная, подлая. Не сифилис, но хуже – геморрой, […], боль, зуд, напряжение, ни сидеть, ни ходить, а во всем теле такое раздражение, что хоть в петлю полезай. Мне кажется, что меня не хотят понять, что все глупы и несправедливы, я злюсь, говорю глупости; думаю, что мои домашние легко вздохнут, когда я уеду. Вот какая штука-с! Болезнь мою нельзя объяснить ни сидячею жизнью, ибо я ленив был и есмь, ни моим развратным поведением, ни наследственностью».[318] Страдания делали Антона Павловича неуживчивым. Он со все большим трудом переносил напыщенную и пустопорожнюю болтовню отца, бесконечное нытье матери, рутину повседневной жизни в доме. Михаил, который чуть было не женился, но помолвка в последнюю минуту расстроилась, считал, что переживает беспримерную драму; Иван, напротив того, собирался обвенчаться с «костромской дворяночкой», миленькой длинноносой особой; от детей Александра в доме было слишком много шума… Даже чтение не давало Чехову возможности отвлечься от невыносимой смеси заигрываний с унынием и подавленностью. Он погрузился в Тургенева – и снова делился впечатлениями с Сувориным. «Наши читают Писемского, взятого у Вас, и находят, что его тяжело читать, что он устарел. Я читаю Тургенева. Прелесть, но куда жиже Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он все будет молод», – писал он 13 февраля 1893 года, а 24-го того же месяца возвращался к разговору о литературе: «Боже мой! Что за роскошь „Отцы и дети“! Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел и было такое чувство, как будто я заразился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? Это черт знает как сделано. Просто гениально. „Накануне“ мне не нравится все, кроме отца Елены и финала. Финал этот полон трагизма. Очень хороша „Собака“: тут язык удивительный. Прочтите, пожалуйста, если забыли. „Ася“ мила, „Затишье“ скомкано и не удовлетворяет. „Дым“ мне не нравится совсем. „Дворянское гнездо“ слабее „Отцов и детей“, но финал тоже похож на чудо. Кроме старушки в Базарове, т. е. матери Евгения и вообще матерей, особенно светских барынь, которые все, впрочем, похожи одна на другую (мать Лизы, мать Елены), да матери Лаврецкого, бывшей крепостной, да еще простых баб, все женщины и девицы Тургенева невыносимы своей деланностью и, простите, фальшью. Лиза, Елена – это не русские девицы, а какие-то Пифии, вещающие, изобилующие претензиями не по чину. Ирина в „Дыме“, Одинцова в „Отцах и детях“, вообще львицы, жгучие, аппетитные, ненасытные, чего-то ищущие – все они чепуха. Как вспомнишь толстовскую Анну Каренину, то все эти тургеневские барыни со своими соблазнительными плечами летят к черту. Женские отрицательные типы, где Тургенев слегка карикатурит (Кукшина) или шутит (описание балов), нарисованы замечательно и удались ему до такой степени, что, как говорится, комар носа не подточит. Описания природы хороши, но… чувствую, что мы уже отвыкаем от описания такого рода и что нужно что-то другое».[319]
Однако, зарывшись в свои читаные-перечитаные книги, он бредил путешествиями, мечтал о встречах, ужинах наедине, и – так исповедовался в этом Суворину: «Вам хочется кутнуть? А мне ужасно хочется. Тянет к морю адски. Пожить в Ялте или Феодосии одну неделю было бы для меня истинным наслаждением. Дома хорошо, но на пароходе, кажется, было бы в 1000 раз лучше. Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы».[320]
И тем не менее, сколько бы Антон Павлович ни говорил о стремлении сбежать в солнечные края, он чувствовал, что сыновний долг крепко привязывает его к семейному очагу. При том, что у него ничего общего не было с родителями, чей ум был ограниченным, а привычки косными, он не мог порвать связи с ними. Александр, проведя несколько дней в Мелихове, в последовавшем за тем письме принялся уговаривать брата уехать. Брось ты все, писал он, забудь свои мечты о жизни в деревне, свою любовь к Мелихову, все чувства и все труды, которые ты в него вложил; Мелихово – не единственное достойное место не земле, какой смысл позволять А ла тремонтану[321] грызть твою душу, как крысы грызут сальную свечку?
Но, несмотря на эти увещевания, Антон Павлович оставался в Мелихове, со своими. Впрочем, с возвращением погожих дней прояснилось и у него на душе. Он сажал деревья и розы, он снова взялся за рукопись «Острова Сахалина», над которой трудился третий год. Даже возникшая угроза повторения эпидемии холеры не обескуражила его. Как и в прошлом году, он в стремлении помочь мужикам безжалостно растрачивал себя, не обращая внимания на то, что силы на исходе. Вернувшись из какой-нибудь далекой деревни, нередко заставал у себя во дворе крестьянку, которая дожидалась доктора, чтобы отвезти его к больному в другую дальнюю деревню. И покорно ехал, позволяя медицине отнимать время у литературной работы, которой приходилось заниматься лишь урывками. Ругался, проклинал все это, но отказаться не мог. К счастью, и на этот раз эпидемия пощадила его больных, никаких жертв среди населения чеховского участка не было.
Летом опять нахлынула толпа гостей. Прогулки, флирт, всякие игры снова царствовали в Мелихове. От Чехова теперь ни на шаг не отходили собаки, подаренные другу-писателю Лейкиным. Вот как он рассказывал о них Суворину: «У меня новость: две таксы – Бром и Хина, безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный».[322] Как обычно, вечера проходили для матери семейства в тревоге, потому что Евгении Яковлевне казалось, будто гости не отдают должного ее стряпне, Павел Егорович продолжал цедить сквозь бороду евангельские истины, а сам Чехов, то раздражаясь, то забавляясь, пытался поддерживать беседу. После ужина все отправлялись в гостиную, где курили, болтали и слушали музыку. Лика пела, аккомпанируя себе на фортепиано, а чрезвычайно привлекательный мужчина – новый знакомый Чеховых, Игнатий Потапенко, – играл на скрипке или подхватывал сочным баритоном романсы Чайковского и Глинки.
Среди всего этого многолюдства Чехов был любезен с каждым, но ни с кем не сближался, не откровенничал. Какая-то часть его постоянно оставалась закрытой для общества. Наблюдая за его поведением и обнаруживая в нем одновременно услужливость и отрешенность, Потапенко задумывался: а возможно ли стать близким другом такого человека? Наверное, даже в те моменты, когда Антон Павлович выглядел страшно заинтересованным тем, что говорят вокруг него, мысленно он оставался за письменным столом и думал только о лежавшей там рукописи. Внезапно взор его затуманивался, он быстро удалялся и записывал какую-то фразу, только что пришедшую на ум. Потом, вернувшись к друзьям, извинялся, шутливо добавляя, что вот, мол, только что «заработал шестьдесят копеек». Или, прервав общую беседу, скажем, о марксизме, задумчиво спрашивал: «А вы уже побывали на конезаводе?», правда, тут же, слегка покраснев, переводил разговор на брошенную тему. Короче говоря, он очень мало говорил о своем и о себе и очень старался не выдвигаться на первый план. Создавалось впечатление, будто он, облокотившись на балюстраду, наблюдает за течением жизни. При любых обстоятельствах Антон Павлович предпочитал быть зрителем, а не актером, не действующим лицом.
Особенно – во всем, что касалось любви. Так, наслаждаясь, подобно истинному гурману, обществом красивых женщин, он всегда боялся серьезных отношений, в которые могла его завлечь одна из них. Прекрасная Лика, которую он забрасывал то насмешливыми, то пылкими письмами, просто не знала, на каком свете она находится. Тем летом 1893 года она вообще сомневалась, стоит ли ехать в Мелихово. Но как было не откликнуться на такое? «…Жизнь до такой степени пуста, что только чувствуешь, как кусаются мухи – и больше ничего. <…> Мне кажется, что жизнь хочет немножко посмеяться надо мной, и потому я спешу записаться в старики. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик. Впрочем, все это глупо. Простите, Лика, но писать больше не о чем. Мне нужно не писать, а сидеть близко Вас и говорить. <…> Лика, если Вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то по крайней мере не смейтесь надо мной».[323]
Она приехала. И очень быстро поняла, что ничего не изменилось: за милыми словами стояло все то же холодное и рассудочное нежелание жениться. Чтобы нанести удар самолюбию Антона Павловича, девушка стала у него на глазах заигрывать с Потапенко. Но Чехов вроде бы не испытывал ни малейшей ревности. Когда Потапенко пел под аккомпанемент Лики, игравшей на рояле, Антон Павлович так улыбался, глядя на них, словно вид этой пары доставлял ему невыразимое удовольствие.
Вернувшись в Москву, отчаявшаяся, растерянная, несчастная Лика пытается рассеяться, «прожигая жизнь», как пишет она Чехову. Но пишет и другое: «Вы, конечно, не знаете и не можете понять, что значит желать чего-нибудь страшно и не мочь, – Вы этого не испытывали!
Я нахожусь в данное время в таком состоянии. Мне так хочется Вас видеть, так страшно хочется этого, и вот и только – я знаю, что это желанием и останется. Может быть, это глупо и даже неприлично писать, но так как Вы и без этого знаете, что это так, то не станете судить меня за это. Мне надо – понимаете – надо знать, приедете ли Вы и когда или нет? Все равно – только бы знать. Ведь мне осталось только три-четыре месяца Вас видеть, а потом, может быть, никогда.
Умоляю, напишите две строчки, так как Вы не приедете… Не возмущайтесь».[324]
Чехов пишет два дня спустя две – вполне милых – строчки о том, что «мерехлюндия» Лики напрасна, видеться они будут не три или четыре месяца, а сорок четыре года, так как он поедет за ней или – проще – не пустит ее (она собиралась учиться пению в Париже). Но строчки эти вызывают только новый взрыв отчаяния.
«За что так сознательно мучить человека? Неужели доставляет это удовольствие? Или это делается опять-таки потому, что Вы не хотите даже подумать, что другие могут думать и чувствовать! <…> Вот что хочу я просить Вас. Вы отлично знаете, как я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю я также и Ваше отношение – или снисходительная жалость, или полное игнорирование. Самое горячее желание мое вылечиться от этого ужасного состояния, в котором я нахожусь, но это так трудно самой – умоляю Вас, помогите мне – не зовите меня к себе, не видайтесь со мной! Для Вас это не так важно, а мне, может быть, поможет Вас забыть. <…> Вы не будете смеяться над этим письмом? Нет? Это было бы слишком! [Две строки зачеркнуты. ] Все это не нужно! Слушайте, это не фразы – эта просьба – единственный исход, и я умоляю отнестись к ней без смеха, и помогите мне. Прощайте».[325]
И, чтобы избежать колдовского влияния, которое Чехов оказывал на нее даже издалека, Лика становится любовницей Потапенко.
Возможно, и отчаянный тон письма, и отчаянный поступок девушки были вызваны тем, что ее мечта о счастье окончательно рухнула: той осенью Чехов сильно увлекся другой женщиной. В Москве он познакомился с молодой актрисой, обладавшей «змеиной грацией», типом «тигрицы до кончиков ногтей»[326] и нервным, резковатым, чуть хриплым голосом, – с Лидией Яворской. Как вспоминает познакомившая ее с Чеховым Татьяна Щепкина-Куперник, «она ему то нравилась, безусловно, интересовала его как женщина, но и чем-то раздражала…»[327] Странное дело: его, который ценил в людях прежде всего простоту, в этой особе привлекала больше всего ее искусственность. Вскоре о новой пассии Чехова заговорила вся литературная Москва. Он пообещал написать для нее пьесу. Она подписывала свои ему нежные записочки: «Целую и люблю. Ваша Лидия».
Очень скоро Лика поняла, что опасная соперница вскоре вытеснит ее из сердца Антона Павловича. Каждый раз, как Чехов приезжал в Москву, он непременно встречался с Лидией Яворской. Она принадлежала к тому небольшому кружку людей, которые устраивали ему самый радостный прием. Все молодые женщины, влюбленные в Чехова, были знакомы между собой и, прикрываясь проявлениями нежной дружбы, на самом деле друг друга ненавидели. Какую ничтожную уловку покинутой возлюбленной мы находим в записке Лики! Мадам Яворская провела с нами весь вечер, рассказывает она, и сообщила нам, что Чехов просто прелесть и что она любой ценой желает заполучить его в мужья… Попросила моего содействия, и я пообещала сделать все от меня зависящее ради вашего семейного счастья. Напишите хоть несколько слов о том, влюблены ли Вы в Лидию Яворскую… Напишите, конечно, мне, а не ей… До свиданья, палач души моей, напишите, умоляю…[328]
Чехов не попался на удочку и несколько дней спустя ответил запиской в пять строк, назвав Лику своей «дорогой сводней», но не дав даже намека на свои чувства к молодой актрисе. В общем-то, ему нравилось быть осаждаемым столькими распаленными женщинами. Они, как он говорил, были его «эскадрой», он – их «адмиралом». Дамы даже окрестили его Авеланом[329] в честь адмирала, командовавшего русской эскадрой, вошедшей в Тулон в 1893 году. Приезжая в Москву, Чехов останавливался в «Гранд-отеле», в забронированном для него номере.[330] Именно туда к нему приходили поклонницы. К ним присоединялись и несколько мужчин. Пили и болтали до рассвета. «Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком-то чаду. Оттого, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом. Никогда раньше не чувствовал я себя таким свободным. Во-первых, квартиры нет – могу жить где угодно, во-вторых, паспорта все еще нет и… девицы, девицы, девицы…»[331] Однако поэтесса Щепкина-Куперник говорила, что на таких сборищах не могла отделаться от впечатления, будто «он не с нами», будто он – старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно, а ему неинтересно. «И где-то за стеклами его пенсне, за его юмористической усмешкой, за его шутками – чувствовались грусть и отчужденность».[332]
Как-то он сфотографировался с двумя своими приятельницами – Яворской и Щепкиной-Куперник. Последняя рассказывает об этом в мемуарах так: «…наконец решено было на память сняться втроем. Мы долго усаживались, хохотали, и когда фотограф сказал „смотрите в аппарат“, – А.П. отвернулся и сделал каменное лицо, а мы все не могли успокоиться, смеясь приставали к нему с чем-то – и в результате получилась такая карточка, что Чехов ее окрестил „Искушение св. Антония“».[333] Впрочем, Антон Павлович всегда утверждал, что сексуальный инстинкт – основа любви, но уточнял при этом, что не следует хвастаться подвигами плоти. «И что за дичь: разве половая способность есть признак настоящей жизни, здоровья? – писал он Суворину. – Все мыслители в 40 лет были уже импотентами, а дикари и в 90 лет держат по 90 жен. Крепостные помещики сохраняли свою производительную силу и оплодотворяли Агашек и Грушек вплоть до той минуты, когда их в глубокой старости хватал кондрашка. Я морали не читаю, и, вероятно, моя старость тоже не будет свободна от попыток „натянуть свой лук“, как говорит в „Золотом осле“ Апулей. Судя по человечности, дурного мало, что Паскаль спал с девицей – это его личное дело; но дурно, что Зола похвалил Клотильду за то, что спала с Паскалем, и дурно, что это извращение он называет любовью».[334] Как бы там ни было, но то ли безмятежное легкомыслие, то ли невинное желание поддразнить подтолкнуло его снова пригласить Лику с Потапенко встретить Новый год в Мелихове.
Тогда же[335] его книга под названием «Остров Сахалин» начала печататься с продолжениями в журнале «Русская мысль». Чехов был счастлив, что разделался наконец со столь неблагодарным трудом. «Мой „Сахалин“ – труд академический, и я получу за него премию митрополита Макария, – пишет он Суворину. – Медицина не может теперь упрекать меня в измене: я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством. И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей арестантский халат. Пусть висит!»[336]
К тому времени Чехов уже признан первым прозаиком своего поколения. Критики воспевают его как художника и как бытописателя. Все газеты, все журналы гоняются за ним, вымаливая что-нибудь неопубликованное. Переиздания его книг следуют одно за другим почти без перерывов. Его переводят на французский, на английский, на немецкий… Наверное, этим и объясняется та жадность, с которой читатели набросились на «Остров Сахалин». И… большей частью оказались разочарованы. Они ожидали от Чехова головокружительного, исполненного драматизма и горячности повествования, напоминающего «Записки из мертвого дома» Достоевского. А получили беспристрастный и сдержанный отчет о пребывании писателя в среде каторжан. Тем не менее этот репортаж, который некоторые сочли слишком сухим, привлек внимание властей, и правительство направило на остров следственную комиссию. Результатом стали реформы с целью смягчения условий жизни каторжников. То есть Чехов мог себе сказать, что муки его были не напрасны.
Если «Остров Сахалин» оставил читающую публику безразличной, этого никак нельзя было сказать о другом произведении Чехова – о повести «Палата № 6», опубликованной за год до того. Место действия этого, быть может, самого мрачного из творений писателя – палата для душевнобольных в больнице маленького провинциального городка. Слабый и опустившийся доктор Андрей Рагин, который «чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право»,[337] проводит все свободное от работы время в мечтах или за чтением, сопровождающимся рюмкой водки и кусочком соленого огурца каждые полчаса. Замкнувшись в себе, он становится снисходительным к царящим вокруг коррупции, насилию, грязи и нищете, он словно бы не замечает всего этого: внутренняя жизнь заслоняет от него все, что происходит вовне. Видя страдания своих несчастных заброшенных пациентов, он только спрашивает сам себя: «Но что же… Что из этого? <…> Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в своей нечестности виноват не я, а время… Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».[338] А в это самое время грубый и деспотичный сторож Никита наводит в больнице порядок, измываясь над пациентами. Однажды Рагин понимает, что надо все поменять. Но поздно. Появившиеся в его поведении из-за нового отношения к жизни странности приводят к тому, что его объявляют сумасшедшим и обманом запирают, вместе с другими умалишенными, в палате № 6. Он пытается сопротивляться – на него обрушиваются кулаки сторожа Никиты, и Рагин умирает, осознав, какую ошибку совершил, принимая из лени и мягкотелости ужасы, которые следовало разоблачать.
На страницах повести читатели обнаружили столько реализма и – одновременно – экстравагантности, что невольно задумались о смысле, который писатель хотел вложить в свое произведение. Одни полагали, что «Палата № 6» содержит замаскированную критику толстовской – искусственно созданной и косной – доктрины о непротивлении злу насилием, по мнению других, это был памфлет, направленный против режима, палата № 6 олицетворяла царскую Россию, ставшую тюрьмой для умов, ее кошмарный страж Никита воплощал в себе образ императорской власти, а разочарованный во всем доктор – русской интеллигенции, живущей без руля и без ветрил. Что же до самого Чехова, верного своему обету сдержанности, он отказывался объяснить скрытый смысл своей вещи: он был уверен, что роль писателя сводится к тому, чтобы создать лишь произведение, но никак не комментарии к нему.
Как бы там ни было, успех «Палаты № 6» был оглушительным. Правда, Суворин упрекнул автора в том, что повести не хватает «алкоголя». Что он хотел этим сказать? Чехов ответил на упрек сдержанно: «Вас нетрудно понять, и Вы напрасно браните себя за то, что неясно выражаетесь. Вы горький пьяница, а я угостил Вас сладким лимонадом, и Вы, отдавая должное лимонаду, справедливо замечаете, что в нем нет спирта. В наших произведениях нет именно алкоголя, который бы пьянил и порабощал, и это Вы хорошо даете понять. Отчего нет? Оставляя в стороне „Палату № 6“ и меня самого, будем говорить вообще, ибо это интересней. Будем говорить об общих причинах, коли Вам не скучно, и захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, т. е. людей в возрасте 30–45 лет, дал миру хоть одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо. Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают сейчас великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, умеем рождать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев. Причины тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, как думает Буренин, а в болезни, которая для художника хуже сифилиса и полового истощения. У нас нет „чего-то“, это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и Вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие – крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные – Бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше – ни тпррру, ни ну… Дальше хоть плетьми нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь это или нет – дело не в названии, но сознаться надо, что положение наше хуже губернаторского. Не знаю, что будет с нами через 10–20 лет, тогда, быть может, изменятся обстоятельства, но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего-нибудь действительно путного, независимо от того, талантливы мы или нет. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут… Вы и Григорович находите, что я умен. Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов и т. п. Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни, и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана недаром… Недаром, недаром она с гусаром!»[339]
Впрочем, отказ Чехова воспринимать себя как художника никого обмануть не мог. Другая повесть – «Рассказ неизвестного человека» – снова вызвала разноголосицу читательских мнений. Ни над одной вещью Чехов не работал так долго: начата повесть была еще в 1888 году, но писатель то и дело откладывал ее, опасаясь цензурных придирок. Осенью 1892 года она наконец была закончена, одно время Чехов хотел даже уничтожить ее, но вопреки всем опасениям с цензурой не возникло никаких осложнений, и «Рассказ неизвестного человека» начал печататься в «Русской мысли» с февраля 1893-го. Написанная от первого лица, повесть эта представляет собою исповедь революционера-террориста, который нанимается лакеем к петербургскому чиновнику, отца которого – крупного сановника – собирается убить. Огромную ценность этому произведению придают психологические портреты главных действующих лиц, светского циника Орлова и Зины – женщины пылкой и уязвимой. С течением времени ярым сторонником терроризма, будущим убийцей, овладевает страсть к любовнице хозяина – красавице Зине. И такое проявление слабодушия, уклонение от своего долга со стороны левого идеалиста возмутило либеральную критику: автора упрекали в том, что он избрал героем человека, неспособного решиться осуществить до конца на деле свои убеждения.
Следующая, появившаяся почти сразу же за «Рассказом неизвестного человека» повесть Чехова – «Черный монах» – тоже сбила с толку его читателей, но по причинам совсем другого рода. История эта была написана под тягостным впечатлением от сна. Как-то в Мелихове после обеда, когда все, кроме Михаила, отдыхали, Антон, который тоже прилег, измученный бессонницей, вдруг пулей вылетел из своей спальни, по лицу его пробегали судороги. Он с тревогой рассказал брату о том, что видел сейчас ужасный сон: ему явился черный монах! Видение преследовало его, и спустя несколько дней он решил записать приснившееся, чтобы избавиться от этого наваждения. Впервые Чехов коснулся в своем творчестве проблем сверхъестественного. Как полагал он сам, «Черный монах» должен был стать не более чем исследованием невроза, называл его «рассказом медицинским».
Талантливый философ Коврин, у которого разгулялись нервы от сильного переутомления, однажды испытывает нечто вроде галлюцинации: гуляя на закате по тропинке среди ржаного поля, он вдруг замечает, как на горизонте, «точно вихрь или смерч», поднимается от земли до неба черный столб с неясными контурами и движется прямо на него со страшной скоростью, при этом чем ближе оказывается, тем отчетливее становятся контуры, а когда проносится мимо отшатнувшегося в рожь Коврина, тот ясно видит монаха в черной одежде, с седой головой, черными бровями и скрещенными на груди руками, который несется, а босые ноги его не касаются земли… Повторяющееся видение приводит его к мысли, что он избранник Божий и его призвание – служить вечной правде. Кроме того, призрак утверждает, будто гений Коврина возвышает его над прочими людьми, и герой повести преисполняется счастья и гордыни. Однако вскоре после свадьбы по настоянию молодой жены и ее отца Коврин начинает лечиться и будто бы выздоравливает. Увы! Лишенный своей навязчивой идеи, он очень скоро начинает страдать от того, что стал теперь заурядным человеком, и заявляет: «Зачем, зачем вы меня лечили? <…> Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я – посредственность, мне скучно жить… О, как вы жестоко поступили со мной!»[340] Взбешенный тем, что его заставили лечиться, он бросает семью и вновь гонится за своей грезой. Верный слову черный монах вновь является к нему на свидание. Но в ту же минуту Коврин, больной туберкулезом, погибает от горлового кровотечения.
Эту странную историю одни рассматривали как шедевр в жанре литературной фантасмагории, другие – как очередную насмешку над интеллектуалами, претендующими на отрицание существующих законов и знание рецепта всеобщего счастья. Один из друзей сообщил Чехову, что обычно скупившийся на комплименты Толстой, прочитав его повесть, воскликнул с энтузиазмом: «Как чудесно! Ах, как чудесно!» Эта оценка взволновала Чехова, как волнует студента высокая оценка, проставленная в его зачетной книжке преподавателем, вызывающим поголовное восхищение. Но на самом деле с течением времени Антон Павлович все враждебнее относился к поучениям хозяина Ясной Поляны. Если раньше он принимал приверженность старого писателя к смирению, желание справедливости, ненависть к насилию, то теперь отказывался приходить в восторг, слыша о «святом русском мужике» с его неземными добродетелями. «В общем я здоров, болен в некоторых частностях. Например, кашель, перебои сердца, геморрой, – напишет он Суворину в марте 1894 года. – Как-то перебои сердца у меня продолжались 6 дней, непрерывно, и ощущение все время было отвратительное. После того, как я совершенно бросил курить, у меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может, оттого, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли и когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в „за и против“, а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя».[341]
Сразу после «Черного монаха» та же «Русская мысль» публикует рассказ Чехова «Бабье царство». Рассказ, прямо противоположный по интонации. Героиня его, Анна, унаследовав от отца завод, стала в двадцать шесть лет пленницей своих денег и своего общественного положения. Мечте Анны выйти замуж за одного из своих рабочих, Пименова, не суждено было исполниться, ей пришлось отказаться от этого намерения под давлением мира, в котором девушка вынуждена существовать. «Она закрыла глаза <…> и, сама того не желая, вообразила Пименова, обедающего вместе с Лысевичем и Крылиным, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь, в первый раз за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим, – вздор, глупость и самодурство. <…> Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышенны, благородны, но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие, взятые вместе».[342]
Еще одна история рухнувшего перед суровой действительностью наивного идеализма. От одного творения к другому Чехов становился все пессимистичнее. Состояние здоровья, вызывавшее серьезное беспокойство – рассветные приступы кашля иногда на долгие часы выводили его из строя, тоже не располагало к эйфории. К середине февраля 1894 года Антон Павлович твердо решил бросить все и уехать на отдых туда, где потеплее: в Крым. 5 марта он прибыл в залитую весенним солнцем Ялту. Счастливый, он вновь открывал для себя этот город с многоярусными белыми виллами, стоящими фасадом к морю, высокими кипарисами, неизменно лазоревым небом. Обосновавшись в гостинице «Россия», он собирался закрыться в номере и написать пьесу. Но не тут-то было – очень скоро его закружила веселая компания друзей, журналистов, актеров, оказавшихся здесь проездом. Болтая с ними, он сокрушался о потерянном времени.
В начале пребывания в Ялте Чехов получил от Лики совершенно безумное письмо. Девушка находилась в это время в Берлине и рассчитывала поехать в Париж, чтобы встретиться там с Потапенко, а кроме того – учиться пению. Во второй раз она объявляла, что Антон Павлович «оттолкнул» ее, писала, что в отчаянии, что хочет умереть: «Хочется поскорее добраться до места и хочется также Берлин посмотреть. Ведь я скоро умру и больше ничего не увижу. Напишите мне, голубчик, по старой памяти и не забывайте, что дали честное слово приехать в Париж в июне. Не забывайте отвергнутую Вами».[343] Закаленный опытом Чехов не пожелал трагически относиться к этому нытью и, ответив по-прежнему лихо: «Милая Лика, спасибо Вам за письмо. Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной, но все-таки спасибо. Я отлично знаю, что Вы не умрете и что никто Вас не отвергал», – принялся описывать ей свою нынешнюю жизнь. «Я в Ялте, и мне скучно, даже весьма скучно, – сообщает он. – Здешняя, так сказать, аристократия ставит „Фауста“, и я бываю на репетициях и наслаждаюсь там созерцанием целой клумбы черных, рыжих, льняных и русых головок, слушаю пение и кушаю; у начальницы женской гимназии я кушаю чебуреки и бараний бок с кашей; в благородных семействах я кушаю зеленые щи; в кондитерской я кушаю, в гостинице у себя тоже. Ложусь я спать в 10 часов, встаю в 10, и после обеда отдыхаю, но все-таки мне скучно, милая Лика. Не потому скучно, что около меня нет „моих дам“, а потому, что северная весна лучше здешней и что ни на одну минуту меня не покидает мысль, что я должен, обязан писать. Писать, писать и писать. Я того мнения, что истинное счастье невозможно без праздности. Мой идеал: быть праздным и любить полную девушку. Для меня высшее наслаждение – ходить или сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие – собирать то, что не нужно (листки, солому и проч.), и делать бесполезное. Между тем я литератор и должен писать даже здесь, в Ялте. Милая Лика, когда из Вас выйдет большая певица и Вам дадут хорошее жалованье, то подайте мне милостыню: жените меня на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать. Если же Вы в самом деле умрете, то пусть это сделает Варя Эберле, которую я, как Вам известно, люблю. Я до такой степени измочалился постоянными мыслями об обязательной, неизбежной работе, что вот уже неделя, как меня безостановочно мучают перебои сердца. Отвратительное ощущение». А заканчивает он письмо призывом к Лике поскорее вернуться в Россию: «В июне не я приеду в Париж, а Вы в Мелихово; Вас погонит тоска по родине. Без того, чтобы раз поехать в Россию хотя на день, дело не обойдется. Вы столкуйтесь с Потапенко. Летом он тоже поедет в Россию. С ним дорога обойдется дешевле. Пусть он купит билет, а Вы забудьте ему заплатить (Вам это не впервой)…»[344]
Впрочем, он и сам уже собирался в дорогу. Несмотря на чудную погоду и свежий морской воздух, здоровье его ничуть не улучшилось. 3 апреля Чехов выехал в Мелихово, а там снова поддался очарованию российской весны. Он, не переодеваясь, прямо в халате выходил в сад, мечтал на берегу пруда, высаживал цветы, прокладывал новые дорожки, ездил верхом, а Хина и Бром трусили сзади. Его опьянял запах свежескошенной травы. В начале июля он написал Леонтьеву (Щеглову), что достаточно ему пробыть рядом со стогом сена два часа, чтобы показалось, будто он в объятиях обнаженной женщины, а Суворину двумя месяцами раньше, 9 мая, признавался, что, на его взгляд, жить на природе и ничего не делать – это самые существенные условия для счастья.
Позади вишневого сада Антон Павлович приказал выстроить для себя деревянный флигелек: две комнаты, крошечная прихожая, холодные сени, а над ними балкон, с которого можно было пройти на высокий чердак под островерхой крышей. Обошлось ему строительство в 125 рублей. Чехов называл свое новое жилье «кукольным домиком» и уходил туда работать, когда в большом доме, битком набитом гостями, становилось слишком шумно. Именно в этой хижине, «у духовного очага», он напишет «Чайку».
Жизнь текла как обычно, но непреодолимая сила снова влекла Чехова в путь. Антон Павлович предложил Суворину отправиться вместе либо на берега Волги, где они могли бы посетить старинные монастыри и кладбища, либо в Феодосию, либо в Швейцарию. Ему самому все равно было, в какую сторону двигаться. Он говорил Суворину, что его заставляет торопиться предчувствие, хотя, возможно, это и не предчувствие вовсе, а просто сожаление о том, что жизнь протекает так однообразно и так заурядно. И называет свое желание уехать протестом души.
Но Суворин заставлял долго себя упрашивать и уламывать, и Чехов обратился с теми же предложениями к Потапенко, который тем временем вернулся из-за границы, но – без Лики. Впрочем, соблазнитель был не склонен рассказывать о своей победе, да и Чехову не хотелось принуждать того к исповедям. Друзья с радостью встретились после разлуки и весело отправились путешествовать по России – к берегам Волги. Однако, когда они добрались до Нижнего Новгорода, в толчее ярмарки им встретился болтливый и хвастливый добряк-толстовец Сергеенко, и это разом отравило все удовольствие. «От жары, сухого ветра, ярмарочного шума и от разговоров Сергеенко мне вдруг стало душно, нудно и тошно, я взял свой чемодан и позорно бежал… на вокзал. За мной Потапенко. Поехали обратно в Москву».[345]
Вернувшись в Мелихово,[346] Антон Павлович узнает, что его дядя Митрофан тяжело и безнадежно болен, – и сразу же решает действовать: «Надо ехать к нему и к его семье, чтобы лечить и утешать».[347]
Однако, приехав в родной город, Чехов сразу же пожалел о своем поспешном решении. У него больше не было ничего общего с членами его семьи, а из-за того, что местные газеты сообщили о «приезде столичной знаменитости», любопытные осаждали его толпами. Проведя шесть дней у постели больного и убедившись, что помочь ему он ничем не сможет, Антон Павлович сбежал в Феодосию, где Суворин принял его в своих царских хоромах. Но и здесь Чехову было не по себе: на море штормило, холодный ветер проникал даже за закрытые двери, а в роскошном доме не оказалось печей. Чехов дрожал, коченел, чуть ли не выкашливал легкие… Даже дружеские беседы с Сувориным не спасали от лютой тоски. Чуть позже он поднялся по трапу на пароход, идущий в Ялту. Там узнал о смерти дяди Митрофана и написал двоюродному брату Егору, что глубоко уважал покойного дядю и любил его от всей души. Думая об этом добром и набожном человеке, Антон Павлович заново переживал свое собственное детство – такое нищенское в сонном городе Таганроге, с грустью подводил итоги пройденного пути. Им опять овладела дорожная лихорадка. Едва он попадал куда-то, ему уже хотелось в совсем другие края, прямо-таки земля горела у него под ногами. Скорее, скорее на простор! Из Ялты он отправился в Одессу, оттуда – за границу: на этот раз им был выбран адриатический курорт Аббация. Понимая экстравагантность этого нового путешествия, Чехов не сказал о нем никому в семье, даже Марии Павловне, неизменной своей наперснице. Он чувствовал себя виноватым, потому что уступил желанию вырваться на волю, оставив своих дома. Теперь с ним был Суворин. 18 сентября они приехали в Вену, и Чехов сразу же обратился к Лике: «Умоляю Вас, не пишите никому в Россию, что я за границей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии. Если узнают, что я за границей, то будут огорчены, ибо мои частые поездки давно уже надоели.
Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как Вас».[348]
Три дня спустя он пишет уже из Аббации той же Лике, что отвратительная погода гонит его из этих мрачных мест и он надеется погреться на солнышке в Ницце. По пути останавливается в Триесте, в Венеции, в Милане, в Генуе. Совесть не оставляет его в покое, и из Милана он наконец отправляет сестре длинное письмо с рассказом о своем побеге. Ему тревожно: хватит ли у Маши денег на нужды семьи? Что касается туристских впечатлений, то о них Антон Павлович, как обычно, говорил подробно и с юмором: «Был в Лемберге (Львове), где видел польскую выставку и нашел ее, к стыду Сенкевича и Вукола Лаврова, очень жидкой и ничтожной, был в Вене, где ел очень вкусный хлеб и купил себе новую чернильницу, а также жокейский картуз с ушами, был в Аббации на берегу Адриатического моря и наблюдал здесь хороший дождь и скуку, в Фиуме, в Триесте, откуда ходят громадные пароходы во все части света. Затем, не говоря дурного слова, я был в Венеции; тут напала на меня крапивная лихорадка, не оставляющая меня и до сегодня. В Венеции я купил себе стакан, окрашенный в райские цвета, а также три шелковых галстука и булавку. Теперь я в Милане; собор и галерея Виктора Эммануила осмотрены, и ничего больше не остается, как ехать в Геную, где много кораблей и великолепное кладбище. (Кстати: в Милане я осматривал крематорию, т. е. кладбище, где сжигают покойников; пожалел, что не жгут здесь и живых, например еретиков, кушающих по средам скоромное.) <…> За границей пиво удивительное. Кажется, будь такое пиво в России, я спился бы. Удивительные также актеры. Этакая игра нам, россиянам, и не снилась.
Я был в оперетке, видел в итальянском переводе „Преступление и наказание“ Достоевского, вспоминал наших актеров, наших великих образованных актеров, и находил, что в игре их нет даже лимонада. Насколько человечны на сцене здешние актеры и актрисы, настолько наши свиньи.
Вчера был в цирке. Был на выставке. <…> Сегодня тащусь в Геную».[349]
Суворина удивлял интерес спутника к кладбищам. Делая вид, будто легкомысленно относится к смерти, Чехов не переставал думать о ней.
Приехав в Ниццу 2 октября, он обнаружил здесь множество присланных из Швейцарии писем от Лики, блуждавших вслед за ним по всем его адресам. Забыв всякий стыд, она рассказывала ему о своем любовном разочаровании.[350] После того как Чехов «отверг» ее, она отдалась Потапенко и поехала за ним в Париж. Но любовник не преминул отделаться от нее, вернувшись к жене. Воссоединившаяся чета отправилась в Италию, тогда как Лика, ожидавшая ребенка, оставалась в Швейцарии – одинокая и отчаявшаяся. «Видно, уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то все-таки сегодня мне хочется поговорить с Вами! Я очень, очень несчастна! Не смейтесь! От прежней Лики не осталось и следа, и, как я думаю, все-таки не могу не сказать, что всему виною Вы! Впрочем, такова, видно, судьба! Одно могу сказать, что я переживаю минуты, которые никогда не думала переживать! Я одна. Около меня нет ни души, которой я могла бы поведать все то, что я переживаю. Дай Бог никому не испытать что-либо подобное. Все это темно, но я думаю, что Вам ясно! Недаром Вы психолог!.. Даже Маше не показывайте это письмо и ничего не говорите… Не знаю – посочувствуете ли Вы мне… У Вас вся жизнь для других, и как будто личной жизни Вы и не хотите. Напишите мне, голубчик, поскорее…<…> Прощайте, если не увидимся, то не думайте обо мне дурно».[351]
А уже на следующий день[352] – новое письмо, где Лика умоляет приехать к ней повидаться: «Напишите поскорее, когда вы думаете приехать сюда, если не раздумаете. Предупреждаю, не удивляйтесь ничему! Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте. От меня не осталось и помину. Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули мою жизнь. Впрочем, я не думаю, чтобы Вы бросили в меня камнем! Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям, к их недостаткам и слабостям».[353]
Возмущенный поведением Потапенко, Чехов написал сестре, что тот «свинья». Но не полетел на помощь Лике – поостерегся. Ответ его на ее отчаянные письма носил даже холодноватый оттенок: «К сожалению, я не могу ехать в Швейцарию, так как я с Сувориным, которому необходимо в Париж… О моем равнодушии к людям Вы могли бы не писать. Не скучайте, будьте бодры и берегите свое здоровье. Низко Вам кланяюсь и крепко, крепко жму руку. <…> Если бы мне удалось получить Ваше письмо в Аббации, то в Ниццу я приехал бы через Швейцарию и повидался бы с Вами, теперь же неудобно тащить Суворина».[354]
19 октября, проследовав через Берлин, Париж и Москву, Чехов снова оказался в Мелихове. Конечно, он испытывал угрызения совести из-за того, что так безразлично отнесся к судьбе Лики, но, с одной стороны, он был сердит на нее за обвинение в «равнодушии» к себе подобным, а с другой – опасался, увидев ее, поддаться жалости и оказаться с плаксивой, хнычущей женщиной на руках – с женщиной, которую больше не любил. Утвердившись в отказе от любых сентиментальных глупостей, Чехов вообще перестал писать Лике и избегал разговоров о ней с сестрой. Маша же продолжала переписываться с бедняжкой. И постепенно из ответов узнала, что та произвела на свет девочку, потом – что виделась с Потапенко в Париже, затем – что надеется вскоре вернуться в Россию.
В конце декабря Лика стала снова напоминать о себе Чехову. Вот уже скоро два месяца, как я в Париже, а от вас ни словечка, писала она, неужели вы рассердились на меня? Без вас я чувствую себя совершенно потерянной и брошенной. Отдала бы полжизни только за то, чтобы быть сейчас в Мелихове, посидеть на вашем диване и поговорить с вами десять минут, поужинать вместе – словом, за то, чтобы жить так, будто я никогда не уезжала из России и все осталось как прежде…
Чехов и на этот раз не стал отвечать на жалобные призывы, приходящие из-за границы. Более того: забыв свое недовольство в адрес «свиньи» Потапенко, он снова – и без всяких задних мыслей – сошелся с ним. Бедная Лика потерпела поражение на всех фронтах. Пытаясь разобраться в причинах тогдашней сдержанности брата по отношению к Лике, Мария Павловна напишет много лет спустя в своих воспоминаниях: «Я не знаю, что было в душе брата, но мне кажется, что он стремился побороть свое чувство к Лике. К тому же у Лики были некоторые черты, чуждые брату: бесхарактерность, склонность к миру богемы. И может быть, то, что писал ей однажды в шутку, впоследствии оказалось сказанным всерьез: „В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили“».[355]
На самом деле, как бы ни была обольстительна Лика, сколько бы усилий она ни прилагала, у нее не было ни малейшего шанса втянуть Чехова в более серьезные отношения, чем безобидный флирт. Антон Павлович не обладал бурным темпераментом, был не слишком чувственным и легко подавлял требования плоти. Все, что интересовало его в любви – это ухаживание, преамбула к ней: тут была игра, и этого ему было достаточно. В приливе откровенности он как-то признался Суворину: «Фю, фю! Женщины отнимают молодость, только не у меня. В своей жизни я был приказчиком, а не хозяином, и судьба меня мало баловала. У меня было мало романов, и я так же похож на Екатерину, как орех на броненосец. Шелковые же сорочки я понимаю только в смысле удобства, чтобы рукам было мягко. Я чувствую расположение к комфорту, разврат же не манит меня…»[356] Если говорить о Лике, то тут его соперник, ветреник Потапенко, прекрасно проанализировал осторожность, которая мешала Чехову ощутить настоящий вкус к жизни. Он запрещал себе личную жизнь, вспоминал Потапенко, потому что верил, будто она отнимает у творца слишком много сил и внимания.
Лика вернулась в Россию, прошло немного времени, и дочка ее умерла. Опасаясь ее слез и жалоб, Потапенко решил, что поступит куда более мудро, если уедет подальше от брошенной им женщины и переберется с женой в Санкт-Петербург. Так и сделали. Что же до Чехова, то, перебирая в памяти перипетии печальной истории, главные действующие лица которой были хорошо ему знакомы, он задумывался: а не может ли эта жизненная драма стать сюжетом для пьесы? Решительно, чем старше он становился, тем больше получал таких подарков от жизни. Благодаря какой-то таинственной алхимии все существа, которые встречались ему, все события, которые доводилось пережить, преображались в строки, записанные на листе бумаги…
Глава XI «Чайка»
Морозным январским вечером 1895 года, когда семейство Чеховых в Мелихове заканчивало ужинать, собаки на дворе залаяли. Потом раздался стук в дверь. Маша пошла открывать и при свете лампы, которую держала в руке, увидела свою молодую подружку, поэтессу Татьяну Щепкину-Куперник, сияющую от радости, а позади нее смущенного, какого-то съежившегося Левитана. Художник вот уже больше двух лет наотрез отказывался встречаться с Чеховым, которому не мог простить того, что был, по его мнению, выведен в образе циничного и беспринципного персонажа «Попрыгуньи». Но, поддавшись уговорам Татьяны Щепкиной-Куперник, Левитан заставил себя забыть об этой ссоре, и теперь, сердитый и вместе с тем счастливый, топтался в мелиховских сенях. Растроганный Чехов бросился к гостю, чуть помедлив, протянул ему руку. Не сговариваясь, оба решили избегать любых намеков на прошлое. По словам свидетелей, в течение всего разговора потом, разговора совершенно обычного, в прекрасных черных глазах Левитана поблескивали слезы, а светлые глаза Чехова, напротив, искрились ребяческим весельем. Позже, уже из Москвы, Левитан напишет вновь обретенному другу, что вернулся к тому, что было ему очень дорого, к тому, чем на самом деле он никогда не переставал дорожить.
Несколько дней спустя друзья опять встретились – на этот раз в мастерской художника. Восхищаясь новыми его произведениями, Чехов тем не менее отметил появление в работах Левитана чего-то искусственного. «Это лучший русский пейзажист, – написал Антон Павлович Суворину, – но, представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы. Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного: только молодость. Пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга, а восторг невозможен, когда человек обожрался. Если бы я был художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую: ел бы раз в день».[357]
Он выдумывал ее для себя, он ее вымечтал – эту дисциплину аскета. Почти год спустя в письме тому же Суворину он уточнил, что, существовали бы такие монастыри, куда принимали бы неверующих и где можно было бы не молиться, он сразу стал бы монахом. Как совместить то, что надо и жить, и писать? Как добиться согласия между двумя этими занятиями? Что нужнее: утехи жизни или работа пера? Не стоит ли пожертвовать первыми ради второго? Эти вопросы волновали Чехова с первых его шагов в литературе. А сейчас он только что закончил повесть «Три года», в которой рассказывалось о деградации купеческой семьи, исковерканной влиянием на нее московской жизни. Не слишком довольный своей новой вещью, но не способный ни исправить, ни улучшить, ни развить ее, Антон Павлович отдал этот, как сам называл его, «роман из московской жизни» в «Русскую мысль» таким, какой уж получился. Цензура ополчилась на текст и изъяла из него многочисленные строки, относящиеся к религии. «Это отнимает всякую охоту писать свободно; пишешь и все чувствуешь кость поперек горла», – жаловался Чехов Суворину.[358]
Однако, несмотря на эту «кость в горле», писатель и не думал на какое-то время умолкнуть. Сюжетов было более чем достаточно. Но были ведь еще больные, к которым он должен был ездить по всей округе. К тому же в конце 1894 года он согласился стать попечителем Талежской сельской школы, находившейся в соседней деревне. «Его выбрали в земские серпуховские гласные, и он очень серьезно относился к своим обязанностям. Ушел с головой в вопросы народного образования и здравоохранения», – вспоминала Татьяна Щепкина-Куперник. Время от времени Чехов принимал участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя, председательствовал среди присяжных в Серпуховском суде. В общем, дополнительных обязанностей было много. А начинающие писатели, которые тоннами слали свои рукописи и умоляли прочесть их, а ему не хватало мужества отказать дебютанту в совете! Кроме всего прочего, он вбил себе к голову сделать библиотеку своего родного города богаче: начал с того, что пожертвовал ему собранную за многие годы собственную библиотеку, оставив себе только книги для личного пользования, а затем слал туда посылку за посылкой книги, «выпрошенные» у знакомых авторов и издателей или купленные на собственные деньги…
Суворина чрезвычайно беспокоила эта разбросанность друга, и он снова и снова заводил речь о женитьбе: ему казалось, что тогда жизнь Чехова станет более упорядоченной. В начале весны опять написал Антону Павловичу о том же, и тот ответил ясно: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра – я не выдержу. Когда каждый день мне говорят все об одном и том же, одинаковым тоном, то я становлюсь лютым. Я, например, лютею в обществе Сергеенко, потому что он очень похож на женщину („умную и отзывчивую“) и потому что в его присутствии мне приходит в голову, что моя жена может быть похожа на него. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день: оттого, что я женюсь, писать я лучше не стану».[359] А спустя какое-то время развивает в новом письме к другу эту мысль, говоря: «…я поздно засыпаю и вообще чувствую себя скверно, хотя по возвращении из Москвы веду жизнь воздержанную во всех отношениях. Мне надо бы купаться и жениться. Я боюсь жены и семейных порядков, которые стеснят меня и в представлении как-то не вяжутся с моею беспорядочностью, но все же это лучше, чем болтаться в море житейском и штормовать в утлой ладье распутства. Да уже я и не люблю любовниц…»[360]
Он утверждал, что перестал интересоваться женщинами, а они продолжали преследовать его. И самой предприимчивой была, бесспорно, Лидия Авилова. Хотя за весь 1894 год Чехов написал ей всего-навсего одно письмо, она была убеждена, будто он питает к ней слабость, вот только не признается. Решила ускорить события. И когда Антон Павлович оказался в феврале 1895 года проездом в Санкт-Петербурге, пригласила его к себе, чтобы, воспользовавшись отсутствием мужа, устроить романтический ужин наедине. Но, пока Авилова лихорадочно готовилась к приходу Чехова, свалились как снег на голову незваные гости – пара друзей, которые набросились на приготовленные ею яства и оглушили ее бессодержательной трескотней. Когда же наконец явился Антон Павлович, то стали мучить уже его, засыпая вопросами и приставая с нудными разговорами. В конце концов «налетчиков» удалось выпроводить, и Лидия, пустив в ход все свои чары, принялась обольщать дорогого гостя. В книге воспоминаний, написанной полвека спустя, она во всеуслышание объявляет, что Чехов якобы признался ей тогда в своей давней влюбленности. «Да, раньше… – приводит Авилова его слова, – помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что еще тяжелее расставаться… <…> Я вас любил, – уже совсем гневно, как утверждает Авилова, продолжил Чехов. – Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?»
К несчастью, написанное Чеховым на следующий день после этих страстных признаний письмо отличается тоном настолько прозаическим, что невольно разоблачает утверждения мемуаристки. «Многоуважаемая Лидия Алексеевна! Вы не правы, говоря, что я у Вас скучал бессовестно. Я не скучал, а был несколько подавлен, так как по лицу Вашему видел, что Вам надоели гости. Мне хотелось обедать у Вас, но вчера Вы не повторили приглашения, и я вывел заключение опять-таки, что Вам надоели гости… Буренина я не видел сегодня и, вероятно, не увижусь с ним, так как постараюсь завтра уехать к себе в деревню. Посылаю Вам книжку и тысячу душевных пожеланий и благословений. Пишите роман».[361] А назавтра – снова письмо от него, еще более сухое. Чехов возвращал Авиловой рукописи ее рассказов, которые она попросила его почитать, с таким беспощадным заключением: «Резюме: Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к разряду сырых литераторов. Язык у вас изысканный, как у стариков». Подписано было «Искренне преданный Чехов».[362] К письму был приложен экземпляр только что вышедшего сборника рассказов с не слишком дружеской надписью: «Л.А. Авиловой от автора».
Сразу после этого Чехов уехал в Москву, даже не попытавшись снова увидеть ту, которую он, как предполагалось, тайно любил долгие годы. Не зная, как понимать его бегство, Авилова решила попытаться как-нибудь расшевелить Антона Павловича и отправилась к ювелиру, чтобы заказать брелок для своего любимого писателя. На этой драгоценной вещице, выполненной в форме книжечки, она приказала выгравировать с одной стороны надпись «Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова», с другой – «Стран. 267, стр. 6 и 7». Найдя в сборнике свой рассказ «Соседи», автор сможет прочесть в этом месте фразу: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Лидия Авилова послала эту вещицу своему брату в Москву с просьбой отнести брелок в редакцию «Русской мысли», чтобы там его передали Чехову, и стала с нетерпением ожидать, как тот отзовется на подарок. Но он даже не подтвердил получения. Смертельно огорченная и униженная Авилова все-таки отправилась в Москву и написала оттуда в Мелихово: предложила Чехову встретиться с ней. В ответ опять ни слова. Чтобы избавиться от назойливой поклонницы, Антон Павлович попросил даже сотрудников «Русской мысли» сообщить ей, будто он находится в Таганроге.
Но сам в это время и не думал покидать Мелихово и, безвылазно сидя в своем поместье, подстерегал первые приметы весны. Наконец-то после долгих снежных месяцев зимней спячки и тишины он смог написать Суворину: «В поле поют жаворонки, в лесу кричат дрозды. Тепло и весело».[363]
Как обычно, с первыми же погожими деньками началось нашествие гостей. Вскоре в «герцогстве» Антона Павловича собралось все большое семейство. Михаил, который был только что переведен в Ярославль, одолевал ступеньки карьерной лестницы в местной администрации; Ивана как педагога высоко ценили во многих школах Москвы; Мария продолжала преподавать в институте Раевского[364] и учиться на медицинских курсах, чтобы помогать брату лечить крестьян. Что же до Александра, то он упрочил свое положение журналиста в «Новом времени», с успехом публиковал рассказы под псевдонимом Седой и мог теперь с гордостью сказать Антону, что открыл счет в банке и подумывает о том, чтобы снять дачу на лето.
Лика в то лето трижды побывала в Мелихове, но обольстить Чехова уже не пыталась. После нескольких лет, проведенных более или менее беспутно, она предпочла поддерживать с ним чисто дружеские отношения. Антон Павлович только радовался тому, что в их взаимных чувствах наконец-то настала полная ясность. Вдобавок ко всему он еще и не испытывал ни малейшей злобы в адрес «этой свиньи» Потапенко. Он больше не видел в нем бесчестного соблазнителя Лики, а видел просто весельчака, всегда готового оказать услугу и составить компанию, в которой не станешь скучать. Еще один друг Антона Павловича, Левитан, расстался наконец со своей сорокалетней «попрыгуньей», и теперь у него был трагический роман с некоей Анной Турчаниновой, дамой весьма богатой и в возрасте. В июле 1895 года эта дама написала Чехову, что художник, гостивший у нее в поместье Горка, поранился, пытаясь покончить жизнь самоубийством. После этого неудавшегося самоубийства несчастный впал в такую прострацию, что только присутствие Чехова рядом, писала Турчанинова, сможет его спасти. Однако дама эта «позабыла» уточнить, что Левитан дошел до подобного состояния только потому, что не мог больше выносить скандалов между матерью и дочерью, оспаривавших его благосклонность. Прислушиваясь только к тому, что диктовала ему дружба, Чехов кинулся в Горку – имение находилось в Новгородской губернии. Там он увидел мертвенно-бледного Левитана, черные глаза его сверкали из-под белой повязки на голове. Правда, кожа была только слегка задета пулей. Но Чехов потратил пять дней на то, чтобы хоть сколько-нибудь поднять дух несчастного, осаждаемого двумя женщинами. И, несомненно, достиг успеха, потому что, вернувшись в Мелихово, получил от Левитана записку, где тот признался, что сам не знает почему, но те несколько дней, которые Антон Павлович провел с ним, были для него самыми мирными и спокойными за все прошедшее лето.
Выполнив эту дружескую миссию, Чехов мог бы отдохнуть в деревне, но не прошло и двух недель, как он снова собрался в путь. Только на этот раз предполагалась не спасательная экспедиция, а паломничество: Антон Павлович решил посетить Толстого в Ясной Поляне. Почти все русские писатели и многие иностранные предпринимали такие поездки из любопытства и в знак почтения. До сих пор, восхищаясь автором «Войны и мира» и «Анны Карениной», Чехов отказывался идти на поклон к грозному пророку, который упорно продолжал отрицать технический прогресс, проповедуя лишь духовный. Толстовцы, особенно Горбунов, были так настойчивы, что это только усиливало его нерешительность. Но наступил день, когда и Чехов влился в этот поток.
Приехав в Ясную Поляну 8 августа 1895 года, он встретил старого писателя в березовой аллее, ведущей к дому. Толстой был в парусиновой блузе, белой панаме, с полотенцем через плечо: он собирался на реку, купаться. Пригласил Чехова с собой. Пришли на берег, разделись, окунулись по шею. И вот так – бултыхаясь в речке, сияя библейской наготой, они завели свой первый разговор. Такая простота очаровала Чехова сразу же. Он почти забыл, что перед ним живой монумент русской литературы. Потом они отправились прогуляться по дороге на Тулу, и Толстой всячески превозносил достоинства велосипеда, которым пользовался, несмотря на свои шестьдесят семь лет. Вечером Горбунов читал вслух для семьи и гостей фрагменты «Воскресения», первую редакцию которого Толстой только что закончил. Успокоенный доброжелательным приемом, который ему оказали в Ясной Поляне, Чехов решился сказать автору, что он в восторге от сцены суда, но считает малоправдоподобным, чтобы Катюшу Маслову приговорили всего к двум годам каторжных работ, потому что русские суды не наказывают преступников столь короткими сроками. Толстой согласился с критикой и исправил ошибку.
После этого первого свидания хозяин Ясной Поляны написал своему сыну Льву, что гость его весьма даровит и что сердце у него очень доброе, но нет у него пока еще определенного взгляда на жизнь. Что же до Чехова – он сожалел о том, что в последнем романе Толстого персонажи являются открытыми глашатаями идей автора, но тем не менее признал Льва Николаевича человеком исключительного масштаба нравственности. Он признавался, что, говоря с Львом Николаевичем, чувствуешь себя целиком в его власти, что никогда еще не встречал настолько привлекательного существа, можно даже сказать, столь гармонично задуманного, называл его человеком почти совершенным. Суворину он написал: «Я прожил у него 1/2 суток. Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Л[ьвом] Н[иколаевичем] были легки».[365] А несколько дней спустя прибавил: «Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и не безупречен, то первые бы стали относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведешь. Невесту и любовницу можно надуть как угодно, и в глазах любимой женщины даже осел представляется философом, но дочери – другое дело».[366]
Однако эта встреча с Толстым ничуть не изменила взглядов Чехова: он продолжал считать, что литература должна быть «не ангажированной», а авторы оставаться беспристрастными к своим персонажам, судить о них непредвзято.
Написав несколько рассказов – «Супруга», «Анна на шее», «Белолобый», «Убийство», «Ариадна», Чехов почувствовал, что его снова властно притягивает театр. 21 октября 1895 года он рассказывает Суворину: «…можете себе представить: я пишу пьесу, которую кончу тоже, вероятно, не раньше как в конце ноября. Пишу не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».[367] Несколько недель спустя у пьесы уже появилось название – «Чайка». Меньше чем через месяц после того, как была сочинена первая реплика, он уже сообщал писательнице Елене Шавровой, что закончил пьесу, что она не представляет собой ничего особенного и… что в целом он сам назвал бы себя посредственным драматургом. Столь уничижительная оценка своего труда не мешала Антону Павловичу без конца возвращаться к тексту и усердно вычищать и править его. Его рвение тут можно оценить особенно высоко, его заслуги безусловны, потому что, кроме всего прочего, Чехов был в это время обременен массой разных обязанностей: он готовился к строительству новой школы, рассматривал планы, сметы, писал невероятное количество писем, чтобы спасти от краха медицинский журнал «Хирургическая летопись», собирал деньги, чтобы иметь возможность прийти на помощь нуждающимся, проводил, как и раньше, бесплатные консультации… А работал – припадками, «будто кто-то в спину подталкивает», но тем не менее сумел перебелить свою рукопись и отдать ее напечатать. Намереваясь послать один из экземпляров Суворину, он написал другу: «Ну-с, пьесу я уже кончил. Начал ее forte[368] и кончил pianissimo[369] – вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен, и, читая свою новорожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург. Действия очень коротки, их четыре. Хотя это еще только остов пьесы, проект, который до будущего сезона будет еще изменяться миллион раз, я все-таки заказал напечатать два экземпляра на ремингтоне (машина печатает два экземпляра сразу) – и один пришлю Вам. Только Вы никому не давайте читать».[370]
И на этот раз опять, следуя своей природной наклонности, Чехов черпал из жизни друзей строительный материал для своего произведения. Но можно ли добиться истинной правдивости, если не быть в большей или меньшей степени «мародером», собирателем всякого хлама, обломков реальной жизни? В сюжете «Чайки», бесспорно, была использована горестная история любви Лики и Потапенко. Как Лику, Нину Заречную, печальную и страстную героиню пьесы, соблазнил, а затем бросил писатель Тригорин (его прообразом послужил Потапенко), как у Лики, у Нины Заречной родился от любовника ребенок, и ребенок этот умер совсем маленьким… Но пьеса возбуждала интерес не интригой, достаточно банальной, а тонкостью и изяществом диалогов, сотканных из намеков, недоговоренностей, полутонов. Действие в «Чайке» было замещено атмосферой. Чувства не изливались в жестах и криках – нет, они таились глубоко в сердцах. И не от волнующих приключений перехватывало дыхание у публики, а именно от скрытого, подспудного развития этих чувств. Короче, автор стремился не поразить, а околдовать.
При первом же чтении «Чайки» в кругу друзей сходство сюжета пьесы с историей Лики Мизиновой было замечено всеми. Еще всем показалось, будто законная жена Потапенко сильно напоминает другую героиню пьесы – актрису Аркадину. Во время второго чтения, на квартире актрисы Яворской в Москве, слушатели пришли к тому же мнению. Немирович-Данченко, познакомившись с рукописью, также заявил, что сходство очевидно и даже – что оно смущает его. А когда Суворин в свою очередь подчеркнул это, добавив, что последствия могут быть неприятными, Чехов ответил с горечью: «Если в самом деле похоже, что… изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя».[371]
Однако друзей Антона Павловича смущало не только повторение в пьесе истории Лики и Потапенко. Несмотря на все их восхищение автором, им мерещилось, что он в этот раз пошел по ложному пути. Невозможно заинтересовать публику, думали они, только душевными терзаниями. По их мнению, на театре все, что не состоит на службе интриги, – бесполезно. А здесь люди вместо того, чтобы действовать, заставляют выговариваться собственные души… Раненный этими замечаниями, Чехов писал все тому же Суворину: «Что касается моей драматургии, то мне, по-видимому, суждено не быть драматургом… Не везет. Но я не унываю, ибо не перестаю писать рассказы – и в этой области чувствую себя дома, а когда пишу пьесу, то испытываю беспокойство, будто кто толкает меня в шею».[372]
Ему потребовалось огромное усилие воли, чтобы преодолеть свое отвращение и снова заняться пьесой в начале 1896 года. Чехов чуть ли не полностью переписал «Чайку» и послал эту вторую версию, проявив смелость и желая быть откровенным, одному из самых «заинтересованных лиц», Потапенко. У того никаких возражений не нашлось. Снова став примерным мужем, он и думать забыл, видимо, о давней связи с Ликой, вот уж что его не заботило! Когда в январе 1896 года Антон Павлович приехал в Санкт-Петербург, Игнатий с женой потащили его в недавно приобретенный Сувориным театр на «Принцессу Грёзу» Эдмона Ростана в переводе Татьяны Щепкиной-Куперник. Чехов тогда написал сестре, что видится с Потапенко каждый день, что в том бурлит радость жизни, и в жене его тоже.
Чехов остановился в гостинице «Англетер», виделся с друзьями, которых было очень много, и, до головокружения опьяненный бурной столичной жизнью, подумывал о том, чтобы остаться тут подольше. Но волей-неволей пришлось возвращаться в Мелихово, чтобы присутствовать 22 января на бракосочетании брата Михаила с «нежной женщиной, отличной стряпухой, у которой душа нараспашку».
Погулял на свадьбе, поздравил новобрачных – и вернулся в Санкт-Петербург. Здесь 27 января он оказался на бале-маскараде, который устраивали в театре Суворина. Лидия Авилова тоже пришла туда. Скрыв лицо за черной бархатной полумаской, закутавшись в домино, она – так, во всяком случае, рассказывает мемуаристка – подошла к Чехову и первой объяснилась ему в любви. А он, хотя наверняка узнал ее, сделал вид, будто принял за другую. Но, поскольку «маске» непременно хотелось знать, получил ли он ее подарок, Антон Павлович удовольствовался тем, что пообещал ей ответить на вопрос со сцены в пьесе «Чайка», которая скоро пойдет в столице.
Покинув Санкт-Петербург, Чехов остановился в Москве и нанес вместе с Сувориным визит Толстому. В этот раз старый писатель показался ему сильно раздраженным, он ругал новых русских поэтов школы символизма, называя их «декадентами». Жена Льва Николаевича вроде бы тоже гневалась, но – в адрес художника Ге, писавшего картины на библейские сюжеты. Только две девушки, дочери Толстого, сидели тихо, играя в карты, и вид их представился гостю странно успокаивающим рядом с этим неудержимым потоком слов.
Отлично проведя время в городе, Антон Павлович вернулся в деревню и снова принялся за работу. Но не только и не столько к чисто литературному труду. Не довольствуясь украшением собственного поместья, он сражался с властями, добиваясь, чтобы отремонтировали дорогу, открыли почту и телеграф, починили мост, восстановили церковь в соседней деревне и – самое главное – построили новую школу в Талеже. Этот последний проект был ближе всего его сердцу. Он постоянно собирал средства на школу, организовывая сборы пожертвований, устраивая благотворительные концерты и любительские спектакли, а чаще всего – попросту выкладывая из своего кармана недостающие деньги. Он сам вычерчивал планы, сам покупал материалы, сам следил за работой каменщиков и плотников. И вот в августе 1896 года здание наконец было закончено. Как полагалось, новое помещение освятили – очень торжественно: молебен служили трое священников, присутствовало очень много земских деятелей, разумеется, вся семья Чеховых и их гости. После молебна крестьяне в благодарность преподнесли Антону Павловичу икону, две серебряные солонки и четыре хлеба на блюдах – по хлебу от тех деревень, дети из которых должны были учиться в новой школе. Это были традиционные символы русского гостеприимства.
Чехов полагал, что строительство школ, устройство библиотек, помощь больным крестьянам – лучшее, более правильное служение своей родине, чем критика при каждом удобном случае любой инициативы нового государя, Николая II, который, казалось, несмотря на свою молодость, ничуть не был расположен вести более либеральную политику, чем его покойный отец Александр III. Однако, приехав в июне месяце в Москву, Антон Павлович посетил могилы погибших на Ходынском поле и пометил это событие в дневнике, который теперь вел. На Ходынском поле предполагалось устроить грандиозный праздник для народа по поводу коронации Николая II: там поспешно строились эстрады, павильоны, прилавки и будочки с даровым угощением, карусели. Каждому, кто придет на праздник, предполагалось выдать коронационную кружку – эмалевую, белую с золотом и гербом. И все, кто собрался на Ходынку в этот день, мечтали о таких бесплатных кружках. Они и стали причиной трагедии. Дело в том, что по недосмотру будочки, в которых они должны были выдаваться, были выстроены прямо рядом с краем глубокого и широкого рва, и, когда народ хлынул к ним, те не выдержали натиска, и тысячи людей погибли в этом не засыпанном по недосмотру организаторов праздника рву – задавленные, изуродованные… Чехову рассказывали, как в тот день и в ночь, что шла за ним, пожарные фуры с грохотом развозили горы трупов, а в это самое время на Ходынке играла музыка и тем, кто ухитрился остаться в живых, выдавали-таки даровые колбасу и пирожки… В народе тогда прошел слух, что такое начало царствования – весьма дурной знак для императорской четы. Но Чехов, рационалист и прагматик, не верил в знаки судьбы.
Отдав в «Русскую мысль» короткий рассказ «Дом с мезонином» – светлую и грустную историю несостоявшейся любви с чудесными портретами героев, Чехов приступил к вещи покрупнее: повести «Моя жизнь», в которую ему хотелось поместить и воспоминания о своей юности в Таганроге, и свой опыт строительства школ. Но получилось иное: по существу, «Моя жизнь» – это рассказ о сыновнем бунте, о том, как сын восстал против отца – ограниченного, сурового и беспощадного. Порвав с социальной средой, в которой вырос, молодой человек решает стать простым рабочим, маляром. И, хотя он понимает, что, несмотря на все усилия, ему не удастся органично влиться в новую среду, слиться с народом, понимает он и другое: этот его провал куда предпочтительнее мнимого преуспеяния бывших его друзей, принадлежавших к привилегированному классу. Опубликованный в журнале «Нива» рассказ был воспринят современниками как обвинительная речь против толстовства. На самом же деле, утверждая, будто доктрина слияния с народными массами не является панацеей от всех болезней провинциальной жизни, Чехов не предлагал взамен никакого средства. Как всегда скептичный, он не желал делать никаких философских выводов из рассказанной им истории. Ограничившись изложением фактов, он оставил своих героев в поиске: только пройдя через «мильон терзаний», они, возможно, найдут истину, которая поможет им обрести равновесие.
Ту же заботу об объективности Чехов проявлял по отношению к главным героям «Чайки». И здесь также автор растворялся в персонажах. Отослав пьесу в цензуру, Чехов, боясь купюр, которые сделают вещь бессмысленной, обратился к верному Потапенко с просьбой попытаться смягчить строгую власть. 20 августа 1896 года, после уточнения ряда деталей, санкт-петербургский цензор поставил свою визу. 8 сентября, когда Чехов отправился на несколько дней в Феодосию и гостил у Суворина, именно Потапенко телеграммой известил его, что «Чайка» принята к постановке Александринским театром, что распределение ролей – блестящее и что премьера намечается на 17 октября.
Вдохновленный этой первой победой, Чехов тем не менее страшно волновался из-за того, как его пьесу примет публика. Даже те, кто ценил в ней поэзию, упрекали драматурга в излишней статичности. Чехов защищался, говоря, что хотел написать жизнь такой, какая она есть, то есть – в пестрой смеси смешного и пафосного, вульгарного и печального, банальности и тайны… Но поймут ли многие этот его художественный вызов?
7 октября он выехал в Санкт-Петербург и на следующий же день по приезде, затаившись в темном зрительном зале Александринского театра, присутствовал на репетиции. То, что он увидел, то, что он услышал, привело его в отчаяние. Следующие дни только усугубили растерянность и подавленность. По ночам стали являться кошмары. Соседке по Мелихову, Евгении Михайловне Семенкович, он написал в эти октябрьские дни, что ему снится, будто его женили на нелюбимой женщине и поносят во всех газетах. Директор театра Карпов, который сам ставил пьесу, ничего не понимал в тонкостях драматического произведения. Актеры, лишенные нормального руководства, попросту декламировали текст, да еще и делали это напыщенно – вопреки вкусу автора, признававшего только сдержанность. В раздражении он нередко прерывал репетицию и умолял исполнителей быть более естественными: «Главное, друзья мои, то, что театральность бессмысленна и бесполезна. Ведь ваши персонажи – самые простые, обычные люди». Глухие к этому гласу вопиющего в пустыне артисты заявляли в ответ, что знают свое дело, и продолжали декламировать в том же высокопарном стиле. Уходя из театра после одной из таких репетиций, Чехов сказал Потапенко: «Ничего не выйдет. Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит – и публику они не заинтересуют».[373] Сестре же написал: «„Чайка“ идет неинтересно. В Петербурге скучно, сезон начнется только в ноябре. Все злы, мелочны, фальшивы… Спектакль пройдет не шумно, а хмуро. Вообще настроение неважное».[374] И посоветовал не ездить на премьеру. Суворин, у которого Антон Павлович остановился на этот раз, записал в дневнике, что у гостя открылось кровохаркание.
12 октября, за пять дней до премьеры, Мария Савина, назначенная на главную роль, вдруг решила, что быть Ниной ей не подходит и пусть, мол, найдут другую исполнительницу. Поднялась паника, но в последнюю минуту юная артистка, дебютантка Вера Комиссаржевская, согласилась заменить Савину. И внезапно эта хрупкая девушка с громадными темными глазами, с полудетским личиком и мелодичным голоском сыграла Заречную с такой правдой, что вся труппа была потрясена. Восхищенный Потапенко пишет в воспоминаниях: «На одну из следующих репетиций Чехов пришел к самому началу, и, когда его увидели актеры, на сцене произошло то непонятное и не поддающееся объяснению явление, которое знакомо только актерам и, может быть, только русским: чудо, иногда спасающее совсем проваливающуюся пьесу, – без предварительного уговора общий подъем, коллективное вдохновение, незримо сошедшие с неба огненные языки.
Все подтянулись и начали играть. У не знающих ролей уточнился и обострился слух, и они улавливали каждый шорох, вылетавший из суфлерской будки. Появился рисунок, даже что-то общее, похожее на настроение.
Когда же вышла Комиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра. <…> В зале не было публики, но был Чехов, она играла для него одного и привела его в восторг».[375] И в самом деле, 15 октября он написал брату Михаилу: «Комиссаржевская играет изумительно».[376]
Увы! Назавтра артисты впали в прежнюю напыщенность. Отчаявшись справиться с ними, Чехов заговорил о том, чтобы снять свою пьесу с афиши. Но мысль о том, с какими осложнениями ему придется столкнуться при таком крайнем решении, заставила его отказаться от этого намерения. Утром 17 октября Антон Павлович встречал на вокзале сестру, которая приехала вместе с Ликой ночным поездом. Чехов показался им измученным, больным. Он все время покашливал, идя по перрону и говоря: «Актеры ролей не знают… Ничего не понимают. Играют ужасно. Одна Комиссаржевская хороша. Пьеса провалится. Напрасно ты приехала».[377]
В «Чайке» группа персонажей, собравшихся в деревенской усадьбе на берегу озера, изо всех сил старается развеять скуку своего бесцветного существования. Актриса Аркадина одержима страхом постареть, ее брат, Сорин, хотел бы жить ярче, прибывший к ним гость – писатель Тригорин – мечтает испытать иные страсти, кроме сочинительства, его молодой собрат по перу Треплев претендует на то, что открыл новую форму искусства и намерен заставить весь мир ее признать, а Ниночка, свеженькая и непосредственная, грезит о том, чтобы стать великой актрисой и познать «настоящую славу… настоящую шумную славу…». Это стремление к успеху, к известности настолько сильно в девушке, что она пренебрегает чистой и искренней любовью Треплева и отдается знаменитому Тригорину, думая, что это облегчит ей карьеру. В отчаянии молодой писатель пытается застрелиться, но промахивается. И видит, как Нина уезжает с этим Тригориным, к которому чувствует омерзение из-за того, что ему так везет. Проходит два года, и в последнем действии персонажам приходится признать, что мечты и порывы каждого разбились, столкнувшись с обстоятельствами повседневной жизни. Сорин, который боялся «залежаться, как старый мундштук», остается тем же бессильным, разочарованным в жизни человеком. Маша, тайно влюбленная в Треплева, выходит замуж за простого учителишку и начинает пить, чтобы забыть о своих иллюзиях. Тригорин глубже прежнего увяз во все той же традиционной литературе, в которой давно разочаровался. Что же до Нины, брошенной писателем, то она потеряла рожденного от него ребенка и, не завоевав успеха на театральных подмостках, вошла в бродячую труппу… Широкая дорога, о которой она мечтала, сузилась до размеров тропинки. Однако Нина отказывается признать себя побежденной. Треплев, увидев ее, признается, что любит по-прежнему, но, поскольку она отвергает его любовь, снова стреляется – и на этот раз без промаха.
Вся пьеса – свидетельство абсурдности человеческой судьбы. По мнению автора, не может существовать великого плана, который рано или поздно не провалился бы. И нужна сверхчеловеческая энергия, чтобы навести мостик над бездной, которая отделяет мечту от действительности. В четвертом акте старик Сорин предлагает Треплеву сюжет для повести, которая должна называться «Человек, который хотел», «L’homme, qui a voulu». «В молодости, – говорит он, – когда-то хотел я сделаться литератором – и не сделался; хотел красиво говорить – и говорил отвратительно: „и все и все такое, того, не того“… хотел жениться – и не женился; хотел всегда жить в городе – и вот кончаю свою жизнь в деревне. И все…»[378] Еще более явственно, чем в реплике Нины – «Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил… Сюжет для небольшого рассказа…»[379] – в его словах передана центральная тема пьесы.[380] Всех персонажей, которые маются в этой ватной атмосфере, объединяет предчувствие своего поражения в любви и в искусстве. Они мечтают о страстях, они говорят о них, но они не живут ими. Что же до двух писателей, Тригорина и Треплева, то между ними автор распределил разные стороны собственной творческой неудовлетворенности. Знаменитого Тригорина тяготит его успех, он пресыщен, писание стало для него своего рода рутиной, и он страдает от этого, как от возрастного недостатка. Говоря его устами, Чехов с пронзительной искренностью заявляет: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую… Пишу непрерывно, как на перекладных, иначе не могу… О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится!.. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? „Что пописываете? Чем нас подарите?“ Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение – все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением… Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым…» – и продолжает в ответ на вопросы Нины Заречной, разве не дают вдохновение и самый процесс творчества высоких, счастливых минут: «Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но… едва вышло из печати, как я не выношу и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно… А публика читает: „Да, мило, талантливо… Мило, но далеко до Толстого“, или: „Прекрасная вещь, но „Отцы и дети“ Тургенева лучше“. И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: „Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но писал хуже Тургенева“… Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу… Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч. и проч., и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука уходят вперед и вперед, а я отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а в остальном я фальшив, и фальшив до мозга костей».[381]
Треплев же, это второе воплощение Чехова, обвиняет своего старшего собрата в том, что тот слишком обычен, что пользуется старыми, обветшалыми реалистическими приемами, тогда как искусство должно обновляться с каждым поколением. Но, мечтая сам о том, чтобы произвести переворот в литературе, вынужден признать, что не способен порвать с традицией, им же и приговоренной. Перед самоубийством он вздыхает: «Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине… Тригорин выработал себе приемы, ему легко… У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе… Это мучительно… Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет потому, что это свободно льется из его души… Я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание».[382] Эти строчки можно было бы найти в письмах Чехова Суворину – они служат отражением его хронического упадка духа.
За несколько часов до первого представления «Чайки» это уныние достигло таких пределов, что Чехов стал колебаться, стоит ли ему вообще идти в театр. Спектакль был бенефисный, давался в честь комической актрисы Левкеевой, которую публика очень любила.[383] Она должна была появиться только в трехактной комедии, следовавшей за «Чайкой», но многочисленные любители посмеяться собрались именно ради нее. И стоило подняться занавесу, открыв взгляду мечтательных и разочарованных персонажей Чехова, зал оторопел, замер от удивления, недоброжелательно примолк. Они явились сюда не ради этого наказания! Когда Вера Комиссаржевская начала монолог Нины: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, – словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли…»[384] – в зале поднялся хохот, раздались свистки, шиканье. В конце первого акта жидкие аплодисменты потерялись в гуле возмущенных восклицаний. Во втором акте реплики актеров сопровождались глухим ропотом зрителей. В самые патетические моменты публика заходилась от смеха, люди поворачивались спиной к сцене, чтобы поболтать друг с другом, выкрикивали в адрес артистов оскорбления. Растерянные, парализованные таким приемом актеры позабыли свои роли и тщетно старались продолжать. Во время антракта в фойе писатели и журналисты, возбужденные столь явным неуспехом чересчур знаменитого коллеги, обменивались желчными репликами: «Газетный реализм!» или «Отчего бы ему не ограничиться рассказами?» Единодушно было решено, что такого провала не знала еще русская сцена. В конце второго акта совершенно убитый Чехов сбежал из зрительного зала в гримерную Левкеевой.
Два последних акта только довершили катастрофу. Публика разбушевалась, совершенно вышла из берегов. Не дождавшись конца представления, Чехов, словно вор, тихонько выскользнул из театра и, подняв воротник пальто, сгорбившись, побрел куда глаза глядят. Еще в театре, пробираясь сквозь толпу в вестибюле, он слышал, как какой-то рассерженный господинчик вопил: «Не понимаю директора театра! Это оскорбление для публики – ставить такую пьесу!» Антон Павлович отправился на Обводной канал, в трактир Романова, поужинал там в полном одиночестве, потом снова до изнеможения бродил по заснеженному городу.
В это время его сестра и Лика, обе – взволнованные не меньше его самого, ждали в гостиничном номере, где они договорились встретиться после спектакля. Текли минуты, часы, ими овладела тревога: за полночь Антона Павловича все еще не было. Брат Александр, обошедший чуть ли не весь город в поисках беглеца, вернулся ни с чем и тут же черкнул брату записку: «Я с твоей „Чайкой“ познакомился только сегодня в театре: это чудная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии и хватающая за сердце. С восторгом и крепко жму твою руку…» – больше он пока ничего сделать не мог. Чехов все не возвращался.
Во втором часу ночи Маша, не выдержав ожидания, поехала к Суворину, где у брата были отдельные покои. Но и здесь Антона Павловича не оказалось. Несчастной, перепуганной девушке пришлось слушать светскую болтовню мадам Сувориной и рассуждения самого господина Суворина на тему о том, как надо переработать пьесу, чтобы она стала «сценической».
Этого Маша уже не выдержала: она прервала излияния хозяина дома и попросила Суворина все-таки найти брата. Тот куда-то ушел и вернулся веселый: «Ну, можете успокоиться. Братец ваш уже дома, лежит под одеялом, только никого не хочет видеть и со мной не пожелал разговаривать. Гулял, говорит, по улицам».[385] Так он сказал Маше, а в дневнике записал более подробно: Чехов проворчал, что с него достаточно, что он никогда в жизни не сможет забыть этого представления и, даже если проживет сто[386] лет, не напишет ни одной пьесы для театра, потому что здесь его ждут только провалы.
Утром следующего дня, ни с кем в доме не простившись, Чехов уехал в Москву, а оттуда – в Мелихово. Избегая как врагов, так и друзей, он все-таки не забыл передать сестре записку: «Я уезжаю в Мелихово; буду там завтра во втором часу дня. Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня, потому что я был уже подготовлен к нему репетициями, – и чувствую себя не особенно скверно». Другую записку он оставил Михаилу: «Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжелое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль: не следует писать пьес. Тем не менее я все-таки жив, здоров и пребываю в благоутробии». А третью – Суворину: «Я уехал в Мелихово. Желаю всего хорошего!.. Печатание пьесы приостановите. Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении».[387] Просьба приостановить печатание пьесы относилась, естественно, к «Чайке».
Потапенко часов в десять утра заехал за другом и проводил его на вокзал. Ближайший поезд оказался скверный, шел двадцать два часа. «Тем лучше, – сказал на это известие Чехов. – Буду спать и мечтать о славе… Завтра буду в Мелихове. А? Вот блаженство!.. Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. А у тебя хороший нюх… Я хотел сказать: чувство самосохранения. Вчера не пришел в театр. Мне тоже не следовало ходить. Если бы ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей».[388] Ожидая отхода поезда, Антон Павлович, как вспоминает Потапенко, уже шутил, посмеивался над собой, смешил себя и спутника. Вот только газеты наотрез отказался купить, весело объявив, что руки газетчика с добродушным лицом полны отравы. Но в глазах друга Игнатий Николаевич читал огорчение, а напоследок и им было услышано: «Больше пьес писать не буду». Несчастный, глубоко оскорбленный Петербургом автор «Чайки» в душе был все-таки настолько растревожен, что, всегда исключительно аккуратный и внимательный, в этот раз забыл, выходя из вагона, взять свои вещи, и потом, как вспоминает Мария Павловна, ему пришлось давать телеграмму поездному обер-кондуктору, чтобы их доставили в Лопасню.
В записке сестре, в самом низу страницы, Антон Павлович приписал: «Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику». Мария Павловна не заставила дважды просить себя, и обе женщины прибыли в деревенскую усадьбу, подобно двум сестрам милосердия, готовые ухаживать за тяжелым больным, залечивать его душевные раны. Но Чехов тут же расставил все по местам. «О спектакле больше ни слова!» – так он встретил новоприбывших. И они удовольствовались тем, что обсуждали случившееся между собой. Лика – настоящая «чайка» – могла бы обидеться на то, что ее несчастная история с Потапенко была выведена в пьесе. Но героиня, прототипом которой она являлась, была так идеализирована автором, что Лику только растрогал этот приукрашенный портрет ее самой. Кроме того, все подробности ее связи с писателем были обойдены, и от нее, собственно, остался лишь образ трепетного, раненого существа, которое с бесконечным изяществом борется за выживание. Несколько недель спустя после премьеры Мизинова написала Антону Павловичу: «Говорят, что „Чайка“ заимствована из моей жизни и что Вы хорошо отделали еще кого-то?»
В вечер премьеры за перипетиями спектакля взволнованно следила еще одна женщина: Лидия Авилова. Она не забыла обещания Чехова, сделанного девять месяцев назад: он намекнул тогда, что на представлении она поймет, узнал ли он незнакомку на маскараде. Но реплики сменяли одна другую, не давая ни малейшего ответа на тревоживший ее вопрос. Наконец, в третьем акте она увидела, как Нина протягивает Тригорину медальон, на котором велела выгравировать инициалы писателя, название одной из его книг и слова: «страница 121, строчки 11 и 12». Но ведь это не та страница и не те строки, которые приказала выгравировать на подаренном Чехову брелоке сама Авилова! Заинтригованная донельзя, она больше не слушала актеров и думала только о своем. Вернувшись домой, она, пылая нетерпением, едва дождалась, пока муж уснет, и кинулась искать нужную цитату в произведениях Чехова. Обозначенные строчки ни в одном из сборников не говорили ни о чем! Разочарованная, Лидия улеглась в постель, но заснуть не смогла. И вдруг ее озарило: а если он взял цитату из ее собственного сборника рассказов, который был ему послан?! Отбросив одеяло, помчалась в библиотеку, открыла книжку на 121-й странице, нервно отсчитала 11-ю строку. И прочитала: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».
«Вот это был ответ! – пишет в мемуарах Авилова. – Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал, все он знал».[389] Однако ясно, что для Чехова эти слова означали конец, категорический отказ от нее в насмешливой форме. Верный своей привычке, он старался свести отношения с влюбленными в него женщинами к шутке. И придавал так мало значения этому брелоку, что спустя некоторое время передарил его Вере Комиссаржевской, бесподобной исполнительнице «Чайки». И артистка тут же призадумалась, а не воспылал ли драматург к ней страстью. Но он и Лике предложил подарить медальон в этом же роде, и тоже с гравировкой: «Список пьес членов Общества русских драматургов, 1890, страница 73, строка 1», а когда она раскрыла каталог на указанной странице, то обнаружила там название фарса «Безумный Игнаша,[390] или Нежданное безумие» – прямой намек на Игнатия Потапенко.
В конце концов можно сказать, что и Лика, и Лидия Авилова, и Вера Комиссаржевская – все они хотели видеть в Чехове страстного мужчину, тогда как сам он довольствовался тем, что попросту наслаждался их обществом, желая лишь, чтобы были красивыми, веселыми и милыми, но не испытывая по отношению к ним ничего, кроме нежности и уважения.
Провал «Чайки» подкосил автора морально и физически. Шли дни, а у него все стоял перед глазами этот зрительный зал, отвечавший свистом, смехом и шиканьем на творение, в которое он вложил столько собственной души, себя самого. Суворин выругал его в письме после премьеры за то, что он так распустился, и Антон Павлович ответил ему гневной филиппикой: «В Вашем последнем письме (от 18 окт.) Вы трижды обзываете меня бабой и говорите, что я струсил. Зачем такая дифамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни одного жалобного звука. Если бы я струсил, то я бегал бы по редакциям, актерам, нервно умолял бы о снисхождении, нервно вносил бы бесполезные поправки и жил бы в Петербурге недели две-три, ходя на свою „Чайку“, волнуясь, обливаясь холодным потом, жалуясь… Когда Вы были у меня ночью после спектакля, то ведь Вы же сами сказали, что для меня лучше всего уехать; и на другой день утром я получил от Вас письмо, в котором Вы прощались со мной. Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал Вас с полной искренностью.
Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой – и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения и не боюсь, что ко мне приедут… говорить о пьесе. С Вашими поправками я согласен – и благодарю 1000 раз. Только, пожалуйста, не жалейте, что Вы не были на репетиции. Ведь была в сущности только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять; сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы».[391]
Сколько горделивой бравады в этих словах! На самом же деле он очень болезненно переживал нападки и колкости критиков. Суворин единственный похвалил в «Новом времени» пьесу за оригинальность. Еще одна благожелательная заметка, подписанная инициалами Лидии Авиловой, была опубликована в «Петербургской газете». Но все остальные издания дружно набросились на «Чайку» и со свирепой радостью ее клевали. Один критик находил пьесу совершенно бессмысленной, другой утверждал, что «Чайка» производит поистине удручающее впечатление, что пьеса «просто болезненная. Действующие лица бродят не то в экстазе, не то в полусне, и во всем чувствуется какая-то декадентская усталость жизни», что, наконец, талант автора, по-видимому, «страдает каким-то глубоким внутренним недугом», третий изрекал приговор: «Это не „Чайка“ – а просто дичь!»
Даже Толстой присоединился к общему мнению. Он говорил Суворину, будто чеховская «Чайка» – всего лишь слабое подражание Ибсену, автор неизвестно зачем собрал в кучу бессвязные куски, концы с концами не сходятся… Да, Чехов – самый талантливый из русских писателей, но «Чайка» – пьеса очень плохая…
Однако, несмотря на обидные слухи и убийственную прессу, второе представление, которое состоялось несколько дней спустя, 21 октября, прошло более чем успешно. Текст был слегка исправлен в соответствии с предложениями Суворина, публика, не состоявшая на этот раз из поклонников комической актрисы и не ждавшая водевиля, взволнованно принимала серьезный и нежный спектакль. Возбужденная донельзя такой переменой мнений Вера Комиссаржевская прислала автору восторженную телеграмму: «Антон Павлович, голубчик, наша взяла! Успех полный, единодушный… Как мне хочется сейчас Вас видеть, а еще больше хочется, чтобы Вы были здесь, слышали единодушный крик: „Автора!“ Ваша, нет, наша „Чайка“, потому что я срослась с ней душой навек, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит». Потапенко, который был на втором спектакле, со своей стороны, тоже откликнулся телеграммой: «Большой успех. После каждого акта вызовы, после четвертого много и шумно. Комиссаржевская идеальна, ее вызывали отдельно трижды. Звали автора. Настроение прекрасное. Актеры просят передать тебе их радость».[392]
Письменный стол Чехова был завален посланиями от друзей, все поздравляли его, уговаривали вернуться в Санкт-Петербург, чтобы самому присутствовать при триумфе. Но из всех услышанных им тогда комплиментов больше всего его тронуло письмо известного юриста и тонкого психолога Кони, с которым Антон Павлович был едва знаком, но который счел необходимым написать ему: «„Чайка“ – произведение, выходящее из ряда по замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями. Это сама жизнь на сцене с ее трагическими союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями – жизнь обыденная, всем доступная и никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии, – жизнь, до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре, и способен сам принять участие в происходящей перед тобой беседе… И то, что пьеса прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовывать себе будущее – тусклое, вялое и неопределенное, мне очень нравится…»[393]
Чехов ответил Кони: «Многоуважаемый Анатолий Федорович, Вы не можете себе представить, как обрадовало меня Ваше письмо. Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что „Чайка“ проваливается. После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна и проч. и проч. Можете вообразить мое положение – это был провал, какой мне даже не снился! Мне было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга, полный всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными недостатками, то я утерял всякую чуткость и что, значит, машинка моя испортилась вконец. Когда я был уже дома, мне писали из Петербурга, что 2-е и 3-е представления имели успех; пришло несколько писем, с подписями и анонимных, в которых хвалили пьесу и бранили рецензентов; я читал с удовольствием, но все же мне было совестно и досадно, и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то, значит, дела мои плохи. Но Ваше письмо подействовало на меня самым решительным образом. Я Вас знаю уже давно, глубоко уважаю Вас и верю Вам больше, чем всем критикам, взятым вместе, – Вы это чувствовали, когда писали Ваше письмо, и оттого оно так прекрасно и убедительно. Я теперь покоен и вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения».[394] Но на самом-то деле рана вместо того, чтобы заживать, все углублялась. С течением времени Чехов убеждался, что в вечер первого представления состоялся настоящий заговор против его пьесы и его самого. Многие из тех, кого он прежде считал друзьями, объединились теперь с врагами в злорадстве. За исключением некоторых близких людей, тех, в ком он был абсолютно уверен, все журналисты, все писатели не упустили случая хлестнуть его побольнее. Появившаяся в ноябрьской книжке «Зрителя» статья только укрепила его в этой мысли. И возобновились сомнения в себе. «…Душа моя точно луженая, – писал он Суворину 14 декабря 1896 года, – я не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения, и через силу читаю корректуру… Виновато в этом не то, что пьеса моя провалилась: ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее… 17 октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: те, с кем я до 17 окт[ября] дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья… – все эти имели странное выражение, ужасно странное… Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а в „Неделе“ вопрошать: „Что сделал им Чехов“, а „Театралу“ поместить целую корреспонденцию (№ 95) о том, будто бы пишущая братия устроила мне в театре скандал».[395]
Действительно, в журнале «Театрал» говорилось: «Пресса набросилась на „Чайку“ и ее автора с завидным усердием; дошло до того, что стали отрицать какой бы то ни было талант у Чехова, писали, что это раздутая величина, создание услужливых друзей… Злорадство некоторых критиков доходило до цинизма»,[396] а в газетах и юмористических журналах тем временам публиковались басни, стишки и сатирические фельетоны с насмешками над Чеховым и «Чайкой». Словно и впрямь сводились личные счеты.
Естественно, Чехов с трудом соглашался печатать пьесу, вызвавшую такую бурю нападок. Печальный опыт только усилил его подозрительность по отношению к «пишущей братии». Как-то ему даже пришло в голову записаться в армию, чтобы навеки порвать с интеллектуальной средой. Услышав в декабре 1896 года о возможности военного конфликта между Россией и Англией из-за Ближнего Востока, он тут же написал Суворину: «Если весной война, я пойду. В последние 1 ½ – 2 года в моей личной жизни было столько всякого рода происшествий (на днях даже пожар был в доме), что мне ничего не остается, как ехать на войну, на манер Вронского – только, конечно, не сражаться, а лечить».[397]
Война не состоялась, и Чехов затворился в Мелихове отшельником, засел за работу – принялся за повесть «Мужики», стараясь показать в ней русского крестьянина в безжалостном свете. Но при этом, обличая все недостатки сельского населения, он не скупился, отдавая душу и время жителям окрестных деревень. Было бы прекрасно, писал он в своем дневнике, если бы каждый из нас после себя оставил школу, колодец или что-нибудь в этом роде, тогда наша жизнь не канула бы в вечность без следа.
В ту зиму он приступил к постройке нового школьного здания в соседней деревне Новоселки. Так же как во времена строительства Талежской школы, собирал деньги, давал их сам, играл роль архитектора. На его письменном столе лежали рядом рукописи и чертежи, планы. К тому же он согласился принять участие в затеянной правительством всероссийской переписи населения – был счетчиком. С 10 января по 3 февраля ежедневно отправлялся по избам сначала Бершова, потом Мелихова, обходил их, стукаясь головой о притолоки слишком низких по его росту дверей. Кроме того, ему в обязанность вменялось контролировать работу пятнадцати подчиненных, которые трудились под его началом, и составлять окончательные списки. В ящиках собрались сотни листков. Когда этот труд был закончен, Чехов лаконично отметил в своем дневнике, что получил медаль за перепись.
Но самым привлекательным из проектов, которые волновали его в то время, было возведение в Москве «Народного дома», из которого создатели мечтали сделать для горожан культурный центр с театром, читальней, музеем, лекторием, чайными… Ему проект «красивого, опрятного здания» казался воплощением его давнего идеала гуманитарного образования народа. Он отправился в Москву познакомиться с планом строительства. Увы! Стоимость его оказалась такова, что Чехову, к его величайшему огорчению, пришлось оставить свою мечту.
Тем не менее он согласился присутствовать 19 февраля 1897 года на роскошном обеде, устроенном в «Континентале» по случаю годовщины освобождения крепостных. Вернувшись в гостиницу, Чехов записал в дневнике: «Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, народной совести, свободе и т. п. в то время, когда кругом снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе, ждут кучера – это значит лгать Святому Духу».[398]
После шестнадцати дней приемов, ужинов и банкетов Чехов вернулся в Мелихово и снова засел за повесть «Мужики». Он очень устал. Опять появилось кровохарканье, но он наотрез отказывался признавать себя больным. Месяцем позже он снова сел в поезд и отправился в Москву, чтобы встретиться там с Сувориным и ехать вместе в Санкт-Петербург.
Прибыв в город 21 марта, он остановился, как всегда, в «Большой Московской» гостинице, в номере пятом. Вечером сели с Сувориным за столик в ресторане «Эрмитаж» и приготовились ужинать, но у Антона Павловича внезапно хлынула горлом кровь. Легочное кровотечение оказалось таким обильным, что никаким льдом было его не остановить. Необыкновенно скромный человек, Чехов страшно стеснялся того, что невольно привлек к себе внимание посторонних людей, и Суворин поспешил увезти его в свой отель – «Славянский базар», куда и вызвал для консультации доктора Оболонского.
Чехов все время твердил, что его смущает «скандал», который он устроил в ресторане, и отрицал тяжесть своего случая. Доктор утешал его, говоря, что кровотечение не легочное. Но когда он ушел, Антон Павлович сказал Суворину: «Для успокоения больных мы всегда говорим во время кашля, что он желудочный… Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня кровь идет из правого легкого, как у брата».[399]
Кровь, как рассказывает в своих мемуарах Мария Павловна, удалось остановить лишь под утро. Затем Чехов пролежал больше суток у Суворина, а утром 24-го вернулся к себе: надо было написать письма, с кем-то повидаться. Но кровотечение из легких то прекращалось, то возобновлялось снова, и доктор Оболонский (он был постоянным врачом Чеховых) несколько раз навещал пациента в гостинице, а 25 марта настоял на том, чтобы больного перевезли в клинику профессора Остроумова на Девичьем поле, специализировавшуюся на заболеваниях легких: здесь ему наконец был поставлен точный диагноз. И кажется, доктор Чехов сам был поражен им, потому что с недоумением повторял: «Как это я мог прозевать…»
Перед отъездом в Санкт-Петербург Суворин зашел к другу в клинику попрощаться и записал потом в дневнике: «Больной смеется и шутит, по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но, когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москва-реке, он изменился в лице и сказал: „Разве река тронулась?“ Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь эта вскрывшаяся река с его кровохарканьем? Несколько дней назад он говорил мне: „Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: Не поможет, с вешней водой уйду“».[400]
Узнав, что Чехова положили в клинику, неугомонная Лидия Авилова, находившаяся проездом в Москве, прибежала к нему и добилась разрешения на трехминутное свидание. Но говорить больному было запрещено. Тем не менее она уверяла, будто поговорила с ним по душам. Назавтра она пришла снова с цветами. В тот день Мария Павловна тоже находилась у постели брата. «Он лежал в палате № 16. Перед этим у него было сильное кровотечение. На столе я увидела сделанный врачами рисунок его легких. Они были нарисованы синим карандашом, а верхушки их заштрихованы красным. Я поняла, что это были отмечены пораженные места. Впервые была названа та болезнь, которая, как оказалось, уже давно была у брата – туберкулез легких».[401]
Два дня спустя, когда Чехов был еще прикован к постели, его неожиданно навестил Толстой. Врачи и сестры милосердия не решились закрыть дверь перед столь знаменитым человеком. Увидев гостя, больной сильно разволновался: еще бы, при такой поразительной скромности он не мог себе представить участия, идущего с таких высот. Старый писатель уселся в клеенчатое кресло, стоявшее рядом с узкой кроватью, где лежал его собрат по перу, и, совершенно забыв, что находится в больнице, с человеком, дни которого, может быть, сочтены, пустился в долгие рассуждения о бессмертии души. «Нет худа без добра, – с иронией напишет Чехов позже своему приятелю, журналисту Меньшикову. – В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым мы вели преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивлялся, что я не понимаю».[402] Действительно, еле слышным голосом Антон Павлович признался собеседнику, что не хочет такого бессмертия, и тот был очень обижен…
После этого, поскольку измученный больной хранил молчание, неистощимый старый проповедник уселся на другого конька: перешел к своей концепции искусства. Сообщил Чехову, что на время отложил «Воскресение», так как роман ему не нравится, и что прочел уже больше шестидесяти работ по эстетике, потому что собирается писать трактат об искусстве. Тут же были изложены и основные тезисы будущего трактата. По мнению Толстого, служение искусству можно оправдать только служением нравственности или религии. Когда Чехов, собравшись с силами, попытался ему возразить, гость повысил голос и заявил, что современное искусство прогнило насквозь и ему следует вынести приговор без права помилования. Глядя на вдохновенного пророка с длинной белой бородой и сверкающими очами, Антон Павлович понял, что сопротивление бессмысленно, и сдался. Но несколько дней спустя написал своему коллеге Эртелю: «Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до nec plus ultra,[403] что искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулок, из которого ему нет выхода (вперед)».[404]
После ухода вдохновенного посетителя Чехов никак не мог успокоиться. Он плохо спал, а на рассвете у него снова пошла кровь горлом.
Оказавшись в клинике, Антон Павлович сразу же утратил все иллюзии насчет своего состояния. Врачи диагностировали распространенный легочный туберкулез, и он просил только братьев и сестру скрывать диагноз от родителей. А себя пытался убедить, что, несмотря на разрушения в легких, у него впереди еще несколько прекрасных лет жизни. Но доктор Остроумов категорически предписал пациенту резко изменить условия существования. Чехову, по его мнению, следовало безвылазно жить в деревне, заботиться о себе, обильно питаться, а главное – отказаться от всякой медицинской практики. Теперь юмор в его письмах мешается с горечью. «Доктора определили верхушечный процесс в легких, – пишет он Суворину из Москвы, – и предписали мне изменить образ жизни. Первое я понимаю, второе же непонятно, потому что почти невозможно. Велят жить непременно в деревне, но ведь постоянная жизнь в деревне предполагает постоянную возню с мужиками, с животными, стихиями всякого рода, и уберечься в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов. Но все же буду стараться менять жизнь по мере возможности и уже через Машу объявил, что прекращаю в деревне медицинскую практику. Это будет для меня и облегчением и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. Велят мне есть шесть раз в день и возмущаются, находя, что я ем очень мало. Запрещено много говорить, плавать и проч. и проч.
Кроме легких, все мои органы найдены здоровыми. […] До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно; теперь же выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость!»[405] И дальше – «Крови выходит немного»…
Известие о том, что Чехов болен, быстро распространилось по городу, многочисленные друзья приходили к нему в клинику и утомляли своей болтовней. «Надо жениться, – пишет он Суворину. – Быть может, злая жена сократит число моих гостей хотя наполовину. Вчера ко мне ходили целый день сплошь, просто беда. Ходили по двое – и каждый просит не говорить и в то же время задает вопросы».[406] На столике у изголовья постели теснились вперемешку букеты цветов, банки с икрой, шампанское, тут же лежали сочинения дебютантов, жаждущих получить советы мэтра. Чехов внимательно читал присланные ему рукописи и заставлял себя писать отзывы. Молодая женщина-москвичка, обучавшаяся на курсах, чтобы стать преподавателем истории и литературы, и работавшая на телеграфе, прислала ему два рассказа. Он пробежал их, кое-что похвалил, остальное подверг суровой критике. Она написала ему в клинику, что ожидала с его стороны «больше сердца и больше величия души». Он терпеливо ответил настойчивой корреспондентке: «Вместо того, чтобы сердиться, Вы повнимательнее прочтите мое письмо. Я, кажется, ясно написал, что Ваш рассказ очень хорош, кроме начала, которое производит впечатление лишней пристройки. Позволять Вам писать или не писать – не мое дело; я указал Вам на молодость, потому что в 30–40 лет уже поздно начинать; указал на необходимость выучиться правильно и литературно ставить знаки препинания, потому что в художественном произведении знаки зачастую играют роль нот, и выучиться им по учебнику нельзя; нужны чутье и опыт. Писать с удовольствием – это не значит играть, забавляться. Испытывать удовольствие от какого-нибудь дела – значит любить это дело». И приписал в конце: «Простите, мне трудно писать, я все еще лежу».[407]
В конце концов доктора разрешили Антону Павловичу встать с постели. Он мелкими шажками бродил по коридорам клиники, выходил в сад. Однажды добрел даже до Новодевичьего монастыря, который находился довольно близко, и постоял у могилы своего друга Плещеева, похороненного здесь четыре года назад, думая о смерти. «Смерть – жестокость, отвратительная казнь, – говорил как-то Чехов Суворину, который прилежно записал его слова в дневник, указав, что это – „несколько мыслей Чехова“. – Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с дохлыми мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать».[408]
Теперь он понимал, что обречен на существование полуинвалида. Будущее беспокоило его сразу по двум причинам: из-за себя самого и из-за семьи. Приговоренный к отдыху, найдет ли он в себе силы писать, чтобы обеспечить близких? Когда Суворин шутя сказал, что идеал Чехова – лень, Антон Павлович вполне серьезно ему ответил: «Нет, не лень. Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений. Говорил я Вам не о лени, а о праздности, говорил притом, что праздность есть не идеал, а лишь одно из необходимых условий личного счастья».[409] Чехов торопился засесть за работу, чтобы доказать себе самому, что кризис, который он перенес, не отразился на его творческих способностях.
Но только 10 апреля врачи разрешили ему покинуть клинику. Назавтра, сопровождаемый братом Иваном, он прибыл в Мелихово. Счастливый от встречи с родными, радуясь виду деревни, пригретой весенним солнцем, довольный тем, что возвращается к своим бумагам, своим книгам. Мария Павловна уже предупредила окрестных мужиков, чтобы они больше не рассчитывали на ее брата: лечить их теперь ему нельзя. Кроме того, Чехову пришлось отказаться от долгих прогулок, от работы в саду: теперь он довольствовался тем, что подстригал по одному розовому кусту в день и кормил воробьев конопляными семечками. Но в остальном ему не хватило решимости порвать с привычными обязанностями. И, не обращая внимания на упреки сестры, он продолжал отправлять посылки с книгами в Таганрог, следить за постройкой школы в Новоселках, принимал экзамены у талежских школьников, встречал гостей, поддерживал огромную переписку с друзьями, писателями, просителями…
К этим повседневным заботам прибавились теперь еще и проблемы с последней повестью Чехова – «Мужики», опубликованной в «Русской мысли». Цензоры, пришедшие в ужас от этого беспристрастного изображения русского крестьянства, безжалостно кромсали текст. Но даже и в изуродованном виде он потряс читателей своей смелостью. Героиня повести Ольга, городская молодая женщина, открывает для себя деревенскую жизнь. Выйдя в свое время за крестьянского сына, ставшего лакеем в московской гостинице, нынче она привозит его, тяжело больного, в родные края. И то, что она видит вокруг себя, кажется ей другой страной, не той, где она выросла, страной, погрязшей в нищете, суевериях, грязи, невежестве, грубости, жестокости, лени. Здесь живут по десять-двенадцать человек в убогой лачуге, полной жужжащих мух. Здесь едят черный хлеб, размоченный в воде. Здесь женщин бьют, как скотину, а тоску заливают водкой – иных способов не знают. Кроткие и смиренные натуры обречены на то, что их изведут в этом аду простонародного зверства. После смерти мужа Ольга вместе с маленькой дочкой идет побираться…
Сразу же после выхода в свет «Мужики» сделались литературным событием, в прессе вокруг повести началась яростная полемика. Но критика по большей части была хвалебной. В «Северном вестнике» можно было прочесть: «…давно уже новое беллетристическое произведение не пользовалось в нашей журналистике таким громким и притом таким искренним успехом, как „Мужики“. Успех этот напоминает нам те времена, когда появлялся новый роман Тургенева или Достоевского».[410] Чехов получил множество восторженных писем, в том числе и от Лейкина, который прочел повесть в одну ночь, «в один засос», после чего не мог заснуть до утра, и называл ее настоящим чудом. А артист Малого театра и драматург Сумбатов-Южин написал так: «Ты себе, пожалуй, представить не можешь, что ты мне доставил своими „Мужиками“. Я не народник ни в старом, ни в новом смысле. С точки зрения „убеждений“ держусь, по чистой совести, того взгляда, что народу надо помочь научиться, как выбиться из его страшной нужды… Но твои „Мужики“ – величайшее произведение в целом мире за многие последние годы, по крайней мере для русского человека… Удивительно высок и целен твой талант в „Мужиках“… И везде несравненный трагизм правды, неотразимая сила стихийного, шекспировского рисунка; точно ты не писатель, а сама природа. Понимаешь ли ты меня, что я этим хочу сказать? Я чувствую в „Мужиках“, какая погода в тот или другой день действия, где стоит солнце, как сходит спуск к реке. Я все вижу без описаний, а фрак вернувшегося „в народ“ лакея я вижу со всеми швами, как вижу бесповоротную гибель всех его, Чикильдеева, светлых надежд на жизнь в палатах „Славянского базара“. Я никогда не плачу: когда он надел и затем уложил фрак, я дальше долго не мог читать».[411]
Однако другие, в том числе народники и толстовцы, упрекали Чехова в том, что он понапрасну очернил образ русского крестьянина. Автор мог бы ответить, что после пяти лет повседневного общения с этими самыми мужиками в качестве доктора он лучше, чем кто-либо, может засвидетельствовать, черна их жизнь или бела, но, верный своим правилам, он воздерживался от участия в спорах о своем произведении. Впрочем, даже те, кто вопил о скандальности этой жестокой картины нравов, в глубине души были взволнованы и совестились. Триумф «Мужиков» стал замечательным реваншем после провала «Чайки». Александр уверял брата, что его никогда еще так не любила читающая публика.
Подобная популярность одновременно окрыляла и угнетала Антона Павловича. Он боялся снова оказаться в тени после вспышки света. Разумеется, у него было полно идей – многочисленные замыслы рассказов, пьес. Но болезнь ослабила его, и ему теперь случалось подолгу неподвижно сидеть над белым листом. А стоило наступить хорошей погоде, драгоценное его Мелихово снова заполнилось гостями. Даже на неделе приезжали братья – теперь уже с женами и детьми. На тех немногих, кого Чехов принимал у себя с радостью, – таких, как Левитан, Лика, Иваненко, – сколько же приходилось надоедливых визитеров, сколько попросту нахлебников! Можно подумать, жаловался он Леонтьеву (Щеглову), будто у меня здесь постоялый двор! И всех надо накормить, напоить, спать уложить… Постоянный шум в доме мешал думать, писать. Нередко приходилось дожидаться, пока все гости заснут, чтобы спокойно поработать.
Чехов «возвращается в свое подмосковное именьице, на новые работы и заботы… – так описывает это в своих воспоминаниях его друг, беллетрист Иван Щеглов (Леонтьев). – А вместо желанного отдыха на голову больного, нуждающегося писателя обрушилось доморощенное «Pollice verso!» («Добей его!») в виде неугомонного паломничества в Мелихово разных незваных гостей и непрошеных сочувственников. Кого тут только не было!..
То приезжает целая замоскворецкая семья, будто бы «чтоб насладиться беседой бесценного Антона Павловича», а в сущности для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от московской сутолоки и заставляющая исполнять Чехова роль чичероне мелиховских окрестностей… То является какая-нибудь профессорская чета, говорящая без умолку с утра до вечера и жалующаяся на другой день Чехову, что им мешало пение петуха и мычание коровы… То налетает тройка совершенно незнакомых студентов – по словам последних, «исключительно затем, чтобы справиться о драгоценном здоровье Антона Павловича», – и остающаяся на двое суток, и т. д., и т. д.
Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно».[412]Приехав в Мелихово, Щеглов «ужаснулся перемене», которая произошла в Чехове со времени их недавнего свидания в остроумовской клинике. «Лицо было желтое, изможденное, он часто кашлял и кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый…»[413] Голос звучал глухо, в нем слышалась «страдальческая нота».
– Знаете, Жан, что мне сейчас надо? – говорил Антон Павлович Щеглову. – Год отдохнуть! Ни больше ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле. Пожить в полное удовольствие: когда вздумается – погулять, когда вздумается – почитать, путешествовать, бить баклуши, ухаживать… Понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать, как каторжный!
Редкие вылазки из Мелихова – в Москву ли, по окрестностям ли – истощали его. Он больше не мог выносить показной роскоши. Левитан пригласил его в имение к миллионеру Сергею Морозову, и Чехов потом написал Суворину: «…дом, как Ватикан, лакеи в белых пикейных жилетах с золотыми цепями на животах, мебель безвкусная, вина от Леве, у хозяина никакого выражения на лице – и я сбежал».[414]
Антон Павлович в то время мало писал, зато читал очень много. Его очаровал Мопассан, и, несмотря на не слишком хорошее знание французского языка, он подумывал перевести несколько рассказов. Он высоко оценил – за их странность – пьесы Метерлинка. Почему бы Суворину не поставить «Слепых» в своем театре? «Читаю Метерлинка, – пишет он своему постоянному корреспонденту и „исповеднику“. – Прочел его „Les aveugles“, „L’intruse“, читаю „Aglavaine et Sélysette“.[415] Все это странные, чудные штуки, но впечатление громадное, и если бы у меня был театр, то я непременно бы поставил „Les aveugles“. Тут кстати же великолепная декорация с морем и маяком вдали. Публика наполовину идиотская, но провала пьесы можно избежать, написав на афише содержание пьесы, вкратце, конечно; пьеса-де соч. Метерлинка, бельгийского писателя, декадента, и содержание ее в том, что старик, проводник слепцов, бесшумно умер, и слепые, не зная об этом, сидят и ждут его возвращения». И, сменив тему, продолжает: «У меня тьма гостей. Александр подбросил мне своих мальчиков, не оставив ни белья, ни верхнего платья, они живут у меня, и не известно никому, когда они уедут; кажется, будут жить до конца лета, и быть может, даже останутся навсегда. Это очень любезно со стороны их родителей».[416] А Лейкину несколькими днями раньше писал: «У меня гостей – хоть пруд пруди. Не хватает ни места, ни постельного белья, ни настроения, чтобы с ними разговаривать и казаться любезным хозяином. Я отъелся и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, т. е. я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать».[417]
Однако с августа его терпение стало подвергаться столь жестоким испытаниям, что он решил последовать советам врачей и, пока не наступили зимние холода, отправиться отдохнуть в теплые края. Как раз в это время его приятель Соболевский, издатель газеты «Русские ведомости», написал ему, что находится на курорте – в Биаррице. Отбросив все дела, Чехов решил присоединиться к нему. Но он опасался ехать один через всю Европу и попросил Соболевского прислать ему точный маршрут, поскольку никогда не бывал в Биаррице и это предприятие немножко его тревожит. Вы знаете, писал он, что я говорю на всех языках, кроме иностранных, и, когда я начинаю говорить по-французски или по-немецки, служащие железной дороги смеются мне в лицо. Перебраться в Париже с одного вокзала на другой – это для меня все равно, что сыграть в жмурки.
Оставалось уладить денежные дела. Чехов засел за расчеты. Оказалось, что авторские отчисления за «Чайку», которая шла теперь по всей России, вкупе с большим авансом, полученным за «Мужиков», составляют сумму, которой должно хватить на пребывание во Франции в течение нескольких месяцев. Уезжая из Мелихова 31 августа 1897 года, Антон Павлович думал, что, покидая ставшие слишком привычными места, он оставит здесь и свою болезнь.
Глава XII Ялта
Чехов написал с дороги сестре, что до Берлина путешествовал с приятными спутниками, между Берлином и Кёльном чуть не задохнулся, ибо немцы, видимо, решили прикончить его дымом своих сигар, а от Кёльна до Парижа проспал…
В Париже он встретился с Сувориными, и те несколько дней водили друга по городу. Преодолевая усталость, Антон Павлович посещал модные кафе, наведался в «Мулен-Руж», где под звуки бубнов и пианино, за которым сидела негритянка, исполнялся танец живота, побывал в одном-двух кабаре, кое-что прикупил в лавках Лувра: вязаную фуфайку, трость, два галстука, сорочку – и заключил, что город «любопытный и располагающий к себе». После чего сел в поезд и отбыл в Биарриц, где ждал его Соболевский.
Там он поселился в отеле «Виктория» и с первых же дней влюбился в живую жизнь, царившую на улочках и близ дамбы. Главным его приобретением здесь стала шелковая шляпа – защищаться от солнца. Он сидел на пляже в маленькой плетеной кабинке и до головокружения вглядывался в океан, кативший тяжелые волны с пенными гребнями. Развлекал себя тем, что читал газеты, любовался прелестными курортницами, проходившими мимо него в легких платьях, под разноцветными зонтиками, с собачками на поводках, слушал уличных певцов. Все это уводило его, как он говорил, за сотни тысяч верст от Мелихова, и ему вовсе не хотелось возвращаться в Россию. Чтобы лучше узнать Францию, он решил брать уроки французского у молоденькой девятнадцатилетней девушки по имени Марго. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что в Биаррице много русских. Но не прошло и двух недель, как погода испортилась, начались дожди, задул ветер, и Чехову пришлось бежать из этого земного рая вслед за солнцем в Ниццу.
На этот раз он поселился в Русском пансионе, расположенном в доме 9 по улице Гуно – вместе с сорока своими соотечественниками. Среди них было много больных. Комната, которую он занял на втором этаже, оказалась просторной, большие окна открывались на юг, на полу – ковер, кровать, достойная Клеопатры, своя уборная. Кухарка, русская женщина, готовила обильную полуфранцузскую-полурусскую пищу, и на стол после борща подавали бифштекс с картофелем фри. За табльдотом Чехов не без иронии наблюдал за соседями. Там была вспыльчивая и раздражительная вдова, которая в момент, когда приносили очередное блюдо, испепеляла Антона Павловича взглядом, боясь, что тот ухватит себе лучший кусок. Там были страдающие бледной немочью барышни и зрелые дамы, тараторки и сплетницы, о которых он так писал Суворину: «Смотрю я на русских барынь, живущих в Pension Russe – рожи, скучны, праздны, себялюбиво праздны, и я боюсь походить на них, и все мне кажется, что лечиться, как лечимся здесь мы (т. е. я и эти барыни), – это препротивный эгоизм»,[418] а сестре Маше – «…русские дамы – это такие гады, дуры. Рожа на роже, злоба и сплетни, черт бы их побрал совсем».[419] Как только мог, торопился на свежий воздух. Солнечная погода, цветы, пальмы, тихое синее море – все склоняло к праздности. Он подолгу прогуливался по Английской набережной, сидел на террасах кафе, читал газеты, слушал оркестры, игравшие прямо на улице, старался ни о чем не думать. Без всякой пользы продолжал брать уроки французского. Незнание языка мешало ему общаться с местными жителями, зато он познакомился с несколькими замечательными русскими: юристом, историком и социологом профессором Ковалевским, уволенным из Московского университета за прогрессивные идеи и сбежавшим во Францию; вице-консулом России Юрасовым, милым и застенчивым человеком; с художником Якоби, обладавшим своеобразным юмором. «Тут же и художник Якоби, – рассказывает Антон Павлович Суворину, – который Григоровича называет мерзавцем и мошенником, Айвазовского – сукиным сыном, Стасова – идиотом и т. д. Третьего дня обедали я, Ковалевский и Якоби и весь обед хохотали до боли в животе – к великому изумлению прислуги».[420] С новыми знакомыми Чехов играл в пикет, ел устриц в Готической таверне или ходил на представления в городское казино.
Но даже эти скудные развлечения вызывали у него угрызения совести. Он записывал в блокноте сюжеты рассказов, а вот развить их духу не хватало. «Я пишу рассказ… пишу туго, урывками, – сообщает он редактору русского отдела международного, выходившего на четырех языках журнала „Космополис“ („Cosmopolis“) Федору Батюшкову. – Обыкновенно я пишу медленно, с напряжением, здесь же в номере, за чужим столом, в хорошую погоду, когда тянет наружу, пишется еще хуже…»[421] Смущали Антона Павловича и гастрономические роскошества, после которых клонило ко сну. Работать в таких условиях, замечал он тогда же в письме Маше, тяжело: «Много сюжетов, которые киснут в мозгу, хочется писать, но писать не дома – сущая каторга, точно на чужой швейной машине шьешь».[422]
Тем не менее он заставлял себя работать и в конце концов, со злобой и через силу, написал один за другим три рассказа: «Печенег», «В родном углу» и «На подводе». Но усилия, которых потребовали эти рассказы, Чехова истощили, результат показался ему жалким, и он с большой неохотой отправил рукописи в «Русские ведомости».
После короткого улучшения снова начались кровохарканья. Он притворялся, будто относится к ним легкомысленно. Иногда у меня кровь появляется, пишет он Елене Михайловне Шавровой, но это не имеет никакого отношения к моему самочувствию, и я резвлюсь, как молодой бычок, которого еще не женили. Какое счастье, что я не женат! Какое удобство! Однако врачи – иного мнения. Они рекомендуют Чехову переехать на первый этаж, чтобы не утомляться, поднимаясь по лестнице, а кроме того, просили возвращаться в пансион до заката солнца. Но, несмотря на все предосторожности, кровохарканья продолжались, пусть и менее тяжелые, чем были в Москве. Из-за крови, жалуется Антон Павлович Суворину, сижу дома, как арестованный. До чего же скучно и грустно мне тут жить совсем одному…
Чтобы не чувствовать себя таким одиноким в своем добровольном заточении, Чехов ведет колоссальную переписку с друзьями и близкими, оставшимися в России. Сбежав от них, теперь он страдает от их отсутствия. Как они там без него – в Мелихове? Мария Павловна, которой он доверил бразды правления, получала от него точные указания: если понадобятся деньги – возьмешь аванс в «Русской мысли»; не забудь дать к Рождеству рубль пастуху и три рубля деревенскому попу; не забудь поблагодарить соседа, который дал кирпичей для новоселковской школы; не забудь сказать отцу, как я был счастлив получить от него копию его мелиховского дневника…
Он писал Лике, и в письмах этих серьезное чередовалось со смешным. Именно с ней он поделился возмущением по поводу медвежьей услуги Левитана: «У меня… может развиться мания преследования. Не успел очнуться от письма Барскова,[423] как получил две тысячи рублей от левитановского Морозова. Я не просил этих денег, не хочу их и прошу у Левитана позволения возвратить их в такой, конечно, форме, чтобы никого не обидеть. Левитан не хочет этого. Но я все же отошлю их назад. Погожу еще… – 1 месяц и возвращу при благодарственном письме. Деньги у меня есть. Все это, повторяю, пусть останется между нами».[424] Чуть раньше, в письме из Биаррица, он шутит с ней, совсем как прежде: «Вы спрашиваете, тепло ли мне здесь, весело ли. Пока мне хорошо. По целым дням я сижу на солнышке, думаю о Вас и о том, почему Вы так любите говорить и писать о кривобоких; и подумавши, я решаю, что это Вы оттого, по всей вероятности, что у Вас самой бока не в порядке. Вы хотите дать понять это и понравиться».[425] А чуть позже, перед Новым годом, так рассуждает в ответ на ее сообщение о намерении открыть швейную мастерскую: «Милая Лика, Вашу идею – открыть мастерскую – я могу только приветствовать, и не потому только, что, приходя к Вам обедать и не заставая Вас по обыкновению, я буду ухаживать за хорошенькими модисточками, но потому главным образом, что эта идея вообще хороша. Я не стану читать Вам морали, скажу только, что труд, каким бы скромным он ни казался со стороны – будь то мастерская или лавочка, даст Вам независимое положение, успокоение и уверенность в завтрашнем дне. Я бы сам с удовольствием открыл что-нибудь, чтобы бороться за существование изо дня в день, как все. Привилегированное положение праздного человека в конце концов утомляет и наскучает адски. <…> Теперь в Москве Новый год, новое счастье. Поздравляю Вас, желаю всего самого лучшего, здоровья, денег, жениха с усами и отличного настроения. При Вашем дурном характере последнее необходимо, как воздух, иначе от Вашей мастерской полетят только перья».[426]
Что же до Лидии Авиловой, то отъезд Чехова отнюдь не вызвал у нее растерянности. Решив не выпускать из рук добычи, она, набравшись смелости, снова завязала с ним переписку. И опять прислала несколько рассказов, спрашивая мнения писателя. Но… «Я была плохая ученица, – писала она впоследствии в воспоминаниях своих, – и стала ясно понимать советы Антона Павловича позже, когда сама дошла до потребности „слушать“ то, что я вижу, и не употреблять первые попавшиеся под перо слова, годные по смыслу, а выбирать из них так, чтобы не было „оскорбления“. Но несомненно, что эта потребность явилась именно из-за критики Чехова. Если я ее и не поняла нутром тогда же, то толчок она мне дала в желательном направлении, и если из меня все же ничего не вышло, то это только оттого, что я была талантливое ничтожество.
Я была убеждена, что Чехов понял это так же, как и я, и относился ко мне иначе, чем прежде. Когда я писала ему, то чувствовала себя навязчивой, но не могла прервать переписку, как не могла бы наложить на себя руки».[427]
Раздраженный этой навязчивостью, но, как обычно, вежливый, Чехов ответил на письмо Авиловой, искусно отмеряя дозы похвалы и критики: «Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочитал Ваши „Забытые письма“. Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма – это неудачная, скучная форма, и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу… Гольцев[428] был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты. Вы работаете очень мало, лениво. Я тоже ленивый хохол, но ведь в сравнении с Вами написал целые горы! Кроме „Забытых писем“, во всех рассказах так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор не набили себе руку, как говорится, и работаете как начинающая, точно барышня, пишущая по фарфору». Затем он дает Авиловой конкретные советы: по композиции, по «деланию фразы», даже по отдельным словам, называя отдельные «оскорблениями», а заканчивает письмо жалобой: «Пока была хорошая погода, все было благополучно; теперь же, когда идет дождь и посуровело, опять першит, опять показалась кровь, такая подлость».[429]
А в другом письме в ответ на упрек Лидии Авиловой в том, что персонажи Чехова слишком мрачны, ответил, что она права: «Вы сетуете, что герои мои мрачны. Увы, не моя в том вина! У меня выходит это невольно, и когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая, я всегда бываю в хорошем настроении. Замечено, что мрачные люди, меланхолики пишут всегда весело, а жизнерадостные своими писаниями нагоняют тоску. А я человек жизнерадостный; по крайней мере первые 30 лет своей жизни прожил, как говорится, в свое удовольствие. Здоровье мое сносно по утрам и великолепно по вечерам. Ничего не делаю, не пишу и не хочется писать. Ужасно обленился».[430]
И ведь на самом деле – новизна обстановки не шла на пользу работе, она не подстегивала писательского воображения. Чехов говорил, что неспособен использовать сиюминутные впечатления и, только отдаляясь от людей и пейзажей, чувствовал себя готовым описывать их. Это таинственное превращение увиденного в изображенное, благодаря которому сырье становилось элементом повествования, могло длиться месяцами, годами… Уже упоминавшемуся Федору Батюшкову, редактору русского отдела «Космополиса», он писал: «Вы выразили желание в одном из Ваших писем, чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом что-то из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично».[431]
В Ницце он оставался безразличен к городу и страстно интересовался его обитателями. Французы казались ему замечательными людьми, он ценил в них утонченность, культуру, чувство справедливости, любезность. Здесь, писал он, от любой собаки пахнет культурой… Он восхищался, глядя на то, как почтенный аббат играет на улице со школьниками в мяч, отмечал, что горничная в пансионе, несмотря на усталость, улыбается ему «точно герцогиня», находил приятным и ободряющим, что все здороваются друг с другом в магазинах и поездах и что, даже говоря с нищим, называют его «месье».[432]
На его взгляд, Франция шла во главе других наций и задавала тон всей европейской культуре. Его восхищение духом независимости французов еще возросло, когда в течение ноября несколько газет, получив новые сведения, возобновили кампанию, связанную с делом Дрейфуса. Был ли капитан Альфред Дрейфус, приговоренный в 1894 году военным трибуналом к пожизненной ссылке за шпионаж в пользу Германии и отбывавший срок на Чертовом острове, виновен в преступлении, в котором его обвиняли? Или он стал жертвой слепого антисемитизма, царящего в верхних эшелонах армейской власти? А может быть, настоящий виновник – майор Эстергази, венгр по происхождению, которого брат Дрейфуса обличил публично?
Эти вопросы мучили Чехова. Он ежедневно следил по газетам за перипетиями грандиозной битвы за права человека, которая велась на их полосах и разделила страну на два враждующих лагеря. «Я целый день читаю газеты, изучаю дело Дрейфуса, – писал Антон Павлович Соболевскому в начале декабря. – По-моему, Дрейфус невиновен».[433]
Месяцем позже, 13 января 1898 года, прочитав в газете «L’Aurore» («Заря») открытое письмо Эмиля Золя президенту республики, названное «Я обвиняю», письмо, в котором знаменитый французский писатель поименно обвинял конкретных лиц, генеральный штаб и военное министерство в том, что они намеренно скрывают правду и прибегают к махинациям, Чехов воспламенился. «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы, – пишет он Суворину. – Золя благородная душа, и я… в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные».[434] А Батюшкову – «У нас только и разговору, что о Золя и о Дрейфусе. Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невинность Дрейфуса. Золя вырос на целых три аршина; от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава Богу, есть еще справедливость на свете и что, если осудят невинного, есть кому вступиться».[435]
В феврале, когда начался процесс над Золя, закончившийся осуждением писателя, приговоренного к году тюремного заключения и лишению ордена Почетного Легиона, Чехов глотал отчеты прессы так лихорадочно, словно был французом по рождению. Чем больше нападали на Золя, тем больше он им восхищался. «Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав, – писал он художнице Александре Хотяинцевой. – А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усомниться хоть на минуту, что я не на стороне Золя? За один ноготь на его пальце я не отдам всех, кто судит его теперь в ассизах,[436] всех этих генералов и благородных свидетелей. Я читаю стенографический отчет и не нахожу, чтобы Золя был не прав, и не вижу, какие тут еще нужны preuves».[437]
Ему хотелось, чтобы все его русские друзья разделяли его убеждения, и он страдал из-за того, что самый дорогой из них, Суворин, опубликовал в своем «Новом времени» резко враждебные по отношению как к Дрейфусу, так и к Золя статьи. В надежде, что Суворин пересмотрит свою позицию, Антон Павлович пишет ему 6 февраля 1898 года огромное письмо, в котором не только изложены взгляды Чехова на юридическую подоплеку и суть дела, но и звучит пламенный призыв к интеллектуальной порядочности:
«Вы пишете, что Вам досадно за Золя, а здесь у всех такое чувство, как будто народился новый, лучший Золя. В этом своем процессе он, как в скипидаре, очистился от наносных сальных пятен и теперь засиял перед французами в своем настоящем блеске. Это чистота и нравственная высота, каких не подозревали». Затем Чехов анализирует «весь скандал с самого начала» – дело Дрейфуса во всех подробностях, ход следствия и суда; он обвиняет правую прессу, разжигавшую в стране антисемитизм только ради того, чтобы скрыть истину; он превозносит Золя за то, что вступил в борьбу за исправление чудовищной судебной ошибки. «…Золя для меня ясен, – пишет он. – Главное, он искренен, т. е. строит свои суждения только на том, что видит, а не на призраках, как другие. И искренние люди могут ошибаться, это бесспорно, но такие ошибки приносят меньше зла, чем рассудительная неискренность, предубеждения или политические соображения. Пусть Дрейфус виноват, – и Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много, и во всяком случае роль Павла им больше к лицу, чем Савла. И какой бы ни был приговор, Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость, и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью. <…> Как ни нервничает Золя, все-таки он представляет на суде французский здравый смысл, и французы за это любят его и гордятся им, хотя и аплодируют генералам, которые, в простоте души, пугают их то честью армии, то войной».[438] Словом, Золя представлялся Чехову совершенным примером свободного и чистосердечного человека. Вступая в противоречие с ангажированной интеллигенцией, Чехов отстаивал для писателя право не принадлежать ни к какой партии и выступать против правых или левых в зависимости от того, что подсказывает ему совесть.
Несмотря на это письмо-проповедь, «Новое время» продолжало свою кампанию против Дрейфуса и Золя. Чехов отнес это упорство на счет нехватки характера у Суворина, неспособного сопротивляться давлению своих друзей-политиков. Он написал Леонтьеву (Щеглову), что очень любит Суворина, но те, кому не хватает характера, способны действовать как худшие подлецы, причем в самые серьезные моменты жизни. И – отказавшись уже от всякой полемики с Сувориным – поделился с братом своими соображениями. «В деле Золя „Нов[ое] время“ вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном) и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что он любит военных, – не хочу, потому что мне все это уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Золя задаром, а в газете выливать на того же Золя помои – и за что? за то, что никогда не было знакомо ни одному из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы ни было, ругать Золя, когда он под судом, – это не литературно».[439]
Глубоко разочарованный, Чехов тем не менее не думал разрывать отношений с другом. Природная снисходительность толкала его после приступа гнева обнаруживать для каждого смягчающие вину обстоятельства. Просто, потеряв иллюзии, он увидел все недостатки Суворина и больше не мог уважать его. Их дружба стала делом не взаимной привязанности, а привычки. И буря, разразившаяся в связи с делом Дрейфуса, подействовала тут как безжалостный разоблачитель.
Если газетные новости будоражили Чехова, то повседневное существование в Русском пансионе, напротив того, убаюкивало однообразием. Иногда ему казалось, что он – простой французский пенсионер, греющий косточки на солнце. Единственная заметная неприятность: мучительная зубная инфекция, потребовавшая хирургического вмешательства. Зато прекратились кровохаркания. И он уже – вместе с Ковалевским – размечтался о Северной Африке: Алжир, Тунис и проч., и проч. В последний момент Ковалевский заболел и отказался от поездки, и расстроенный Чехов вернулся к сидячему образу жизни с чувством, как он сам говорил, будто ему не тридцать восемь лет, а восемьдесят девять.
К счастью, 12 марта приехал в Ниццу и поселился в Русском пансионе жизнерадостный Потапенко. По тихому болотцу дома словно бы пропустили электрический ток. Страстный игрок, Потапенко сразу же заявил, что прибыл на Лазурный Берег выиграть миллион: к его услугам рулетка в Монте-Карло, – потому что только это позволит ему писать спокойно, не выпрашивая у издателей авансов. Заразившийся игорной лихорадкой Чехов с детским простодушием тоже рассматривал возможность разбогатеть в казино. Но играть-то надо наверняка! Друзья приобрели маленькую рулетку и, запершись в пансионском номере, стали часами упражняться, гоняя шарик слоновой кости и записывая в блокнотах цифры в надежде найти разгадку выигрыша. Каждый день или почти каждый они ездили в Монте-Карло попытать счастья. Импульсивный и склонный к риску Потапенко играл по-крупному. Чехов же, хотя и не менее азартный, сдерживал себя и делал мелкие ставки. Но превратности игры подвергали его нервы тяжким испытаниям. Он возвращался в пансион ослабевшим, измотанным, разбитым – как из боя. Спустя две недели, поняв, что им не везет, Антон Павлович перестал ездить в казино. Но Потапенко не перестал играть, пока не потерял все, что имел. Занял у Чехова денег на обратный билет в Россию и 28 марта покинул Ниццу. В тот же день Чехов написал сестре, что без Потапенко ему скучно…
Между тем в Ниццу приехал художник Браз, который собирался по заказу богатого коллекционера Третьякова писать портрет Чехова. И в течение двух недель Антону Павловичу пришлось позировать, злясь на себя за то, что не устоял, дал себя уговорить. Законченный портрет ему не понравился, впрочем, не нравился он ему и во время сеансов. «Меня пишет Браз, – сообщает он Александре Хотяинцевой. – Мастерская. Сижу в кресле с зеленой бархатной спинкой. En face. Белый галстук. Говорят, что и я и галстук очень похожи, но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену. Мне кажется, что этим портретом Браз останется недоволен в конце концов, хоть и похваливает себя».[440] А сестре – «Браз все еще продолжает писать меня. Не правда ли, немножко долго? Голова уже почти готова; говорят, что я очень похож, но портрет мне не кажется интересным. Что-то есть в нем не мое и нет чего-то моего».[441] По мнению Антона Павловича, портрет получился слишком похожим на фотографию. Если я стал пессимистом и начал писать грустные рассказы, виноват тут только этот мой портрет, шутил он.
С приближением весны Чеховым овладело мучительное желание вернуться на родину, в Россию. Ему снилось Мелихово, и он расспрашивал Марию Павловну, сошел ли уже снег, быстро ли тает. С первыми ясными деньками из Ниццы в Мелихово летят советы, как ухаживать за садом: «Около лилий и пионов поставь палочки, чтобы не растоптали. У нас две лилии: одна против твоих окон, другая около белой розы, по дороге к нарциссам».[442] Антон Павлович просит сестру не обрезать розы до его приезда, велит побелить известью стволы плодовых деревьев, удобрить землю под вишнями… Скорее бы установилась погода!
В начале апреля, поскольку Маша сообщила, что в Мелихове для него все еще слишком холодно, он решает уехать в Париж и дождаться там лучших времен. Спустя неделю по приезде в столицу видится с прибывшим туда Сувориным. Друзья встретились сердечно, но с определенной долей сдержанности: отношения еще не были разорваны, но ничего уже не оставалось прежним. Тем не менее Чехов согласился переехать из отеля «Дижон», где остановился, прибыв в Париж, в другой – «Вандом», где жил Суворин. Здоровье Антона Павловича несколько улучшилось, он ходил по театрам, художественным выставкам, съездил в Версаль, посещал русскую колонию, попросил о встрече с братом Альфреда Дрейфуса и журналистом Бернаром Лазаром, который надписал ему свою брошюру, посвященную «делу»: «А.П. Чехову с почтением и симпатией». Однако большею частью его время и его мысли были отданы родному городу. Еще в Ницце он купил и отправил в городскую библиотеку Таганрога больше трех сотен книг с произведениями французских классиков и обширную коллекцию документов по делу Дрейфуса. К тому же, сведя знакомство со скульптором Антокольским, он решил подарить Таганрогу статую – памятник Петру Великому, основателю города.
Все эти заботы не мешали ему с нетерпением ожидать телеграммы от сестры с разрешением вернуться в Россию. Тем более, что в Париже начались дожди. И вот долгожданная депеша прибыла: в Мелихове установилась отличная погода, дороги вновь стали проезжими. 28 апреля Чехов пишет Александру: «Бедный родственник! В субботу 2-го мая я выеду из Парижа на поезде-молнии… Почисти сапоги, оденься поприличнее и выйди меня встречать. Этого требует этикет, и на это я, полагаю, имею право, так как я богатый родственник».[443] И предупреждает, чтобы брат никому не сообщал о его приезде.
Второго мая Чехов один садится в Северный экспресс и мчится на нем в Петербург. 5-го он уже в Мелихове. Отец записывает в своем дневнике: «Антоша приехал из Франции. Привез подарков много».[444] А мать написала Михаилу, что Антоша приехал в пять часов вечера и он очень похудел.
Едва обосновавшись дома, Чехов получил письмо от Владимира Ивановича Немировича-Данченко, в котором тот просил разрешения поставить «Чайку». Они дружили уже давно, а только что этот драматург и театральный педагог основал вместе с режиссером и актером Станиславским новый театр – Московский Художественный Общедоступный театр, вскоре переименованный в Московский Художественный. Труппа состояла из актеров-любителей, с которыми Станиславский ставил спектакли, и учеников Немировича-Данченко. Объединенные общим пылом, эти артисты-дебютанты мечтали перевернуть все тогдашние театральные традиции напыщенной игры, выведя на сцену простоту и естественность. Именно эти качества хотел воспроизвести на подмостках Немирович-Данченко, ставя «Чайку», которую считал пьесой замечательной. Но Чехов никак не мог забыть оскорбительного приема, оказанного «Чайке» годом раньше в Санкт-Петербурге, когда его произведение было поставлено впервые. Еще из Ниццы он писал Суворину, что раньше не знал большего удовольствия, чем ходить в театр, но теперь идет туда с таким чувством, словно ждет, что кто-то с галерки вот-вот завопит: «Пожар!», писал, что не любит актеров, что все это отбило у него охоту к писанию пьес…
В силу всего перечисленного, а может быть, оберегая собственное спокойствие, Немировичу-Данченко он сразу же отказал. Рассказы, которые писал Чехов, были для него убежищем, театр – авантюрой. Привыкший к одиночеству в своем кабинете, он не хотел снова актерской суеты, закулисных интриг, непредсказуемого настроения публики. Однако Немирович-Данченко так горячо и мило просил, что растроганный Чехов в конце концов дал согласие на постановку.
Переполненный желанием ставить эту, именно эту пьесу, Немирович попытался зажечь своим энтузиазмом Станиславского, но тот опасался, что она «не сценична», что ее нельзя разыграть как следует. В этой пьесе, писал Немирович-Данченко, бьется пульс современной русской жизни, и потому-то она мне и дорога. Собираясь на репетиции в подмосковной усадьбе, молодые актеры новой труппы беспокоились о том, смогут ли они правильно интерпретировать такую сложную пьесу, тем более – освистанную на первом представлении в Санкт-Петербурге, где она с треском провалилась, несмотря на участие крупных артистических сил. Режиссеру требовалась недюжинная энергия, чтобы вдохнуть в молодежь уверенность в себе.
Пока новый театр в своем уголке пытался разгадать тайны персонажей «Чайки», автор ее тихо и трудолюбиво влачил свои дни в Мелихове. Ему казалось, что он абсолютно здоров, и, пренебрегая советами врачей, он вернулся к своим обычным занятиям. Старому другу семьи, архимандриту Сергию Петрову, он пишет, что болел, даже лежал в клинике, у него нашли бациллы и так далее, но теперь все к лучшему, чувствует он себя достаточно хорошо, во всяком случае не воспринимает себя как больного и живет, как жил всегда. И сообщает, что, как прежде, занимается медициной и литературой, лечит крестьян, пишет рассказы и каждый год что-нибудь строит.
На этот раз он вбил себе в голову открыть школу в своем собственном селе – в Мелихове. Но, поскольку слишком много детей ждали записи на учение, для начала он арендовал избу, отремонтировал ее, купил парты и нанял учителя.
Несколько недель спустя после возвращения в Мелихово Антон Павлович с гордостью объявил редактору «Русской мысли» Виктору Гольцеву, что его «машина» снова заработала, и действительно – несмотря на визиты многочисленных друзей, которым очень хотелось с ним повидаться, в то лето он успел сделать как никогда много. Используя заметки в своих записных книжках, он написал один за другим четыре рассказа: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и «Ионыч». Три названных здесь первыми отличаются тем, что действие в них происходит в одной и той же обстановке и что персонажи – общие: гимназический учитель Буркин и ветеринар Иван Иваныч. Уже давно Чехов мечтал написать большой цикл рассказов, объединенных героями и местом действия, и таким образом создать нечто вроде настоящего романа или хотя бы – группы историй, родившихся на одном приливе вдохновения. Но и на этот раз процесс оборвался, и автор не продолжил серию начатых им картинок из жизни. Свободно чувствуя себя на короткой дистанции рассказа, Чехов не находил в себе мужества стайера: ему казалось очень трудным сохранить дыхание на долгой стезе романиста. Ужас писателя перед лирическими отступлениями, пафосом, перегруженностью деталями побуждала его к созданию коротких вещей. Восхищаясь некоторыми произведениями других авторов, заключенными в пудовые тома, сам он был приверженцем легкости и в совершенстве владел этим искусством.
Впрочем, после необычайного прилива вдохновения творческий пыл его мало-помалу угасал. В конце июля он жаловался Лидии Авиловой: «Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, а рука отнимается при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И в самом деле, пока я пишу это слово „помешать“, вошла девочка и доложила, что пришел больной. Надо идти. <…> Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу или думаю о том, что надо писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана, – простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литературный entourage,[445] от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу».[446]
Этот «антураж», эта «атмосфера», которыми он так гнушался, на самом деле были ему необходимы. Доказательство? А хотя бы то, с какой радостью он принимал своих собратьев в Мелихове. В начале сентября Немирович-Данченко объявил Антону Павловичу, что труппа перебралась в Москву, и он решил поехать туда, чтобы побывать на нескольких репетициях.
Когда 9 сентября 1898 года молодые артисты увидели его в зале, у них перехватило дыхание. Восторг, который они испытывали по отношению к Чехову, заставлял их сомневаться в самих себе. А Чехов, такой же взволнованный, как и эти дебютанты, теребил бородку, покашливал, играл своим пенсне… Но, посмотрев одно действие целиком, расслабился. Впервые у него появилось ощущение, что исполнители его понимают. На второй репетиции он предложил некоторые изменения в игре и попросил заменить актера, назначенного на роль Тригорина, самим Станиславским. Тот, будучи не только актером, но и постановщиком спектакля, обладал тщательно разработанной концепцией театрального искусства. Так, чтобы воссоздать точнее деревенскую атмосферу, он вознамерился дать из-за кулис кваканье лягушек, собачий лай… Подобная забота о том, чтобы все выглядело реалистично, ужасно рассмешила Чехова, и он воскликнул: «…сцена требует известной условности. У вас нет четвертой стены. Кроме того, сцена – искусство, сцена отражает в себе квинтэссенцию жизни, и не надо вводить ничего лишнего».[447]
Во время первых репетиций Чехов заметил Ольгу Леонардовну Книппер, красота которой и тонкое проникновение в роль Аркадиной произвели на него весьма сильное впечатление. Это была молодая женщина двадцати восьми лет, с широким лицом, сверкающими умом глазами и густыми черными волосами. Она только что закончила курсы драматического искусства и решила посвятить свою жизнь театру. Едва увидев Чехова, она поняла, что это не простая встреча, ее охватило волнующее предчувствие. А он, со своей стороны, пожелал присутствовать на репетиции пьесы Алексея Толстого «Царь Федор», где Ольга играла роль Ирины: этим спектаклем должен был открыться Московский Художественный театр. Сидя в холодном сыром зале, весь закутанный, глядя на голую сцену, единственным освещением которой были воткнутые в горлышки бутылок свечи, он глаз не отрывал от актрисы, старался не упустить ни словечка, ни единого жеста. Чуть позже он напишет Суворину: «Перед отъездом, кстати сказать, я был на репетиции „Фед[ора] Иоан[новича]“. Меня приятно тронула интеллигентность тона, и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши, а старик (секиры) чудесен. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».[448]
Если бы остался в Москве… На самом деле он на следующий же день после этой памятной репетиции уезжал в Крым. С приближением осени возобновились кровохарканья: врачи настаивали на смене климата. Волей-неволей пришлось смириться и отправиться на долгие зимние месяцы русской зимы в теплые края. Путешествие, которое когда-то было бы для него сплошным удовольствием, на этот раз показалось ссылкой, приговором к изгнанию. Снова он почувствовал себя предателем по отношению к северу, суровые пейзажи которого так любил, вынужденный изменить ему с югом, чье солнце было необходимо для того, чтобы выжить.
Антон Павлович приехал в Ялту 18 сентября 1898 года и снял две комнаты на частной даче, стоявшей в цветущем саду. Город-курорт, с его большими гостиницами, пальмами, кактусами и синим морем, казался ему странно искусственным – словно декорация. Он думал о людях, которые обитают здесь: наверное, они находятся совсем в стороне от потока жизни. Ежедневно прогуливаясь вдоль берега, он добрел как-то до лавки Синани – интеллектуального центра города. Именно здесь, где торговали и книгами, и табаком, в магазинчике под названием «Русская избушка», собирались обычно приезжие артисты и писатели. Среди многих других Чехов повстречал у Синани молодого поэта Константина Бальмонта, певца Шаляпина, композитора Рахманинова, который посвятил ему свою «Фантазию для оркестра», вдохновленную чеховским рассказом «На пути». Однако у медали была и оборотная сторона: тут тоже, как обычно, как везде, приходилось отбиваться от натиска поклонников всякого рода знаменитостей и претендентов на роль писателя. «Мне здесь скучно, как белуге», – написал он как-то Татьяне Щепкиной-Куперник, а в другом письме: «Да, Вы правы: бабы с пьесами размножаются не по дням, а по часам, и я думаю, только одно есть средство для борьбы с этим бедствием – зазвать всех баб в магазин Мюр и Мерилиза и магазин сжечь. Компания здесь есть, мутные источники текут по всем направлениям – есть и бабы, с пьесами и без пьес: но все же скучно. Давит под сердцем, точно съел громадный горшок постных щей».[449]
От докучливых поклонников и поклонниц Антон Павлович нередко скрывался в женской гимназии, обедал там с директрисой и учительницами. Чуть позже стал даже членом попечительского совета. Когда он проходил коридорами, девчушки-гимназистки в белых пелеринках приветствовали его глубоким реверансом.
Прошел почти месяц после приезда в Ялту, и вот, придя однажды вечером к Синани, Чехов получил из его рук телеграмму, посланную Марией Павловной не брату, а владельцу лавки: «Как принял Антон Павл[ович] Чехов известие о кончине его отца?» Дело в том, что вся Ялта уже знала о печальном событии, не знал только сын усопшего, и Синани был смущен, просто не знал, что делать. Было 13 октября, Павел Егорович умер накануне. Вероятно, опасаясь, что брат слишком сильно разволнуется, узнав об этом, Мария Павловна и решила обратиться сначала к Синани…
Чехов немедленно отправил телеграмму сестре, сообщив ей о том, что глубоко опечален. Несмотря на глухую злобу по отношению к домашнему тирану, которую Антон затаил в сердце своем со времен детства и юности, он не мог не разволноваться, узнав об этой внезапной кончине, потому что по-своему все-таки очень любил отца. В эти печальные траурные дни он много думал о матери и о Маше. «Как бы ни было, грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас; сознание, что вам всем приходится переживать в Москве такую передрягу в то время, как я живу в Ялте, в покое, – это сознание не покидает меня и угнетает меня все время».[450]
И другая мысль, более утонченная, постепенно прокладывала себе дорогу в его сознании. Этот его отец, который был для него всего лишь смешным напыщенным персонажем, подобным воздушному шарику, внутри которого пустота, на самом-то деле – не сформировал ли его собственный, Антона, характер? Не утвердился ли он с самых юных лет в своем религиозном скептицизме, в бесконечной терпимости, в склонности к абсолютной простоте и скромности как человеческих отношений, так и письма исключительно благодаря реакции на мелочность, ханжество покойного, на его суровую авторитарность, его словесную избыточность? Как бы там ни было, сейчас ему казалось, будто он стал таким, как есть, именно в противовес отцовским свойствам. Если другие родители воспитывают детей собственным примером, то Павел Егорович – от противного. Он сформировал сына отталкивающими своими качествами. И может быть, Чехов потому больше обязан своему отцу, которому всегда выносил самый суровый приговор, чем другим членам семьи? Все, что он пережил, все, что написал, содержало в себе семена, посеянные в податливую почву детской души… Того времени, когда он жил под родительским кровом…
Вскоре стало известно в подробностях, как умер Павел Егорович. Попытался в Мелихове поднять тяжелый ящик с книгами – и заполучил ущемление грыжи. Его перевезли в Москву, он перенес долгую мучительную операцию, а второй, понадобившейся через сутки, уже не выдержал. Эти обстоятельства вызвали бурю чувств и угрызений совести в Чехове: как сын и как врач он хотел бы присутствовать при несчастном случае. «…Этого не случилось бы, если бы я был дома, – писал он Суворину. – Я не допустил бы до омертвения».[451] Состояние здоровья не позволяло Антону Павловичу быстро собраться и в ненастную погоду ехать в Москву, чтобы проводить отца до могилы. Но ему было приятно узнать, что Павел Егорович упокоился на прекрасном тихом кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. После всего он написал сестре: «Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни».[452]
Хотя Евгения Яковлевна была очень привязана к деревенскому дому, Чехов счел неразумным, чтобы она оставалась там на зиму в обществе одной лишь Маши. Поскольку самого его приговорили из-за состояния здоровья жить только на юге, надо набраться мужества, продать Мелихово и построить семейное гнездышко в Крыму. Вообще-то мысль о том, чтобы переселиться в Ялту, приходила к нему еще до смерти отца – стать тут не гостем, а постоянным жителем. Синани уже возил его посмотреть взгромоздившуюся на гору очаровательную четырехкомнатную дачку близ татарского селения Кучук-Кой. Затем Чехов познакомился с участком в Аутке – в двадцати минутах от Ялты. И положение этого земельного участка, как бы нависшего над морем, совершенно покорило его. Без малейших колебаний Антон Павлович решил купить его и построить здесь такой дом, какой ему хочется. Оставалось решить денежную проблему. Он получил от Суворина аванс в пять тысяч рублей за авторские права, а от местного банка – обещание выдать еще семь тысяч по ипотеке. В конце октября контракт был подписан, и молодой архитектор Шаповалов стал вычерчивать первые планы. Строительные работы должны были начаться в декабре.
Приглашенная в Ялту, чтобы полюбоваться приобретением брата, Мария Павловна не смогла скрыть разочарования. «Я была раздосадована, что брат выбрал участок так далеко от моря, – напишет она впоследствии в своих воспоминаниях, – но, как потом мне стало ясно, это было вызвано материальными соображениями. <…> Когда мы пришли на место и я посмотрела на участок, настроение у меня совсем испортилось. Я увидела нечто невероятное: участок представлял собой часть крутого косогора, спускавшегося прямо от шоссейной дороги, на нем не было никакой постройки, ни дерева, ни кустика, лишь старый заброшенный корявый виноградник торчал из сухой, твердой, как камень, земли. Он был обнесен плетнем, за которым лежало татарское кладбище. На нем, как нарочно, в это время происходили похороны. Невольно перед глазами у меня встало наше Мелихово с его аллеями, большими деревьями, фруктовым садом, аккуратными дорожками. И все это мы должны променять на этот дикий косогор…»[453] Конечно, она убеждала себя, что вокруг тепло и красиво, что брату это нужно для здоровья, что все-таки вид отсюда на море, Ялту и раскинутые вокруг горы замечательный виден, мол, но, уезжая, она сказала брату, что их мать никогда не решится расстаться со своим дорогим Мелиховом. И с этого дня он начал засыпать обеих письмами. Его энтузиазм, как считал Антон Павлович, должен был сломить сопротивление обеих женщин. Маше он описывал в деталях виноградник, огород, роскошный сад, которые он возделает в этом солнечном раю, находящемся так далеко от городских шумов. А матери объяснял, что у нее тут будет великолепная кухня с проточной водой и совершенно американскими удобствами, что строятся отдельная прачечная, погреб для дров и угля, проводятся звонки для слуг и даже – телефон. Что ко всему еще церковная служба в Аутке начинается в десять утра – любимое время старушки, и она сможет здесь собирать грибы в течение всей осени в ближайшем лесу.
Но, восхваляя таким вот образом будущее гнездышко в Аутке, Чехов не забывал и о дачке в Кучук-Кое. Еще в то время, когда Мария Павловна на расстоянии обсуждала с братом обустройство нового дома, она получила от него письмо, от которого просто остолбенела. Датировано оно было 8 декабря. Антон Павлович писал, что хочет сообщить новость приятную и неожиданную: он собирается жениться и уже сделал предложение,[454]«не удержался, размахнулся» и все же купил Кучук-Кой, став «отныне владельцем одного из самых красивых и курьезных имений в Крыму».[455] Написал еще, что купил поместье за две тысячи рублей, что уже подписал контракт и в один из ближайших дней переберется туда со своим матрасом и прочей постелью… Сознавая, что совершил безумный поступок, он заканчивал письмо просьбой никому не рассказывать о покупке, не то газеты, узнав такую новость, немедленно завопят, что он заплатил за Кучук-Кой сто тысяч.
Мария Павловна пообещала молчать, но траты Антона беспокоили ее. Пока он оставался в Ялте, она была опорой семьи, дома в целом. Это она заправляла всем в Мелихове, это она заботилась о матери, это она наблюдала за строительством школы в деревне, это она вела приходо-расходные книги. Но при всем том главным, что ее тревожило, была карьера брата. Незадолго до 17 декабря, на которое была назначена премьера «Чайки» в Художественном театре, она стала бояться нового провала, который окончательно разрушил бы и без того расшатанное здоровье Антона Павловича. Ничего ему не сказав, она отправилась в дирекцию театра и со слезами на глазах принялась умолять отложить рискованное представление. Ее просьба была мягко отклонена: на постановку израсходовано уже слишком много денег, было проведено двадцать шесть репетиций – вполне достаточно, да и вообще поздно отступать.
Вечером 17 декабря, перед началом представления, нервы актеров были напряжены до предела. Артисты говорили друг другу, что, если вдруг провалятся, их любимый писатель умрет от горя. И они, они будут виноваты! Все принимали валериановые капли – успокоительное средство, широко применяемое в России. И вот занавес раздвинулся… Зал полон на три четверти. Сидя спиной к публике, как требовала мизансцена, Станиславский старался сдержать дрожь в коленках. «Как мы играли – не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок, я сам едва держался на ногах от отчаяния, – вспоминал он потом в своей знаменитой книге. – Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рев, треск, бешеные аплодисменты. Занавес пошел… раздвинулся… опять задвинулся, а мы стояли, как обалделые. Потом снова рев… и снова занавес… Мы все стояли неподвижно, не соображая, что нам надо раскланиваться. Наконец, мы почувствовали успех и, неимоверно взволнованные, стали обнимать друг друга, как обнимаются в пасхальную ночь. М.П. Лилиной, которая играла Машу и своими заключительными словами пробила лед в сердцах зрителей, мы устроили овацию. Успех рос с каждым актом и окончился триумфом. Чехову была послана подробная телеграмма».[456]
Эту телеграмму, посланную той же ночью и подписанную Немировичем-Данченко, ялтинский изгнанник получил утром следующего дня. «Только что сыграли „Чайку“, успех колоссальный… Мы сумасшедшие от счастья. Все тебя крепко целуем. Напишу подробно». За ней последовала новая телеграмма: «Все газеты с удивительным единодушием называют успех „Чайки“ блестящим, шумным, огромным. Отзывы о пьесе восторженные. По нашему театру успех „Чайки“ превышает успех „Федора“. Я счастлив, как никогда не был при постановке собственных пьес. Немирович».
Вне себя от радости Чехов ответил телеграммой же: «Передайте всем: бесконечно и всей душой благодарен. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня здоровым и счастливым».[457]
После нескольких дней перерыва из-за тяжелого бронхита у Ольги Книппер представления «Чайки» возобновились – уже при переполненных залах. По ночам к окошку кассы выстраивались длинные очереди из желающих купить билеты. Среди этих упорных и восторженных поклонников было много молодых людей, которые ждали, сидя на складных стульчиках, читали при свете уличных фонарей или приплясывали, чтобы согреться. Те же, кому в числе первых удавалось получить вожделенный билет, бегом убегали на работу.
Засыпанный ворохом телеграмм и писем с поздравлениями, Чехов горестно думал, что вот – при провале «Чайки» в Санкт-Петербурге он присутствовал, а теперь – при ее триумфе – болезнь вынуждает его оставаться вдали. Тем не менее он правильно оценивал важность события, которое, конечно же, стало для него куда большим, чем простой реванш: оно стало истинным посвящением в драматурги. Максим Горький, с которым он незадолго до того стал переписываться, написал Антону Павловичу, что один из его друзей, очень тонкий и образованный человек, сказал ему «со слезами волнения на глазах», что сорок лет он ходит по театрам, но никогда еще не видел такой чудесной и такой еретически гениальной пьесы, как «Чайка». И прибавил упрек от себя лично: как это, мол, вы не хотите больше писать для театра? Да вы должны это делать, черт побери!
Этот дружеский наказ тронул Чехова. Может быть, Горький прав? Актеры Московского Художественного театра так уважительно относятся к замыслу автора, что с ними можно отважиться и на новую сценическую авантюру. Благодаря их таланту Чехов обрел одновременно и своих исполнителей, и свою публику. Между тем, что он хотел принести в мир, и тем, чего мир ожидал от него, установилась некая гармония. Но ведь нужно было иметь еще и внутренние резервы, чтобы продолжать работу, а начиная с конца ноября у него снова появились кровохарканья. Его врач, доктор Исаак Альтшуллер, регулярно его осматривал, но не мог заставить лечиться серьезно. Его трогали мужество и деликатность пациента, и он замечал, что тот старается говорить медленнее и тише, что после приступов кашля сплевывает в бумажные кулечки… Но, несмотря на всю очевидность происходящего, Чехов наотрез отказывался признать себя тяжело больным. Когда в конце октября санкт-петербургская газета «Новости» опубликовала телеграмму «от специальных корреспондентов» об ухудшении здоровья Чехова: «постоянный кашель, колебания температуры, временами кровохарканье»,[458] он тут же написал Суворину: «Не знаю, кому понадобилось пугать мою семью, посылать эту жестокую телеграмму, притом совершенно лживую. Все время температура у меня была нормальная; я даже ни разу не ставил термометра, так как не было повода. Кашель есть, но не больше прежнего. Аппетит волчий, сплю прекрасно, пью водку, пью вино и т. д. Третьего дня я простудился, сидел по вечерам дома, но теперь опять хорошо».[459] А месяцем позже тому же корреспонденту все-таки сообщил о том, что в течение пяти дней продолжались кровохарканья, да так и до сегодняшнего дня не прекратились, но попросил, чтобы это осталось «между нами», чтобы Суворин никому о болезни его не говорил, добавив, что кашля нет, температура нормальная, а кровь пугает больше других, чем его самого, потому-то он и старается скрыть свое состояние от семьи.
Вот такими колебаниями от кризиса к ремиссии и была отмечена ялтинская жизнь Чехова, ими определялся ее ритм. В минуты слабости он запирался в своей комнате, но стоило почувствовать себя лучше, удваивал активность, чтобы наверстать потерянное время. Мало ему было писать, он еще наблюдал за сооружением дома в Аутке, лечил нескольких больных, посещал школы, участвовал в работе местного комитета Российского общества Красного Креста, собирал деньги для детей Самарской губернии, ставших жертвами голода. Доктор Альтшуллер говорил, что доброта его пациента, его желание быть полезным и оказывать услуги как в пустяках, так и в важных делах были исключительны. У Антона Павловича в Ялте было множество знакомых, но ему не хватало семьи, близких друзей. Только Ивану Павловичу удалось приехать к брату на Рождество и провести с ним несколько рождественских дней. Мать и сестра, которые сняли для себя квартиру в Москве, упорно отказывались переезжать в Крым. И Чехов продолжал в письмах к ним воспевать достоинства Ялты, хотя самому ему уже обрыдли солнце и синее море и мечтал он о снеге, об оживленных московских улицах, о ресторанах, о театрах. «Мое здоровье порядочно, но в Москву и в Петербург меня не пускают; говорят, что бациллы не выносят столичного духа, – полушутливо жалуется он в письме собрату по перу Владимиру Тихонову. – Между тем мне ужасно хочется в столицу, ужасно! Я здесь соскучился, стал обывателем и, по-видимому, уже близок к тому, чтобы сойтись с рябой бабой, которая бы меня в будни била, а в праздники жалела. Нашему брату не следует жить в провинции… Ялта же мало чем отличается от Ельца или Кременчуга; тут даже бациллы спят».[460]
Только письма от друзей помогали ему сохранять иллюзию, будто он еще участвует в жизни. Он отвечал на все письма старательно и подробно. К обычным его корреспондентам добавился в последнее время Максим Горький. Настоящая фамилия этого человека – Пешков. Этот тридцатилетний писатель, уроженец Нижнего Новгорода, был самоучкой с нищей и мятежной юностью, его первые рассказы обличали пороки буржуазного общества. Он никогда не видел Чехова, но написал ему восторженное письмо о его произведениях. Писатели обменялись книгами. Горький бесконечно восхищался Чеховым и утверждал, что плачет, читая некоторые его рассказы. Чехов, со своей стороны, высоко оценил огромный талант молодого собрата: «Вы спрашиваете меня, какого я мнения о Ваших рассказах, – писал он в ответ на письмо Горького 3 декабря 1898 года. – Какого мнения? Талант несомненный и причем настоящий, большой талант. Например, в рассказе „В степи“ он выразился с необыкновенной силой, и меня даже зависть взяла, что это не я написал. Вы художник, умный человек. Вы чувствуете превосходно. Вы пластичны, т. е. когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками. Это настоящее искусство. Вот Вам мое мнение, и я очень рад, что могу высказать Вам его. Я повторяю, очень рад, и если бы мы познакомились и поговорили час-другой, то Вы убедились бы, как я высоко Вас ценю и какие надежды возлагаю на Ваше дарование». Но в этом же письме Чехов отмечает и недостатки, свойственные молодому писателю, и интересуется подробностями его биографии, и печется о его будущем.
«Говорить теперь о недостатках? Но это не так легко. Говорить о недостатках таланта – это все равно, что говорить о недостатках большого дерева, которое растет в саду; тут ведь главным образом дело не в самом дереве, а во вкусах того, кто смотрит на дерево. Не так ли?
Начну с того, что у Вас, по моему мнению, нет сдержанности. Вы как зритель в театре, который выражает свои восторги так несдержанно, что мешает слушать себе и другим. Особенно эта несдержанность чувствуется в описаниях природы, которыми Вы прерываете диалоги <…>. Частые упоминания о неге, шепоте, бархатистости и проч. придают этим описаниям некоторую риторичность, однообразие – и расхолаживают, почти утомляют. Несдержанность чувствуется и в изображениях женщин („Мальва“, „На плотах“) и любовных сцен. Это не размах, не широта кисти, а именно несдержанность. Затем, частое употребление слов, совсем неудобных в рассказах Вашего типа. Аккомпанемент, диск, гармония – такие слова мешают. Часто говорите о волнах. В изображениях интеллигентных людей чувствуется напряжение, как будто осторожность; это не потому, что Вы мало наблюдали интеллигентных людей, Вы знаете их, но точно не знаете, с какой стороны подойти к ним.
Сколько Вам лет? Я Вас не знаю, не знаю, откуда и кто вы, но мне кажется, что Вам, пока Вы еще молоды, следовало бы покинуть Нижний и года два-три пожить, так сказать, потереться около литературы и литературных людей: это не для того, чтобы у нашего петуха поучиться и еще более навостриться, а чтобы окончательно, с головой влезть в литературу и полюбить ее; к тому же провинция рано старит».[461]
Несколько месяцев спустя он дает Горькому еще более точные советы: «…читая корректуру, вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу: „человек сел на траву“, это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: „высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь“. Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду. Засим еще одно: Вы по натуре лирик, тембр у Вашей души мягкий. Если бы Вы были композитором, то избегали бы писать марши. Грубить, шуметь, язвить, неистово обличать – это не свойственно Вашему таланту. Отсюда Вы поймете, если я посоветую Вам не пощадить в корректуре сукиных сынов, кобелей и пшибздиков, мелькающих там и там на страницах „Жизни“».[462]
Вот таким вот образом, с первых же писем, между двумя этими людьми установились взаимно искренние отношения, с глубоким почтением со стороны младшего, благосклонностью, некоторой снисходительностью и опекой – со стороны старшего.
Среди «эпистолярных романов» Чехова самым странным был тот, что происходил у него с Лидией Авиловой: Антон Павлович не хотел ни принять ее любовь, ни раз и навсегда отделаться от нее. После того как эта молодая женщина посетила Чехова в клинике профессора Остроумова, она продолжала адресовать ему предложения встретиться и упреки в сердечной сухости. «Мы с Вами старые друзья, – отвечал он ей, – по крайней мере я хотел бы, чтобы это было так. Я хотел бы, чтобы Вы не относились преувеличенно строго к тому, что я иногда пишу Вам. Я человек не серьезный; как Вам известно, меня едва даже не забаллотировали в „Союзе писателей“ (и Вы сами положили мне черный шар). Если мои письма бывают иногда суровы или холодны, то это от несерьезности, от неуменья писать письма; прошу Вас снисходить и верить, что фраза, которою Вы закончили Ваше письмо: „если Вам хорошо, то и ко мне Вы будете добрее“, – эта фраза строга не по заслугам…»[463] В этом же письме Чехов сообщает своей корреспондентке, что ему надо заканчивать рассказ для «Русской мысли». И вот несколькими неделями позже там публикуется рассказ, названный Чеховым «О любви», – и Лидия Авилова приходит в экстаз.
«Я ждала августовскую книгу „Русской мысли“ с большим волнением, – вспоминает она впоследствии. – В письмах Чехова я привыкла угадывать многое между строк, и теперь мне представилось, что он усиленно обращает мое внимание на августовскую книгу, хочет, чтобы я ее скорей прочла. Трудно объяснить, почему мне так казалось, но это было так. И едва книга вышла, я купила ее, а не взяла в библиотеке, как я обыкновенно это делала.
Одно заглавие „О любви“ сильно взволновало меня. Я бежала домой с книгой в руке и делала предположения. Что „О любви“ касалось меня, я не сомневалась, но что он мог написать?»
Дальше Лидия Алексеевна подробно описывает, как нетерпеливо и жадно, со слезами на глазах читала рассказ и убеждалась, что это едва прикрытая маской история их отношений с Чеховым, чувств, которые их связывали. Изобразив Алехина, писатель признался наконец, подумала она, почему так и не объяснился ей в любви открыто: «Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили…»[464]
«Я уже не плакала, а рыдала захлебываясь, – продолжает Авилова в мемуарах. – Так он не винил меня! Не винил, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной». И дальше, процитировав еще один фрагмент рассказа: «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо исходить от высшего, от более важного, чем счастие или несчастие, грех или добродетель, в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе», комментирует: «Из какого „высшего“ надо исходить – я не поняла. И что более важно, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, – я тоже не знала. Знала и понимала я только одно: что жизнь защемила меня и что освободиться от этих тисков невозможно, – если семья мешала мне быть счастливой с Антоном Павловичем, то Антон Павлович мешал мне быть счастливой с моей семьей. Надо было разорвать душу пополам».
Предельно возбужденная, она решает воспользоваться этим предлогом, чтобы разжечь страсть Чехова. И – чтобы посильнее его уязвить – выбирает саркастический тон. В своем письме Авилова злобно благодарит писателя за честь, которую он оказал ей, сделав героиней хотя бы и маленького рассказа. Припоминает похожего на него автора, его приятеля, который делает всякие гадости и подлости, чтобы потом описать их в своих произведениях, а еще после – бить себя в грудь и каяться, намекая на то, что Антон Павлович упражняется в великодушии и благородстве, но, увы, тоже раскаивается. «Сколько тем нужно найти, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед откуда придется, – писала она Чехову. – Писать скучно, надоело, но рука „набита“ и равнодушно, холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант. И чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательней рассказ. Пусть читатель или читательница плачет над ним. В этом искусство…»[465]
На это горячечное письмо Чехов ответил мудро, терпеливо, сдержанно, так, словно адресовался к душевнобольной: «Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего – равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, – могу сказать одно: чужая душа потемки… Крепко жму Вам руку. Будьте здоровы и счастливы».
Взбешенная оттого, что Чехов не принял ее игры, Авилова вновь хватается за перо – теперь она обвиняет Антона Павловича в том, что он желает таким образом прекратить с ней переписку. Но вместо того чтобы и на самом деле воспользоваться случаем и избавиться от столь пылкой поклонницы, Чехов… оправдывается перед нею: «Я прочел Ваше письмо и только руками развел. Если в своем последнем письме я пожелал Вам счастья и здоровья, то не потому, что хотел прекратить нашу переписку или, чего Боже упаси, избегаю Вас, а просто потому, что в самом деле всегда хотел и хочу Вам счастья и здоровья. Это очень просто. И если Вы видите в моих письмах то, чего в них нет, то это потому, вероятно, что я не умею их писать… Как бы ни было, не сердитесь на меня и простите, если в самом деле в моих последних письмах было что-нибудь жестокое или неприятное. Я не хотел огорчать Вас, и если мои письма иногда не удаются, то это не по моей вине, это против воли».[466]
Три дня спустя он пишет прекрасной Лике тем же дружеским тоном, что и Лидии Авиловой: благодарит ее за присланную ему фотографию и просит не забывать своего «старого обожателя». Как бы он ни опасался угрозы, что женские чары нарушат его спокойствие, все-таки ему приятно было, что две красивые его корреспондентки день и ночь думают о нем. А брату Михаилу, который снова стал приставать к нему с женитьбой, он отвечает предельно ясно, расставляя все точки над «i»: «Что касается женитьбы, на которой ты настаиваешь, то – как тебе сказать? Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт – это любовь, половое влечение, едина плоть, все же остальное – не надежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой; остановка, как видишь, за малым».[467]
Однако такой – любимой – девушки он еще не нашел, да и побаивался, видимо, что найдет. Сколько это принесет осложнений! Впрочем, способен ли еще он сам на любовь? Измученный болезнью, он добровольно отдалился от мира. Все самые бурные эмоции шли теперь через почту. Но и в состоянии крайней усталости он был способен на внезапные взрывы желания: построить новый дом, написать роман, который стал бы лучше всего им уже написанного, быть любимым нежной, веселой и умной женщиной – такой, как эта Ольга Книппер, которая играла в его «Чайке».
Но на сегодняшний день он мог рассчитывать на удовлетворение только по двум позициям: как архитектор и как писатель. Действительно, его дом в Аутке, уже поднимавшийся над землей, обещал быть очень красивым, «Чайка» продолжала с триумфом идти в Москве, сборники рассказов превосходно продавались. Суворин вознамерился было даже выпустить собрание сочинений Чехова, но подошел к этому так небрежно, что Антон Павлович заметил: подобными темпами последний том появится не ранее 1948 года! Тем, что писатель оказался недоволен своим постоянным издателем, немедленно воспользовался другой знаменитый издатель – А.Ф. Маркс, который, опубликовав «Воскресение» Толстого, при посредничестве Сергеенко, предложил Чехову перекупить права на все его произведения и издать их в очень короткий срок. Оплата должна была производиться не по мере продажи книг, как обычно, нет – сделка выражалась в довольно крупной сумме, выплачиваемой немедленно. Перспектива получить не сегодня-завтра много денег соблазняла Антона Павловича: он видел тут решение проблемы с долгами, средство оплатить строительство дома в Аутке, сделать так, чтобы мать и сестра ни в чем не нуждались. Из вежливости он предупредил Суворина о намечающейся измене, но не принял во внимание никаких возражений того. Сестре же Маше, которая заклинала брата не отдавать полностью свои авторские права и обещала сама заняться изданием произведений Чехова, как делает жена Льва Толстого, он ответил, что ей не следует беспокоиться, потому что он намерен поторговаться с Марксом как следует. Тот предложил пятьдесят тысяч рублей. Чехов в ответ потребовал восемьдесят. Сошлись на семидесяти пяти. Контракт, подписанный 26 января 1899 года, был и впрямь довольно невыгоден для писателя. В нем значилось, что в обмен на эту сумму в семьдесят пять тысяч рублей,[468] из которых сразу, как подпишут соглашение, будет выплачено двадцать тысяч, а остальное – в четыре приема, растянутые на два года, Чехов уступает издателю все свои существующие и будущие произведения, кроме театральных пьес. Однако на будущие произведения за автором сохранялось право первой публикации, после чего они поступали в собственность Маркса, который выплачивал дополнительное вознаграждение, исчисляемое за количество печатных листов (16 страниц каждый). Довольный Чехов в ответ на претензии Маши, настаивавшей, чтобы он не продавал Марксу всего, объясняет: «Продажа, учиненная мною, может показаться невыгодной и наверное покажется таковою в будущем, но она тем хороша, что развязала мне руки и я до конца дней моих не буду иметь дела с издателями и типографиями. К тому же Маркс издает великолепно…»[469] А в другом письме приводит и дополнительные соображения: «Во 1-х, произведения мои будут издаваться образцово, во 2-х, я не буду знаться с типографией и с книжным магазином, меня не будут обкрадывать и не будут делать мне одолжений, 3) я могу работать спокойно, не боясь будущего, 4) доход не велик, но постоянен…»[470]
На самом деле он согласился на этот эксклюзивный контракт, зная, что срок ему отпущен короткий. Не рассчитывая прожить много лет, он хотел эти годы быть свободен от нужды. Маркс, таким образом, получался спасителем конца его дней. «В жизни у меня крупная новость, событие… – пишет он дорогой своей Лике. – Женюсь? Угадайте: женюсь? Если да, то на ком? Нет, я не женюсь, а продаю Марксу свои произведения. Продаю право собственности. Идут переговоры, и может случиться, что через какие-нибудь 2–3 недели я буду уже рантье! Конечно, Мелихова я уже не стану продавать никому, кроме Вас. Пусть остается все, как было».[471] Другим своим друзьям он весело сообщает, что стал «марксистом».
Конечно, его немножко мучила совесть из-за Суворина, с которым пришлось прервать сотрудничество, длившееся тринадцать лет. И хотя Чехов держал друга в курсе своей торговли с Марксом, он полагал необходимым еще и объяснить лишний раз мотивы своего поступка.
Только необходимость получить на руки сразу крупную сумму, писал он, подтолкнула его к тому, чтобы связать себя по рукам и ногам окончательно. Но он защищался, как волк. Права на пьесы остались за ним, а после перейдут к его наследникам, и этот последний пункт удалось вырвать чуть ли не зубами. Таким образом, начиналась новая эра… Но, несмотря ни на что, добавлял Антон Павлович, ощущение такое, будто женился на богатой… Мы расстаемся, вы и я, расстаемся спокойно, как и жили без столкновений. Все время, пока мои книги издавались у вас, между нами не было никаких недоразумений, и удалось нам сделать большие дела…
После того как был подписан контракт с Марксом, Чехову предстояло в течение шести месяцев сделать копии всех своих произведений – от самых старых до самых свежих. Это была задача громадной трудности, потому что автор должен был разыскать бесчисленные рассказы, которые он публиковал в начале своей творческой деятельности в газетах и юмористических журналах, многие из которых давно перестали существовать. Все равно что попросили бы меня в точности назвать каждую рыбку, выловленную мною за двадцать лет, горестно усмехался Антон Павлович. И это еще не все. Когда ему удалось разыскать несколько текстов, он произвел строгий отбор и решил переписать те, в которых заметил небрежность стиля. Но мало того, что он обрек себя на эти, по его же собственному выражению, «каторжные работы»: в Ялте ко всему еще он не располагал ни необходимыми документами, ни сколько-нибудь полными библиотеками. В полной растерянности он обратился к Маше и Александру, которые принялись рыться во всех подшивках московских и санкт-петербургских газет и переписывать от руки все рассказы, которые удавалось найти таким образом. Однако и этого было мало. По поводу опубликованного в «Петербургской газете», которой руководил муж сестры Лидии Авиловой, Чехов обратился к молодой женщине «с большой просьбой, чрезвычайно скучной»: «…не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, найдите какого-нибудь человека или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в „Петербургской газете“. И также походатайствуйте, чтобы в редакции „Пет[ербургской] газеты позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как отыскивать и переписывать в Публичной библиотеке очень неудобно“. Обращаясь к Лидии и помня о бурном характере их переписки, он добавил: „Умоляю Вас, простите, что я беспокою Вас, наскучаю просьбой; мне ужасно совестно, но после долгих размышлений я решил, что больше мне не к кому обратиться с просьбой. Рассказы мне нужны; я должен вручить их Марксу на основании заключенного между нами договора, а что хуже всего – я должен опять читать их, редактировать и, как говорит Пушкин, „с отвращением читать жизнь мою“… По крайней мере напишите, что Вы не сердитесь, если вообще не хотите писать“».[472]
Эта просьба не только не рассердила Авилову, а напротив – осчастливила ее. Радуясь возможности помочь великому человеку, который наверняка в нее влюблен, сам того не понимая, она пообещала ему сама заняться этой работой и тут же принялась за нее с особой тщательностью, за что Чехов был очень ей признателен. Его к ней письма этого короткого периода сотрудничества менее напряженные, чем обычно, более доверчивые, чем раньше. «Вы пишете, что у меня необыкновенное умение жить. Может быть, но бодливой корове Бог рог не дает. Какая польза от того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в ссылке… Все-таки, как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи две – роскошь, о которой я доселе не смел и мечтать. А может быть, я и выиграю? Беллетрист Иван Щеглов называет меня Потемкиным и тоже восхваляет за умение жить. Если я Потемкин, то зачем же я в Ялте, зачем здесь так ужасно скучно. Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу. Вы очень добры. Я говорил это уже тысячу раз и теперь опять повторяю. Будьте здоровы, богаты, веселы и да хранят Вас небеса».[473]
Зима в тот год выдалась в Крыму чрезвычайно жестокая, и пришлось дожидаться хорошей погоды, чтобы возобновить строительство дома в Аутке. Он получался довольно большим: два этажа с северной стороны и три с южной, лишенным какого бы то ни было определенного стиля, причудливой архитектуры: с чем-то вроде башни, верандой и застекленным портиком. Чехов был слегка разочарован проектом. Это было вполне в его характере: полный восторг на стадии проекта и быстрое разочарование, когда дело доходило до практической его реализации. И чем острее было желание, тем больше он страдал, видя его осуществленным. Вся его жизнь состояла из длинной цепи безрассудных порывов и печальных отступлений. И теперь он всю свою заботу и любовь отдал саду, рисуя его аллеи и клумбы. Двое турок в красных фесках копали землю, а он ходил от ямки к ямке, сажая молодые деревца, кустарники, розы… Как чудесно, писал он сестре, я уже высадил двенадцать вишен, четыре пирамидальные шелковицы, два миндальных дерева и всякие другие растения. Деревья прекрасны и скоро дадут плоды. Старые деревья распустились, а груша, миндаль и розы уже все в цвету. Птицы, летящие на север, останавливаются в саду на ночь и по утрам поют, особенно – дрозды.
Расходуя без счета средства на устройство своего дома в Аутке, Чехов был ничуть не более экономен, когда речь заходила о благотворительности. Едва получив первую выплату от Маркса, он тут же отдал пятьсот рублей на строительство школы в ближайшей к Ялте деревне. Случайно наткнувшись на Гаврюшку, бывшего приказчика в лавке отца в Таганроге, немедленно предложил оплатить обучение его дочери. Молодые писатели знали, что всегда могут рассчитывать на помощь старшего коллеги. Брат Александр, вбив себе в голову, что ему тоже нужно построить себе деревенский дом, только под Петербургом, получил на это от Антона Павловича тысячу рублей. Чехов подписывал письма к нему так: «Твой брат и благодетель» или «Богатый филантроп».
Все возрастающая известность Чехова приводила к тому, что незнакомые люди обращались к нему не только за тем, чтобы выпросить материальную помощь или получить совет относительно стиля, а то и рекомендацию к издателю, но и желая узнать его мнение по злободневным вопросам. От этого последнего требования Антону Павловичу делалось не по себе, ведь всю свою жизнь он отказывался принимать участие в каких бы то ни было политических или общественных делах. Но вот в Санкт-Петербурге начались студенческие забастовки, которые сотрясли всю Россию. В жестоких стычках с полицией многие молодые люди были арестованы, других исключили из университета. Некоторые из них написали Чехову, желая узнать, что он думает об этом, и надеясь на его поддержку. И – как ни трудно это было ему – он все-таки не отступил от обычного своего правила, предписывавшего художнику безразличие к общественным событиям. «О, если б Вы знали, матушка, как не вяжется с моим сознанием, с моим достоинством литератора это учреждение – суд чести! Наше ли дело судить? Ведь это дело жандармов, полицейских, чиновников, специально к тому судьбою предназначенных. Наше дело писать и только писать. Если воевать, возмущаться, судить, то только пером. Впрочем, Вы петербуржица, Вы не согласитесь со мной ни в чем – уж такова моя судьба».[474]
Тем не менее, держась в стороне от университетских волнений, он открыто критиковал как в письмах, так и в разговорах репрессии, предпринятые правительством. Чем старше Чехов становился, тем больше отталкивали его злоупотребления самодержавия. Но он не принимал и воинственного социализма Горького. Народные волнения пугали его. Убежденный либерал, он ненавидел насилие, откуда бы оно ни исходило: сверху или снизу. Он полагал, что благотворные перемены в России могут произойти благодаря действиям никак не масс, а только благородных одиночек. «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям, интеллигенты они или мужики, – в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д. и т. д. – и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse[475] и несмотря ни на что»,[476] – пишет он своему старому другу, деревенскому доктору Ивану Орлову.
Как и следовало ожидать, в деле о студенческих беспорядках Суворин оказался против нарушителей спокойствия и занял весьма жесткую позицию. Он даже написал сам две статьи, осуждающие юных забастовщиков, и одобрил создание царем специальной следственной комиссии, чтобы обуздать молодежь. Результатом этого стали бойкот интеллектуалами его издания, яростное и язвительное «открытое письмо» Горького, опубликованное в «Жизни», и даже брошенное в лицо Суворину обвинение, что он взял у правительства за свою акцию десять тысяч рублей. В конце концов по требованию общественности комитет Союза писателей призвал хозяина «Нового времени» на суд чести, чтобы тот объяснился – под угрозой временного отстранения от должности. Тираж изданий немедленно и резко снизился, многие сотрудники редакции подали в отставку, и Суворин, атакованный со всех сторон, к тому же больной, просто не знал, что теперь делать. Растерянный, он написал Чехову и попросил совета.
Чехов ответил честно, раскритиковав обе статьи. Он обвинял старого друга в том, что тот с легкостью говорит о серьезных вещах и выступает в роли защитника правительства, превышающего свои полномочия по отношению к личности. «О студенч[еских] беспорядках здесь, как и везде, много говорят и вопиют, что ничего нет в газетах. Получаются письма из Петербурга, настроение в пользу студентов. Ваши письма о беспорядках не удовлетворили – это так и должно быть, потому что нельзя печатно судить о беспорядках, когда нельзя касаться фактической стороны дела. Государство запретило Вам писать, оно запрещает говорить правду, это произвол, а Вы с легкой душой по поводу этого произвола говорите о правах и прерогативах государства – и это как-то не укладывается в сознании. Вы говорите о праве государства, но Вы не на точке зрения права. Права и справедливость для государства те же, что и для всякой юридической личности. Если государство неправильно отчуждает у меня кусок земли, то я подаю в суд, и сей последний восстанавливает мое право; разве не должно быть то же самое, когда государство бьет меня нагайкой, разве я в случае насилия с его стороны не могу вопить о нарушенном праве? Понятие о государстве должно быть основано на определенных правовых отношениях, в противном же случае оно – жупел, звук пустой, пугающий воображение».[477] Спустя несколько недель он уточняет свою позицию в другом письме: «Ваше последнее письмо с оттиском (суд чести) мне вчера прислали из Лопасни. Решительно не понимаю, кому и для чего понадобился этот суд чести и какая была надобность Вам соглашаться идти на суд, которого Вы не признаете, как неоднократно заявляли об этом печатно. Суд чести у литераторов, раз они не составляют такой обособленной корпорации, как, например, офицеры, присяжные поверенные, – это бессмыслица, нелепость; в азиатской стране, где нет свободы печати и свободы совести, где правительство и 9/10 общества смотрят на журналиста как на врага, где живется так тесно и так скверно и мало надежды на лучшие времена, такие забавы, как обливание помоями друг друга, суд чести и т. п., ставят пишущих в смешное и жалкое положение зверьков, которые, попав в клетку, откусывают друг другу хвосты. Даже если стать на точку зрения Союза, допускающего суд, то чего хочет он, этот Союз? Чего? Судить Вас за то, что Вы печатно, совершенно гласно высказали свое мнение (какое бы оно ни было) – это рискованное дело, это покушение на свободу слова, это шаг к тому, чтобы сделать положение журналиста несносным, так как после суда над Вами уже ни один журналист не мог бы быть уверен, что он рано или поздно попадет под этот странный суд. Дело не в студенческих беспорядках и не в Ваших письмах.[478] Ваши письма могут быть предлогом к острой полемике, враждебным демонстрациям против Вас, ругательным письмам, но никак не к суду. Обвинительные пункты как бы умышленно скрывают главную причину скандала, они умышленно взваливают все на беспорядки и на Ваши письма, чтобы не говорить о главном. И зачем это, решительно не понимаю, теряюсь в догадках. Отчего, раз пришла нужда или охота воевать с Вами не на жизнь, а на смерть, отчего не валять начистоту? Общество (не интеллигенция только, а вообще русское общество) в последние годы было враждебно настроено к „Нов[ому] времени“. Составилось убеждение, что „Новое время“ получает субсидию от правительства и от французского генерального штаба. И „Нов[ое] время“ делало все возможное, чтобы поддержать эту незаслуженную репутацию, и трудно было понять, для чего оно это делало, во имя какого Бога. Например, никто не понимает в последнее время преувеличенного отношения к Финляндии, не понимает доноса на газеты, которые были запрещены и стали-де выходить под другими названиями, – это, быть может, и оправдывается целями „национальной политики“, но это нелитературно… и т. д. и т. д. О Вас составилось такое мнение, будто Вы человек сильный у правительства, жестокий, неумолимый – и опять-таки „Новое время“ делало все, чтобы возможно дольше держалось в обществе такое предубеждение. Публика ставила „Новое время“ рядом с другими несимпатичными ей правительственными органами, она роптала, негодовала, предубеждение росло, составлялись легенды – и снежный ком вырос в целую лавину, которая покатилась и будет катиться, все увеличиваясь. И вот в обвинительных пунктах ни слова не говорится об этой „лавине“, хотя за нее-то именно и хотят судить Вас, и меня неприятно волнует такая неискренность».[479]
Суворин отказался предстать перед судом чести. Но его жена, возмутившись, стала упрекать Чехова в том, что в столь драматических обстоятельствах он проявил себя не по-дружески. Но, при всем своем дружеском расположении, что бы я мог сделать для него (Суворина)? – отвечал Антон Павлович. Нынешняя ситуация сложилась не сразу, она складывалась долгие годы, и то, что люди говорят теперь, они говорили давно и повсюду. Однако вы с Алексеем Сергеевичем правды не слышали… «Новое время» узнало трудные дни, но пока еще его могущество прочно; пройдет какое-то время, и все уладится, все станет, как раньше, ничего не изменится.
Чехов не ошибся: у русского народа память коротка. Буря миновала, «Новое время» величественно продолжало свою политику, положение Суворина вновь упрочилось.[480] Но дело о студенческих беспорядках, последовавшее за историей с Марксом и за делом Дрейфуса, углубило пропасть, разделявшую этих двоих людей. Но, несмотря на всю длинную цепь недоразумений и недопонимания, Чехов не мог решиться порвать всякие отношения со старым другом, чья гордость подверглась суровым испытаниям. Он продолжал переписываться с Сувориным и безуспешно приглашал его приехать повидаться.
Но если Суворин от приглашения уклонился, то Горький, наоборот, отправился в путь. С первой же минуты встречи с Чеховым в Ялте он подпал под обаяние любимого писателя. Чехов, со своей стороны, тоже испытывал живую симпатию к молодому собрату. Они проводили целые дни в разговорах об искусстве, литературе, политике, то вспоминая шедевры прошлого, то обсуждая печальное положение нищего сегодняшнего учительства… Показывая гостю свое «имение» в Кучук-Кое, Чехов оживленно говорил: «„Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание – очень светлое, с большими окнами и высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать… Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича. Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас это – чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, как пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него… унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа… Знаете, когда я вижу учителя, мне неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват… серьезно!“ Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:
– Такая нелепая, неуклюжая страна – эта наша Россия».[481]
Заболев, многие провинциальные учителя оседали в Ялте. Вот для них-то Чехов и хотел бы построить санаторий, а Горький горячо поддержал эту великодушную мечту. Бурный идеализм, отчаянная непосредственность молодого писателя, явившегося из народа, очень привлекали Чехова. Рядом с этим неотесанным своим собратом он чувствовал себя куда лучше, чем с изысканными коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. «По внешности это босяк, – писал Антон Павлович Лидии Авиловой, – но внутри это довольно изящный человек – и я очень рад. Хочу знакомить его с женщинами, находя это полезным для него, но он топорщится».[482] А критику и известному мыслителю Розанову говорил, что видится с писателем Горьким, простым человеком, бродягой, выучившимся читать уже взрослым, и, поскольку сейчас он как бы рождается заново, то и бросается с энтузиазмом на все напечатанное и читает искренне, без предубеждений…
Что же до Горького, то он был просто в восторге от Чехова: такой гениальный человек – и одновременно человек столь редкостных достоинств! В письме к жене он назвал Чехова исключительным существом, добрым, мягким и располагающим к себе. Заметил, что люди без ума от него и не оставляют его в покое, потому что говорить с ним необыкновенно приятно, и признавался после одной из первых встреч, что никогда и ни с кем рядом он не получал такого удовольствия. Но писал он ей и о том, что болезнь сделала писателя немного капризным и даже – мизантропом, о том, какой одинокий человек Чехов и как плохо его понимают: «Около него огромное количество поклонников и поклонниц, а на печати у него вырезано: „Одинокому везде пустыня“, и это не рисовка. Он родился немножко рано. Как скверно и мелочно завидуют ему „собратья по перу“, как они его не любят».[483]
Однажды, прилегши на диван в присутствии Горького, Чехов сказал ему между двумя приступами кашля, что жить с мыслью о том, что придется умереть, неприятно, но жить, зная, что умрешь до того, как придет твое время, уже совсем глупо…
Еще до наступления весны им, как обычно, овладело желание бежать из Ялты. 2 апреля он написал Суворину, что ему надоела роль человека, который не живет больше, но прозябает ради восстановления здоровья и бродит бесцельно по берегу и по улицам, словно поп без прихода, а 10-го, не спросившись у доктора Альтшуллера, он уехал в Москву.
Здесь он сначала остановился в маленькой квартирке, которую мать и сестра снимали на Малой Дмитровке. Тут же – как мухи на мед – налетели визитеры. С восьми утра до десяти вечера кипел самовар. И, несмотря на то что Чехову надо было срочно править для издания Маркса свои сочинения, у него недоставало мужества прогнать незваных и докучливых гостей. Иногда он отводил Марию Павловну в сторонку и шептал ей что-то вроде: «Слушай, я этого человека не знаю, в школе с ним никогда не учился, но знаю точно, что у него в кармане рукопись и что он останется с нами обедать и будет читать ее. Нет, это невозможно!» Так прошло четыре дня, и – чтобы обрести хоть немного покоя – Чехов перебрался один в другую квартиру, расположенную на той же улице, близ Страстного монастыря, чьи колокола он так любил слушать.[484] Но вскоре его и здесь замучили посетители. «…Посетителей тьма-тьмущая, – писал он доктору Альтшуллеру, – разговоры бесконечные, и на второй день праздника от утомления я едва двигался и чувствовал себя бездыханным трупом».[485] Посреди всей этой суматохи он получил письмо от Горького, вернувшегося тем временем в Нижний Новгород, и в очередной раз был тронут теплотой и искренностью, шедшими от этого человека. Горький писал Чехову, как был рад знакомству с ним, писал, что считает Антона Павловича первым свободным человеком, которого встретил в жизни, первым, кто ни перед чем не испытывает благоговения. Как хорошо, говорил младший старшему, что вы умеете делать из литературы главное, первое, самое великое дело жизни, а вот я, хоть и чувствую, насколько это прекрасно, наверное, не создан, чтобы жить так, как живете вы: у меня слишком много симпатий, слишком много антипатий, самому не нравится, но ничего не поделаешь. Умоляю вас не забывать меня, просит Горький, давайте говорить без околичностей: я хотел бы, чтобы время от времени вы указывали мне на мои недостатки, слабости, давали советы, словом, считали меня товарищем, которому надо помочь сформироваться.
Другим событием, тронувшим Чехова, было посещение Толстого. Но в тот раз двум великим писателям так и не удалось поговорить, им помешала шумная толпа ввалившихся в дом актеров, которые болтали не умолкая. К счастью, назавтра Чехов обедал у Толстого в Хамовниках, и они смогли наговориться вволю. Среди многого говорили и о Горьком, большой талант которого, как и нехватку психологии, отметил хозяин Ясной Поляны. «Третьего дня я был у Толстого Л.Н., – пишет Горькому Чехов, – он очень хвалил Вас, сказал, что Вы „замечательный писатель“. Ему нравятся Ваша „Ярмарка“ и „В степи“ и не нравится „Мальва“. Он сказал: „Можно выдумывать все, что угодно, но нельзя выдумывать психологию, а у Горького попадаются именно психологические выдумки, он описывает то, что не чувствовал“. Вот Вам. Я сказал, что когда Вы будете в Москве, то мы вместе приедем к Л[ьву] Н[иколаевичу]».[486]
Виделся Чехов и с Лидией Авиловой. Она собралась в свое поместье и, будучи с тремя детьми проездом в Москве, 1 мая 1899 года назначила Антону Павловичу свидание на вокзале, между двумя поездами. Он согласился – хотелось поблагодарить ее за работу по розыску его произведений, которую она проделала. Но, оказавшись снова рядом с этой экзальтированной и стремящейся завладеть им женщиной, Чехов, как обычно, замкнулся и не скрывал, что ему не терпится, чтобы она поскорее уехала. А она, как всегда, вся в своих иллюзиях, воображала эту сцену эпизодом прощания героев рассказа «О любви», и сердце ее, как она пишет, готово было разорваться… Чехов зашел с нею и детьми в купе. Она спросила, не приедет ли он повидаться с ними в деревню. «Даже если заболеете, не приеду, – иронически ответил он. – Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого… Вам не по средствам. Значит, не увидимся».[487] Он пожал ей руку и вышел. «Мама! Мама! – кричали дети. – Иди сюда скорей!» «Поезд уже стал медленно двигаться, – вспоминает Авилова. – Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся. Я тогда не знала, не могла предполагать, что вижу его в последний раз…»[488]
В тот же день Чехов присутствовал на специально устроенном для него представлении «Чайки», хвалил актеров, но сурово раскритиковал ритм в четвертом акте. Ему хотелось увидеть свою пьесу до того, как уедет отдохнуть от московской суеты в Мелихово. 7 мая, в день своего отъезда, Чехов согласился сфотографироваться с труппой Художественного театра, собравшейся в полном составе. Сидя за столиком, он делал вид, будто читает рукопись «Чайки» актерам, почтительно взиравшим на него. На групповом снимке выделяется профиль молодой женщины, словно бы находящейся в глубоком раздумье. Это Ольга Книппер. За день до того Антон Павлович подарил ей фотографию своего флигелька в Мелихове с надписью: «Дом, где была написана „Чайка“. Ольге Леонардовне Книппер на добрую память». И она была в глубине души очень взволнована.
Глава XIII «Здравствуйте, последняя страница моей жизни…»
В отсутствие Чехова его сестра очень подружилась с Ольгой Книппер: Марию в равной степени восхищали и сдержанность актрисы на сцене, и непосредственность, импульсивность в жизни. «Я тебе советую поухаживать за Книппер. По-моему, она очень интересна», – шутливо писала она брату, не зная еще, чем обернется эта шутка.
Вскоре молодые женщины стали ходить друг к другу в гости. Ольга, дочь инженера, немца по происхождению, получила обычное для девушки ее круга воспитание: с обязательными уроками музыки, рисования, иностранных языков. После смерти отца пришлось резко сокращать расходы. Безумная семейка Книппер, как называл ее Горький, переехала в трехкомнатную квартиру в Москве. Здесь теснились вдова, которая давала уроки пения, двое шумных, неряшливых и необузданных дядьев, любителей прикладываться к бутылке, и сама Ольга, мечтавшая о сцене. Преодолев сомнения матери, девушка поступила в Филармоническое училище на трехгодичные курсы драматического искусства, которыми руководил Немирович-Данченко, успешно окончила их и была принята в труппу Московского Художественного театра. Страстно увлеченная своей профессией, она вела теперь беспокойную, но и беззаботную жизнь, репетировала роли под вокализы, исполняемые учениками матери, не обращая внимания на пьянство дядьев (один был врачом, второй – офицером), которые, налившись до предела водкой, принимались в лучшем случае играть в карты, в худшем – громко декламировать произведения Толстого или Чехова.
Ольга была актрисой в душе, но это не мешало ей любить жизнь во всех ее проявлениях. Она могла умно рассуждать о литературе и искусстве, но так же охотно болтать часами о платьях, шляпках, даже о кулинарии. Впервые увидев Чехова, молодая женщина сразу поняла: чтобы ему понравиться, вовсе не надо строить из себя чахнущую над книгами интеллектуалку, наоборот, есть смысл показать, насколько она кокетлива, весела, непосредственна, полна здоровья и всякого рода потребностей. И оказалась права: двадцатидевятилетняя Ольга, с ее дивным цветом лица, ухоженными темными волосами, смеющимися глазами, показалась Антону Павловичу символом обновления бытия. Он был всего на десять лет старше, но, истерзанный болезнью, смотрел на нее растроганным взглядом дедушки.
Едва вернувшись в Мелихово, 7 мая 1899 года, Чехов пригласил туда Ольгу, чтобы она увидела, как хороша весной, когда все цветет, русская деревня. Книппер поспешила ответить на приглашение и была совершенно очарована простой и сердечной атмосферой, царившей в доме писателя, любезностью его матери, тихой русской женщины, обладавшей незаурядным чувством юмора, наивной гордостью самого хозяина, страстно любившего свое поместье. Он любил все, что производила земля, напишет Книппер в своих воспоминаниях. Это были три дня, наполненные чудесными предчувствиями, радостью и солнцем… Когда Ольга уезжала, они с Чеховым уже были покорены друг другом и жаждали новых встреч.
В июне Ольга отправилась на Кавказ: ей предстояло провести отпуск у брата, в Мцхете. Чехов не удержался и написал ей – правда, в том же насмешливом тоне, какого придерживался в переписке с Ликой: «Что же это значит? Где Вы? Вы так упорно не шлете о себе вестей, что мы совершенно теряемся в догадках и уже начинаем думать, что Вы забыли нас и вышли на Кавказе замуж. Если в самом деле вышли, то за кого? Не решили ли Вы оставить сцену? Автор забыт – о, как это ужасно, как жестоко, как вероломно! Все шлют Вам привет. Нового ничего нет. И мух даже нет. Ничего у нас нет. Даже телята не кусаются».[489] А назавтра он добавил постскриптум к письму, которое его сестра собиралась отправить Ольге: «Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая артистка земли русской… Завидую кавказцам, которые видят Вас… Желаю Вам чудесного настроения и волшебных снов».[490]
Показав Мелихово Ольге и насладившись ее восхищением, Антон Павлович, одолеваемый смешанными чувствами решимости и печали, стал готовиться к тому, чтобы расстаться с этим имением, о котором у него сохранится столько теплых воспоминаний. Для начала он определил цену – двадцать пять тысяч рублей – и разместил объявления в газетах. Однако на объявления эти не откликнулся ни один серьезный покупатель. Чехов был готов к тому, чтобы уступить, снизить цену, лишь бы дело пошло быстрее, и принялся уже паковать книги, личные вещи и мебель с веранды, чтобы отправить все это в Ялту. Перспектива новой жизни в новом доме помогала ему легче расставаться с прошлым.
В конце июня Ольга в письме предложила ему встретиться на юге. Чехов с благодарностью принял предложение. Свидание было назначено в Новороссийске, 18 июля. Оттуда они должны были вместе отплыть в Ялту.
Программа оказалась выполнена в точности так, как намечалось. Прибыв в Ялту, Чехов остановился в гостинице «Марино», а Ольга – у общих друзей, Срединых. Антон Павлович старался распределить свое время так, чтобы его хватало и на то, чтобы присматривать за уже сильно продвинувшимся строительством дома в Аутке, и на прогулки по городу с актрисой. Приглядываясь к тому, как он живет, Книппер огорчалась: слишком возбужденный и так плохо питается, то пропустит обед или ужин, то заменит его куском хлеба с сыром! Но иногда его внезапно одолевал голод, и в таких случаях он вел приятельницу отведать даров моря, запивая их белым крымским вином. Ольга с большим мастерством интриговала его постоянными сменами настроения. «Она (Ольга) печальна, – писал Чехов сестре. – Вчера пришла в гости и выпила только чаю. Так и сидела молча…»[491]
2 августа парочка вернулась в Москву: Ольге пора было начинать репетиции в театре. Дорога оказалась прекрасной: сначала они проехали в экипаже от Ялты до Бахчисарая, где была в то время железнодорожная станция, по пути любуясь горными пейзажами, окаймленными высокими кипарисами полями роз, заброшенными мусульманскими кладбищами и маленькими татарскими деревушками. Пьянящий воздух, легкие веселые разговоры, и только одно наводило тоску: оба путешественника горевали, что столь приятный и столь сблизивший их отпуск заканчивается, так и не соединив две судьбы в одну.
В Москве Ольга сразу же окунулась в привычный мир репетиций, и Чехов видел ее не часто. Впрочем, он и сам был очень занят подготовкой к изданию первого тома полного собрания сочинений. Пока Антона Павловича не было, его сестра сумела продать Мелихово одному торговцу лесом, и Чехов подписал договор, по которому предполагались все возраставшие выплаты.[492]
В августе погода ухудшилась, похолодало, и Антон Павлович заболел. «Не знаю, бациллы ли то бунтуют, или погода дает себя знать, только мне невмоготу и клонит мою головушку на подушку»,[493] – написал он Суворину. Единственным выходом из положения виделось возвращение в Ялту. Совершенно измученный, Чехов и сделал это. 27 августа 1899 года он уже был на юге, сестра и мать присоединились к нему 8 сентября.
Все трое кое-как устроились в новом аутском доме, где еще не успела даже просохнуть штукатурка. Рабочие чувствовали себя здесь полными хозяевами. «Прости, не шлю повести, потому что она еще не готова, – писал Чехов Виктору Гольцеву, редактору „Русской мысли“. – Паркетчики и плотники стучат с утра до вечера и мешают писать. И погода уж очень хорошая, трудно сидеть в комнате».[494] Эта самая хорошая погода и сломила сопротивление Евгении Яковлевны: она перестала сожалеть о потере Мелихова. Когда 25 октября Мария Павловна уехала в Москву, мать сочла, что остаться в Крыму имеет куда больше смысла.
Между тем дом в Аутке становился все краше и удобнее. Наконец-то Чехов получил возможность занять свой рабочий кабинет. В комнату, оклеенную обоями в лилиях, свет лился сквозь высокое, выкругленное сверху окно, «верхнюю часть которого, так называемую фрамугу, по желанию Антона Павловича застеклили разноцветными стеклами: красными, синими, желтыми, зелеными. В солнечные дни, особенно зимой, когда солнце стоит низко, кабинет освещался мягкими, нарядными разноцветными красками».[495] Из этого окна открывался вид не только на сад, но и на долину, ялтинские дома, а дальше – на море. Над камином Антон Павлович повесил пейзаж Левитана, по стенам – бесчисленные семейные фотографии, акварели и портреты Толстого, Тургенева, Григоровича. Над большим, заваленным бумагами и книгами, украшенным статуэтками из дерева и камня столом поместили табличку: «Просьба не курить!» Однако Чехов никогда не указывал на нее гостю, если тот по забывчивости закуривал. Лучше уж кашлять, думал радушный хозяин, чем призывать кого-то к порядку. Рабочий кабинет писателя был обставлен очень скромно, из него через ажурную резную дверь можно было пройти прямо в спальню с такой же аскетичной меблировкой, но – белую, сверкавшую чистотой. Таким образом, место отдыха от места работы отделяло теперь не более трех шагов.
В ту осень, несмотря на то что корректура полного собрания сочинений отнимала у него очень много времени, Чехов сумел написать два больших рассказа: «Дама с собачкой» и «В овраге» – и набросать план следующего, названного им заранее – «Архиерей». Рассказ «В овраге» по теме близок к «Мужикам»: здесь, как и там, рассказывается о суровом и беспощадном мире, в котором живут крестьяне, – том мире, что был так хорошо знаком писателю по Мелихову. Зато «Дама с собачкой» навеяна искусственной атмосферой Ялты. История супружеской измены, которая началась как обычный курортный роман и, пройдя через многие испытания, переросла в глубокое, но безнадежное чувство, вся пронизана фальшивым очарованием прибрежного города. Здесь и южные пейзажи, и пыльные дороги, и ресторанчики-поплавки, и лунный свет, и ласковый шум прибоя, – все те составляющие, которые способны вскружить голову влюбленным. Автор рассказывает о них легким, но безжалостным тоном, каждая внешне ничего не значащая деталь способствует построенной на полутонах гармонии целого, а финал… точно так же могли бы заканчиваться большинство рассказов и пьес Чехова: «И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь: и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается».[496]
Максим Горький, с восторгом прочитавший «Даму с собачкой», тут же откликнулся на нее письмом к Чехову, проанализировав заодно и его творчество в целом: «После самого незначительного Вашего рассказа – все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И – главное – все кажется не простым, т. е. не правдивым. Это – верно… Огромное Вы делаете дело Вашими маленькими рассказиками – возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни – черт бы ее побрал!.. Рассказы Ваши – изящно ограненные флаконы со всеми запахами жизни в них, и – уж поверьте! – чуткий нос всегда поймает среди них тот тонкий, едкий и здоровый запах „настоящего“, действительно ценного и нужного, который всегда есть во всяком Вашем флаконе».[497] Или – еще: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро – насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время – факт! Дальше Вас – никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах… Реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж!.. Право же – настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это начнет, – жизнь прикрасится, т. е. люди заживут быстрее, ярче…»[498]
Охотно «грабя» других, чтобы использовать подробности их существования или черты характера в своих произведениях, на этот раз Чехов нашел опору в собственных любовных переживаниях. Разве не о себе самом думал он, когда писал в «Даме с собачкой»: «Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она любит его так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни так жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.
И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему – первый раз в жизни».[499]
На самом деле его случай был менее ясен, чем у его героя, Гурова. Конечно же, не проходило и дня, чтобы он не тосковал о далекой и прелестной Ольге. Но была ли это любовь? Вдруг – просто своего рода ностальгия, порожденная скукой ялтинской жизни и одиночеством? «В саду почти не бываю, а сижу больше дома и думаю о Вас, – пишет он Книппер в первом же после разлуки письме. – И проезжая мимо Бахчисарая, я думал о Вас и вспоминал, как мы путешествовали. Милая, необыкновенная актриса, замечательная женщина, если бы Вы знали, как обрадовало меня Ваше письмо. Кланяюсь Вам низко, низко, так низко, что касаюсь лбом дна своего колодезя, в котором уже дорылись до 8 саж. Я привык к Вам и теперь скучаю и никак не могу примириться с мыслью, что не увижу Вас до весны: я злюсь…»[500] А месяцем позже: «…я 3–4 дня был болен, теперь сижу дома. Посетителей нестерпимо много. Праздные провинциальные языки болтают, и мне скучно, я злюсь, злюсь и завидую той крысе, которая живет под полом в Вашем театре. <…> Видите, я пишу почти каждый день. Автор так часто пишет актрисе – этак, пожалуй, гордость моя станет страдать. Надо актрис в строгости держать, а не писать им. Я все забываю, что я инспектор актрис. Будьте здоровы, ангелочек».[501] Но проходит несколько недель, нетерпение влюбленного идет на спад, и письма становятся реже. И 8 декабря он посылает Ольге всего лишь коротенькую записочку, в которой сообщает: «Милая актриса, очаровательная женщина, я не пишу Вам, потому что усадил себя за работу и не даю себе развлекаться. На праздниках устрою передышку – и тогда напишу подлиннее».[502]
Не то чтобы ему меньше хотелось увидеть Ольгу, но ради единственного удовольствия – любоваться ею, говорить с ней. В Ялте он страдал еще и оттого, что был оторван от друзей-писателей, от литературных споров, до него редко и с трудом доносилось сюда эхо театральной жизни и редакционных новостей. Об этом чувстве обездоленности, изгнанничества, щемящего одиночества на фоне «сладостного» существования курортников он откровенно пишет единственной и главной своей исповеднице, сестре Маше: «На горах снег. Потягивает холодом. Жить теперь в Крыму – это значит ломать большого дурака. Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь; точно не знаешь, какая скука, какой гнет ложиться в 9 часов вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я – это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть».[503]
Он жаловался, ему было плохо, тоскливо, но это не делало его менее чувствительным к несчастьям других людей. Видя, в каких ужасных условиях живут больные туберкулезом бедняки, приехавшие лечиться в Ялту, он не мог не вернуться к старой своей идее санатория для неимущих. В середине ноября 1899 года Чехов от имени ялтинского благотворительного общества «Попечительство о приезжих больных» написал воззвание о сборе средств на его постройку, оно было отпечатано в ялтинской типографии и разослано по многим городам России. «Всякое малейшее пожертвование, хотя бы и в копейках, будет принято с глубокой благодарностью», – говорилось в воззвании.[504]
Прибегнув к помощи родных и друзей, которые печатали этот крик о помощи беднякам в местных газетах (сестра Мария – в «Курьере», брат Михаил – в ярославском «Северном крае», Горький – в «Нижегородском листке» и так далее, и так далее), Антон Павлович собрал-таки средства, благодаря чему удалось открыть для начала небольшую – на тридцать больных – лечебницу.[505] Таков был первый результат, но, разумеется, он не мог удовлетворить этого человека, столь же одержимого активной деятельностью во благо людей, сколь и литературой. «Идет снег, – писал он провинциальному журналисту, своему земляку Абраму Тараховскому. – Жизнь здесь ничего себе, но скучно, ах, скучно! Работаю понемножку и жду весны, когда можно будет уехать. Одолевают приезжие чахоточные; обращаются ко мне, я теряюсь, не знаю, что делать. Придумал воззвание, собираем деньги, и если ничего не соберем, то придется бежать вон из Ялты. Прочтите воззвание сие и, если найдете нужным, напечатайте хоть несколько строк в „Пр[иазовском] крае“. Напирайте на то, что мы хотим устроить санаторию. Если бы Вы знали, как живут здесь эти чахоточные бедняки, которых выбрасывает сюда Россия, чтобы отделаться от них, если бы Вы знали – это один ужас! Самое ужасное – это одиночество и… плохие одеяла, которые не греют, а только возмущают брезгливое чувство».[506] И Горькому: «Одолевают чахоточные бедняки. Если бы я был губернатором, то выслал бы их административным порядком, до такой степени они смущают мое сытое и теплое спокойствие! Видеть их лица, когда они просят, и видеть их жалкие одеяла, когда они умирают, – это тяжело. Мы решили строить санаторию, я сочинил воззвание; сочинил, ибо не нахожу другого средства. Если можно, пропагандируйте сие воззвание через нижегородские и самарские газеты, где у Вас есть знакомства и связи. Может быть, пришлют что-нибудь. Третьего дня здесь в приюте для хроников в одиночестве, в забросе умер поэт „Развлечения“ Епифанов, который за 2 дня до смерти попросил яблочной пастилы, а когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом радостно: „Вот эта самая! Она!“ Точно землячку увидел».[507] И – брату Михаилу: «Меня здесь одолевают больные, которых присылают сюда со всех сторон, – с бациллами, с кавернами, с зелеными лицами, но без гроша в кармане. Приходится бороться с этим кошмаром, пускаться на разные фокусы. Зри прилагаемый листок и, пожалуйста, напечатай все или в выдержках… Окажи содействие».[508]
Для того чтобы собрать сорок тысяч рублей, необходимых для постройки санатория, потребовалось два года, эта здравница существует по сей день и носит имя Чехова. В затеянной Антоном Павловичем кампании милосердия ничто так не огорчало его, как безразличие людей, которые объявляли себя «прогрессивными», но отказывались помочь под тем предлогом, что предприятие задумано чересчур грандиозным и потому не имеет ни малейшего шанса осуществиться.
Странное дело: заботясь о том, чтобы открыть санаторий для других, Чехов ни на секунду не задумался о возможности полечиться самому в заведении такого рода. Сознавая, насколько тяжело он болен, Антон Павлович тем не менее не мог вынести мысли о том, чтобы добровольно запереть себя в четырех стенах медицинского учреждения и ждать там смерти. Он предпочитал наслаждаться жизнью вовсю, рискуя укоротить ее себе практически полным пренебрежением какими бы то ни было мерами предосторожности. Отличный врач, когда речь шла о лечении ближних, он почти всегда отказывался от помощи коллег, стоило им завести разговор о его собственном здоровье.
Несмотря на битву за санаторий, которая велась им изо дня в день, Чехов испытывал в Ялте чувство приятной опустошенности, вялого бездействия, которое он так характеризовал в письме к актеру и режиссеру Московского Художественного театра Всеволоду Мейерхольду: «Погода здесь великолепная, теплая, но ведь это только соус, а к чему соус, если нет мяса».[509]
Теперь большая часть корреспонденции Чехова была адресована членам труппы, работавшей в это время над постановкой его пьесы «Дядя Ваня». Хотя к тому времени пьеса, в основе которой лежал переделанный почти до неузнаваемости «Леший», с успехом шла в провинции, автор сильно сомневался в том, стоит ли разрешать представления на больших сценах Москвы или Санкт-Петербурга. Тем не менее в начале 1899 года, когда дирекция Малого – самого старого и самого знаменитого московского театра – объявила о своем желании поставить «Дядю Ваню», Антон Павлович в конце концов уступил. Но – увы! После первой же читки в театрально-литературном комитете выяснилось, что члены его (три петербургских профессора) находят пьесу «достойной постановки» только после того, как будут внесены изменения и она будет вторично показана комитету. А изменений требовали больших. Среди «недостатков» пьесы комитет указал на то, что до третьего акта дядя Ваня и Астров представляют собой один тип неудачника, что у Астрова нет оснований для взрыва страсти по отношению к Елене Андреевне, что непонятна перемена в отношении Войницкого к обожаемому им прежде Серебрякову и уж тем более – намерение застрелить его, что не прояснен характер Елены Андреевны и «образ ее не вызывает интереса в зрителях», а главное – что «много длиннот».[510] Членам театрально-литературного комитета показалось, будто поведение персонажей оскорбляет всю интеллектуальную элиту России. Посмеявшись над такой реакцией, Чехов забрал рукопись и передал ее «художественникам», к которым испытывал особую симпатию.
Последнее пребывание в Москве ознаменовалось для драматурга в числе прочего и присутствием на нескольких репетициях «Дяди Вани», где он проявил бдительность и требовательность, поистине удивительные для человека, всегда стремившегося остаться в тени. Стоило актерам чуть-чуть переврать текст, стоило как-то не так его произнести, немножко «пережать» – и это ранило его, словно он загнал себе занозу под ноготь. И он, ничуть не стесняясь, делал замечания постановщику и артистам, правда, к женщинам обращаясь с такой любезностью, что его тут же наградили кличкой «инспектор актрис».
Вернувшись осенью в Ялту, он стал с нетерпением ожидать новостей о своем «Дяде Ване», ведь спектакль рождался так далеко от него, в Москве.
Ольга, которой дали в пьесе роль Елены Андреевны, рассказывала о репетициях и делилась своими сомнениями: «Мы налаживаем всю пьесу без Астрова, с Немировичем. Проходим отдельными сценами, много беседуем, нянчим ее, как нянчили „Чайку“. Меня смущает ремарка Алексеева по поводу последней сцены Астрова с Еленой: Астров у него обращается к Елене как самый горячий влюбленный, хватается за свое чувство, как утопающий за соломинку. По-моему, если бы это было так, Елена пошла бы за ним, и у нее не хватило бы духу ответить ему: „Какой вы смешной…“ Он, наоборот, говорит с ней в высшей степени цинично и сам как-то даже посмеивается над своим цинизмом. Правда или нет? Говорите, писатель, говорите сейчас же».[511] И писатель немедленно отвечает, что Станиславский (Алексеев) ошибается: «Вы пишете, что Астров в этой сцене обращается к Елене как самый горячий влюбленный, „хватается за свое чувство, как утопающий за соломинку“. Но это неверно, совсем неверно! Елена нравится Астрову, она захватывает его своей красотой, но в последнем акте он уже знает, что ничего не выйдет, что Елена исчезает для него навсегда – и он говорит с ней в этой сцене таким же тоном, как о жаре в Африке, и целует ее просто так, от нечего делать. Если Астров поведет эту сцену буйно, то пропадет все настроение IV акта – тихого и вялого». И добавляет чуть ниже: «В Ялте вдруг стало холодно, подуло из Москвы. Ах, как мне хочется в Москву, милая актриса! Впрочем, у Вас кружится голова, Вы отравлены, Вы в чаду – Вам теперь не до меня…»[512]
Первое представление «Дяди Вани» было назначено на 26 октября 1899 года. Все билеты были проданы задолго до премьеры, а в день ее перед зрителями предстала труппа, воодушевленная верой, словно бы наэлектризованная. Вечером 27-го, когда Чехов улегся спать, с ялтинской почты начались звонки: ему зачитывали телеграммы по телефону – по мере поступления, одну за другой. 30 октября он писал Книппер: «Милая актриса, хороший человечек, Вы спрашиваете, буду ли я волноваться. Но ведь о том, что „Дядя В.“ идет 26-го, я узнал как следует только из Вашего письма, которое получил 27-го.[513] Телеграммы стали приходить 27-го вечером, когда я был уже в постели. Их мне передают по телефону. Я просыпался всякий раз и бегал к телефону в потемках, босиком, озяб очень: потом едва засыпал, опять и опять звонок. Первый случай, когда мне не давала спать моя собственная слава. На другой день, ложась, я положил около постели и туфли, и халат, но телеграмм уже не было».[514] На следующий день после прошедшей с успехом премьеры Ольга тем не менее шлет в Ялту отчаянное письмо: «Вчера сыграли „Дядю Ваню“. Пьеса имела шумный успех, захватила всю залу, об этом уже говорить нечего. Я всю ночь не смыкала глаз и сегодня все реву. Играла я невообразимо скверно – почему? Многое понимаю, многое – нет. У меня сейчас столько мыслей, скачущих в голове, что ясно вряд ли расскажу. Говорят, на генеральной играла хорошо – я этому теперь не верю. Дело, по-моему, вот в чем: меня заставили позабыть мой образ Елены, который режиссерам показался скучным, но который я целиком не играла. Обрисовали мне ее совсем иначе, ссылаясь на то, что это необходимо для пьесы. Я долго боролась и до конца не соглашалась. На генеральных я была покойна и потому играла, может быть, мягко и ровно. На спектакле же я адски волновалась, прямо трусила, чего со мной еще не случалось, и потому было трудно играть навязанный мне образ. Если бы я играла то, что хотела, наверное, первый спектакль меня не смутил бы… Боже, как мне адски тяжело! У меня все оборвалось. Не знаю, за что уцепиться. Я то головой об стену, то сижу, как истукан. Страшно думать о будущем, о следующих работах, […]. Зачем я свое не сумела отстоять! Рву на себе волосы, не знаю, что делать».[515] Отвечая ей, в том же письме от 30 октября Антон Павлович словно бы пропускает мимо ушей этот вопль актрисы о неудавшейся роли и пишет о спектакле в целом, более того – об отношении к произошедшему всей труппы: «В телеграммах только и было, что о вызовах и о блестящем успехе, но чувствовалось в них что-то тонкое, едва уловимое, из чего я мог заключить, что настроение у вас всех не так чтобы уж очень хорошее. Газеты, полученные сегодня, подтвердили эту мою догадку. Да, актриса, вам всем, художественным актерам, уже мало обыкновенного, среднего успеха, вам подавай треск, пальбу, динамит. Вы вконец избалованы, оглушены постоянными разговорами об успехах, полных и неполных сборах, вы уже отравлены этим дурманом, и через 2–3 года вы все уже никуда не будете годиться! Вот Вам!»[516] А еще через день развивает эту мысль уже касаемо самой Ольги: «…раз навсегда надо оставить попечение об успехах и неуспехах. Пусть это Вас не касается. Ваше дело работать исподволь, изо дня в день, втихомолочку, быть готовой к ошибкам, которые неизбежны, к неудачам, словом, гнуть свою актрисичью линию, а вызовы пусть считают другие. Писать или играть и сознавать в это время, что делаешь не то, что нужно, – это так обыкновенно, а для начинающих так полезно!»[517]
Итак, хотя все телеграммы объявляли о грандиозном успехе, о бешеных овациях, нескончаемых вызовах, Чехов все-таки вычитал в них нотки тревоги и неудовлетворенности. И не зря. Чтение прессы, где рецензенты перемежали похвалы критикой, только подтвердило его подозрения. Однако на следующих представлениях актеры играли уже лучше, и публика на самом деле принимала спектакль, ставший триумфальным для «художественников», восторженно.
В «Дяде Ване» Чехов вернулся к привычным для него темам: медленное разрушение души повседневностью с ее повторяющимися ритуалами, скука праздной деревенской жизни, неизбежный провал всякого стремления к идеалу, противостояние «отрицательных персонажей» и тех, кто жаждет приносить пользу себе подобным. Среди первых – профессор Серебряков, пустой и самовлюбленный человек, и его жена – красавица Елена Андреевна. Вторую сторону представляет добрый, простой и верный своему долгу дядя Ваня, который с помощью племянницы Сони управляет имением, унаследованным ею от матери, первой жены Серебрякова. Когда дядя Ваня, пожертвовавший всем, всей своей жизнью на благо своего зятя, «блестящего ученого», обнаруживает, что тот – попросту позолоченная безделушка, краснобай и паразит, его охватывают отчаяние и ненависть. Вскоре движимый слепым эгоизмом Серебряков решает продать имение, чтобы получить возможность сделать свою жизнь еще более приятной. И тогда мягкий и деликатный до сих пор дядя Ваня, доведенный до крайности, стреляет в него. Правда, промахивается. И после этого взрыва эмоций все возвращается на круги своя. Одна за другой рушатся мечты о любви: дяди Вани к прекрасной Елене, доктора Астрова к ней же, страстной Сонечки к доктору Астрову… Неловкое примирение сближает персонажей пьесы. Серебряков с Еленой возвращаются в город, дядя Ваня и Соня остаются в деревне и продолжают самозабвенно трудиться ради благосостояния и признания профессора, которому, как и прежде, они станут отдавать все доходы с земли. Таким образом, посредственность снова торжествует, а величие души посрамлено. Все главные герои «Дяди Вани» потерпели поражение. Самый прозорливый из них, доктор Астров, отдает жизнь больным, но сомневается в своем призвании; чересчур добрый и чувствительный дядя Ваня осознает, что из-за глупейшего «духа семьи» проиграл свое будущее; Елена сама говорит о себе, что она «нудное, эпизодическое лицо»; даже знаменитый Серебряков – причина всей драмы – совершенно не удовлетворен жизнью, называет себя «стариком, почти трупом» и заявляет жене: «Тебе же первой я противен». Что же до пылкой Сони, то в итоге и она освобождается от всех своих иллюзий и готова принять необходимость монотонного, исполненного трудов существования. Это ее монолог, обращенный к дяде Ване, завершает пьесу: «Что же делать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобой, дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой – и отдохнем. Я верую, дядя, верую горячо, страстно… Мы отдохнем! Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка… Я верую, верую… Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь… Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем… Мы отдохнем!»[518]
Для этих слабых созданий смирение все еще остается лучшим способом поведения под ударами судьбы. С самого начала они знают: что бы они ни предприняли, их ждет поражение. А может быть, неосознанно они и желают приносить такие смиренные жертвы? Тусклый, серый, однообразный мир…
Увидев «Дядю Ваню» в начале 1900 года во второй раз, Горький напишет Чехову, что пьеса несравненна, а раньше, в ноябре 1898 года, после постановки ее в Нижнем Новгороде, он писал автору так: «На днях смотрел „Дядю Ваню“, смотрел и – плакал, как баба, хотя я человек далеко не нервный… Для меня – это страшная вещь. Ваш „Дядя Ваня“ – это совершенно новый вид драматического искусства, молот, которым Вы бьете по пустым башкам публики… В последнем акте „Вани“, когда доктор, после долгой паузы, говорит о жаре в Африке, – я задрожал от восхищения перед Вашим талантом и от страха за людей, за нашу бесцветную, нищенскую жизнь». Получив же ответное письмо Чехова, в котором тот говорил, что «Дядя Ваня» написан очень давно, что он, Чехов, «отстал от театра и писать для театра уже не хочется» (3 декабря 1898 г.), попытался переубедить его: «Ваше заявление о том, что Вам не хочется писать для театра, заставляет меня сказать Вам несколько слов о том, как понимающая Вас публика относится к Вашим пьесам. Говорят, например, что „Дядя Ваня“ и „Чайка“ – новый род драматического искусства, в котором реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа. Я нахожу, что это очень верно говорят. Слушая Вашу пьесу, думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей и о многом другом, коренном и важном. Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений – Ваши делают это».[519]
А давний друг Чехова доктор Куркин после премьеры в Москве так поделился впечатлением: «Мне кажется, я был где-то в далеком живом мире. Отзвуки этого мира еще громко звучат в душе и мешают отдаться будничной работе. Теперь все кругом кажется таким неинтересным и скучным… Дело, мне кажется, в трагизме этих людей, в трагизме этих будней, которые возвращаются теперь на свое место, возвращаются навсегда и сковывают этих людей. И дело еще в том, что огнем таланта здесь освещена жизнь и душа самых простых, самых обыкновенных людей. Все улицы переполнены этими простыми людьми, и частицу такого существования носит в себе каждый…»[520]
После таких отзывов Чехов снова обрел уверенность в своих силах, поверил, что его пьесе суждено большое и блестящее будущее.
Когда Немирович-Данченко пожаловался ему на усталость и желание снять с себя функции руководителя театра, он откликнулся по-дружески горячо: «В твоем письме звучит какая-то едва слышная дребезжащая нотка, как в старом колоколе – это там, где ты пишешь о театре, о том, как тебя утомили мелочи театральной жизни. Ой, не утомляйся, не охладевай! Художественный театр – это лучшие страницы той книги, какая будет когда-либо написана о современном русском театре. Этот театр – твоя гордость, и это единственный театр, который я люблю, хотя ни разу еще в нем не был. Если бы я жил в Москве, то постарался бы войти к вам в администрацию, хотя бы в качестве сторожа, чтобы помочь ему немножко и, если можно, помешать тебе охладеть к сему милому учреждению».[521]
В дружном хоре похвал по адресу «Дяди Вани» диссонансом прозвучал лишь один недовольный голос – Льва Николаевича Толстого. Где тут драма, возмущенно спрашивал великий старец актера Санина. В чем она заключается? Действие топчется на месте! А когда Немирович-Данченко попытался защитить своего любимого автора, Толстой сухо ответил ему, что в «Дяде Ване» нет ничего трагического, да и вообще нет ничего, кроме гитар и сверчков. Чехову рассказали об этом, но он воспринял критику спокойно, даже посмеялся.
Иван Бунин вспоминает: «Он часто говорил:
– Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург – Найденов; прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех, что только ахнешь!
И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:
– Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: „Поцелуйте меня“, и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: „А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!“»
А в другой раз, беседуя о Толстом с писателем Гнедичем и упомянув, что тот терпеть не может его драматургии, добавил, что утешает его единственное: Толстой сам говорил ему, что ненавидит Шекспира, но чеховские пьесы, по мнению великого старца, еще хуже шекспировских. Приведя этот не подлежащий обжалованию приговор, Антон Павлович расхохотался, по словам Гнедича, так, что у него свалилось с носа пенсне.
Презрение Толстого к «Дяде Ване», выражавшееся в критике главного героя за мягкотелость и аморальность (по окончании спектакля в Художественном театре Лев Николаевич зашел за кулисы, расписался в книге почетных посетителей и, словно бы в шутку, сказал артисту Вишневскому, исполнителю роли Войницкого: «Хорошо вы играете дядю Ваню. Но зачем пристаете к чужой жене, – завели бы себе свою скотницу»),[522] ничуть не отразилось на отношении Чехова к яснополянскому мудрецу. Тою же зимой он радовался публикации «Воскресения», считая это главным литературным событием, и так писал Горькому: «Что же мне не шлют „Фомы Гордеева“? Я читал его только урывками, а надо бы прочесть все сразу, в один присест, как я недавно прочел „Воскресение“. Все, кроме отношений Нехлюдова к Катюше, довольно неясных и сочиненных, все поразило меня в этом романе силой и богатством, и широтой, и неискренностью человека, который боится смерти и не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты из Священного Писания».[523]
А еще в январе, услышав, что Толстой тяжело заболел, Антон Павлович встревожился так, словно смертельная опасность угрожала кому-то из самых близких ему людей. «Дорогой Михаил Осипович, что за болезнь у Толстого, понять не могу, – писал он публицисту Меньшикову. – Черинов ничего мне не ответил, а из того, что я читал в газетах и что Вы теперь пишете, вывести ничего нельзя. Язвы в желудке и кишечнике сказывались бы иначе; их нет или было несколько кровоточивых царапин, происшедших от желчных камней, которые проходили и ранили стенки. Рака тоже нет, он отразился бы прежде всего на аппетите, на общем состоянии, а главное, лицо выдало бы рак, если бы он был. Вернее всего, что Л[ев] Н[иколаевич] здоров (если не говорить о камнях) и проживет еще лет двадцать. Болезнь его напугала меня и держала в напряжении. Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, но изо всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться».[524]
На благоговейное отношение Чехова Толстой отвечал нежностью – почти отеческой. И не только как к человеку, но и как к литератору. Отказывая собрату по перу в таланте драматурга, Лев Николаевич считал того непревзойденным новеллистом. Чтение рассказов Чехова было наслаждением для Толстого. Об этом свидетельствует его письмо Горькому после прочтения рассказа «В овраге», – вот как его цитирует и комментирует адресат: «Сегодня Толстой прислал мне письмо, в котором говорит: „Как хорош рассказ Чехова в „Жизни“. Я чрезвычайно рад ему“. Знаете, эта чрезвычайная радость, вызванная рассказом Вашим, ужасно мне нравится. Я так и представляю старика – тычет он пальцем в колыбельную песню Липы и, может быть, со слезами на глазах, – очень вероятно, что со слезами, я, будучи у него, видел это, – говорит что-нибудь глубокое и милое».[525] Об этом свидетельствует и то, что, сравнивая Чехова с Мопассаном, Толстой отдавал предпочтение, конечно же, Чехову. Об этом напоминает беседа живого классика с пианистом Александром Гольденвейзером о том, что иллюзия правды у Чехова абсолютно полная, что чеховские тексты подобны стереоскопу: можно подумать, что Антон Павлович разбрасывает слова как попало, а на самом деле, словно художник-импрессионист, он своей кистью добивается потрясающей объемности. Об этом же свидетельствует и лаконичное высказывание Толстого, приведенное в воспоминаниях о Чехове писателем Николаем Телешовым: «Чехов – это Пушкин в прозе!»[526]
16 января 1900 года[527] Чехов узнает, что его избрали – вместе с Толстым и Короленко – членом секции литературы Академии наук.[528] Действительно, в минувшем году правительство решило добавить к Академии пушкинскую секцию, в которой следовало собрать прославленных писателей и выдающихся ученых. По такому случаю Чехов получил уйму телеграмм с поздравлениями, а городской совет Таганрога учредил для лучших из учащихся две стипендии имени своего знаменитого земляка. Несмотря на удовольствие от того, что он фигурирует в списке всего из десяти человек и рядом с Толстым, Чехов находил, что это избрание его почетным академиком просто смехотворно. Шутки ради он подписал несколько писем близким «Академикус Антонио» или «Почетный и потомственный академик», рассказал сестре, что их старая кухарка Марья Дормидонтовна, решив, что хозяин теперь «енерал», требует, чтобы некоторые посетители обращались к нему не иначе как «Ваше превосходительство», а Суворину написал серьезнее: «Насчет Академии Вы недостаточно осведомлены. Действ[ительных] академиков из писателей не будет. Писателей-художников будут делать почетными академиками, обер-академиками, архи-академиками, но просто академиками – никогда или не скоро. Они никогда не введут в свой ковчег людей, которых они не знают и которым не верят. Скажите: для чего было придумывать звание почетного академика?»[529] Единственное, в чем Антон Павлович видел преимущества своего нового положения: «право неприкосновенности (нельзя арестовать) и право в случае поездки за границу получать от академии особый „курьерский“ паспорт (цензура, таможня), а больше, кажется, ничего».[530] Что же до сроков своего пребывания в Академии, тут у него иллюзий не было. «Званию академика рад, так как приятно сознавать, что теперь мне завидует Сигма,[531] – шутит Чехов в письме публицисту, работавшему в „Новом времени“, Михаилу Меньшикову. – Но еще более буду рад, – продолжает он, – когда утеряю это звание после какого-нибудь недоразумения. А недоразумение произойдет непременно, так как ученые академики очень боятся, что мы будем их шокировать. Толстого выбрали скрепя сердце. Он, по-тамошнему, нигилист…» И – как в воду глядел: прошло совсем немного времени до того дня, когда правота Чехова насчет «недоразумения» подтвердилась.
Дело было зимой 1902 года. 27 февраля Горького также избрали в почетные академики, но не прошло и месяца, как исключили из их числа – 10 марта в «Правительственном вестнике» было напечатано такое сообщение: «Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Отделения русского языка и словесности в разряде изящной словесности императорской Академии наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним „Максим Горький“), привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 устава уголовного судопроизводства, считаются недействительными».[532]
И вот тогда почетный академик Чехов (так же как почетный академик Короленко, остальные скромно промолчали, предпочитая пользоваться почетом) написал на имя председателя Отделения русского языка и словесности Академии наук А.Н. Веселовского резкое письмо с отказом от звания. «Прекрасное письмо, – вспоминает Куприн, – написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души». И приводит текст этого письма от 25 августа 1902 года: «В декабре прошлого года[533] я получил извещение об избрании А.М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А.М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035-й ст. выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это известие частью происходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035-й ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика».[534]
Росло признание – и вместе с ним росла тоска Чехова, ощущавшего себя в Ялте узником – далеко от друзей, далеко от городского шума. «…Скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так любил», – цитирует Мария Павловна в воспоминаниях его письмо…[535] И с Горьким тоже делился он своими печалями: «Дорогой Алексей Максимович, спасибо Вам за письмо, за строки о Толстом и „Дяде Ване“, которого я не видел на сцене, спасибо вообще, что не забываете. Здесь, в благословенной Ялте, без писем можно было бы околеть. Праздность, дурацкая зима с постоянной температурой выше ноля, совершенное отсутствие интересных женщин, свиные рыла на набережной – все это может изгадить и износить человека в самое короткое время. Я устал, мне кажется, что зима тянется уже десять лет».[536] Но на вопрос того же Горького, заданный месяцем раньше, не женился ли он, ничего не ответил. А Горький писал, что, мол, ходят слухи, что Чехов женился, но непонятно на ком – на какой-то актрисе с иностранной фамилией, что пока он в это не поверил, но, если это так, приносит свои поздравления…
Чехов не ответил на это скорее всего потому, что ему уже надоели слухи о его женитьбе, распространявшиеся как минимум лет пятнадцать. Однако той зимой обстоятельства давали повод для таких слухов. По единодушному впечатлению Ольга Книппер и Мария Чехова стали неразлучными подругами. Письма от сестры, которые получал Антон Павлович, были теперь полны восторгов по адресу новой приятельницы. Та иногда тоже добавляла несколько слов в постскриптуме. Марию Павловну поначалу развлекал этот эпистолярный роман. Она полагала, что между ее братом и Ольгой Книппер ничего нет и быть не может, кроме мимолетного флирта. И одно ей было совершенно ясно: Антоша никогда не женится. Впрочем, пока еще в этом убеждении не было оснований сомневаться: Чехов в письмах к Книппер чаще был хмур и ворчлив, чем приветлив. Когда молодая женщина в одном письме словно бы в шутку спрашивала его, верно ли, что он женится на поповне, как ей сказала Мария Павловна, желала «совет вам да любовь» и намекала, что не прочь порасстроить его семейное счастье, а в другом, посланном через неделю, уже серьезно встревожилась: как это так он собирается, по сведениям, полученным все от той же Маши, уехать на все лето за границу, это «невероятно жестоко», потому что они должны быть вместе, – Антон насчет поповны прислал нечто вроде юмористической миниатюры, а по поводу дурного настроения актрисы из-за его предполагаемого отъезда высказывается совсем иным тоном. Вот эти два кусочка из ответного письма, читатель сам волен сравнить их.
«Благодарю за пожелание по поводу моей женитьбы. Я сообщил своей невесте о Вашем намерении приехать в Ялту, чтобы обманывать ее немножко. Она сказала на это, что когда „та нехорошая женщина“ приедет в Ялту, то она не выпустит меня из своих объятий. Я заметил, что находиться в объятиях так долго в жаркое время – это негигиенично. Она обиделась и задумалась, как бы желая угадать, в какой среде усвоил я этот façon de parler, и немного погодя сказала, что театр есть зло и что мое намерение не писать больше пьес заслуживает всякой похвалы, и попросила, чтобы я поцеловал ее. На это я ответил ей, что теперь мне, в звании академика, неприлично часто целоваться. Она заплакала, и я ушел».
Это один фрагмент письма, а теперь второй.
«Милая актриса, зима очень длинная, мне нездоровилось, никто мне не писал чуть ли не целый месяц – и я решил, что мне ничего более не остается, как уехать за границу, где не так скучно. Но теперь потеплело, стало лучше – и я решил, что поеду за границу только в конце лета, на выставку.
А Вы-то зачем хандрите? Зачем хандрите? Вы живете, работаете, надеетесь, пьете, смеетесь, когда Вам читает Ваш дядя, – чего же Вам еще? Я – другое дело. Я оторван от почвы, не живу полной жизнью, не пью, хотя люблю выпить; я люблю шум и не слышу его, одним словом, я переживаю теперь состояние пересаженного дерева, которое находится в колебании: приняться ему или начать сохнуть?»[537]
Чтобы развеять тоску, Чехов занимался садоводством, пытаясь добиться акклиматизации на сухой и каменистой земле Аутки березок и тополей – рядом с кипарисами, пальмами и эвкалиптами. Акации – а он высадил аллею из этих деревьев – очень быстро подрастали. Из семидесяти розовых кустов, посаженных прошлой осенью, погибли только три. Мне кажется, с гордостью говорил он Меньшикову, что, не будь я писателем, мог бы стать садовником.
Мелиховские таксы его умерли, вместо них Чехов завел двух дворняг, с которыми и прогуливался. В Аутке с ним жили еще два ручных журавля. Об этой живности очень «вкусно» рассказывает в своих воспоминаниях писатель Александр Куприн:
«Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броме и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминал об умерших друзьях. „Славный народ – собаки!“ – говорил он иногда с добродушной улыбкой.
Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.
Одну собаку звали Тузик, а другую Каштан, в честь прежней, мелиховской Каштанки, носившей его имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:
– Уйди, уйди, дурак… Не приставай.
И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:
– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.
Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее иодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:
– Ах ты, глупый, глупый… Ну, как тебя угораздило?.. Да тише ты… легче будет… дурачок…»[538]
Чехов вообще любил животных: как и в Мелихове, он вытаскивал в Аутке из мышеловок живых мышей и отпускал их на некотором расстоянии от дома – на татарском кладбище.
Теперь финансовые проблемы отошли на второй план. Маркс регулярно присылал предусмотренные договором деньги, к тому же Чехов получал значительные отчисления от спектаклей по его пьесам. Он положил в один из банков пять тысяч рублей на имя Марии Павловны и, поскольку инстинкт собственника толкал его на все новые авантюры, приобрел в двадцати километрах от Ялты, в Гурзуфе, кусочек земли на берегу моря с домиком в четыре[539] комнаты. Чтобы оправдаться за свой безумный поступок, он написал сестре, что теперь они смогут всей семьей проводить летний отпуск в этом домишке. На этот раз Мария Павловна согласилась и лукаво прибавила, что и Ольга Книппер тоже одобряет покупку. Впрочем, когда сестра Чехова познакомилась с «гурзуфской дачкой», как назвала ее, та ей очень понравилась, а особенно привлекательным показался собственный прекрасный пляж. Домик был самой обычной деревенской хаткой с низким потолком, но само место уютным и спокойным. Кроме единственной шелковицы, что была на участке, Антон Павлович посадил несколько деревьев, и семейство решило, что летом, когда в Ялте наступает жара и появляется пыль, они станут уезжать в Гурзуф как на дачу.
С приближением весны Чехов снова затосковал по своей милой актрисе – ох, как не терпелось увидеться с ней! И он предложил дирекции Московского Художественного театра проект гастрольного турне по Крыму, с которым после недолгих колебаний Станиславский согласился. Но на самом деле всей труппе очень хотелось скорее показаться ему в самом выгодном свете – они надеялись, что тогда любимый автор напишет для них новую пьесу. Гастроли были назначены на Пасху, на Святую неделю, приходившуюся в тот год на первые числа апреля.
Чехов ликовал. 17 марта он писал актеру Вишневскому, как счастлив – прежде всего за себя самого, потому что увидит всех и увидит, главное, в изысканных постановках при электрическом свете. Он признавался другу в том, что все происходящее кажется ему сном, в осуществление которого наяву он и поверить не мог до самого последнего времени, и в том, что по сей день вздрагивает при каждом телефонном звонке, боясь, что это телеграмма из Москвы об отмене гастролей…
В начале апреля Мария Павловна с Ольгой приехали в Ялту – раньше труппы Художественного театра, которая должна была прибыть в Севастополь только 7-го. Радость от встречи с милой его сердцу женщиной и актрисой была омрачена для Чехова нашествием бесчисленных гостей и сильным кровохарканием, которое вынуждало его сидеть дома. Ольге, напуганной столь резким ухудшением здоровья Антона Павловича, пришлось в одиночестве отправиться в Севастополь, чтобы присоединиться к труппе. Едва оправившись, Чехов 9 апреля последовал ее примеру и 10-го уже сходил по корабельному трапу на набережную, где собрались все «художественники».
«…Мы с нетерпением ожидали парохода, с которым должен был приехать А.П. Наконец мы увидели, – вспоминает К.С. Станиславский. – Он вышел одним из последних из кают-компании, бледный и похудевший. А.П. сильно кашлял. У него были грустные, больные глаза, но он старался делать приветливую улыбку.
Мне захотелось плакать. <…>
По общей бестактности, посыпались вопросы о его здоровье.
– Прекрасно. Я же совсем здоров, – отвечал А.П. Он не любил забот о его здоровье не только посторонних, но и близких. Сам он никогда не жаловался, как бы плохо себя ни чувствовал».[540]
В тот же вечер, спрятавшись в директорской ложе, Чехов присутствовал на представлении «Дяди Вани», которое давала труппа, никогда в жизни на публике им не виденная. Первый акт был встречен холодно, но в целом успех оказался оглушительным: крики, овации, зрители требовали на сцену автора… Он вышел – на ватных ногах, в запотевшем пенсне… Все актеры понравились ему, но особенно – Ольга. Два дня спустя он посмотрел в исполнении той же труппы «Гедду Габлер» Ибсена. Суждение вынес суровое. «Послушайте же, Ибсен же не драматург!» – так он ответил артистам, жаждавшим его оценки. А 13 апреля, ослабленный болезнью и волнениями, он вернулся в Ялту, не побывав на репетиции «Чайки», которую должны были давать вечером.
Назавтра труппа Художественного театра отправилась вслед за ним. Несмотря на шторм, на пристани оказалось полным-полно людей. «Потрепало нас в пути основательно, – продолжает Станиславский. – Многие из нас ехали с женами, с детьми. Некоторые севастопольцы приехали вместе с нами в Ялту. Няньки, горничные, дети, декорации, бутафория – все это перемешалось на палубе корабля. В Ялте толпа публики на пристани, цветы, парадные платья, на море вьюга, ветер – одним словом, полный хаос. Тут какое-то новое чувство – чувство того, что толпа нас признает. Тут и радость и неловкость этого нового положения, первый конфуз популярности».
На следующее утро первым делом пошли осмотреть театр, потом позавтракали в городском саду, а оттуда – кто пешком, кто человек по шесть в экипаже – в Аутку, к Чехову, который устроил прием по случаю приезда дорогих гостей. И ждали артистов там писатели и художники, представлявшие самые разные виды искусства и специально приехавшие в Ялту, чтобы устроить им овацию: Иван Бунин, Максим Горький, Александр Куприн, Сергей Рахманинов…
Стол был накрыт заранее – «либо для завтрака, либо для чая», – вспоминает Станиславский, и далее: «Кончался один завтрак, подавали другой; Марья Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству». А у Антона Павловича вид был «страшно оживленный, преображенный, точно он воскрес из мертвых. Он напоминал… дом, который простоял всю зиму с заколоченными ставнями, закрытыми дверями. И вдруг весной его открыли – и все комнаты засветились, стали улыбаться, искриться светом. Он все время двигался с места на место, держа руки назади, поправляя ежеминутно пенсне. То он на террасе, заполненной новыми книгами и журналами, то с не сползающей с лица улыбкой покажется в саду, то во дворе. Изредка он скрывался у себя в кабинете и, очевидно, там отдыхал».[541]
Гости разбились на группки «по интересам». «В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И.А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. <…> Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами – все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом – весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство – вот атмосфера, в которой мы в то время находились», – заканчивает Станиславский свой рассказ о первом визите к Чехову и добавляет: «Такие дни и вечера повторялись чуть ли не ежедневно в доме Антона Павловича».[542] Приезжим настолько понравилась эта дружеская обстановка, им было так хорошо рядом с Чеховым, что речь зашла не только о постоянном «паломничестве» в Ялту, но и о постройке здесь «общего дома».
Собственно гастроли начались 16 апреля спектаклем «Дядя Ваня». Публика оказалась пестрой: богатые курортники, учителя, провинциальные чиновники, чахоточные… Мать Чехова, никогда не видевшая на сцене пьес сына, тоже решила отправиться в театр.[543]«Как-то днем прихожу к Антону Павловичу, – рассказывает в мемуарах все тот же Станиславский, – вижу: он свиреп, лют и мохнат, – одним словом, таким я его никогда не видел. Когда он успокоился, выяснилось следующее. Его мамаша, которую он обожал, собралась наконец в театр смотреть „Дядю Ваню“. Для старушки это был совершенно знаменательный день, так как она ехала смотреть пьесу Антоши. Ее хлопоты начались уже с самого утра. Старушка перерыла все сундуки и на дне их нашла какое-то старинного фасона шелковое платье, которое она и собиралась надеть для торжественного вечера. Случайно этот план открылся, и Антон Павлович разволновался. Ему представилась такая картина: сын написал пьесу, а мамаша сидит в ложе в шелковом платье. Эта сентиментальная картина так его обеспокоила, что он хотел ехать в Москву, чтобы только не участвовать в ней».[544]
Первое представление, несмотря даже на то, что из городского сада то и дело, порой «аккомпанируя» самым драматическим моментам, доносились вальсы или польки в исполнении духового оркестра, прошло с большим успехом: с подношениями, с цветами… Забавно, что на одном из спектаклей, когда у зрителей кончились цветы, которых было в изобилии – от примул до сирени, на сцену полетели листки бумаги с самодельными стихами, шляпы, перчатки…
Спустя неделю, когда давали «Чайку», энтузиазм публики еще возрос, и после многочисленных вызовов Чехову торжественно вручили пальмовые ветви с красной лентой, на которой было написано: «Глубокому истолкователю русской действительности» и адрес с массой подписей, их было около двухсот, и среди них были росчерки всех его друзей из мира литературы и искусства.
Закончилось триумфальное пребывание труппы Художественного театра в Ялте чудесным праздником под открытым небом. У одной из богатых поклонниц Чехова и «художественников», Фанни Татариновой, был дом с плоской крышей, и она накрыла там столы для завтрака, на который собралась «вся труппа, вся съехавшаяся, так сказать, литература с Чеховым и Горьким во главе, с женами и детьми, – пишет Станиславский. – Помню восторженные, разгоряченные южным солнцем речи, полные надежд и надежд без конца».[545] После завтрака обменялись прощальными сувенирами. Актеры подарили Чехову скамейку и качели из декорации «Дяди Вани», а он каждому из них – золотой брелок в виде книжечки, на обложке которой была крошечная фотография автора, читающего «Чайку» труппе. На оборотной стороне медальона, подаренного Немировичу-Данченко, была выгравирована благодарность: «Ты дал моей „Чайке“ жизнь. Спасибо!»[546]
После отъезда «художественников» Ялта снова впала в летаргический сон. Это спокойствие, последовавшее сразу же за бурной жизнью последних дней и так напоминавшее о тишине склепа, быстро показалось Чехову невыносимым, и 6 мая он собрался в Москву. Однако и там оказалось невесело. Антон Павлович навестил умирающего Левитана, Ольга была постоянно занята репетициями, и от нее приходилось скрывать состояние собственного здоровья, – словом, десять дней спустя он снова оказался в Ялте и оттуда написал своей «милой, восхитительной актрисе»: «Я, пока ехал в Ялту, был очень нездоров. У меня в Москве уже сильно болела голова, был жар – это я скрывал от Вас грешным делом, теперь ничего. Как Левитан? Меня ужасно мучает неизвестность».[547]
Так же внезапно, как в Москву, Чехов, вдруг почувствовавший прилив сил, выехал на Кавказ – с Горьким и еще несколькими друзьями. Путешествие было задумано как двухнедельное. В маршрут включили знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, посетили несколько монастырей и наконец остановились в Тифлисе. Правда, ненадолго, вскоре Чехов оказался в железнодорожном вагоне, двигаясь в направлении Батума, и – о счастье! – встретил там Ольгу Книппер, которая вместе с матерью тоже выбралась на Кавказ немножко отдохнуть. Шесть дней они пробыли вместе в поезде, потом последовали пересадка Ольги на Боржомскую линию и – разлука. Но им хватило времени договориться о том, что в начале июля Книппер снова приедет в Ялту.
Она оказалась точна, явилась на свидание вовремя и сразу же поселилась в чеховском аутском доме. Знакомству и переписке было уже почти два года, но впервые писатель и актриса смогли, не расставаясь ни на минуту, жить рядом, совсем близко. И эта повседневная близость сыграла на руку Ольге: так она казалась еще очаровательнее, чем на расстоянии. Ее веселость, ее молодость, даже ее капризы окончательно покорили Чехова. Некоторое время он еще пытался устоять, верный своей тактике шага вперед двух шагов назад, и Ольга стала беспокоиться, не кончилось бы все разочарованием, несмотря на добрые предчувствия. Но мало-помалу Антон Павлович стал сдавать позиции, отказываясь от присущего ему с женщинами галантно-насмешливого тона и бессознательно изменяя привычному кокетливому зубоскальству ради любви. Ольга с гордостью поняла, что выиграла. И – стала наконец его любовницей. Где это произошло: в кабинете писателя, залитом лунным светом, пока мать и сестра мирно спали в своих комнатах, или в гурзуфской «избушке», стоявшей так близко к морю, что тихий шепот волн долетал до их ушей? Кто знает… Но теперь они тайком любили друг друга каждый день. Ольга надевала длинное белое платье, которое нравилось Антону Павловичу больше других ее нарядов, распускала длинные вьющиеся черные волосы, и они падали ей на плечи. Вполголоса она напевала романс Глинки «Не искушай меня без нужды», после любви они ворковали рука в руке, а потом, спустившись с облаков на землю, Ольга варила кофе и делала бутерброды, которые они поглощали с завидным аппетитом, веселясь, как школьники.
Однако, несмотря на все принятые любовниками меры предосторожности, Мария Павловна и Евгения Яковлевна очень скоро поняли, что между Чеховым и гостьей установилась прочная связь. Но Антоша при этом выглядел таким счастливым, что сестру и саму охватило радостное волнение. Впрочем, тогда еще, ориентируясь на свой жизненный опыт, она предполагала, что и это приключение окажется мимолетным. А Чехов между тем забросил работу и не пускал в дом назойливых посетителей. Он был в полной эйфории, омрачили которую лишь два события. Первым из них стала смерть Левитана (он узнал о кончине друга 22 июля), а вторым… Нет, оно в конце концов было воспринято скорее как комическая помеха, чем серьезная неприятность. Вторым стало неожиданное появление в Ялте бывшей «чайки» – Веры Комиссаржевской.
Замечательная актриса, находившаяся тогда на вершине славы, гастролировала на юге России. Она стала просить Чехова, и тот согласился на встречу в Гурзуфе 3-го августа. Вера пустила в ход все обаяние, принялась декламировать своим мелодичным голосом монологи Нины из «Чайки» и пушкинские стихи, требовать, чтобы Чехов остался с нею тут еще хоть на денек. Но влюбленный в Ольгу писатель был скорее раздосадован, чем польщен такой настойчивостью. Назавтра же он сбежал обратно в Ялту, оставив актрисе на память свою фотографию с надписью: «Вере Федоровне Комиссаржевской 3-го августа, в бурный день, когда шумело море, от тихого Антона Чехова».
Он торопился увидеть Ольгу, у которой подходил срок возвращения в Москву: им осталось быть вместе лишь два дня, и каждый час, проведенный наедине с любимым человеком, казался теперь вырванным из цепких лап разлучавшей их судьбы. 5 августа Чехов проводил Ольгу сначала на пароходе до Севастополя, где они провели ночь, потом – на вокзал, где она села в поезд, идущий в Москву.
После «ялтинских каникул» между ними установились иные, куда более свободные отношения, они перешли на «ты», они захлебывались от счастья, говоря друг с другом, не представляли себе жизни врозь. Прошло всего три дня в разлуке, а Чехов уже пишет в Москву: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй! Сегодня получил от тебя письмо, первое после твоего отъезда, прочел, потом еще раз прочел и вот пишу тебе, моя актриса. Проводив тебя, я поехал в гостиницу Киста, там ночевал; на другой день от скуки и нечего делать поехал в Балаклаву. Там все прятался от барынь, узнавших меня и желавших устроить мне овацию, там ночевал и утром выехал в Ялту на „Тавеле“. Качало чертовски. Теперь сижу в Ялте, скучаю, злюсь, томлюсь. <…> Мне все кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь, ты теперь на репетициях или в Мерзляковском пер., далеко от Ялты и меня. Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая. Твой Antonio».[548] А из Москвы в Ялту в тот же день полетело письмо от Ольги: «Мне скучно без тебя. Так хочу тебя сейчас видеть, так хочу приласкаться, посмотреть на тебя. Точно меня выбросили куда-то за борт – такое у меня сейчас ощущение. Что ты делаешь, что думаешь?»[549]
В ответ он написал:
«Милая, славная, великолепная моя актриса, я жив, здоров, думаю о тебе, мечтаю и скучаю оттого, что тебя здесь нет. Вчера и третьего дня был в Гурзуфе, теперь опять сижу в Ялте, в своей тюрьме. Дует жесточайший ветер, катер не ходит, свирепая качка, тонут люди, дождя нет и нет, все пересохло, все вянет – одним словом, после твоего отъезда стало здесь совсем скверно. Без тебя я повешусь.
Будь здорова и счастлива, немочка моя хорошая. Не хандри, спи крепко и пиши мне почаще.
Целую тебя крепко, крепко, четыреста раз.
Твой Antonio».[550]Сначала они обменивались нежными письмами чуть ли не каждые два дня, но вскоре Чехов плотно засел за работу над новой пьесой.[551] Это были «Три сестры». «Пьесу пишу, но боюсь, что она выйдет скучная, – делится он своими опасениями с Ольгой 23 августа. – Я напишу и, если мне не понравится, отложу ее, спрячу до будущего года или до того времени, когда захочется опять писать. Один сезон пройдет без моей пьесы – это не беда».
Взявшись за трудную задачу, драматург хотел воспользоваться своим ялтинским одиночеством, чтобы благополучно довести работу до конца. Впрочем, и здоровье в это время не позволяло ему думать о поездке в Москву. А от Ольги приходили очаровательные письма, будившие в нем зависть и ревность. То она рассказывала ему о чудесном дне за городом у друзей, тут же предлагая: «Антон, родной мой, проведем будущее лето здесь где-нибудь в деревне, хочешь?» – и так оправдывая свое предложение: «Я все думала, как ты удивительно подходишь в этой чисто русской природе, к этой шири, к полям, лугам, овражкам, уютным, тенистым речкам…»[552] То рассказывает о встрече с друзьями, которая продолжалась до двух часов ночи: «Я не помню, чтобы так много хохотала».[553] То описывает костюмированный бал, где была в платье «с большим декольте» и танцевала до упаду. Эти отголоски молодой веселой жизни по контрасту наводили Антона Павловича на грустные мысли о собственном возрасте, о болезни, об одиночестве. «Я боюсь, чтобы ты не разочаровалась во мне, – отвечает он ей. – У меня страшно лезут волосы, так лезут, что, гляди, чего доброго, через неделю буду лысым дедом. <…> Страшно скучаю. Понимаешь? Страшно. Питаюсь одним супом. По вечерам холодно, сижу дома. Барышень красивых нет. Денег становится все меньше и меньше, борода седеет…» Эта печальная картина вместо того, чтобы охладить Ольгу, только разожгла ее любовь к Чехову. Прекрасно зная, что он все слабеет и тяжело болен, она твердо решила, что они должны пожениться. Даже говорила Немировичу-Данченко о свадьбе как о «деле уже решенном», словно забыв о том, насколько отвратительна была для Чехова сама мысль о женитьбе. Он не только не мечтал объявить о намерении сочетаться с Книппер узами брака, но откладывал со дня на день поездку в Москву, а чтобы оправдаться перед Ольгой, выдумывал, что работа над пьесой идет медленно, что ему не хватает вдохновения, что он болен: «Жар, кашель, насморк». Ну а ей-то хотелось ли его видеть на самом деле? Не начала ли Ольга забывать его? «Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе. Не сердись, милюся, это я так, между прочим». А поскольку она в ответ протестует и настаивает на том, чтобы он поскорее уехал из Ялты, чтобы встретиться с ней, он замечает горько: «Завтра в Москву едет мать, быть может, и я поеду скоро, хотя совсем непонятно, зачем я поеду туда. Зачем? Чтобы повидаться и опять уехать? Как это интересно. Приехать, взглянуть на театральную толчею и опять уехать… Ты редко пишешь мне, это я объясняю тем, что я уже надоел тебе, что за тобой стали ухаживать другие». Уязвленная Ольга в свою очередь обвинила Чехова в том, что он очерствел сердцем, что скрывает свои истинные чувства. Она пыталась заставить его понять с полуслова, чего ждет от него. Зачем эта игра в прятки, эти постоянные умолчания? Разве не приятней и не честней любить друг друга открыто – на глазах у всех? Но чем больше она настаивала, тем больше старался он уйти от ответа. Главное – не затрагивать вечных проблем, не думать о будущем, пусть все остается как есть. «Ты пишешь: „ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?“ А когда я делал его черствым? В чем, собственно, я выказал эту свою черствость? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе, и никогда я от тебя этого не скрывал, никогда, никогда, и ты обвиняешь меня в черствости просто так, здорово живешь.
По письму твоем судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора с серьезными лицами, с серьезными последствиями: а я не знаю, что тебе сказать, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, т. е. что я тебя люблю – и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству». Чтобы задобрить Ольгу, Чехов переводит разговор на новую пьесу, где специально для нее создается персонаж: «Ах, какая тебе роль в „Трех сестрах“! Какая роль! Если дашь десять рублей, то получишь роль, а то отдам ее другой актрисе», – тут же обсуждая с подругой задачи театра, в котором она работает, и свои собственные: «Я того мнения, что ваш театр должен ставить только современные пьесы, только! Вы должны трактовать современную жизнь, ту самую, какою живет интеллигенция и какая не находит себе трактования в других театрах за полною их неинтеллигентностью и отчасти бездарностью. <…> В этом сезоне „Трех сестер“ не дам, пусть пьеса полежит немножко, взопреет, или, как говорят купчихи про пирог, когда подают его на стол, – пусть вздохнет».[554]
Тем не менее к середине октября он пьесу уже заканчивает и так сообщает об этом Горькому: «Можете себе представить, написал пьесу. Но так как она пойдет не теперь, а лишь в будущем сезоне, то я не переписывал ее начисто. Пусть так полежит. Ужасно трудно было писать „Трех сестер“. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три – генеральские дочки! Действие происходит в провинциальном городе вроде Перми, среда – военные, артиллерия». И добавляет: «Погода в Ялте чудесная, свежая, здоровье мое поправилось. В Москву даже не хочется ехать отсюда, так хорошо работается и так приятно не испытывать в заднем проходе зуд, который был у меня все лето. Я даже не кашляю и даже ем уже мясо. Живу один, совершенно один. Мать в Москве».[555]
Несмотря на утверждение, что ехать ему не хочется, Чехов уступил все-таки повторяющимся настоятельным призывам Ольги, уже через неделю после письма Горькому, 23 октября, прибыл в Москву и остановился в гостинице «Дрезден» на Тверской, в самом центре города.
Целыми днями он пропадал в Художественном театре, присутствуя и на репетициях, и на спектаклях. Несколько раз посмотрел свои – «Чайку» и «Дядю Ваню». «Здесь Горький, – пишет он Средину в начале ноября. – Я и он почти каждый день бываем в Художественном театре, бываем, можно сказать, со скандалом, так как публика устраивает нам овации, точно сербским добровольцам». Восторг публики, конечно, трогал его, но вовсе не умерял его печали при мысли о судьбе новой пьесы. Антон Павлович очень неохотно согласился позировать художнику Валентину Серову, вознамерившемуся написать его портрет. Он часто куда-нибудь ходил с Ольгой и Горьким, ужинал в ресторанах, возвращаясь домой только поздно ночью. Такая беспорядочная жизнь утомляла его. Снова стала подниматься температура, вернулись головные боли, приступы кашля. Но Чехов и не думал в связи с этим сокращать свое пребывание в Москве, где главным средоточием его интересов была, конечно же, Ольга. А она забегала к нему в гостиницу между двумя репетициями, приносила конфеты, цветы, туалетную воду, забавные безделушки. На столе появлялся самовар. Ольга готовила бутербродики с маслом и медом, а Чехов глядел, как она хлопочет, будто настоящая хозяйка дома. И все-таки по-прежнему не мечтал предложить любимой руку и сердце: таких вот свободных и пылких отношений с ней Антону было вполне достаточно. Тайная любовь имела свою прелесть.
Вскоре после приезда Чехова в Москву Станиславский организовал читку «Трех сестер» труппе Художественного театра. Назначена она была в фойе, присутствовали все. Замечательное впечатление, которое пьеса произвела на «художественников» поначалу, к концу сменилось едва ли не на свою противоположность: радостный настрой испарялся по мере продвижения от эпизода к эпизоду. Когда был дочитан последний акт, воцарилась мертвая тишина. Все словно оцепенели в вежливом молчании. Автор, смущенный, взволнованный, пытался улыбаться, он нервно покашливал, вопросительно поглядывал на актеров. И вдруг их словно прорвало: все решились заговорить сразу. И мнения были неутешительными для драматурга. До ушей Ольги, как она вспоминала потом, доносились в общем гуле лишь обрывки фраз типа «Это же не пьеса, только ее канва!» или «Это невозможно играть, нет никаких ролей – одни намеки на них!»… А вот как вспоминает тот день Станиславский: «В фойе был поставлен большой стол, покрытый сукном, все расселись вокруг него, с Чеховым и режиссерами в центре. Присутствовали: вся труппа, служащие, кое-кто из рабочих и из портних. Настроение было приподнятое. Автор волновался и чувствовал себя неуютно на председательском месте. Он то и дело вскакивал, отходил, прохаживался, особенно в те минуты, когда разговор принимал, по его мнению, неверное или просто неприятное для него направление. Обмениваясь впечатлениями по поводу только что прочитанной пьесы, одни называли ее драмой, другие – трагедией, не замечая того, что эти названия приводили Чехова в недоумение. Один из ораторов, с восточным акцентом, стараясь блеснуть своим адвокатским красноречием, начал с пафосом свою речь трафаретными словами:
„Я прынципиально не согласен с автором, но…“ и т. д.
Этого „прынципиально“ Антон Павлович не выдержал. Он ушел из театра, стараясь остаться незамеченным. Когда его отсутствие обнаружили, мы не сразу поняли происшедшее и подумали, что он захворал.
По окончании беседы я бросился к Чехову на квартиру и застал его не только расстроенным и огорченным, но и сердитым, каким он редко бывал.
„Нельзя же так, послушайте… Прынципиально!..“ – воскликнул он, передразнивая оратора.
Должно быть, трафаретная фраза переполнила терпение Антона Павловича. Но была и более важная причина. Оказывается, драматург был уверен, что написал веселую комедию, а на чтении все приняли пьесу как драму и плакали, слушая ее. Это заставило Чехова думать, что пьеса непонятна и провалилась».[556]
Станиславский пытался успокоить, урезонить обиженного драматурга… И вот, спустя несколько дней, набравшись мужества, тот заперся в номере и – полностью переписал два первых акта. Тем не менее Вере Комиссаржевской, которой хотелось поставить «Три сестры» к своему бенефису в Санкт-Петербурге, ответил печальным полуотказом: «„Три сестры“ уже готовы, но будущее их, по крайней мере ближайшее, покрыто для меня мраком неизвестности. Пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная; говорю – неудобная, потому что в ней, например, 4 героини и настроение, как говорят, мрачней мрачного.
Вашим артистам она очень и очень бы не понравилась, если бы я послал ее в Александринский театр. Как-никак, все же пришлю ее Вам. Прочите и решайте, стоит ли летом везти ее на гастроли».[557]
Переделка «Трех сестер» еще не была закончена, когда 11 декабря 1900 года Чехов вдруг решил уехать из Москвы. Как всегда, им овладела охота к перемене мест. И, как всегда, он бросился на поиски новых миражей, уже зная, что, прибыв на территорию очередной «земли обетованной», он обнаружит там пустыню, где царит скука. Однако провести зиму в Ялте казалось ему пределом глупости – смехотворное решение! Поэтому направление было избрано совсем иное: снова Ницца.
Ольга, недоумевавшая из-за такого внезапного, напоминавшего бегство отъезда, утопала в слезах. Уж не от нее ли он бежит? «Я не могу примириться с тем, что мы расстались, – написала она Антону на следующий же день. – Зачем ты уехал, раз ты должен быть со мной? Вчера, когда уходил от меня поезд и вместе с ним и ты удалялся, я точно первый раз ясно почувствовала, что мы действительно расстаемся. Я долго шла за поездом, точно не верила, и вдруг так заплакала, так заплакала, как не плакала уже много, много лет. Я рада была, что со мной шел Лев Ант.,[558] я чувствовала, что он меня понимает, и мне нисколько не стыдно было моих слез. Он так был деликатен, так мягок, шел молча. В конце платформы мы долго стояли и ждали, пока не уйдут эти люди, провожавшие тебя, – я бы не могла их видеть, так они мне были противны. Мне так сладко было плакать, и слезы были такие обильные, теплые, – я ведь за последние годы отвыкла плакать. Я плакала, и мне было хорошо. Приехала к Маше, села в угол и все время тихо плакала. <…> Мысленно ехала с тобой в вагоне, прислушивалась к мерному стуку колес, дышала специфическим вагонным воздухом, старалась угадать, о чем ты думаешь, что у тебя на душе, и все угадала, веришь?»[559]
Письмо, которое Чехов 12 декабря, еще не получив этого письма Ольги, написал ей из Вены, должно было успокоить влюбленную молодую женщину: «Завтра я уезжаю в Nice, а пока с вожделением поглядываю на две постели, которые стоят у меня в номере: буду спать, буду думать! Только обидно, что я здесь один, без тебя, баловница, дуся моя, ужасно обидно. Ну, как живешь там в Москве? Как себя чувствуешь? Идут ли репетиции? Далеко ли ушли? Милая, все, все пиши мне, подробнейшим образом, каждый день! Иначе у меня будет настроение черт знает какое. <…> Крепко тебя целую, жму твои ручки, девочка моя чудесная. Не забывай меня, не забывай! В Ницце, как приеду, в тот же день поеду на почту – быть может, твое письмо уже пришло. Пиши, деточка. Твой Ant.».[560] Но она не знала, что еще не прошло и месяца, как Антон Павлович написал Суворину, что слухи о скорой его, Чехова, женитьбе, которые до того донеслись, неверны.
В Ницце Чехов снова поселился в Русском пансионе на улице Гуно, хотя ему и была противна атмосфера замкнутости, характерная для этого заведения. Здесь ничего не переменилось со времени его последнего пребывания. Все те же француженки-горничные «с улыбками герцогинь», та же русская кухарка, которая вышла замуж за негра, те же «страшные до ужаса» старые дамы за табльдотом… Но зато – весна… «Голова кружится от дорожного утомления, – пишет он Ольге, едва сойдя с поезда в Ницце, – сегодня ничего не стану писать, напишу завтра, а сегодня только позволь поцеловать тебя 10 000 раз, деточка моя. Идет дождик, но тепло, удивительно тепло. Цветут розы и цветы всякие, даже глазам не верится. Молодые люди в летних пальто, ни одной шапки. У меня под окном арокария, такая же, как у тебя, только с большую сосну величиной, растет в земле».[561] И назавтра – «Милая моя, как это ни странно, но у меня такое чувство, точно я на луну попал. Тепло, солнце светит вовсю, в пальто жарко, все ходят по-летнему. Окна в моей комнате настежь; и душа, кажется, тоже настежь. Переписываю свою пьесу и удивляюсь, как я мог написать сию штуку, для чего написать. Ах, дуся моя хорошая, отчего тебя нет здесь? Ты бы поглядела, отдохнула, послушала бы бродячих певцов и музыкантов, которые то и дело заходят во двор, а главное – погрелась бы на солнышке.
Сейчас я пойду к морю, буду сидеть там и читать газеты, а потом, вернувшись домой, стану переписывать – и завтра уже вышлю Немировичу III акт, а послезавтра IV – или оба вместе. В III акте я кое-что изменил, кое-что прибавил, но очень немного. <…>
Встречаю русских. Они здесь какие-то приплюснутые. Точно угнетены чем-то или стыдятся своей праздности. А праздность вопиющая.
Обнимаю тебя крепко, целую тысячи раз. Жду с нетерпением письма, длинного письма. Кланяюсь в ножки».[562]
Тем временем Станиславский уже приступил к репетициям первых двух актов, которые Чехов оставил ему, уезжая из Москвы. Сделав небольшие поправки в третьем действии, но основательно переработав четвертое («…в IV произвел перемены крутые»), драматург спустя неделю после того, как прибыл во Францию, отправил наконец в театр окончание пьесы. «Тебе прибавил много слов», – отчитывается он Ольге и шутя добавляет в скобках: «Ты должна сказать: благодарю…»[563] И в другом письме: «Тебе, особенно в IV акте, много прибавлено. Видишь, я для тебя ничего не жалею, старайся только. Пиши, что на репетициях и как, нет ли каких недоразумений, все ли понятно».[564] Чехов очень беспокоился о том, как идут дела в театре, так далеко от него. Поняли ли наконец артисты своих персонажей? Не перегрузит ли Станиславский мизансцены? Не использует ли в постановке в изобилии натуралистические детали, до которых режиссер такой охотник? Вопросы – в каждом письме Ольге, а иногда прорывается и просьба: «Опиши мне хоть одну репетицию „Трех сестер“. Не нужно ли что прибавить или что убавить?» И в этом же письме, кроме, так сказать, общего интереса, проявляется и частный, даются полнее конкретные советы: «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое – да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене, во время разговоров. Понимаешь?»[565] И несколько дней спустя той же забрасывавшей его письмами Ольге – в шутливой форме, за которой, однако, видится настоящее беспокойство: «Жестокая, свирепая женщина, сто лет прошло, как от тебя нет писем. Что это значит? <…> Пиши, собака! Рыжая собака! Не писать мне писем – это такая низость с твоей стороны! Хоть бы написала, что делается с „Тремя сестрами“! Ты еще ничего мне не писала о пьесе, решительно ничего, кроме того, что была-де репетиция или репетиции сегодня не было. Отколочу я тебя непременно, черт подери».[566]
Озабоченный точностью мельчайших деталей, он просит одного актера, чтобы тот надевал фрак лишь в первом акте, другому советует загримироваться так, чтобы стать похожим на поэта Лермонтова. В пьесе действует много офицеров – и он, опасаясь, что свойственная театру склонность к преувеличению обратит их в карикатуры, поручает своему приятелю, полковнику Петрову, присутствовать на репетициях и следить за тем, чтобы мундиры были правильные, да и манеры у одетых в эти мундиры актеров – тоже. Полковник Петров принял поручение так близко к сердцу, что осмелился даже в длинном письме высказать упреки автору. Вот как описывают ситуацию самые заинтересованные в ней стороны. Ольга – Чехову: «Много добродушного смеху возбуждает Петров, присутствующий на репетициях „наш военный режиссер“, как мы его прозвали. Он, по-видимому, решил, что без него нельзя обойтись, и толкует уже не о мундирах, а о ролях. Лужский – шутник, отлично его копирует, как он, сильно задумавшись, говорит: „Вот не знаю, что нам теперь с Соленым бы сделать – не выходит что-то!“ Разве это не номер?»[567] И Чехов – Ольге: «Полковник прислал мне длинное письмо, жалуется на Федотика, Родэ и Соленого; жалуется на Вершинина, на его безнравственность. Помилуй, он совращает с пути чужую жену! Думаю, однако, что сей полковник исполнит то, о чем я просил его, т. е. военные будут одеты по-военному. Трех сестер и Наташу он очень хвалит, кстати сказать. Хвалит и Тузенбаха.
Целую тебя крепко и обнимаю крепко. Зовут обедать. Пришел консул и советует в Алжир не ехать. Говорит, что теперь время мистраля. Я совершенно здоров, не кашляю, но скука ужасная. Скучно мне без Москвы, без тебя, собака ты этакая. Итак, я тебя целую».[568]
Тон писем Чехова Книппер всегда оставался нежным, но не делалось даже намека на возможную женитьбу. Скептичный и легкомысленный, он продолжал издалека свою игру, чередуя в своих посланиях соблазн с меланхолией и уклончивостью.
«Антон, знаешь, – писала ему Ольга сразу же после его отъезда из Москвы, – я боюсь мечтать, т. е. высказывать мечты; но мне мерещится, что из нашего чувства вырастет что-то хорошее, крепкое, и когда я в это верю, то у меня удивительно делается широко и тепло на душе, и хочется и жить, и работать, и не трогают тогда мелочи жизненные, и не спрашиваешь себя, зачем живешь. А ты во мне поддерживай эту веру, эту надежду, и нам обоим будет хорошо и не так трудно жить эти месяцы врозь, правда, дорогой мой?»[569] Но возлюбленный не торопится ее обнадежить, попросту раз и навсегда внутренне, для себя самого, отказавшись обсуждать будущее. Тяжелая болезнь не вызывала желания строить далекоидущие планы. Ему надо было просто жить изо дня в день, разумно экономя силы, сдерживая сердечные порывы. «Я тебя люблю, но ты, впрочем, этого не понимаешь, – отвечает он Ольге.[570] – Тебе нужен муж, или, вернее, супруг с бакенбардами и с кокардой, а я что? Я – так себе».[571] Или еще: «Ты хандришь теперь, дуся моя, или весела? Не хандри, милюся, живи, работай и почаще пиши своему старцу Антонию. <…> Поздравлял ли я тебя с Новым годом в письме? Неужели нет? Целую тебе обе руки, все 10 пальцев, лоб и желаю и счастья, и покоя, и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет. Я тебя обнимаю, как бы ни было…»[572] И чтобы подчеркнуть игривость их переписки, он ставит в конце вместо настоящего своего имени то «Твой старец Антоний», то «Иеромонах Антоний», или «Твой Тото, титулярный советник и кавалер», или «Твой Тото, отставной лекарь и заштатный драматург»…
Теперь уже Ницца, климат и оживленные улицы которой так очаровали его по приезде, кажется ему городом скучнее некуда, пребывание здесь начинает его тяготить: слишком уж много любопытствующих русских попадается на пути. И мысль о том, что нужно сесть за письменный стол, тоже ему противна, хотя происходящее в Москве, в Художественном театре, по-прежнему волнует. «Милюся моя, – пишет он „своей“ актрисе в ответ на ее рассказы о репетициях, – покаяние Маши в III акте вовсе не есть покаяние, а только откровенный разговор. Веди нервно, но не отчаянно, не кричи, улыбайся хотя изредка и так, главным образом, веди, чтобы чувствовалось утомление ночи. И чтобы чувствовалось, что ты умнее своих сестер, считаешь себя умнее по крайней мере. Насчет „трам-там-там“ делай как знаешь. Ты у меня толковая. <…> Я пишу, конечно, но без всякой охоты. Меня, кажется, утомили „Три сестры“ или попросту надоело писать, устарел. Не знаю. Мне бы не писать лет пять, лет пять попутешествовать, а потом вернуться бы и засесть».[573]
Он мечтал отправиться морем в Алжир, но штормило, и плавание в таких условиях могло плохо кончиться. Пришлось ему довольствоваться поездкой в Италию – с другом своим Ковалевским, которому он признался ночью в поезде, что как медик знает: жить ему осталось недолго. Они отбыли из Ниццы 26 января, посетили Пизу и Флоренцию, но главным пунктом в маршруте был Рим. «Ах, какая чудесная страна эта Италия, – пишет он 2 февраля Ольге из „вечного города“. – Удивительная страна! Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным».[574] К этому времени Антон Павлович уже знает из ее телеграммы, что «Три сестры» прошли в Москве с успехом, но всего за три-четыре дня до того очень переживал, как идут дела с постановкой: «Шла моя пьеса или нет? Мне ничего не известно».[575] Его не оставляла тревога о том, понравится ли спектакль публике, не свидетельствует ли молчание «художественников» о провале… Между тем опоздание писем и телеграмм объяснялось просто: сам же Чехов так часто менял адреса, что почте за ним было не поспеть. И вот в начале февраля он понимает, что вроде бы можно успокоиться: получена догнавшая адресата только спустя трое суток телеграмма от Немировича-Данченко о том, что премьера состоялась 31 января 1901 года и прошла с большим успехом, только второй акт показался затянутым. Ольга написала 5 февраля, что по всей Москве только и разговору что о «Трех сестрах»… Но все это драматурга не успокаивало, он чувствовал: тут не вся правда, от него что-то скрывают. Действительно, публику, чуть позже полюбившую спектакль, на первом представлении – чем дальше по ходу действия, тем больше – смущали бессвязность диалогов, долгие паузы между репликами, полное отсутствие действия, непонятное поведение персонажей, которых явно одолевали сомнения, и они ни на что не могли решиться. Рецензенты же вообще оказались безжалостны: вот как описывает происходившее в то время театровед Н. Эфрос в книге «„Три сестры“ в Московском художественном театре»: «Наутро после спектакля большинство… узнало от газетной критики, что „Три сестры“… совсем даже и не пьеса, а так, невесть что. Чехов, во-первых, обокрал самого себя, ибо все это у него уже было, и автор „Трех сестер“ много заимствует у автора „Дяди Вани“. Во-вторых, Чехов регрессирует, потому что раньше бывшее было много лучше. В-третьих, Чехов начинил свою новую пьесу, как фаршем, несуразностями, нежизненностями. В-четвертых, Чехов сочетает какие-то несочетаемые идеи, проповедует не то оптимистический пессимизм, не то пессимистический оптимизм».[576] Чехов за границей не мог прочесть русских газет, разумеется, ему приятны были похвалы в телеграммах и письмах, но после первых же он понял: за этими гимнами в его честь кроется своего рода заговор молчания. Друзья таким образом проявляли милосердие к нему. Единственный из них, редактор-издатель «Русской мысли» Вукол Лавров (кстати, он и опубликовал у себя пьесу в феврале 1901 года) ясно выразил свою мысль, написав автору, что, конечно, успех «Трех сестер» не такой шумный, как успех «Чайки», зато более определенный и более значимый. Понадобилось, как вспоминает Станиславский, три года после первой постановки, чтобы «публика постепенно оценила все красоты этого изумительного произведения и стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом».[577]
А пока… Пока спектакль потихоньку завоевывал зрителя, а драматург дрожал от холода в Вечном городе, где неожиданно выпал снег. Чехову пришлось отказаться от намерения побывать в Неаполе и сесть на корабль, идущий совсем в другом направлении – к Одессе. Оттуда он отправился в Ялту и, едва прибыв туда, даже не отдохнув с дороги, написал сестре и Ольге о том, что не спал ночь, что здоров, но очень беспокоится, ничего не зная насчет обстановки в Москве – с его пьесой в частности, и ждет подробнейшей, со всеми деталями, телеграммы.
Оказавшись в России, Антон Павлович смог познакомиться с прессой, но еще до этого он твердо знал: его произведение не поняли. Собственно, ничего другого он и не ожидал. Но предчувствовал, что со временем пьесу оценят даже те, кто теперь критикует ее за тягучесть и недостаточный блеск.
Прототипом провинциального городка, где происходит действие «Трех сестер», Чехов выбрал Воскресенск, вспомнив свое пребывание в сонной глуши, где интеллигенция и офицеры стоявшего там гарнизона томились от скуки и косности окружающего мира, не находя радости в пустой болтовне. К этим воспоминаниям добавилось то, что осталось в памяти от дней, проведенных в Луке, в поместье трех сестер Линтваревых. В сознании художника волшебно соединились две группы персонажей, никогда не встречавшихся в действительности. Три сестры, молодые женщины с неустроенной судьбой, принимают у себя в доме приезжих артиллеристов. И вся пьеса построена на отношениях, возникших в результате этой необычной встречи.
Чеховские три сестры, генеральские дочки, родились в Москве, и главная безумная их мечта – вернуться туда, покончив с вульгарностью и ничтожностью провинциальной жизни. «В Москву! В Москву!» – лейтмотив пьесы, красная нить, проходящая от первого явления ее до последнего. Но эта мучительная ностальгия – единственное, что объединяет сестер. Старшая, Ольга, печальная, несгибаемая и проникнутая чувством долга, работает учительницей и, кажется, приняла решение остаться старой девой. Средняя, Маша (ее-то и играла Ольга Книппер), ничуть не похожа на сестру: она пылкая, чувствительная, резкая. В свое время она вышла замуж по любви за дурака учителя, но считает виноватой в своих разочарованиях всю вселенную. Младшая, Ирина, веселая и непосредственная, живет иллюзиями, ее сжигает желание во что-то верить, отдаться чему-то или кому-то, что или кто потребует ее беззаветной преданности, целиком, без остатка. Все три пытаются вылечить свою ущемленность мечтами, уйдя в них, забыть о том, чего они лишены в реальности. Но внезапно реальность вторгается в их жизнь. В маленький городок прибывает на постой артиллерийский полк, несколько офицеров этого полка становятся желанными гостями в доме трех сестер, завязываются какие-то отношения, поначалу легкие, затем многообещающие. Сестры, пробудившись от многолетней спячки, обретают вкус к жизни. Мужественная Ольга мечтает о том, что бросит школу, Маша, так неудачно вышедшая замуж, пламенно влюбляется в подполковника Вершинина, молоденькая и наивная Ирина принимает предложение руки и сердца от другого офицера. Но проходит несколько месяцев, полк переводят в другое место, и офицерам приходится прощаться с молодыми женщинами, чей покой они так потревожили. Для сестер наступает после опьянения настоящей жизнью с ее страстями жестокое отрезвление. Ольга с отчаянием вновь вернется к своему одиночеству в ненавистном ей городке. Маша останется с ничтожеством-мужем, что сделает ее раздражительной и злобной. Что же до Ирины, чей жених погиб на дуэли, она видит спасение только в работе и самопожертвовании. В финале пьесы звучит музыка удаляющегося военного оркестра, и Ольга, обнимая обеих сестер, говорит: «Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. О Боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!»[578]
Иными словами, в финале пьесы молодые женщины, чьи мечты рухнули, отчаянно ищут смысл своего присутствия на земле. Впрочем, вся пьеса, отличающаяся необыкновенной психологической напряженностью, представляет собою ответ на единственный вопрос: в чем смысл жизни? На тоскливые вопросы сестер офицеры отвечают своими скептическими наблюдениями. «Смысл… Вот снег идет. Какой смысл?» – говорит один из них. Короткими небрежными фразами Чехов создает такую тягостную и вместе с тем поэтичную атмосферу, что у зрителей, как и у героев пьесы, начинается головокружение при мысли о том, насколько абсурдно человеческое существование. Да и сам автор приглашает нас погрузиться не столько в то, что происходит на сцене, сколько в себя самих. Мы еще не успеваем этого осознать, а угрюмый провинциальный городок уже становится частью нашего внутреннего мира, печальная история трех сестер – нашей собственной историей, и вот уже мы, а не они, не знаем, ни откуда пришли, ни куда идем, ни – что делаем на этом свете. И еще долго, уже покинув зрительный зал, слышим страшную – тоскливую и обвинительную – речь Андрея, брата-неудачника, о котором Ирина говорит, что он измельчал и выдохся в этой глуши: «О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен и когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны… Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему… Только едят, пьют, спят, потом умирают… родятся другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не умереть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра Божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери…»[579] В общем, жизнь – это сплошное уродство, пошлость, счастье – всего лишь иллюзия, и единственное лекарство от безнадежности – по-прежнему работа без особых амбиций и желания получить за нее вознаграждение. Подобная философия была свойственна и самому Чехову в тот период, когда он писал пьесу. Чем сильнее его атаковала болезнь, тем меньше он находил объяснений своему физическому присутствию на земле – в окружении людей, которые называют его по имени, считают себя его друзьями и морочат ему голову своими комплиментами.
Однако его очень обрадовала встреча в Ялте с Иваном Буниным, которого Мария Павловна пригласила в гости, и он несколько недель прожил в Аутке. Дружелюбный и жизнерадостный, тот быстро завоевал привязанность молодой женщины и ее матери. Вполне возможно, что отношение к нему Маши выходило за границы простой дружбы. Когда же приехал Чехов, он сразу переселился в гостиницу. «После весело проведенных каникул я уехала в Москву, а Бунин продолжал жить в нашем доме, за что я была ему очень признательна, иначе наша мать осталась бы совсем одна». Переселение же свое в гостиницу объясняет в свою очередь И.А. Бунин в письме Марии Павловне от 18 февраля 1901 года: «13-го февраля я выбыл из Аутки на пароход, но на набережной увидел чрезвычайное волнение моря и поэтому, дабы не докучать своей возней Евгении Яковлевне, отправился в гостиницу „Ялта“, где и живу до настоящего времени». От себя скажу, что Антон Павлович в это время как раз ехал в Ялту.[580] Будучи на десять лет моложе, Бунин относился к Антону Павловичу как к Учителю в литературе, окружал его нежным вниманием и заботой. Часто бывая в доме, наблюдательный Бунин замечал, что Чехов смертельно боится показаться кому-то без жилета и галстука, что он изысканно вежлив даже с назойливыми визитерами, что у него маниакальная страсть к порядку, улыбка всегда немного печальна, но при этом он совсем по-детски радуется, услышав анекдот.
Однажды вечером, ранней весной 1903 года, Бунина, который жил тогда в гостинице «Ялта», позвали к телефону. Звонил Чехов. Бунин вспоминает:
«Подхожу и слышу:
– Милодарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.
– Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?
– Влюблен.
– Это хорошо, но уже десятый час. И потом – вы можете простудиться…
– Молодой человек, не рассуждайте-с!
Через десять минут я был в Аутке. В доме, где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где для него протекло столько одиноких зимних вечеров.
– Чудесная ночь! – сказал он с необычайной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. – А дома – такая скука! Только и радости, что затрещит телефон да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Ореанду.
Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:
– Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.
– Почему семь? – спросил я.
– Ну, семь с половиной.
– Вы грустны сегодня, Антон Павлович, – сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.
Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но, когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.
– Это вы грустны, – ответил он. – И грустны оттого, что потратились на извозчика.
А потом серьезно прибавил:
– Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам…
Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим».[581]
Другого молодого писателя, с которым Чехов познакомился примерно в то же время, что и с Буниным, Александра Куприна, прежде всего поразило лицо писателя, «лицо, которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я видел, – вспоминал впоследствии Куприн, – самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни».[582] Хотя признавался, что по первому впечатлению «почти высокого роста», худощавый, но широкий в костях, несколько суровый на вид, не болезненный, но со слабой походкой – точно на немного согнутых коленях, Чехов показался ему похожим то ли на земского врача, то ли на учителя провинциальной гимназии. А о духовном мире Антона Павловича Куприн написал так: «…мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения.
Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости – от всего ужаса и темноты современных будней».[583]
Работал Чехов главным образом по утрам. О своем писательском труде говорил крайне сдержанно, редко делился планами, никогда не называл себя «художником». Кроме того, по наблюдениям Куприна, он никогда не жаловался на здоровье, считая, что порядочный человек не имеет права докучать ближним своими несчастьями. Чем сильнее он страдал, тем больше старался казаться бодрым. Если мать или сестра заставали его сидящим в кресле и пугались того, что глаза у «Антоши» закрыты, а черты лица искажены, он тут же принимался заверять родных, что это пустяки – «просто голова немножко болит». Ненавидел гримасы, вопли, трагедии, избегал людей, склонных давать спектакли. Настолько же, насколько он любил жизнь на театральной сцене, он ненавидел все, что напоминало театр в жизни. Авторитет Чехова и его популярность были так велики, что к нему ежедневно приходили – кто попросту взглянуть на знаменитость, а кто за помощью – десятки людей. «Около полудня и позднее, – пишет Куприн, – дом его начинал наполняться посетителями. В то же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры – и Бог знает, кто еще».[584]
Некоторые из посетителей пытались убедить Чехова в том, что он должен заняться политической деятельностью. По многолетней привычке он уклонялся от ответа или говорил, что писатель должен заниматься только литературой. А когда гость настаивал на своем, то бросал свою любимую фразу: «Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция».[585] Однако с приходом весны 1901 года Россию снова потрясла серия актов насилия. Вследствие того, что Толстой высказывался в пользу преследуемых религиозных сект, его постановлением Священного Синода отлучили от церкви. Подобный средневековый приговор вместо того, чтобы сделать Толстого менее популярным, наоборот, еще шире распространил его влияние как в России, так и за ее рубежами. По улицам Москвы и Санкт-Петербурга прошли демонстрации, собиравшие огромные толпы народу. Новые законы, ограничивающие университетские вольности, спровоцировали беспорядки в студенческой среде. 4 марта перед Казанским собором в Санкт-Петербурге конные казаки пошли в наступление на мятежников. Многие студенты были убиты. Горький, который присутствовал при этом событии, позже, как вспоминает Мария Павловна, «в письме к брату… нарисовал жуткую картину избиения нагайками студентов, публики и офицеров, заступавшихся за избиваемых», прислал Чехову поистине драматический отчет: «Следственное производство по делу о 4-м марта установило точные цифры избитых: мужчин 62, женщин 34, убито – 4: технолог Стеллинг, медик Анненский, курсистка и старуха задавлены лошадьми. Полиции, жандармов и казаков ранено 54. Это за время минут 30–40, не больше! Судите же сами, какая горячая была схватка! Я вовеки не забуду этой битвы! Дрались дико, зверски, как та, так и другая сторона. Женщин хватали за волосы и хлестали нагайками, одной моей знакомой курсистке набили спину, как подушку, досиня, другой проломили голову, еще одной выбили глаз. Но хотя и рыло в крови, а еще неизвестно, чья взяла».[586] А Ольга, которая в это самое время находилась на гастролях в Санкт-Петербурге, назвав день 4 марта «треволнительным», рассказывала: «Здесь страшные студенческие беспорядки. Опять казаки, нагайки, убитые, раненые, озверелые, все, как быть должно… Настроение в обществе ужасное. В Москве тоже кровопролитие, почище этого, говорят…»[587]
Чехов, следя за событиями, сохранял полное спокойствие и, верный своему правилу быть сдержанным в отношении политических реалий, не подписывал никаких петиций, не публиковал никаких статей в защиту взбунтовавшихся студентов. Даже Ольге он ответил так: «Получаю письма из Питера и из Москвы, довольно зловещие, читаю с отвращением газеты». И – все на эту тему. Дальше, после новостей о погоде в Ялте: «Ну, дуся, славная моя актрисочка, до свидания. Целую тебя крепко. Пиши, не покидай меня. Твой мужчинка».[588]
Однажды, сидя с Буниным у себя в кабинете, Антон Павлович неожиданно сказал гостю: «Знаете, я женюсь…»
«И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой…
Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, – вспоминает Бунин, – но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна – актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: да это самоубийство! хуже Сахалина, – но промолчал, конечно».[589]
Теперь Чехов надеялся, что Ольга приедет в Ялту после весенних гастролей Художественного театра в Санкт-Петербурге, а она настаивала на том, чтобы, наоборот, он встретился с ней в Москве. Поскольку с его стороны так и не заходила речь о женитьбе, актриса решила сделать вид, что сердится. Все наши общие друзья, писала она, открыто обсуждают нашу будущую свадьбу, только он один словно бы не верит, что это возможно. Неужели он думает, что она способна вечно довольствоваться тайными встречами? Нет, она хочет любить и быть любимой так, чтобы все об этом знали. Она хочет делить с ним жизнь. Носить его фамилию – по крайней мере по паспорту, потому что на сцене она, разумеется, должна остаться Ольгой Книппер. В любом случае она отказывается приехать на Пасху в Ялту и играть там роль тайной любовницы Антона под подозрительными взглядами его матери и его сестры. «Ты ведь помнишь, как тяжело было летом, как мучительно. До каких же пор мы будем скрываться? И к чему это? Мне кажется, ты меня больше не любишь так, как раньше, и все, чего тебе хочется, – чтобы я приехала сюда, была рядом с тобой».
На этот раз Чехов понял, что, упорствуя в своем отказе жениться, он рискует потерять единственную женщину, которую любил по-настоящему. А ведь ему оставалось так мало жить! Должен ли он лишить себя последней радости, чтобы остаться верным принципу независимости? И разве не сумеет он сохранить, женившись, внутреннее спокойствие, необходимое ему, чтобы писать?
Все эти размышления подтолкнули его к капитуляции. 16 марта он пишет Ольге: «Мне так надоело рыскать, да и здравие мое становится, по-видимому, совсем стариковским – так что ты в моей особе получишь не супруга, а дедушку, кстати сказать. Я теперь целые дни копаюсь в саду, погода чудесная, теплая, все в цвету, птицы поют, гостей нет, просто не жизнь, а малина. Я литературу совсем бросил, а когда женюсь на тебе, то велю тебе бросить театр, и будем вместе жить, как плантаторы. Не хочешь? Ну, ладно, поиграй еще годочков пять, а там видно будет».
Ольга тем временем на гастролях Художественного театра в Санкт-Петербурге ведет жизнь, полную блеска и лести. «Три сестры», раскритикованные в прессе, пользуются у публики огромным успехом. Один за другим устраиваются ужины и приемы в честь труппы, и все это очень радует жадную до жизни женщину. «Вчера состоялся обед писателей у Контана, – пишет она Антону Павловичу. – Было человек 150. На наших приборах лежали цветы и золотые жетоны от О.Н. Поповой – в форме лиры: с одной стороны написано: „Спасибо за правду! Петерб.“, год и число, на другой – фамилия. Места всем были записаны. Я сидела на самом почете <…> в гладком черном бархатном платье с кружевным воротничком и причесана у парикмахера – тебе это интересно или нет?»[590] А следующие дни Ольга с друзьями провела в Финляндии, где они катались на лыжах, играли в снежки, – словом, развлекались, как школьники на каникулах.
Вернувшись в Москву после такой суматошной жизни, Книппер возобновила свои матримониальные атаки на Чехова. Может быть, она внутренне упрекала себя за то, что немножко забыла о Чехове, пируя в столице? Как бы там ни было, но в момент, когда он нехотя стал готовиться к поездке в Москву, она – сияющая и уверенная в себе – сама отправилась в Ялту.
Но пробыла там всего две недели и, как ни старалась, не сумела добиться от Чехова, чтобы тот назначил точную дату их свадьбы. Эта странная ситуация возмутила ее, и она, едва вернувшись в Москву, написала Антону Павловичу, что покидала его «с горечью во рту». И на этот раз просто приказала как можно скорее приехать в Москву и жениться на ней.
Чехов, устав сопротивляться, сдался со странным ощущением, будто все, что с ним происходит, одновременно и необходимость и несчастье. Словно он идет ко дну, погружается в неизвестность. «Собака Олька! – пишет он невесте. – Я приеду в первых числах мая. <…> Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания, и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатить бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде. Подумай, подумай, дуся! Ведь ты, говорят, умная». И добавляет ближе к концу письма: «У меня все в порядке, все, кроме одного пустяка – здоровья».[591]
Действительно, уже неделю его одолевал сильный кашель, но тем не менее решение было принято и обещание следовало сдержать. «В начале мая, в первых числах, я приеду в Москву, мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся – это как найдешь более удобным. Сядем на пароход в Ярославле или в Рыбинске и двинем в Астрахань, отсюда в Баку, из Баку в Батум. Или не хочешь так? Можно и так: по Северной Двине в Архангельск, на Соловки. Что выберешь, туда и поедем. Затем всю большую часть зимы я буду жить в Москве, с тобой на квартире. Только бы не киснуть, быть здоровым. Мой кашель отнимает у меня всякую энергию, я вяло думаю о будущем и пишу совсем без охоты. Думай о будущем ты, будь моей хозяйкой, как скажешь, так я и буду поступать, иначе мы будем не жить, а глотать жизнь через час по столовой ложке».[592] И – несколько дней спустя: «Милая моя дуся, я переночевал в Форосе только одну ночь, соскучился там и заболел. А сегодня, как нарочно, холодно, облачно. Я сижу у себя в кабинете безвылазно и, за неимением других занятий, занимаюсь только тем, что думаю и кашляю. Не сердись на меня, дуся, за такое мое поведение, не наказывай меня невеселыми мыслями. Скоро, скоро увидимся. Я выеду из Ялты 5 мая или, самое позднее, – 10-го, смотря по погоде. Затем поедем на Волгу, одним словом, будем делать все, что ты только пожелаешь. Я в твоей власти».[593]
11 мая 1901 года Чехов приехал в Москву и остановился в гостинице «Дрезден». Но, настроенный еще более враждебно, чем всегда, против всяких обсуждений своих матримониальных планов, не говорил о них ни с кем. Не удостоил доверия даже Машу и Ивана, которые в это время были в городе. И только 20 мая, когда сестра отправится в Ялту к матери, он напишет ей туда, что по совету доктора должен немедленно ехать на кумыс[594] в Уфимскую губернию. «Ехать одному скучно, – писал он, – жить на кумысе скучно, а везти с собой кого-нибудь было бы эгоистично и потому неприятно. Женился бы, да нет при мне документа, все в Ялте в столе…»[595]
На самом деле по просьбе Ольги документы он взял с собой в Москву, следовательно, ничто уже не могло помешать бракосочетанию. Но Чехов по-прежнему не желал никаких сентиментальных проявлений вокруг этой процедуры и, чтобы получше обмануть всех, попросил актера Вишневского заказать от его имени на 25 мая – то есть день венчания – торжественный обед, на который были приглашены родители и друзья молодых. Даже не подозревая, по какой причине их всех пригласили, гости собрались в ресторане и терпеливо ждали, когда же появятся Ольга и сам Антон Павлович. А они в это время венчались в маленькой московской церкви. Единственные, кто при этом присутствовал, были необходимые для церемонии четверо свидетелей: со стороны невесты – ее брат и дядя, со стороны жениха – два никому не известных студента. Обвенчавшись, молодожены быстренько съездили к матери Ольги, чтобы попрощаться с ней, а потом отправились на вокзал и сели в поезд, идущий в Нижний Новгород: это была первая остановка в их свадебном путешествии. Перед отъездом Чехов отправил две телеграммы: Вишневскому – чтобы объявить ему, что женился, пока приглашенные ожидали его в ресторане, и матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовский. Здоровье лучше. Антон».[596]
Молодые ненадолго задержались в Нижнем Новгороде, чтобы повидаться там с Горьким, который отбывал под полицейским надзором домашний арест в связи с его участием в мартовских волнениях молодежи. Затем они спустились вниз по Волге, свернули на Каму, потом на реку Белую и, наконец, прибыли в Аксеново, находившееся неподалеку от Уфы, где сняли две комнаты в санатории. По приезде Чехов получил телеграмму от матери, благословившей его, а от Маши – ничего. Молчание сестры его тревожило: наверное, она взбешена тем, что Антон скрывал от нее свои намерения до самого конца. И назавтра же он написал ей, желая оправдаться: «Здравствуй, милая Маша! Все собираюсь написать тебе и никак не соберусь, много всяких дел, и, конечно, мелких. О том, что я женился, ты уже знаешь. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже Бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор. <…>
Здоровье мое сносно, даже пока хорошо; кашель уменьшился, почти нет его. В конце июля я буду в Ялте, где проживу до октября, а потом в Москву – и там до декабря, потом опять в Ялту. Стало быть, с супругой своей придется жить в разлуке – к этому, впрочем, я уже привык».[597]
Прошел еще день, и Антон Павлович получил письмо от сестры, датированное 24 мая – вероятно, оно шло так долго, поскольку Чехов в это время не имел постоянного адреса. Письмо это было ответом на его послание от 20 мая, в котором он намекал – насмешливым, как мы помним, тоном – на то, что, возможно, женится. Мария Павловна, как он и опасался, приняла намек в штыки: «Теперь позволь мне высказать свое мнение насчет твоей женитьбы. Для меня лично свадебная процедура ужасна! Да и для тебя эти лишние волнения ни к чему. Если тебя любят, то тебя не бросят, и жертвы тут никакой нет, эгоизма с твоей стороны тоже нет ни малейшего. Как это тебе могло прийти в голову? Какой эгоизм?! Окрутиться же всегда успеешь. Так и передай своей Книпшиц.[598] Прежде всего нужно думать о том, чтобы ты был здоров. Ты, ради Бога, не думай, что мною руководит эгоизм. Ты для меня был всегда самым близким и дорогим человеком, и, кроме счастья, я для тебя ничего другого не желаю. Был бы ты здоров и счастлив – для меня больше ничего не надо. Во всяком случае, действуй по своему усмотрению, быть может, я и пристрастна в данном случае. Ты же сам воспитал меня быть без предрассудков!.. Боже мой, как тяжело будет прожить без тебя целых два месяца, да еще в Ялте! Если бы ты позволил мне навестить тебя на кумысе, хотя бы на одну недельку!» И заканчивает Мария письмо таким вот постскриптумом, где уже вовсю бушует ее обиженная сестринская любовь: «Если ты не скоро ответишь мне на это письмо, то мне будет больно. Кланяйся „ей“».[599]
Чехов был растерян: если Маша так плохо восприняла одну только мысль о том, что брат может жениться на Ольге, как станет она страдать, узнав, что дело сделано! Угрызения совести заставили его попытаться смиренно объяснить непримиримой сестре, как все произошло. 4 июня он писал Марии Павловне, что не знает, совершил ошибку или нет, но главные причины его женитьбы следующие: во-первых, ему уже больше сорока лет, а во-вторых, Ольга из хорошей семьи; «…если понадобится разойтись с ней, – продолжает он, – то я разойдусь ничтоже сумняшеся, как будто я не женился; ведь она самостоятельный человек и живет на свои средства».[600] А заканчивает заявлением о том, что, стало быть, важно сказать себе: эта женитьба не изменила ни его образа жизни, ни образа жизни тех, кто жил и продолжает жить вместе с ним, все останется в точности так, как раньше, и он будет по-прежнему жить один в Ялте.
И чтобы доказать Марии, насколько она незаменима для него, он посылает ей телеграмму с приглашением приехать к ним – это в самом-то разгаре медового месяца! – и совершить втроем романтическое путешествие по Волге.
Вот так – между прочим – узнав о женитьбе брата, Мария Павловна впала в трагическое отчаяние, к которому примешивался гнев от того, что она осталась в стороне от событий, и сожаление о том, что послала брату чересчур жестокое письмо.
«Хожу и все думаю, думаю без конца, – писала она 28 мая. – Мысли у меня толкают одна другую. Так мне жутко, что ты вдруг женат! Конечно, я знала, что Оля, рано или поздно, сделается для тебя близким человеком, но факт, что ты повенчан, как-то сразу взбудоражил все мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших будущих отношениях с Олей. И вдруг они изменятся к худшему, как я этого боюсь… Я чувствую себя одинокой более чем когда-либо. Ты не думай, тут нет никакой с моей стороны злобы или чего-нибудь подобного, нет, я люблю тебя еще больше, чем прежде, и желаю тебе от всей души всего хорошего, и Оле тоже, хотя и не знаю, как у нас с ней будет, и теперь пока не могу отдать себе отчета в своем чувстве к ней. Я немного сердита на нее, почему она мне ровно ничего не сказала, что будет свадьба, не могло же это случиться экспромтом. Знаешь, Антоша, я очень грущу и настроение плохое… Видеть хочу только вас и никого больше, а между тем все у всех на глазах, уйти некуда.
Пока я еще никому не говорю, хотя по городу слухи уже носятся. Конечно, скрывать уже нечего. Когда получили от тебя телеграмму, мать от неожиданности как-то остолбенела, потом с ней сделалась медвежья болезнь, но вскоре она совершенно оправилась и теперь удивляет меня своим спокойствием. <…>
Напиши, умоляю тебя, о себе. Как ты себя чувствуешь и как твое здоровье? Хорошо ли на тебя действует кумыс? Я теперь ожидаю только почты. Как далеко вы живете от Ялты! <…> Будь здоров и счастлив, кланяйся Оле. Твоя Маша. Попроси Олю написать мне».[601] Но одновременно Ольге Марией Павловной было послано вовсе не дружелюбное письмо: «Ну, милая Олечка, тебе только одной удалось окрутить моего брата! Уж как крепился, не поддавался человек, но судьба пришла и кончено!»[602]
Мария Павловна и на самом деле чувствовала себя дважды преданной: братом и лучшей подругой. Эти два человека, каждый со своей стороны избравшие ее своей наперсницей, сыграли свадьбу, не посоветовавшись с ней! Теперь есть женщина, которая заменит Машу Антону, и Антон заменит ее, сестру, другой женщиной. Проигрыш на двух досках сразу. Отлученная от их личной жизни, она уже не знала, кому доверять, чему доверять… И ни секунды не думала воспользоваться странным предложением брата втроем совершить свадебное путешествие. А тут еще газеты объявили о женитьбе Чехова, и она не устояла, уж очень хотелось уколоть «соперницу» – она и сделала это, воспользовавшись как предлогом опубликованными в «Новостях дня» фотографиями новобрачных. «Кто из вас знаменитей, ты или Книпшиц? – спросила она брата. – Ее изобразили в костюме из „Дяди Вани“, а тебя в пенсне».
А когда Ольга прислала ей письмо с нежными упреками, она ответила не ей, но брату, оправдываясь за свои горькие слова: «Милый Антоша, Оля пишет мне, что ты очень огорчился моим письмом. Прости меня, что я не сумела сдержать своего тревожного настроения. Мне казалось, что ты поймешь меня и простишь. Это первый раз, что я дала волю своей откровенности, и теперь каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты женился на другой, а не на Книпшиц, то, вероятно, я ничего не писала бы тебе, а уже ненавидела бы твою жену. Но тут совсем другое: твоя супруга была мне другом, к которому я успела привязаться и пережить уже многое. Вот и закопошились во мне разные сомнения и тревоги, быть может, напрасные и преувеличенные, но зато я искренне писала все, что думала. Оля мне сама рассказывала, как ей трудно было пережить женитьбу своего старшего брата, и, мне кажется, она скорее всего могла понять мое состояние и не бранить меня. Во всяком случае, мне очень неприятно, что огорчила вас, больше никогда, никогда не буду.
Теперь я чувствую себя хорошо. В доме все благополучно и все веселы, ждут вас. Я не приеду к вам, а буду ждать вас с нетерпением. <…> Так не сердись же на меня и знай, что тебя и Олю я люблю больше всех на свете».[603]
Что же получилось? Посвятив лучшие годы жизни брату, возможно, отказавшись от замужества ради того, чтобы оставаться рядом с ним, заниматься его делами, вести его хозяйство, следить за его здоровьем, Мария Павловна внезапно поняла, что счастье уплыло из ее рук. Она не заслужила даже благодарности – как простая служанка. Пусть Антон утверждал, что ничего в их отношениях не изменится, она-то знала, что брат уже не принадлежит ей. Пока Ольга была всего лишь любовницей Чехова, Мария сохраняла свою привилегированную роль в семье, но, возведенная в ранг «супруги», та непременно отнимет у золовки все. Вопреки тому, что думает Антон, бесконечно нежные и ничем не заменимые узы, соединявшие брата и сестру до сих пор, будут порваны. Он отдалится. Она его уже потеряла. И, наверное, навсегда. В отчаянии Мария Павловна обращается к Бунину с исповедью – ведь сколько раз убеждалась, насколько он деликатен, какая верная у него интуиция, да вроде бы он к ней еще к тому же и не совсем равнодушен. Пишет ему, что настроение ужасное, такое ощущение, будто жизнь рухнула, и все – из-за женитьбы брата, произошедшей так внезапно. Пишет, что в течение долгого времени не могла прийти в себя, так ее поразило поведение Ольги: зачем та позволила, чтобы больной человек испытал подобное потрясение, да еще в Москве? Правда, выражает надежду, что все как будто кончилось благополучно, а в конце письма – наивно набивая себе цену – заявляет корреспонденту, что и сама хотела бы выйти замуж, более того, просила Ивана Алексеевича найти ей «богатого и щедрого» мужа. Но потом опять возвращалась к тому же: писать не хочется, лучше бы поговорить, а он пусть пишет ей как можно чаще, потому что она совершенно убита из-за Антоши и Олечки.
А Чехов тем временем влачил однообразное существование «курортника». Санаторий оказался чуть ли не хибарой без всяких удобств, зато был хорошо расположен: между дубовой рощей и степью. Общаться здесь можно было только с чрезмерно озабоченными своим здоровьем чахоточными или с невежественными башкирами. Даже присутствие Ольги рядом не могло примирить его с этой дырой, в такой глуши и любимая жена не могла развеселить его. 9 июня он сообщил Соболевскому, что вдруг женился и, более того, привык или почти привык к своему новому положению, при котором лишен кое-каких прав и привилегий, что чувствует себя хорошо, а жена его – замечательная особа, совсем не глупа и с прекрасной душой, но прошло несколько дней, и вот он тому же приятелю своему пишет уже совсем иначе: чувствую себя как в штрафном батальоне, невыносимо скучаю и мечтаю сбежать…
Однако в любом случае, пока Чехов лечился в Аксенове, он физически чувствовал себя гораздо лучше. Приходилось с отвращением[604] пить по четыре бутылки кумыса в день, но зато он на глазах толстел и почти не кашлял. Вообще-то намечено было провести в санатории два месяца, но к концу первого Антон Павлович запросил пощады. И 30 июня объявил Бунину своим обычным шутливым тоном, что завтра уезжает в Ялту, куда и просит прислать ему поздравление с законным браком. Впрочем, писал Чехов, вы, наверное, знаете, что я женился, вот только не знаете, что уже собираюсь развестись: ищу адвокатов.
8 июля 1901 года после недельного путешествия Чехов с женой прибыли в Ялту. Мать и сестра Антона Павловича встретили их со смешанным чувством нежности и смущения, любопытства и робости.
Глава XIV Любовь по почте
Едва войдя в семью, Ольга решила показать, что теперь она не любовница, которую кое-как терпят, а жена с неоспоримыми правами. Германские предки наградили ее любовью к порядку, и она с трудом выносила безалаберную жизнь, которая нравилась мужу. С безмолвного согласия матери и сестры его лечение шло вопреки всякому здравому смыслу, он не соблюдал правил диеты, ел когда придется и что придется. Ни та ни другая не решалась критиковать привычки старого холостяка. Настало время все изменить. Для Ольги, вероятно, Чехов был не только великим человеком, но и маленьким мальчиком. Применяя власть, которую не назовешь иначе, чем материнской, она заставляла его чаще менять белье, регулярно чистить одежду и обувь, мыть голову, подстригать волосы и бородку прежде, чем он обрастет, как неандерталец. Поскольку Антон Павлович страдал от болей в желудке, Ольга приказала установить новый режим питания в доме – строго соблюдая часы приема пищи, стала давать мужу слабительное. Мать Антона, привыкшая царствовать среди кастрюль на кухне, была обижена вторжением туда новой хозяйки. Мария Павловна, которая долгие годы с любовью заботилась о здоровье брата, со своей стороны обижалась, что у нее забрали роль сестры милосердия. Для этих двух женщин, хранительниц домашней традиции, допускавшей послабления режима, Ольга стала захватчицей, нарушительницей спокойствия, узурпаторшей с невыносимыми претензиями. Начались споры, ссоры, взрывы праведного гнева, и это повторялось так часто, что Ольга пригрозила уехать и увезти с собой Антона. А для Чехова не было ничего ненавистнее сцен. Измученный происходящим, он старался успокоить всех трех женщин, в которых взыграло оскорбленное самолюбие, сгладить противоречия, прекратить распри. Но и тихая война за обладание единственным мужчиной утомляла его, поэтому, когда 20 августа 1901 года Ольга уехала в Москву одна – пора было приступать к репетициям в Художественном театре, он почувствовал сразу и отчаяние, и облегчение. И когда жена в одном из писем призналась совершенно искренне, что ревнует его к матери и сестре, он ответил с пониманием и терпением: «Спасибо тебе, моя радость, мать очень обрадовалась твоему письму; прочла и потом дала мне, чтобы я прочитал ей вслух, и долго хвалила тебя. То, что ты пишешь о своей ревности, быть может, и основательно, но ты такая умница, сердце у тебя такое хорошее, что все это, что ты пишешь о своей якобы ревности, как-то не вяжется с твоею личностью. Ты пишешь, что Маша никогда не привыкнет к тебе и проч. и проч. Какой все это вздор! Ты все преувеличиваешь, думаешь глупости, и я боюсь, что, чего доброго, ты будешь ссориться с Машей. Я тебе вот что скажу: потерпи и помолчи только один год, только один год, и потом для тебя все станет ясно. Что бы тебе ни говорили, что бы тебе ни казалось, ты молчи и молчи. Для тех, кто женился и вышел замуж, в этом непротивлении в первое время скрываются все удобства жизни. Послушайся, дуся, будь умницей! <…> Целую и обнимаю мою старушку. Да хранит тебя Бог. Еще немножко – и мы увидимся. Пиши, дуся, пиши! Кроме тебя, я уже никого не буду любить, ни одной женщины. Будь здорова и весела. Твой муж Антон»[605]
То есть не сестре и не матери, а именно жене Чехов предлагал быть разумной и терпеливой при всех недоразумениях, которые происходили между женщинами. Впрочем, в то же лето он отдал Ольге письмо, предназначенное Марии, которое следовало передать той после его смерти. Это было завещание.
«Марии Павловне Чеховой.
Милая Маша, завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне – дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи, Ивану – пять тысяч и Михаилу – три тысячи. Алексею Долженко – одну тысячу и Елене Чеховой (Леле), если она выйдет замуж, – одну тысячу рублей. После твоей смерти и смерти матери все, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряжение Таганрогского городского управления на нужды народного образования, доход же с пьес – брату Ивану, а после его, Ивана, смерти, – Таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию. Я обещал крестьянам села Мелихова сто рублей – на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко (Харьков, Москалевка, свой дом) платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно.
3 августа 1901 г.
Антон Чехов».[606]Из завещания видно, что сестре оставлено больше, чем жене. Это объясняется тем, что Чехов знал: Ольга не будет нуждаться, потому что как актриса она хорошо зарабатывает. Но, разлученный с женой после трех месяцев совместной жизни, он страдает оттого, что не может выразить свою любовь к ней никак иначе, чем с пером в руке. Они шлют друг другу письма каждые два дня, и в этих письмах печаль, нежность и желание перемежаются с более чем прозаическими подробностями: «Собачка, милый мой песик, письмо твое только что получил, прочитал его два раза – и целую тебя тысячу раз. План квартиры мне нравится, покажу Маше (она уехала провожать на пароход Дуню Коновницер), только почему ты поместила „кабинет Антона“ рядом с учреждением? Хочешь быть бита?
Отвечаю на твои вопросы. Сплю прекрасно, хотя страшно скучно спать одному (привык!), ем много, говорю целый день с гостями. Кефир пью каждый день, со вкусом, „кишочки“ пока ничего себе, шеи одеколоном не вытираю – забыл. Вчера мыл голову».[607] В другой раз он напишет ей: «Без тебя мне очень скучно. Я привык к тебе, как маленький, и мне без тебя неуютно и холодно».[608] Или еще: «Без тебя мне так скучно, точно меня заточили в монастырь. А что будет зимой, представить не могу!»[609] Когда Ольга захотела взять кошку в новую квартиру, он сначала запротестовал, так как терпеть не мог этих животных, и предложил взять собаку, но тут же и изменил мнение: «Ты пишешь про кошку Мартина, но – бррр! – я боюсь кошек. Собак же уважаю и ценю. Вот заведи-ка собаку! Кошку держать нельзя, скажу, кстати, потому что наша московская квартира на полгода (почти) будет оставаться пустой. Впрочем, дуся моя, как знаешь, заводи хоть крокодила; тебе я все разрешаю и дозволяю и готов даже спать с кошкой».[610]
Не прошло и месяца со дня, когда они расстались, а Антон Павлович уже поехал к жене в Москву, где зима обещала быть холодной и ветреной. Мария и Ольга вместе сняли большую квартиру с рабочим кабинетом для писателя. Он был счастлив увидеть, что вроде бы жена с сестрой теперь уживаются более мирно. Но он жаждал как можно больше времени проводить с Ольгой наедине, а приходилось делить ее с театром: Книппер, обожающая свою профессию, мечтала стать первой актрисой в труппе. Репетиции продолжались каждый день по шесть часов, иногда заканчивались только поздно ночью, а молодая женщина, которую Бог наделил невероятным количеством радостной энергии, находила еще возможности побывать на светских приемах, от которых была без ума. Возвращаясь домой, кидалась обнимать мужа – своего дорогого «русского Мопассана», как она его называла. И эти несколько минут близости, которые она ему таким образом дарила, создавали у него ощущение непомерного, но хрупкого счастья.
В ту осень Художественный театр репетировал «Три сестры». Забравшись в уголок зрительного зала, Чехов, как обычно, делал замечания исполнителям и критиковал излишнюю реалистичность мизансцен. Так, например, он потребовал, чтобы убрали голубиное воркование, которое раздавалось в момент, когда поднимался занавес, и которое изображали актеры, спрятанные за кулисами. Однажды, как вспоминает Станиславский, он сказал артистам, окружившим его, но так, чтобы каждое слово донеслось до режиссера: «Послушайте! Я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так: „Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка“.[611] Это стремление сократить до минимума сценические эффекты раздражало Станиславского, который прежде всего был озабочен тем, чтобы удивить зрителей тщательной проработкой внешних деталей. И получалось так, что он перегружал пьесу дополнительными подробностями, а Чехов настаивал на том, чтобы они были сокращены до минимума, ибо только это поможет лучше обрисовать характеры персонажей. Первый смотрел на произведение снаружи, второй – изнутри. Тем не менее на представлении „Трех сестер“, открывших сезон 21 сентября, зрители ответили на спектакль бешеными овациями. А когда после конца четвертого акта на сцене появился автор, в зале началось настоящее безумие. „Три сестры“ идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон», – написал Чехов доктору Средину.[612]
Однако ритм московской жизни утомил Антона Павловича, и, посоветовавшись с доктором Щуровским, он был вынужден нехотя покориться его рекомендации уехать в Ялту. «Жена моя, к которой я привык и привязался, остается в Москве одна, и я уезжаю одиноким, – пишет он публицисту Миролюбову. – Она плачет, а я ей не велю бросать театр. Одним словом, катавасия».[613]
28 октября Чехов уже снова был в Ялте, приговоренный к тому, чтобы любить свою жену только в письмах. Уже на следующий день он буквально кричит ей о своей страсти: «Дуся моя, ангел, собака моя, голубчик, умоляю тебя, верь, что я тебя люблю, глубоко люблю; не забывай же меня, пиши и думай обо мне почаще. Что бы ни случилось, хоть бы ты вдруг превратилась в старуху, я все-таки любил бы тебя за твою душу, за нрав. Пиши мне, песик мой! Береги свое здоровье. Если заболеешь, не дай Бог, то бросай все и приезжай в Ялту, я здесь буду ухаживать за тобой. Не утомляйся, деточка. <…> Господь тебя благословит. Не забывай меня, ведь я твой муж. Целую крепко, крепко, обнимаю и опять целую. Постель кажется мне одинокой, точно я скупой холостяк, злой и старый. Пиши!!!»[614] И – несколько дней спустя: «С каким удовольствием я теперь поговорил бы со своей женой, потрогал бы ее за лоб, за плечи, посмеялся бы с ней вместе. Ах, дуся, дуся!»[615] Она отвечала на его стенания не менее страстно. Говорила, что после его отъезда постель не стала убирать, не могла: хотелось думать, что он еще здесь, рядом… «Целую тебя, Антонка мой, целую любовно, мягко, нежно… Пиши о здоровье, все, все пиши, я все понимаю. Как мне хочется прильнуть к тебе».[616] Или: «Вставать мне утром не хотелось, устала. Поворачиваюсь и каждый раз хочу увидеть мою милую белокурую физиономию и с грустью вижу спокойную белую постель. Вспоминаю, как мне было хорошо, тепло…»[617] Или еще: «По вечерам я думаю о тебе, вспоминаю, как я приезжала из театра и тихонько раздевалась, а ты уже спал и что-то бормотал. Холодно без тебя мне. Целую тебя крепко. Я чувствую всего тебя в твоих письмах. Целую и обнимаю. Твоя собака навеки».[618] Или еще: «Я тебя представляю во всех настроениях, со всяким выражением лица. Ужасно люблю вспоминать тебя, когда ты по утрам сидишь на кровати, после умывания, без жилета и спиной ко мне. Видишь, какие у меня грешные мысли, а бывают гораздо более грешные, о которых я молчу. Прости жену свою за безнравственность».[619] Между двумя любовными вздохами Ольга описывала мужу свои репетиции, светские успехи, туалеты, а он рассказывал ей о посетителях, о своих хворях, мелких происшествиях из холостяцкой жизни: выпил касторки, подстригся, кто-то разбил стоявшую у него на письменном столе чернильницу…
Из письма в письмо повторяется один и тот же вопрос: «Когда мы снова будем вместе?» Оба они так много думали об этом, что Ольгу стала мучить совесть. Когда она была любовницей Чехова, то не чувствовала морального обязательства проводить с ним дни и ночи. Но, став законной женой, она ведь обязана была, как ей казалось, посвятить всю себя счастью этого исключительного существа. Вероятно, и кое-какие речи окружающих, особенно – Марии, заставляли Ольгу считать себя виновной в том, что она не бросала сцену. Но ее желание играть, появляться в свете, нравиться было таким живым и сильным, что она не могла отказаться от всего этого и похоронить себя заживо в Ялте. Что делать? Пожертвовать ради театра мужем или театром ради мужа? Как всегда тактичный, Чехов не требовал от нее высказываться по этому поводу. Но он ведь был так одинок, так болен! «Мы так грешим, что не живем вместе! Ну да что об этом толковать!»[620] – писал он. И 6 ноября, доведенная до крайности, она признается ему в мыслях, которые не дают ей покоя: «Антонка, родной мой, сейчас стояла перед твоим портретом и вглядывалась, села писать и заревела. Хочется быть около тебя, ругаю себя, что не бросила сцену. Я сама не понимаю, что во мне происходит, и меня это злит. Неясна я себе. Мне больно думать, что ты там один, тоскуешь, скучаешь, а я здесь занята каким-то эфемерным делом, вместо того, чтобы отдаться с головой чувству. Что мне мешает?! <…> Во мне идет сумятица, борьба. Мне хочется выйти из всего этого человеком.
Мне кажется, я пишу так бессвязно, что ты и не поймешь. Но постарайся. Читай не только слова.
Как я вытяну эту зиму! Антонка, ты мне почаще пиши, что ты меня любишь, мне хорошо от этого. Я могу жить, только когда меня любят. Я пришла к этому убеждению.
Какой я слабый человек! Эх, Антон, Антон! Как много жизнь дает, и как мы мимо всего проходим! Самое для меня ужасное, когда я прихожу к убеждению, что я – полное ничтожество как человек. Это ужасно. Мне хочется прижаться к тебе, чтобы мне было тепло, любовно. Я бы поплакала по-хорошему у тебя на груди, такими хорошими слезами. Милый мой, я тебя люблю и буду любить. Я тебе не могу всего высказать, что у меня на душе.
Спи спокойно, дорогой мой. Не казни меня, что мы в разлуке – по моей вине».[621] Она явно просила его принять за нее решение, которое, как бы там ни было, раздирало ей душу. Но он слишком уважал независимость других людей, чтобы посоветовать жене променять блестящую жизнь в Москве на блаженное прозябание в Ялте. Поначалу он просто говорил ей, чтобы она как следует взвесила все «за» и «против». «Ты хочешь бросить театр? – писал Чехов. – Так мне показалось, когда я читал твое письмо. Хочешь? Ты хорошенько подумай, дусик, хорошенько, а потом решай что-нибудь. Будущую зиму я всю проживу в Москве – имей сие в виду».[622] А спустя четыре дня уточнял эту мысль – властно и самоотверженно: «Здравствуй, собака! Сегодня прочел твое слезливое письмо, в котором ты себя величаешь полным ничтожеством, и вот что я тебе скажу. Эта зима пройдет скоро, в Москву я приеду рано весной, если не раньше, затем всю весну и все лето мы вместе, затем зиму будущую я постараюсь прожить в Москве. Для той скуки, которая в Ялте, покидать сцену нет смысла».[623] Этот ответ вполне соответствовал новому состоянию духа Ольги. Помаявшись какое-то время из-за своих благородных чувств, она решила взглянуть на будущее более эгоистично. «Ты скоро мне будешь писать, верно, открытки, а потом просто присылать два слова: „Я живу“ или что-нибудь вроде этого, – писала Ольга мужу 4 декабря. – Лучше выругай меня, скажи, что ты недоволен жизнью, что я должна жить с тобой, вместе, а то на кой тебе такая нелепая жена. Я соглашусь. Конечно, я поступила легкомысленно. Я все надеялась, что твое здоровье позволит тебе провести хоть часть зимы в Москве. Да не выходит, Антончик мой! Скажи мне, что я должна делать. Без дела совсем я надоем тебе. Буду шататься из угла в угол и придираться ко всему. Я уже совсем отвыкла от праздной жизни и не так уже молода, чтобы в одну секунду сломать то, что мне досталось так трудно. Я чувствую массу укоризненных глаз на себе: отчего я не бросаю сцену, как я допускаю, что там один тоскуешь, etc… Все, все я знаю, милый мой, и оттого много молчу, и перед тобой в особенности. Не знаю, чего я и сейчас-то расписалась. Не сердись на меня и не волнуйся. В театре отрадного мало. Репертуар сужается адски: готовим всего 3-ю пьесу, и та неизвестно когда пойдет. Нескладно все».[624]
Всю осень Чехов прожил в надежде, что встретится с Ольгой в Москве в январе. Но в первую неделю декабря случился тяжелый приступ с кровохарканьем, уложивший его в постель. Поездка оказалась под угрозой. Но он всегда уважал право жены на свободу и, испугавшись, что она сочтет своим долгом примчаться к его изголовью, написал – не поднимаясь с подушек, несчастный – 11 декабря: «Сегодня мне гораздо легче. Кровохарканье было лишь утром, чуть-чуть, но надо все-таки лежать, ничего не ем и злюсь, так как нельзя работать. Бог даст, все обойдется. <…> Я тебя не жду на праздниках, да и не надо приезжать сюда, дусик мой. Занимайся своим делом, а пожить вместе мы еще успеем. Благословляю тебя, моя девочка».[625] Назавтра – то же: «Здоровье мое, твоими молитвами, гораздо лучше. Крови уже нет, я сижу у себя за столом и пишу тебе сие, сегодня обедал, т. е. ел суп.
Ты спрашиваешь, отчего я отдаляю тебя от себя. Глупо, деточка! <…> Дуся моя, не волнуйся, не сердись, не негодуй, не печалься, все войдет в норму, все будет благополучно, именно будет то, чего мы хотим оба, жена моя бесподобная. Терпи и жди».[626] Правда, на следующий день в письме уже звучат ностальгические нотки: «Ты пишешь, что 8-го декабря вечером была в подпитии. Ах, дуся, как я тебе завидую, если бы ты знала! Завидую твоей бодрости, свежести, твоему здоровью, настроению, завидую, что тебе не мешают пить никакие соображения насчет кровохаркания и т. п. Я прежде мог выпить, как говорится, здорово. <…> Я часто о тебе думаю, очень часто, как и подобает мужу. Ты, пока я был с тобой, избаловала меня, и теперь без тебя я чувствую себя, как лишенный прав. Около меня пусто, обеды жалкие, даже в телефон никто не звонит, а уж про спанье я и не говорю.
Крепко обнимаю мою актрисульку, мою пылкую собаку. Да хранит тебя Бог. Не забывай и не покидай меня. Целую сто тысяч раз».[627] А позже сообщает ей о том, что здоровье его медленно, но верно улучшается: «…ношу компресс на правом боку, принимаю креозот, но температура уже нормальная, и все обстоит благополучно. Скоро буду уже настоящим человеком».[628] Однако, набираясь сил, Антон Павлович начинает куда сильнее страдать от одиночества. И внезапно, не выдержав, он обращается к жене с отчаянным призывом: «Милая моя актрисуля, я жив и здоров, чего и тебе от Бога желаю. Кровохарканья нет, сил больше, кашля почти нет, только одна беда – громадный компрессище на правом боку. И как я, если б ты только знала, вспоминаю тебя, как жалею, что тебя нет со мной, когда приходится накладывать этот громадный компресс и когда я кажусь себе одиноким и беспомощным. <…> Я тебя люблю, песик мой, очень люблю и сильно по тебе скучаю. Мне даже кажется невероятным, что мы увидимся когда-нибудь. Без тебя я никуда не годен. Дуся моя, целую тебя крепко, обнимаю сто раз. Я сплю прекрасно, но не считаю это сном, так как нет около меня моей хозяечки милой. Так глупо жизнь проходит».[629] На этот крик о помощи Ольга ответила за два дня до Рождества: «Мне так мучительно думать, что я не могу быть около тебя, чтобы ухаживать, менять компресс, кормить тебя, облегчать тебе. Воображаю, как ты страдал! Даю тебе слово, что это последний год так, дорогой мой! Я сделаю все, чтобы сделать твою жизнь приятною, теплою, не одинокою, и ты увидишь, тебе будет хорошо со мной, и ты будешь писать, работать.
Ты меня в душе, вероятно, упрекаешь в недостатке любви к тебе? Правда? Упрекаешь за то, что я не бросаю театра, за то, что я не жена тебе! Воображаю, что думает обо мне твоя мать! И она права, права! Антон, родной мой, прости меня, легкомысленную дуру, не думай обо мне уж очень скверно. Ты раскаиваешься, наверное, что женился на мне, скажи мне, не бойся сказать мне откровенно. Я себе кажусь ужасно жестокой. Скажи мне, что мне делать?! Неужели это может случиться, что до весны мы не увидимся?!! Я буду упрашивать дирекцию отпустить меня хотя на два дня к тебе, чтобы так составляли репертуар. Как все мучительно, ужасно! Я ни о чем другом писать не могу, ничего в голову не лезет. И утешения не нахожу себе никакого.
Днем пустые комнаты, неуютно, из театра не хочется идти домой вечером. Ни любви, ни ласки вокруг меня, а я так жить не могу».[630]
На покаянное письмо жены Чехов ответил героическим самоотречением. Он думал так: разве имею я право, с этой мерзостью в теле, приковать к своему одру молодое и жадное до жизни существо? «Глупая ты, дуся, – писал он. – Ни разу за все время, пока я женат, я не упрекнул тебя за театр, а, напротив, радовался, что ты у дела, что у тебя есть цель жизни, что ты не болтаешься зря, как твой муж. <…> Не смей хандрить и петь лазаря! Смейся. Я тебя обнимаю и, к сожалению, больше ничего».[631] Однако на следующий же день, подумав о шумной радости здоровых людей, которым предстоит встречать Новый год, почувствовал себя таким заброшенным, что опять написал жене: «Завтра нарочно лягу спать в 9 час. вечера, чтобы не встречать Нового года. Тебя нет, значит, ничего нет и ничего мне не нужно».[632]
Пока он все глубже погружался в унылое бытие больного, все дольше просиживая в кресле, отрешенный, неподвижный, с закрытыми глазами, она в Москве вовсю наслаждалась подготовкой к праздникам. В каждом письме, расспросив сначала своего дорогого Антона о здоровье и пожаловавшись на тяжесть жизни в разлуке, она давала ему полный отчет о репетициях, спектаклях, концертах, ужинах, балах, на которых блистала. Словно бы извиняясь за то, что болен, он и сам уговаривал ее развлекаться: «Сегодня пришло сразу два письма, дусик мой. Спасибо! И мать получила письмо от тебя. Только напрасно ты плачешься мне, ведь в Москве ты живешь не по своей воле, а потому, что мы оба этого хотим. И мать на тебя нисколько не сердится и не дуется».[633] Единственное, чего опасался Антон Павлович, – как бы она не переутомилась. «Беспутная жена моя, посиди дома хоть одну недельку и ложись спать вовремя! Ложиться каждый день в 3–6 часов – ведь этак скоро состаришься, станешь тощей, злой».[634] Но она отказывалась прислушиваться к увещеваниям и даже не пыталась скрывать от мужа, тревоги которого ей льстили, своих проказ. Словно распущенная девочка-переросток, она делилась с супругом подробностями, объявляя ему в письме от 11 января: «После спектакля поехали обедать в „Эрмитаж“, и много смеялись. Я ухаживала за Константином Сергеевичем (Станиславским). Ты позволяешь? А потом – о ужас! – мы отправились в кабаре. Прости своей супруге, что она была у Омона, но в такой безвредной компании можно смело, да? Тебе ведь это не неприятно, нет? Скажи. А теперь я только хочу сказать, что люблю тебя и среди этого гвалта думала о той тихой, полной жизни, которую мы будем вести с тобой. Хочу поцеловать тебя, поласкать, муж мой милый. А сегодня письма не было. Твоя собака».
Мария Павловна, которая жила вместе с молодой женщиной, сурово осуждала ее поведение. Она была так предана брату, что простерла свое рвение до предела, став для Ольги кем-то вроде его доверенного лица. Таким образом получалось, что она все-таки не совсем изгой по отношению к супружеской чете. Ригористка в душе, она не могла одобрить ни Антона, державшего жену на длинном поводке, ни Ольгу, которая слишком широко пользовалась его снисходительностью. «Неужели ты опять хвораешь и опять кровохарканье? – писала она брату. – Когда я уезжала, я была почти уверена, что ты поправишься. Пьешь ли ты молоко? А мне скучно стало в Москве, особенно как прихворнула, все сижу одна, тоскую по вас, по дому, Олю почти не вижу. Вчера мы чуть не поссорились. Я не пускала ее на бал к Морозову, но она все-таки уехала и приехала только под утро. Сегодня, конечно, утомленная пошла на репетиции, а вечером еще играть…»[635]
Иногда Ольга упрекала Чехова в том, что он не приобщает ее к своему писательскому труду. Действительно, он подробно рассказывает жене в письмах о состоянии здоровья, о режиме, о любви, но проявляет сугубую сдержанность, стоит зайти речи о его литературных планах. Быть может, он больше не доверял ей? Считал неспособной разделить его горести и радости художника? Она хотела, подобно взломщику, проникнуть в его мир, и он забаррикадировался. «Из намеков Маши я поняла, что ты ей рассказывал о пьесе, которую ты задумал. Мне ты даже вскользь не намекнул, хотя должен знать, как мне это близко. Ну да Бог с тобой, у тебя нет веры в меня. Я никогда не буду спрашивать тебя ни о чем, не бойся, вмешиваться не буду. От других услышу. Будь здоров, ешь так же много, питай себя, выхаживай. Не грусти – скоро увидимся. Целую тебя. Твоя собака».[636]
«Какая ты глупая, дуся моя, какая ты дуреха! – отвечает он ей. – Что ты куксишь, о чем? Ты пишешь, что все раздуто и ты полное ничтожество, что твои письма надоели мне, что ты с ужасом чувствуешь, как суживается твоя жизнь и т. д. и т. д. Глупая ты! Я не писал тебе о будущей пьесе не потому, что у меня нет веры в тебя, а потому, что нет еще веры в пьесу. Она чуть-чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет, и я еще сам не понимаю, какая она, что из нее выйдет, и меняется она каждый день. Если бы мы увиделись, то я рассказал бы тебе, а писать нельзя, потому что ничего не напишешь, а только наболтаешь разного вздора и потом охладеешь к сюжету. Ты грозишь в своем письме, что никогда не будешь спрашивать меня ни о чем, не будешь ни во что вмешиваться; но за что это, дуся моя? Нет, ты добрая у меня, ты сменишь гнев на милость, когда опять увидишь, как я тебя люблю, как ты близка мне, как я не могу жить без тебя, моей дурочки. Брось хандрить, брось! Засмейся! Мне дозволяется хандрить, ибо я живу в пустыне, я без дела, не вижу людей, бываю болен почти каждую неделю, а ты? Твоя жизнь как-никак все-таки полна».
Ольга отказывалась поверить сказанному. Она была уверена, что Антон ведет с Толстым, с Горьким, с Буниным, со всеми своими друзьями-писателями беседы более возвышенные, чем с ней. И она не ошибалась.
Толстой и впрямь уже некоторое время жил в Крыму. После тяжелого приступа малярии врачи посоветовали ему уехать из Ясной Поляны, чтобы долечиваться под солнцем юга, у Черного моря. Приехав в специальном вагоне, он поселился в Гаспре, в нескольких километрах от Ялты, у графини Паниной, отдавшей в его распоряжение свой дворец, огромное здание в шотландском стиле, с двумя башнями по бокам, наполовину утонувшее в цветущих глициниях. С террасы открывался изумительный вид на парк и море.
12 сентября 1901 года Чехов впервые посетил семидесятитрехлетнего чародея в его роскошной резиденции в Гаспре. Перед визитом Антона Павловича одолевали сомнения, что надеть, поскольку ему не хотелось выглядеть ни чересчур элегантным, ни слишком небрежным. Перемерив чуть ли не весь свой гардероб, он остановился на строгом темном костюме и мягкой фетровой шляпе. Толстой же принял его одетым как всегда просто: в крестьянскую рубаху, на ногах – сапоги, на голове – белая широкополая войлочная шляпа. Были и другие встречи на террасе – сердечные и живые. Сидя за круглым одноногим столиком, держа в руке чашку с остывающим чаем, сгорбленный Толстой глядел на собеседника пронизывающим насквозь взглядом, тряс бородой и произносил речи, обличая одних, восхваляя других – каждый приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Чехов – с костлявыми плечами, в вечном своем печальном пенсне – устроившись напротив и положив шляпу на колени, барабанил кончиками пальцев по столу и пытался возражать, но в конце концов каждый оставался при своем мнении. Это был диалог одержимого пророка с любезным скептиком. Даже в литературе их взгляды совпадали далеко не всегда. Чехов забавлялся, слушая, как Толстой поносит Шекспира, который, как он считал, не написал ни одной хорошей пьесы, и писателей нового, молодого поколения, развлекавшихся, по убеждению великого старца, тем, что создавали пустые и вычурные творения. Между прочим, престарелый властитель дум не упускал случая задеть и драматургию своего гостя, упрекая его в том, что он не ставит никаких нравственных проблем и не дает никаких решений. Куда ведут ваши герои? Они мечутся между диваном, на котором лежат целыми днями, и чуланом, туда-сюда… Но зато Толстой утверждал, что в рассказах Чехову нет равных, называл его русским, очень-очень русским. В устах этого яростного националиста подобная похвала была знаком восхищения и признательности. Сергей Львович Толстой определял внимание Чехова к собеседнику во время их встреч как почтительный, но скептический интерес. В воспоминаниях, названных им «Очерки былого», сын Льва Николаевича пишет: «Он [отец] вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению». А Чехов, со своей стороны, говорил Бунину: «Чeм я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрeнием ко всeм нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрeнием, а тeм, что он всeх нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Отчего хвалит? Оттого что он смотрит на нас, как на дeтей. Наши повeсти, рассказы, романы для него дeтские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир – другое дeло. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не по-толстовски…»[637]
Толстому случалось поддразнивать гостя, который казался ему чересчур стыдливым. Как-то он спросил ни с того ни с сего: «Вы сильно развратничали в молодости?» А когда растерянный Чехов, теребя бородку, пробормотал в ответ нечто нечленораздельное, престарелый мэтр гордо объявил, что сам в былые годы был неутомимым бабником. И стал описывать подробности, пользуясь непечатными выражениями. Смущенный Чехов не понимал, как себя вести. Горький, наблюдавший за обоими, с горячностью отмечал этот контраст между ними, грубость, замешанную на бахвальстве, одного и болезненную застенчивость другого. Но он писал, что Толстой любил Чехова, что всегда, когда Лев Николаевич видел Антона Павловича, в глазах старика появлялась нежность, словно он ласкает взглядом лицо гостя. Ему, человеку кипучему и одержимому гордыней, отмечал Горький, казалось, будто Чехов напоминает скромную и безмятежную барышню (известно брошенное Толстым вслед Антону Павловичу, который шел по дорожке парка с Александрой Львовной, дочерью яснополянского мудреца: «Ах, какой милый прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто – чудесный!»).[638] А однажды осенью, после подобной же встречи втроем, Толстой запишет в дневнике: «Рад, что и Горький и Чехов мне приятны, особенно первый».[639]
Горький, арестованный за революционную деятельность, был потом отпущен на свободу, но ему было запрещено пребывание в Санкт-Петербурге и Москве. В связи с болезнью он получил разрешение жить в Крыму, но только не в Ялте. Тем не менее в течение недели он гостил у Чехова. Все это время становой то дежурил у ворот дома, то звонил по телефону, когда же Горький покинул Аутку, очередной раз позвонив, стал узнавать, куда отправился подозреваемый. А тот снял дачу в Олеизе, неподалеку от Гаспры, и поселился там с женой и детьми. С Чеховым они по-прежнему встречались часто, и дружба их все росла с каждой встречей. «А.М. здесь, здоров. Ночует у меня и у меня прописан. Сегодня был становой, – писал Антон Павлович жене. – …А.М. не изменился, все такой же порядочный, и интеллигентный, и добрый. Одно только в нем или, вернее, на нем нескладно – это его рубаха. Не могу к ней привыкнуть, как к камергерскому мундиру».[640] Что же до Горького, то он неустанно восхвалял знаменитого писателя, который презирал фимиам и при любых обстоятельствах оставался на равных с собеседником. «Мне кажется, – писал Горький, – что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для „пущей важности“, вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, как он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А.П. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни – ожидали от Антона, другие, более грубые, – требовали. Он не любил разговоров на „высокие“ темы – разговоров, которыми милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.
Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей».[641]
Горького особенно трогали скромность и любезность его великого собрата по перу, потому что он знал: Чехов обречен, жить ему остается недолго. С улыбкой стоика Антон Павлович продолжал принимать докучливых посетителей, сажать деревья, писать, лелеять планы путешествий – так, будто он надеялся в ближайшее же время выздороветь. Точно так же он никогда не жаловался на свою странную женитьбу на вечно отсутствующей актрисе. Замкнувшись в своей зябкой сдержанности, он внимательно выслушивал исповеди, но не исповедовался сам. А если когда-то и касался в беседах с Горьким политических вопросов, то всегда старался отстоять более светлую модель будущего. Убежденный марксист Горький мечтал о мировой революции, которая сметет с лица земли буржуазию и отдаст всю власть пролетариату. Человек нюансов, Чехов, наоборот, видел спасение своей страны в медленном преображении царского режима в просвещенный либерализм. Впрочем, он не был слишком высокого мнения о своих соотечественниках. Иногда задумывался даже о том, способны ли они вообще осознать величие родины. «Странное существо – русский человек! – сказал он однажды. – В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме „Новостей терапии“, не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни – простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони – об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них – собачья: бьют их – они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают – они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками».[642] Или еще: «Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет – еще лучше, и никто не заботится, чтобы это лучше наступило завтра. В общем – жизнь с каждым днем становится все сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди – заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни».[643]
Об этом же он говорил Бунину и Куприну, с которыми тоже встречался той зимой. «Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года, – вспоминает Бунин. – Видались мы тогда мельком, и я не упомянул бы об этом, если бы мне не запомнилось несколько очень характерных фраз его.
– Вы много пишете? – спросил он меня однажды.
Я ответил, что мало.
– Напрасно, – почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном. – Нужно, знаете, работать… Не покладая рук… всю жизнь.
И, помолчав, без видимой связи прибавил:
– По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем…»[644]
А как-то старший друг дал младшему совет: «Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед».[645]
Познакомившись с Леонидом Андреевым, чьи первые рассказы, одновременно реалистические и фантастические, имели некоторый успех у публики, Чехов почувствовал себя антиподом этого напыщенно и вычурно пишущего коллеги. «Прочитаю страницу Андреева – надо после того два часа гулять на свежем воздухе», – сказал он Бунину.[646] А Ольге, которую, как ему показалось, пленил талант молодого беллетриста, написал: «Леонида Андреева я читал еще в Москве, затем читал его, едучи в Ялту. Да, это хороший писатель; если бы он писал чаще, то имел бы большой успех. В нем мало искренности, мало простоты, и потому к нему привыкнуть трудно. Но все-таки рано или поздно публика привыкнет, и это будет большое имя».[647] В том же письме он рассказывает жене, что принимал касторку, что чувствует, будто отощал, сильно кашляет и ничего не делает. И действительно, за всю зиму он всего-то выправил и закончил небольшой рассказ «Архиерей», грустную историю о том, как жил, служил в церкви, а потом заболел, умер и был забыт хороший человек: «Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая теперь живет у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят…
И ей в самом деле не верили».[648]
Весь рассказ проникнут атмосферой традиционной для России религиозности, не похоже, что он написан скептиком, но напротив – человеком веры и молитвы.
Вертелся в голове у Чехова и план «Вишневого сада», но характеры персонажей и фабула пока ускользали от него. Зато он много читал: Бунина, Куприна, Горького, которому строго указывал на недостатки его произведений, даже Тургенева, слава которого казалась Антону Павловичу дутой. «Читаю Тургенева, – писал он Ольге. – После этого писателя останется 1/8 или 1/10 из того, что он написал, все же остальное через 25–35 лет уйдет в архив»,[649] – и страшно раздражался, когда некоторые критики упорно находили у него самого тургеневские мотивы.
Мысленно возвращаясь к прошлому, Чехов удивлялся, какое количество работы он добросовестно выполнял день за днем все эти годы. Его жизнь не отмечена грандиозными событиями, она отмечена рассказами, повестями, пьесами – как будто он написал ее, а не прожил. Теперь иногда из далекого прошлого возникали призраки. Одним из таких призраков былого внезапно стала Лика Мизинова. Она не состоялась как оперная певица, не стала открывать белошвейную мастерскую – растерянная и праздная, она утешалась выпивкой. Когда Мария Павловна из любезности пустила бывшую подругу к себе переночевать, потом пришлось долго проветривать квартиру, чтобы изгнать запахи табака и алкоголя. «Жаль ее!» – писала Маша брату. Ольга же, менее снисходительная, познакомилась с бывшей «прекрасной Ликой» на какой-то вечеринке. «Расскажи Маше про Лику. Я думаю, ее возьмут прямо в театр, в статистки, ведь учиться в школе ей уже поздно, да и не сумеет она учиться». И тут же сообщила об этом Чехову не без едкой иронии: «Лика была пьяна и все приставала ко мне выпить брудершафт, но я отвиливала, я этого не люблю. Она для меня совершенно чужой человек, я ее не знаю и особенного тяготения к ней не чувствую. Я заминала разговор, хотя, может, и выходило неловко, но я не могу зря пить брудершафт». Несколько недель спустя Книппер объявила Чехову о том, что Лика выходит замуж за Александра Санина, режиссера Художественного театра. Чехов ответил: «Лику я знаю давно, она, как бы ни было, хорошая девушка, умная и порядочная. Ей с Саниным будет нехорошо, она не любит его, а главное – будет не ладить с его сестрой и, вероятно, через год уже будет иметь широкого младенца, а через полтора года начнет изменять своему супругу. Ну да это все от судьбы». Сделав такое пессимистическое заключение, Антон Павлович перестал интересоваться жизнью молодой женщины. Женатый, влюбленный, больной, он больше не питал никакой склонности к галантным проказам прежних дней.
Явилось и еще одно видение из прошлого: Лидия Авилова. Известие о женитьбе Чехова пронзило ей сердце. Авилова написала в своих мемуарах, что, когда сестра принесла ей новость, она почувствовала сильную слабость, холодный пот выступил у нее на лбу, и она рухнула на первый попавшийся стул. Единственным для нее утешением стали недоброжелательные слухи о победившей «сопернице»: «Через некоторое время я возвращалась домой из Союза писателей, и меня провожал один из его членов. Фамилию его я забыла, – пишет мемуаристка.
– Я только что из Москвы, – говорил он, – и, между прочим, был у Чехова. Ведь вы с ним знакомы?
– Да, встречались.
– Вот… Он мне говорил… Он даже сказал, что хорошо знает вас. И очень давно. Спрашивал о вас. И у меня осталось впечатление, что он очень… да, очень тепло к вам относится.
Я молчала.
– Видел и его жену. Артистку Книппер.
– Понравилась?
Он сделал какой-то странный жест рукой.
– Артистка. Одета этак… – опять жест. – Движения, позы… Во всем, знаете, особая печать. Странно, рядом с Антоном Павловичем. Он почти старик, осунувшийся, вид болезненный… На молодожена не похож… Она куда-то собиралась, за ней заехал Немирович.
Опасаясь сплетен, я быстро перевела разговор на другую тему», – заканчивает эту часть воспоминаний Авилова, а дальше пишет, что ей женитьба Чехова, по размышлении, не показалась странной: «Разве не естественно, что писатель-драматург влюбился в артистку, для которой писал роли. Она была талантлива, приятной наружности».[650]
В связи со всеми этими обстоятельствами Лидия Авилова раздумывала, стоит ли ей поздравлять Чехова с женитьбой. В конце концов сдалась и написала ему, напирая, впрочем, на ту радость, какой наполняют ее воспоминания об их погибшей любви. Если верить мемуаристке, то Чехов ответил ей так: «Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего я болен. И теперь я знаю, что очень болен. Вот вам. Судите как хотите. Повторяю, я очень благодарен за письмо. Очень. <…> Я всегда желал Вам счастья, и если бы мог сделать что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радостью. Но я не мог».
Снова Чехов одним росчерком пера освободил себя от этого тяготившего его существа, которое выдумало роман между ним и ею с целью прославить себя в глазах грядущих поколений.
Единственная любовь, о которой он думал в это время, была та, что связывала его нерасторжимыми узами с Ольгой. Очищенная отсутствием, молодая женщина стала для него ростановской «Принцессой Грезой». Несмотря на мольбы Чехова, доктор Альтшуллер категорически запретил ему поездку в Москву. Встревоженная тем, в какое отчаяние пришел от этого брат, Мария Павловна отправилась в дирекцию Художественного театра выпрашивать для Книппер в феврале 1902 года несколько дней отпуска для того, чтобы съездить в Ялту. Вскоре Ольга объявила Антону, что приедет на «четыре дня и пять ночей», и 22 февраля была уже рядом с ним. Это был, по ее словам, «второй медовый месяц». Отпущенное им время было настолько коротким, что они любили друг друга, как безумные, так, словно их семья оказалась под угрозой. И, едва они расстались, Чехов написал вслед: «Приезжай, дуся, поскорей. Я не могу без жены».[651]
После Ялты был Санкт-Петербург: гастроли Художественного театра, здесь труппу горячо приняла не только публика, но и столичная пресса. Было устроено специальное представление «Трех сестер» для царя и придворных. Ольга выделялась на общем фоне, подобно звезде. Никогда еще она не слышала столько комплиментов, никогда не получала столько корзин с цветами и приглашений на ужин. Голова от всего этого кружилась. Но когда она оставалась одна – без всей этой суеты, без непрерывных похвал и почестей – ее начинала грызть совесть из-за того, что бедный больной Антон задыхается от тоски там, в его благоустроенной «тюрьме». И тогда она быстренько писала ему, оправдываясь: «Прикончили мы первую половину спектаклей, родной мой, золотой мой! Твое письмо хмурое, и опять тебе нездоровится. За весну, за лето ты поправишься, окрепнешь, и мы поживем. Если бы мы могли быть вместе! Я иногда сильно ненавижу театр, а иногда безумно люблю. Ведь он мне дал жизнь, дал много горя, много радости, дал тебя, сделал меня человеком. Ты, наверное, думаешь, что жизнь эта фальшивая, больше в воображении. Может быть. Но все-таки жизнь. А до театра я прозябала, мне чужда была жизнь, чужды были люди и их чувства. Я не жила с людьми и себе не создала никакой жизни. И всего я добилась одна, сама, своими силами».[652]
Чехов, как обычно, успокаивал жену, приободрял ее, радовался ее успехам: «Значит, ты скоро сделаешься знаменитой актрисой? Сарой Бернар? Значит, тогда прогонишь меня? Или будешь брать меня с собой в качестве кассира? Дуся моя, нет ничего лучше, как сидеть на зеленом бережку и удить рыбку или гулять по полю». И дальше: «Я ничего не имею против того, чтобы ты была знаменитой и получала тысяч 25–40, только сначала постарайся насчет Памфила».[653]
Этот «Памфил» или «полунемчик», как они его называли, был почти постоянной темой в их письмах друг другу. Оба мечтали о ребенке. И вот наконец, через несколько недель по возвращении из Ялты, Ольга почувствовала, что ее тошнит. Наверное, беременна! Но… внезапно Антон Павлович получает из Петербурга от жены датированное 31 марта письмо о выкидыше. «Два дня не писала тебе, Антончик мой! Со мной вышел казус, слушай: оказывается, я из Ялты уехала с надеждой подарить тебе Памфила, но не сознавала этого. Все время мне было нехорошо, но я все думала, что это кишки, и хотя хотела, но не сознавала, что я беременна, […] послали за докторами. А я начала пока догадываться, что это было, и обливалась горючими слезами – так мне было жаль неудавшегося Памфила. Пришли два доктора – помощник Отта знаменитого, а потом и сам Отт. Народу у меня весь день толклось адски много, все дамы всполошились.
[…] Все за мной ухаживали. Вечером вчера увезли меня в Клинический повивальный институт, в 12 ч. ночи захлороформировали. […] Отт меня оперировал, так что будь спокоен. […] Я пролежу дня 4, играть, верно, не буду больше; не знаю, когда мне позволят ехать, – вот это горе. Если опоздаю на несколько дней – не волнуйся, все обстоит хорошо, только, значит, боятся пускать меня в такой дальний путь, в тряску. Я только слаба, но решила написать тебе все откровенно. Ты у меня умный и поймешь все. Я и сегодня еще плакала, но вообще – герой. […] Как бы я себя берегла, если б знала, что я беременна. Я уже растрясла при поездке в Симферополь, помнишь, со мной что было? И в „Мещанах“ много бегала по лестницам».[654]
Единственное, чего Ольга теперь хотела, – поскорее уехать к мужу в Ялту, спрятаться под его крылом. Вот только захочет ли он принять ее после такого ужасного разочарования? «…Дорогой мой, – пишет она 5 апреля все еще из клиники, – телеграфируй мне, не забывай меня, не презирай за неудачу мою».[655]
И Чехов действительно шлет телеграмму за телеграммой, беспокоясь о ее здоровье. И она в ответ, кроме писем, тоже шлет телеграммы, волнуясь за него, посылая краткие отчеты о своем состоянии, которое улучшалось крайне медленно. Антон Павлович ждал жену с нетерпением, ее физическое и моральное равновесие теперь значило для него гораздо больше, чем потеря ребенка. Когда она приехала в Ялту 14 апреля, понадобились носилки, чтобы перенести Книппер с корабля в экипаж. Чехов не только не думал «презирать ее за неудачу», но, увидев жену такой бледной и слабой, совершенно потерял аппетит и был болен несколько дней. Душа его была полна тревогой о плохом самочувствии Ольги, и он чувствовал себя абсолютно неспособным интересоваться тем, что происходит вокруг. А между тем в жизни русской литературы произошло событие важное. Мы уже вскользь говорили о нем, теперь коснемся подробностей. Недавно избранный, как в свое время сам Чехов, Толстой и Короленко, почетным академиком по разряду изящной словесности, Горький был из Академии изгнан: правительство отменило решение о его избрании, мотивируя это тем, что он находится под следствием. Чрезвычайно взволнованный этим Чехов посоветовался с несколькими друзьями, которые предложили ему немедленно отказаться из солидарности от звания академика, с одним адвокатом, сказавшим, что ничего делать не надо, и с Львом Толстым, который, хмуро проворчав, что сам не считает себя академиком, устранился от решения проблемы. Среди стольких противоречивых мнений Чехов чувствовал себя неуверенно, колебался. А когда собрат по перу Владимир Короленко спросил его, как он реагирует на возмутительное злоупотребление властью, ограничился таким ответом: «У моей жены высокая температура, лежит на спине, похудела».[656] Несколькими неделями позже Короленко приехал в Ялту, и оба академика решили подать в отставку. Но ни тот ни другой не послали сразу же писем о разрыве со столь почтенным собранием, а из осторожности решили подождать: вдруг Академия тем или иным способом пересмотрит вопрос об изгнании Горького. Действовать дипломатично было в интересах самого Алексея Максимовича.
Тем временем дома обстановка все более и более накалялась. Мать и сестра Антона Павловича не постеснялись объяснить Ольге, что она действовала с преступным легкомыслием и продолжала вести разнузданную жизнь, будучи беременной. Тайная война между тремя женщинами причиняла столько горя Чехову, что он, даже не дожидаясь полного выздоровления Ольги, увез ее в Москву. Они приехали туда 27 мая, и Ольга снова слегла.
Состояние ее становилось все тяжелее, врачи диагностировали перитонит, советовали сделать операцию. Чехов был в отчаянии, он не отходил от постели жены, измерял ей температуру, сам делал припарки. Мария, мучимая запоздалыми угрызениями совести, написала брату, что готова приехать, чтобы помочь ему. Но внезапно, 12 июня, когда операция уже казалась неизбежной, Ольге стало лучше: боли и рвоты прекратились. Чехов решил, что спас жену тем, что вместо всей пищи давал ей только молоко и сливки. Он написал Немировичу-Данченко, что из всех окружавших жену врачей он один оказался прав, запретив ей есть что-либо другое. И вскоре жизнь Ольги оказалась вне опасности.
Чехов вздохнул с облегчением и принялся мечтать об отпуске. Мария Павловна предложила брату приехать с женой обратно в Ялту, чтобы Оля быстрее поправилась, но у него сохранились настолько ужасные воспоминания о жизни всей семьей в апреле, что он отверг предложение. Написал, что лучше поедет на Урал, в Пермь, по приглашению богача Саввы Морозова.[657] Он уехал один, оставив Ольгу с ее матерью. Это странное решение еще раз подтверждает невозможность для Чехова находиться долго в одном месте. Зов незнаемого был так силен, что он, не колеблясь, покинул страстно любимую жену ради дальней дороги.
Они с Саввой Морозовым отбыли из Москвы 17 июня. Сначала ехали по железной дороге, потом пересели на пароход – шли по Волге, по Каме… Потребовалась неделя, чтобы добраться до роскошного имения Саввы Морозова близ Усолья в Пермской губернии. В течение всего долгого путешествия Чехов посылал выздоравливающей нежные письма и телеграммы: «Солнечно. Морозов везет с собой двух добродушных немцев, старого и молодого; оба по-русски – ни слова, и я поневоле говорю по-немецки…Итак, настроение у меня хорошее, немецкое, ехать удобно и приятно, кашля гораздо меньше. О тебе не беспокоюсь, так как знаю, уверен, что моя собака здорова, иначе и быть не может».[658] Или: «Береги себя, моя лапочка. Без меня на дачу не переезжай, а я скоро приеду, раньше 5 июля. Я здоров, сыт, мне тепло. Не сердись, не скучай, а будь в духе».[659] Или еще: «Каждый день ем стерляжью уху. К приезду моему ты обязана пополнеть и стать полной, пухлой, как антрепренерша. Целую еще раз».[660]
Имение Саввы Морозова включало в себя огромный господский дом, где суетилась целая армия прислуги; громадный парк; березовую рощу; несколько деревень с нарядными избами и спиртовой завод. У хозяина поместья была длинная борода, манеры выскочки, он охотно играл в мецената и филантропа. Он только что дал денег на строительство нового здания Художественного театра с современной электропроводкой, поворотным кругом на сцене и удобными гримуборными для актеров.
Несмотря на то что Чехов устал с дороги, ему пришлось подчиниться хозяину и практически сразу же по приезде отправиться на завод. «Темный, низкий, закопченный завод, где в огромных чанах и холодильниках сутками прели какие-то составы и жидкости, где не было ни живого огня, ни шума машин, Чехову явно не понравился, – пишет Александр Тихонов, впоследствии литератор, а в ту пору студент Петербургского горного института, проходивший практику на всеволодо-вильвенском заводе и живший в Усолье, имении Саввы Тимофеевича Морозова. – Морщась от уксусного запаха, он безразлично прослушал объяснения инженера, постучал из вежливости тросточкой по огромной бутыли денатурата и, не дождавшись Морозова, вышел на воздух».[661] Побеседовав с рабочими, гость открыто сказал хозяину, что находит чрезмерным их рабочий день, длящийся двенадцать часов. Говорят, пристыженный Чеховым Морозов согласился сократить рабочее время специалистов до восьми часов, а простых рабочих до десяти.
В тот же вечер был устроен грандиозный банкет.
«Обед состоял из семи блюд, и каждое из них почему-то запаздывало…
За столом собралась вся местная интеллигенция: лесничий, фельдшер, инженеры и техники с заводов – нескладные, бородатые обломы, рабочая скотинка Морозова. Они нарядились, как на свадьбу – суконные сюртуки пахли нафталином, накрахмаленные манишки с невероятными галстуками пузырями выпирали из жилетов. Все их внимание было приковано к хозяину. Они говорили, пили водку, смеялись тогда, когда говорил, пил и смеялся хозяин. На Чехова они не обращали внимания. Многие из них даже не знали, кто такой Чехов, и, прослышав, что он „писатель“, принимали его за помощника Морозова „по письменной части“. <…>
Чехов сидел чужаком, на краю стола, для всех посторонний, и с тоской поглядывал на вечереющий сад, где солнце уже резало пополам стволы берез и кипело последним золотом в их пышных вершинах.
Он ничего не ел, кроме супа, пил привезенную с собой минеральную воду „аполлинарис“ и весь обед недружелюбно молчал, лишь изредка и с неохотой отвечая на реплики Морозова, всячески старавшегося вовлечь его в общий разговор.
Обед затянулся до сумерек. Когда все встали, Чехов, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату, ни с кем не попрощавшись и, видимо, обиженный», – вспоминал Тихонов.[662]
К хозяину имения, деловому человеку, изображавшему из себя благодетеля, Чехов испытывал сложное чувство восхищения и неприязни одновременно. Он ценил честолюбие, общительность, сердечную открытость Саввы Морозова, но равно презирал «непосильное бремя» богатства, символом которого был этот человек, и раболепие тех, кто подхватывал крошки с его стола. Молодому студенту Тихонову, также служившему у миллионера, он сказал, вернувшись из приемного покоя, куда ходил смотреть, как лечат больных: «Богатый купец… театры строит… с революцией заигрывает…[663] а в аптеке нет иоду и фельдшер – пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечит касторкой… Все они на одну стать – эти наши российские рокфеллеры».[664]
Вынужденный покинуть свое поместье и уехать по делам, Морозов поручил гостя заботам Тихонова. Вначале молодому человеку, ожидавшему, что знаменитый писатель должен быть либо «величавым апостолом, как Л.Н. Толстой», либо выступать «в ореоле пламенного витии, как Герцен и Чернышевский», Чехов показался слишком простым, обыденным, раздражительным. Но вскоре они подружились: гуляли вместе по березовой роще, удили удочкой рыбу, беседовали о литературе и политике. Иногда парадоксальные суждения писателя задевали экзальтированного двадцатидвухлетнего юношу. Однажды Чехов произнес с иронией: «Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями…»[665] – и оскорбленный этим высказыванием Тихонов нахмурился. И вот что было дальше, как он позже вспоминал:
«Чехов это заметил и переменил разговор. Ласково поглядывая в мою сторону и посмеиваясь на этот раз только одними глазами, он стал рассказывать о том, как хорошо на Каме, по которой он только что проехал, и какие там вкусные стерляди. Рассказал несколько смешных анекдотов о рассеянности Морозова и о том, как надо подманивать карасей, чтобы они лучше клевали.
Вставая, чтобы идти спать, он слегка обнял меня за плечи и спросил шепотом, как поп на исповеди:
– А сами вы не пишете?.. Нет! Вот это хорошо. А то нынче студенты, вместо того чтобы учиться, либо романы пишут, либо революцией занимаются… А впрочем, – возразил он сам себе, – может быть, это и лучше. Мы, студентами, пиво пили, а учились тоже плохо. Вот и вышли такими… недотёпами…
Он весело рассмеялся, смакуя меткое словцо, ставшее впоследствии таким знаменитым».[666]
А в другой раз было так. «Зажав между костлявыми коленями свои длинные руки, он сидел согнувшись на стуле, против раскрытой двери террасы, и, вглядываясь в темноту сада, точно споря с кем-то невидимым, кто там находился, медленно говорил:
– Прежде всего, друзья мои, не надо лжи… Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать… Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого Господа Бога – были и такие случаи, – но в искусстве обмануть нельзя…
Он на минуту замолчал, как бы ожидая возражений своего невидимого собеседника, и, не дождавшись, продолжил:
– Вот меня часто упрекают, даже Толстой упрекал, что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников… А где их взять? Я бы и рад!
Он грустно усмехнулся:
– Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный… все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам – уже старики и начинаем думать о смерти… Какие мы герои!»[667]
Незадолго до отъезда Чехова из Усолья Морозов решил дать его имя только что построенной школе. Чехову сильно нездоровилось, и он не смог пойти на торжество. Тогда хозяин решил, что пусть он так и лежит на кушетке, а делегация с приветственным адресом придет к нему. Написать адрес поручили Тихонову, прочесть его – управляющему имением, прозванному «дядей Костей».
«В комнату несмело вошла делегация: учитель, священник, фельдшер и начальник станции. „Дядя Костя“ выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес. Настало торжественное молчание, начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде.
Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук „дяди Кости“ и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло:
– Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты!
„Дядя Костя“ закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех, басом, начальник станции, усатый жандарм».[668]
А Чехов улыбался, довольный тем, что одним словом сумел разрушить унылую торжественность церемонии, показавшейся ему нелепой.
Как когда-то Горький, Тихонов был покорен простотой этого прославленного писателя и мужеством, с каким он переносил свою болезнь. Впалая грудь, надвинутое на глаза кепи, бледное лицо, седеющая бородка клином – таким студент увидел Чехова. Заметил, как он двигается, – мелкими стариковскими шажками, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. У левого бедра на ремне через плечо была подвешена квадратная охотничья фляжка в кожаном футляре. Когда случались приступы кашля, Антон Павлович отвинчивал крышку от этой фляжки и, стыдливо отвернувшись, сплевывал в отверстие вязкую красноватую мокроту. После чего вздыхал, надевал свалившееся пенсне и пытался улыбнуться.
Тихонов жил в соседней с писателем комнате. Однажды грозовой ночью он услышал за стеной сильный кашель, перемежающийся стонами и каким-то бульканьем. Студент, как был, босой, в ночной сорочке, побежал к Антону Павловичу. Там он увидел страшную картину:
«На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча… Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все тело его содрогалось от кашля… И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутыли, выхаркивалась кровь». Тихонов назвал его по имени… Раз, другой… «Чехов отвалился навзничь на подушки, – пишет дальше мемуарист, – и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно, в темноте, нащупывал меня взглядом.
И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез…
Он тихо, с трудом проговорил:
– Я мешаю… вам спать… простите… голубчик…
Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова.
Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы.
На следующий день Савва, бросив осматривать именье, увез больного Чехова в Пермь».[669]
Прошло несколько дней, Чехов почувствовал себя лучше и отправился в Москву. И, как только вернулся в город, сразу же захотел уехать оттуда снова. На этот раз – вместе с Ольгой, которая вроде бы совсем поправилась. Мать Станиславского пригласила их в Любимовку, имение Алексеевых неподалеку от Москвы.
Дом, где остановилась чета, находился в самом центре живописной деревушки, в нескольких шагах от него текла река, вокруг росли высокие деревья. Несмотря на то что гостей тут было много, Чеховым очень нравилось в деревне. «В Любимовке мне очень нравится, – писал Чехов Станиславскому, который путешествовал в это время за границей. – Апрель и май достались мне недешево, и вот мне сразу привалило, точно в награду за прошлое, так много покоя, здоровья, тепла, удовольствия, что я только руками развожу. И погода хороша, и река хороша, а в доме питаемся и спим, как архиереи. Шлю Вам тысячи благодарностей, прямо из глубины сердца. Давно уже я не проводил так лета. Рыбу ловлю каждый день, по пяти раз на день, ловится недурно (вчера была уха из ершей), и сидеть на берегу так приятно, что и выразить не могу. Одним словом, все очень хорошо. Только вот одно плохо: ленюсь и ничего не делаю. Пьесы еще не начинал, только обдумываю. Начну, вероятно, не раньше конца августа».[670]
Такие солнечные и беззаботные дни продолжались для них до 14 августа, когда Чехов должен был отправиться в Ялту, а Ольга – в Москву, где уже начинались репетиции. И все-таки ее обидело, что муж даже не предложил ей поехать в Крым вместе. Подозревая, что это Мария Павловна настаивает на том, чтобы брат вернулся домой один, она написала золовке письмо, где расставила все точки над «i», и потребовала, чтобы Чехов, не читая, отдал это послание сестре. Супруги поссорились. Антон Павлович отказался задержаться даже на день и, уезжая, злился на жену, сестру, мать и себя самого.
Прибыв в Ялту, он попытался разрядить обстановку, но получилось так, что только подлил масла в огонь. Маша, прочитав письмо Ольги, возмутилась агрессивным тоном невестки и показала ее письмо брату. И Чехов тут же написал жене: «Сегодня мне дали прочесть твое письмо, я прочел и почувствовал немалое смущение. За что ты обругала Машу? Клянусь тебе честным словом, что если мать и Маша приглашали меня домой в Ялту, то не одного, а с тобой вместе. Твое письмо очень и очень несправедливо, но что написано пером, того не вырубишь топором, Бог с ним со всем. Повторяю опять: честным словом клянусь, что мать и Маша приглашали и тебя и меня – и ни разу меня одного, что они к тебе относились всегда тепло и сердечно». В том же письме он говорит, что скоро вернется в Москву, а здесь жить не станет, хотя здесь и очень хорошо, и пьесы писать не будет. И добавляет, желая сгладить упреки: «Вчера вечером, приехав весь в пыли, я долго мылся, как ты велела, мыл и затылок, и уши, и грудь. Надел сетчатую фуфайку, белую жилетку. Теперь сижу и читаю газеты, которых очень много, хватит дня на три. Мать умоляет меня купить клочок земли под Москвой. Но я ничего ей не говорю, настроение сегодня сквернейшее, погожу до завтра. Целую тебя и обнимаю, будь здорова, береги себя».[671] Не получая от нее ответа, он смиренно повторяет:[672]«Не хочешь писать – твое дело, только поручи кому-нибудь извещать меня о твоем здоровье, умоляю тебя…Радость моя, не терзай меня, не мучай понапрасну, давай знать о себе почаще. Ты сердита на меня, а за что – никак не пойму. За то, что уехал от тебя? Но ведь с тобой я прожил с самой Пасхи, не разлучаясь, не отходя от тебя ни на шаг, и не уехал бы, если бы не дела и не кровохарканье. Долга я не получил, кстати сказать, а кровохарканья нет уже. Не сердись же, родная моя».[673]
Наконец Ольга стала подавать признаки жизни. Но – требовательным тоном. Вместо того чтобы успокоиться – все-таки время прошло, она продолжала злиться и сухо замечала, что Мария не имела права показывать письма Антону, что его мать и сестра не хотели, чтобы он оставался рядом с ней, когда она болела, и что, должно быть, он не торопится увидеться с ней снова, потому что просто разлюбил. Чехов пытается ее урезонить: «Письма твоего Маша не давала мне, я нашел его в комнате матери на столе, машинально взял и прочел – и понял тогда, почему Маша была так не в духе. Письмо ужасно грубое, а главное, несправедливое. Я, конечно, понял твое настроение, когда ты писала, и понимаю. А твое последнее письмо какое-то странное, и я не знаю, что с тобою и что у тебя в голове, дуся моя. Ты пишешь: „А странно было ждать тебя на юг, раз знали, что я лежу. Явно высказывалось нежелание, чтобы ты был около меня, больной…“ Кто высказывал желание? Когда меня ждали на юг? Я же клялся тебе в письме честным словом, что меня одного, без тебя, ни разу не звали на юг. Нельзя, нельзя так, дуся, несправедливости надо бояться. Надо быть чистой в смысле справедливости, совершенно чистой, тем паче, что ты добрая, очень добрая и понимающая. Прости, дусик, за эти нотации, больше не буду, я боюсь этого». И дальше: «Ты же не говори Маше, что я читал твое письмо к ней. Или, впрочем, как знаешь». А заканчивает печально: «От твоих писем веет холодком, а я все-таки пристаю к тебе с нежностями и думаю о тебе бесконечно. Целую тебя миллиард раз, обнимаю. Пиши мне, дуся, чаще, чем один раз в пять дней. Все-таки я твой муж. Не расходись со мной так рано, не поживши как следует, не родивши мне мальчишку или девчонку. А когда родишь, можешь поступать как тебе угодно. Целую тебя опять-таки. Твой А.»[674]«Кланяйся матери и Маше, хотя я теперь, верно, в опале. Вероятно, имя мое избегают произносить. Целую тебя, моего дорогого, скучаю без тебя адски. Пиши мне чаще, умоляю. Мне жутко, когда ты не пишешь».[675]
На этот раз Ольга встала на дыбы и в ответе на письмо обвинила мужа в недостатке откровенности. Впрочем… он ведь не скрывает, что не видит смысла в их дальнейшем совместном существовании. «Сегодня пришли два твоих письма и открытка, милый мой! Спасибо, что не забываешь меня.
Тебе, значит, сюда не хочется вернуться? А я-то дура, мечтала! Отчего ты сразу мне не сказал, что уезжаешь совсем? Недаром я это предчувствовала. Отчего откровенно мне не сказал, что уезжаешь из-за кровохарканья? Это так просто и так понятно. Ты, значит, скрывал от меня. Как мне это больно, что ты относишься ко мне, как к чужой или как к кукле, которую нельзя тревожить. Я была бы спокойнее и сдержаннее, если бы ты был откровенен со мной. Ты, значит, находишь, – с горечью пишет она, – что мы достаточно пожили вместе. Пора разлучаться? Хорошо». И дальше поднимает вопрос о карьере, которая, как считает Книппер, послужила причиной «испорченной» их жизни. Но должна ли она отказаться от театра, если он так мало нуждается в ее присутствии? «Я чего-то не понимаю во всем. Просто не понимаю. Что-то, должно быть, случилось. Хотя твои письма милы и ласковы, но отчего меня дрожь пробирает, когда я их читаю по несколько раз?
Как мы с тобой чудесно жили здесь! Хоть бы одним словом ты вспомнил в письмах своих о прошлом месяце! Мне было бы так приятно.
Ты возненавидишь мои письма. А я не могу молчать. Так, не подготовившись, – предстоит большая разлука с тобой, потому что осенью тебе никак нельзя приехать в Москву. Я бы хотела провести сентябрь в Любимовке.
Вообще получается чепуха из нашей жизни. Боже мой, если бы я знала, что я тебе нужна, что я могу тебе помогать жить, что ты чувствовал бы себя счастливым – будь я всегда при тебе! Если бы ты мог дать мне эту уверенность! Но ведь ты способен, – делает она вывод, – жить около меня и все молчать. И я иногда чувствовала себя лишней. Мне казалось, что нужна я тебе только как приятная женщина, а я сама как человек живу чуждая тебе и одинокая. Скажи мне, что я ошибаюсь, разбей меня, если это не так. Не думай, что я болтаю вздор, не думай, что я сердита на тебя, если обвиняю тебя в чем-нибудь. Ты единственный человек в мире для меня, и если я тебе делаю неприятности, то только бессознательно или когда у меня очень уж смутно на душе. Ты не должен винить меня. Ты человек сильный, а я ничтожный совершенно и слабый. Ты все можешь переносить молча, у тебя никогда нет потребности поделиться. Ты живешь своей, особенной жизнью и на каждодневную жизнь смотришь довольно равнодушно. Как это ужасно, Антон, если все, что я пишу, вызовет у тебя улыбку и больше ничего, или, может, покажешь письмо это Маше, как и она сделала?
Прости мне, дусик мой, нежный мой, любимый мой, не раздражайся на тон моего письма. Пойми только хорошенько, и больше мне ничего не надо. Мне странно тяжело и пусто без тебя. Я как потерянная и дальнейшую жизнь не рисую себе совершенно. Я знаю, ты не любишь таких писем. Скажи мне, что лучше: написать все так, как я сделала, или все сжать в себе и написать милое, внешнее письмо, а себя оставить в стороне? Как ответишь, так и буду делать. Целую тебя крепко и обнимаю и ласкаю дорогого моего. Будь счастлив».[676]
Другие пассажи из того же письма доказывают, что Ольга прекрасно разбирается в странном характере мужа. Так, она обвиняет его в том, что он, сохраняя внешнюю любезность, достаточно безразличен к судьбам других, что он всегда недоволен окружающим его миром, временем, в котором он живет, что он воспринимает женщину как предмет, не пытаясь проникнуть в ее чувства, что не ревнует ее к поклонникам, которые вокруг нее вертятся, что постоянно жалуется на изобилие визитеров, а на самом деле, в глубине души, счастлив, когда они приходят… Под таким градом обвинений встал на дыбы в свою очередь Чехов. «Милая моя, родная, опять я получил от тебя странное письмо. Опять ты взваливаешь на мою башку разные разности. Кто тебе сказал, что я не хочу вернуться в Москву, что я уехал совсем и уже не вернусь этой осенью? – отвечает он жене. – Ведь я же писал тебе ясно, русским языком, что приеду непременно в сентябре и буду жить вместе с тобой до декабря. Разве не писал? Ты обвиняешь меня в неоткровенности, а между тем ты забываешь все, что я говорю тебе или пишу.
И просто не придумаю, что мне делать с моей супругой, как писать ей. Ты пишешь, что тебя дрожь пробирает при чтении моих писем, что нам пора разлучаться, что ты чего-то не понимаешь во всем… Мне кажется, дуся моя, что во всей этой каше виноват не я и не ты, а кто-то другой, с кем ты поговорила. В тебя вложено недоверие к моим словам, к моим движениям, все тебе кажется подозрительным – и уж тут я ничего не могу поделать, не могу и не могу. И разуверять тебя и переубеждать не стану, ибо бесполезно. Ты пишешь, что я способен жить около тебя и все молчать, что нужна ты мне только как приятная женщина и что ты сама как человек живешь чуждой мне и одинокой… Дуся моя милая, хорошая, ведь ты моя жена, пойми это наконец! Ты самый близкий и дорогой мне человек, я тебя любил безгранично и люблю, а ты расписываешься „приятной“ женщиной, чуждой мне и одинокой… Ну, да Бог с тобой, как хочешь. <…> Дуся моя, будь женой, будь другом, пиши хорошие письма, не разводи мерлехлюндии, не терзай меня. Будь доброй, славной женой, какая ты и есть на самом деле. Я тебя люблю сильнее прежнего и как муж ни в чем перед тобой не виноват, пойми же это наконец, моя радость, каракуля моя. До свидания, будь здорова и весела. Пиши мне каждый день непременно. Целую тебя, пупсик, и обнимаю».[677]
Ольга устала ссориться и стала мягче. Она сожалела об их спорах, но, говорила она, поскольку они существа из плоти и крови, а не призраки, то заслуживают прощения. В любом случае, она клянется: «Нет такого человека, который мог бы вложить мне недоверие к тебе».[678] Просто она не может вынести разлуки после такого светлого времени, какое они пережили в Любимовке. Впрочем, она признает, что выходила за рамки: «Где ты, дуся моя? Простить тебе не могу, что ты не взял меня с собой. До сей поры были бы мы вместе и так до 1-го октября. Зачем ты был так суров со мной? И так мы все врозь, а ты еще устроил ненужную разлуку. Я потом решила, что ты уехал отчасти, чтобы отдохнуть от меня. Какой я гадкий, гадкий человек!..Что я читаю? Ничего ровно. Конец моей покойной жизни. Даже газету просматриваю довольно быстро. Нервлюсь и беспокоюсь – вот мое состояние. А главное – ничего не понимаю. Пишу я тебе каждый день почти. Ты не жалуешься? А письма бессодержательны и сухи, сама знаю. Только не оттого, что я к тебе охладела, как ты думаешь, а себя презираю – вот отчего. Я знаю, ты не любишь, когда я так выражаюсь, но это верно. Когда я думаю о тебе, я всегда представляю себя стоящей перед тобой на коленях и просящей прощения…»[679] И в знак полного примирения сообщает мужу, что с нетерпением ждет приезда Марии Павловны в Москву, что уже поставила ей цветы в комнату. Чехов же с тревогой спрашивает, не запретил ли Ольге доктор иметь детей: «А позволил ли тебе Штраух иметь детей? Теперь же или после? Ах, дуся моя, дуся, время уходит! Когда нашему ребенку будет полтора года, то я, по всей вероятности, буду уже лыс, сед и беззуб, а ты будешь как тетя Шарлотта».[680] И она ему отвечает: «Тебе хочется иметь детку? Отчего ты раньше противился? Будет у нас детка непременно».[681]
Несмотря на эпистолярную бурю конца лета – начала осени, Чехов был не так уж недоволен тем, что проводит время в Ялте с матерью и сестрой, которые – в отличие от Ольги – не критиковали его холостяцких привычек, позволяли есть что захочется и ухаживали за ним с нежной сдержанностью. В начале сентября к нему приехал Суворин, с которым они вволю вспоминали о былом. Не принимая политики «Нового времени», Антон Павлович по-прежнему был привязан к старому другу и щедрому издателю, хранил в сердце своем признательность ему. После отъезда Суворина он даже защищал его от издателя местной газеты Привухина. Суворин, говорил он, несмотря на все свои недостатки, был первым, кто увеличил зарплату журналистам и улучшил условия их работы, кроме того, он помогал многим нуждавшимся писателям, способствовал распространению культуры…
Эти похвалы в адрес реакционера Суворина не мешали Чехову чувствовать все большую враждебность по отношению к государственной власти. 18 сентября, узнав о смерти Золя, он написал жене: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Это так неожиданно и как будто некстати. Как писателя я мало любил его, но зато как человека в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его высоко».[682] Но на самом деле куда больше волновало Чехова совсем другое «дело» – Горького. После долгого ожидания того, чтобы оно уладилось официальным путем, писатель убедился, что теперь уже решение об отмене избрания его друга почетным академиком бесповоротно. И подумал, что настало время высказать свою позицию по поводу злоупотребления властью в жизни литературы. Впервые в жизни он ощутил моральную необходимость вмешаться в политику, и вот тогда-то, 25 августа 1902 года, отправил письмо с прошением об отставке на имя председателя Отделения русского языка и словесности Академии наук А.Н. Веселовского.[683] В тот же день он написал Короленко, еще в июле отказавшемуся от звания академика, чтобы уведомить его о своем поступке, признавшись, что писал медленно и трудно, в самую сильную жару, но, сказал он, «наверное, я не мог бы сделать лучше».
Его прошение об отставке было перепечатано многими подпольными газетами и опубликовано за границей. Большая часть русской интеллигенции одобряла мужественное решение Чехова и Короленко. Теперь Чехов уже не был почетным академиком, но его авторитет от этого только вырос, и известность тоже.
Читающая публика ждала от любимого писателя новых замечательных творений. Он это знал и страдал от невозможности удовлетворить желание своих поклонников, потому что чувствовал себя выдохшимся, измученным, неспособным пошевелить рукой, и в голове ни единой мысли не осталось… Ольга из Москвы теребила его: надо написать новую пьесу. И делала это с такой же материнской властностью, с какой рекомендовала принять касторку или вымыть голову. Совершенно невежественная во всем, что касалось тайн творчества, она была уверена, что писателю достаточно усадить себя за стол перед белым листом бумаги, чтобы слова сами потекли из-под его пера. Немирович-Данченко со Станиславским вторили ей. Чехов вяло защищался: он устал, ему не хватает бодрости и задора, он больше не верит в свою способность выдумывать сюжет и характеры, посетители не оставляют ему ни минуты на работу… Чтобы потешить себя самого иллюзией творчества, он переделал старый рассказ (1885 года) «О вреде табака» в сценический монолог на нескольких страницах.[684] Был ли это крах его писательской карьеры? Завтра, да, уже завтра он обретет второе дыхание! А пока он удивлялся тому, как мало интереса у него теперь вызывает повседневная жизнь. Возраст и болезнь еще больше отдалили его от людей. Он не испытывал необходимости исповедаться перед кем-то, даже перед Ольгой. Он никогда не был ни с кем чересчур откровенен, даже с друзьями, теперь эта ситуация еще обострилась. Чем более любезен он был внешне, тем меньше открыт собеседнику. И в записных книжках писал: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один».[685] Хорошо знавший Антона Павловича Бунин вспоминал: «Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех не чутких и не умных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?» Но дальше: «Курдюмов характеризует Чехова как очень скромного человека, я с этим не согласен. Он знал себе цену, но этого не показывал. Не согласен, что он очень скрытен. А его письма к Суворину? В них он очень откровенен. Скрытный человек со всеми скрытен. Чехов не болтлив, и он должен был очень любить человека, чтобы говорить ему о своем».[686] И тот же самый Бунин удивляется, что кто-то говорит о нежности, меланхолии, человеческой теплоте. «Долго иначе не называли его, как „хмурым“ писателем, „певцом сумеречных настроений“, „больным талантом“, человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно. Теперь гнут палку в другую сторону. „Чеховская нежность, грусть, теплота“, „чеховская любовь к человеку“… Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою „нежность“! Еще более были бы противны ему „теплота“, „грусть“…»
На самом деле искусство Чехова открывает нам его прозорливость и нечувствительность к чужим страданиям, характерные для врача-клинициста. Горький отлично понимал это, когда писал ему по поводу «Дяди Вани», что он с дьявольским безразличием препарирует людей, холоден к ним, как лед, как снежный вихрь. А старый его однокашник Сергеенко замечал, что, хотя у Чехова было много друзей, сам он не был другом никому и ни к кому не был привязан до самозабвения. Таким образом, будучи неизменно открытым на вид и самым услужливым из людей, принимая толпы нуждающихся в нем, помогая молодым писателям, учителям-беднякам, несчастным чахоточным, он остерегался слепой благодушной любви к страдающему человечеству в целом. Его распространяющиеся буквально на всех внимание и заботливость не исключали некоторого эгоизма. Наделенный исключительной интуицией, он с первого взгляда понимал психологию окружающих и использовал это для своих произведений. Но такая постоянная доступность другим не задевала глубин его существа. Живой взгляд и холодная голова – он жил будто под стеклянным колпаком. Даже те, кто полагал, что затронули его сердце, рано или поздно наталкивались на эту прозрачную стенку. В повседневной жизни он боялся как непомерной радости, так и непомерного горя. Он был человеком золотой середины. Единственной его страстью было его искусство – литература. Когда он писал, ему казалось, что время остановилось. Внезапно там, где только что он видел только пустоту, являлись исписанные мелким почерком листы бумаги, новые персонажи, возникала неизвестная прежде история. Какое может быть чудо большее, чем это возникновение чего-то из ничего? Тем не менее, несмотря на свою возрастающую известность, Чехов вовсе не считал себя высшим существом. Ненавидя тщеславие и хвастовство у других, он был не способен, даже на самом гребне успеха, считать свой талант безграничным. И это не была скромность, еще меньше – смирение, это было выражение ясного видения и хорошего воспитания. Трудясь как вол над правкой, отделкой, вычисткой стиля своих рукописей, он не верил в то, что они бессмертны. «Мне все же кажется, что, несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности»,[687] – напишет Бунин после его смерти. А Куприн скажет так: «К молодым начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью».[688]
Держа корректуру полного собрания сочинений, шестой том которого должен был выйти из печати в 1902 году, Чехов осознал, что с самого начала и до их пор его концепция литературы не изменилась. Прежде всего – простота и искренность. Точные и строгие описания. И никакого авторского вмешательства в течение рассказа. Ставя себя на место персонажа, предлагая решения моральных проблем, с которыми он сталкивается, только проигрываешь. Читатель должен выработать собственное мнение. Судить по тому, что написано. Причем – свободно. Чем старше становился Чехов, тем больше он убеждался, что его литература – отражение его жизни. Никаких особенно ярких, зрелищных событий, никаких высоких фраз, никаких героических поступков – только глухо звучащая музыка, похожая на ту, что живет внутри тебя, хватающая за душу, только вопросы без ответов, только легкая абсурдность повседневного существования, которое подобно набегающему волна за волной прибою с головокружительной неумолимостью тянет нас за собой, но не к желанному берегу, а к бездне в конце…
Как-то Чехов объяснял студенту Тихонову, что его пьесы не предназначены для того, чтобы публика плакала на них, как полагает Станиславский, нет, они – для того, чтобы зритель задумался о том, как живут люди. «Вот вы говорили, что плакали на моих пьесах… Да и не вы один… А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое… Я хотел только честно сказать людям: „Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!..“ Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь… Я ее не увижу, но я знаю, она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть… А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: „Поймите же, как вы плохо и скучно живете!“ Над чем же тут плакать? „А те, которые это уже поняли?“ – повторил он мой вопрос и, вставая со стула, грустно закончил: – Ну, эти и без меня дорогу найдут…»[689]
О том же – в записных книжках: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть».[690] Однако он только баюкал себя туманной надеждой на это, не рассчитывая ни на какие политические потрясения, которые помогли бы надежду его реализовать на самом деле. Его персонажи говорят о ней как об утешительной и несколько безрассудной мечте. Вот слова Вершинина из «Трех сестер»: «Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой… Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!.. Если бы, знаете, к трудолюбию привить образование, а к образованию трудолюбие».[691] А пока следовало принимать Россию такой, какая она была: с царем, бюрократией, полицией. Нигде власть так не давит, как у нас, русских, а мы смиренно принимаем наше вековое рабство и боимся свободы, покоряясь судьбе, замечал Чехов.
Его будущая пьеса, та, о которой он мечтал так долго, как надеялся драматург, станет иллюстрацией этой национальной пассивности. Но ему казалось, что в Ялте он никогда ее не напишет: для обретения вкуса к жизни и работе нужны были Москва, Ольга, блеск и сверкание театра. Доктор Альтшуллер, осмотревший Чехова по его просьбе 21 сентября, не проявил жестокости и не запретил поездки. «Вчера был у меня Альтшуллер, – пишет Антон Павлович жене, – смотрел меня в первый раз за эту осень. Выслушивал, выстукивал. Он нашел, что здравие мое значительно поправилось, что болезнь моя, если судить по той перемене, какая произошла с весны, излечивается; он даже разрешил мне ехать в Москву – так стало хорошо! Говорит, что теперь ехать нельзя, нужно подождать первых морозов. Вот видишь! <…> Скоро увидимся, дусик!»[692] И – два дня спустя: «Не забудь, собака: когда приеду в Москву, купим духов „Houbigant“, самый большой флакон, или два-три поменьше, и вышлем Альтшуллеру. Не забудь, пожалуйста, напомни мне. <…> Буду жить в Москве до декабря и даже дольше, смотря по обстоятельствам. Если чума будет в Одессе и зимой, то за границу не поеду – по причинам, о которых я уже писал тебе. В Москве буду только есть, пить, ласкать жену и ходить по театрам, а в свободное время – спать. Хочу быть эпикурейцем».[693] На это сообщение Ольга ответила с восторгом, достойным невесты: «Антошка, милый мой, золотой, мы увидимся скоро!!! Уррррааа!!! Можно опять жить надеждой, можно быть бодрой, не все так уж черно! Как я тебя буду целовать, как буду глядеть на тебя, рассматривать всего моего человека хорошего».[694]
Перед отъездом Чехов отправил мать к брату Михаилу в Санкт-Петербург, чтобы ей не оставаться одной в Ялте, и Маша тоже уехала в столицу, опасаясь после летних ссор оказаться в одной квартире с Антоном и Ольгой.[695]12 октября Чехов наконец уложил чемоданы. Он поехал в осеннем пальто, а Ольга, если нагрянут морозы, должна была встретить его на вокзале с шубой. Она писала, что уже приготовила лекарства, рыбий жир и креозот и что будет ему все, как приедет: и пиво, и баня…
Москва и Ольга разом – двойная радость от разделенной любви и каждодневного праздника, вот что это было для Чехова. Он неутомимо ходил по магазинам и ресторанам, бывал в театрах, встречался с Шаляпиным, Дягилевым, Россолимо, Буниным, Сувориным и Горьким, пьесу которого «На дне» репетировали тогда «художественники».
Новое здание Художественного театра понравилось ему простотой оформления в соединении с изобретательностью в устройстве сцены и гримерок. Он присутствовал на представлениях «Власти тьмы» Толстого, снова посмотрел свои спектакли – «Дядя Ваня» и «Три сестры», и на этот раз постановки показались ему безупречными. Но такой калейдоскоп впечатлений вскоре утомил его, он снова начал кашлять. Прошло всего шесть недель, и Антон Павлович вынужден был вернуться в Ялту – к солнцу, одиночеству и тоске. Адские метания между Севером и Югом, между оживлением большого города и насильственным покоем приморского курорта, между семейной жизнью и холостяцкой, между иллюзией жизни и приготовлением к смерти окончательно его измотали: нервы были на пределе.
На следующий день по приезде в Ялту он написал Ольге: «В Ялте застал холод, снег. Сижу теперь за столом, пишу тебе, моей жене бесподобной, и чувствую, что мне не тепло, что в Ялте холоднее, чем в Москве. С завтрашнего дня начну поджидать от тебя письма. Пиши, дуся моя, умоляю тебя, а то я тут в прохладе и безмолвии скоро заскучаю. <…> Не скучай, светик, работай, бывай везде, спи побольше. Как мне хочется, чтобы ты была весела и здорова! В этот мой приезд ты стала для меня еще дороже. Я тебя люблю сильнее, чем прежде. Без тебя и ложиться, и вставать очень скучно, нелепо как-то. Ты меня очень избаловала».[696]
В Ялте было настолько морозно, что Чехов остерегался выходить из дому. Впрочем, ничто его и не привлекало снаружи. Даже когда в город приехал на освящение новой церкви царь Николай II, писатель не стал присутствовать на торжественной церемонии. В начале января он подхватил плеврит и безропотно позволил доктору Альтшуллеру лечить себя все теми же мучительными компрессами, а единственной радостью за весь долгий январь для него стало известие об огромном успехе в Москве постановки пьесы Горького «На дне». Нет, была еще одна радость: он узнал, что его «Чайка» наконец прошла с триумфом на сцене Александринского театра, той самой, где с треском провалилась шесть лет назад. Журнал «Мир искусства» опубликовал статью Д. Философова, в которой тот сопоставлял две постановки: 1896 года и нынешнюю. И, хваля последнюю, делал вывод о том, что успех «Чайки» на императорской сцене – явление примечательное, свидетельство окончания периода борьбы для Чехова. Теперь, по мнению автора, как драматический писатель он стал классиком, а государственный театр признал это официально.
Редактор «Мира искусства» Сергей Дягилев, который вскоре прославится в мире балета, тщетно настаивал на том, чтобы Чехов публиковался в этом органе символистов. Во время одной из последних встреч в Москве они с Антоном Павловичем поспорили о будущем религиозных движений в России. И, поскольку Дягилев вернулся к этой полемике в своем письме, сопровождавшем журнал с рецензией на «Чайку», в ответ последовало: «Многоуважаемый Сергей Павлович! „Мир искусства“ со статьей о „Чайке“ получил, статью прочел – большое Вам спасибо. Когда я кончил эту статью, то мне опять захотелось написать пьесу, что, вероятно, и сделаю после января.
Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию, и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете, само по себе, а вся современная культура сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура – это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает».[697] О поисках веры, столь характерных для русских людей, Чехов пишет и в записных книжках: «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало».[698]
Чувствуя, что с каждым днем приближается к смерти, он становился все большим скептиком и все сильнее возмущался вдохновенными проповедями, публикуемыми Львом Толстым, желавшим поучать весь мир. Тексты, в которых убеленный сединами пророк объяснял читателям, кто такой Господь, казались ему просто оскорбительными для автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». Он был недалек от того, чтобы увидеть в них проявления старческого слабоумия.
А у себя Чехов с глубоким огорчением замечал потерю жизненных сил. Неспособный посвятить себя какой-то волнующей задаче, он довольствовался тем, что прилежно докладывал Ольге о скудных событиях своего существования: «Ногти стали длинные, обрезать некому. Зуб во рту сломался. Пуговица на жакете оторвалась»…[699] Вчера мыл голову и простудился… И все та же мольба, и все та же надежда: «Мне кажется, что если бы я полежал хоть половину ночи, уткнувшись носом в твое плечо, то мне полегчало бы и я перестал бы кукситься. Я не могу без тебя, как угодно. <…> Милая собака, отчего я не с тобой? Отчего у тебя в Москве нет квартиры, где у меня была бы комната, в которой я мог бы работать, укрываясь от друзей. На лето нанимай такую дачу, чтобы можно было писать там; тогда я буду рано вставать, и чтобы на даче был только я с тобой, если не каждый день, то хоть раза три в неделю».[700] Или – с верой в то, что придет время, когда он будет жить с нею весь год подряд, что будут у них еще дети: «Дуся моя, замухрыша, собака, дети у тебя будут непременно, так говорят доктора. Нужно только, чтобы ты совсем собралась с силами. У тебя все в целости и в исправности, будь спокойна, только недостает у тебя мужа, который жил бы с тобой круглый год. Но я, так и быть, соберусь как-нибудь и поживу с тобой годик неразлучно и безвыездно, и родится у тебя сынок, который будет бить посуду и таскать твоего такса за хвост, а ты будешь глядеть и утешаться».[701]
Но она не загадывала вперед настолько далеко и – более или менее искренне – возвращалась к своей ответственности за то, что они живут в разлуке. А он, как обычно, мягко успокаивал жену: «Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе, т. е. когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным, напротив, мне кажется, что все идет хорошо, или так, как нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызениями. В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего. <…> Теперь я работаю, буду писать тебе, вероятно, не каждый день. Уж ты извини».[702]
Вообще-то он немножко прихвастнул, объявив, что вернулся к работе. Его рассказ «Невеста» то и дело застревал и писался крайне медленно. И не то чтобы у него иссякла фантазия, просто усталость была такова, что необходимость просто водить пером по бумаге казалась выше его сил. «Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает – в обстановке ли, в здоровье ли», – писал он Ольге.[703] Чуть позже он довольно спокойно объяснил причины, как он их видит: «У меня в кабинете вот уже несколько дней температура держится на 11–12, не повышаясь. Арсений топить не умеет, а на дворе погода холодная – то дождь, то снег, и ветер еще не унялся. Пишу по 6–7 строчек в день, больше не могу, хоть убей. Желудочные расстройства буквально каждый день, но все же чувствую себя хорошо, мало кашляю, температура нормальна, от плеврита не осталось и следа».[704] Зато еще через несколько дней раздался чуть ли не вопль, вот такое вот чудовищное признание: «Ах, дуся моя, говорю тебе искренно, с каким удовольствием я перестал бы быть в настоящее время писателем!»[705]
Тем не менее гордость и сила воли заставляли его продолжать «Невесту» – как любил говорить Чехов, «по столовой ложке через час». И 27 февраля, после пяти месяцев таких вот прерывистых усилий, рукопись была закончена и писатель смог отправить ее Миролюбову, для «Ежемесячного журнала…» которого она и предназначалась. Героиня рассказа, молоденькая провинциалка Надя, восстает против комфортабельной и удушающей атмосферы родительского дома, отказывается от неизбежного, казалось, брака с дураком и собирается сбежать в Санкт-Петербург, чтобы продолжать учебу и строить новую жизнь на самоотверженности и преданности своему делу. Тем временем Саша, дальний родственник, который привил ей склонность к борьбе с буржуазным конформизмом, возвращается на Волгу, чтобы лечиться там кумысом, и умирает от туберкулеза. Последние мысли Нади в рассказе – словно эхо мечтаний трех сестер: «Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута так, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.
„Прощай, милый Саша!“ – думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее».[706]
Догадывался ли Чехов, что «Невеста» – его последний рассказ? Всего им было создано более двухсот сорока произведений, одни совсем коротенькие, другие длинные, одни – брызжущие весельем, другие – исполненные пронзительной печали. И вся эта пестрая смесь представляла собой величайшую, изумительную панораму российской жизни его времени. От мужика до архиерея, от учителя до извозчика, от студента до купца – не найти социальной категории, не представленной в этом человеческом муравейнике, в чеховских творениях. Читать рассказы Чехова – все равно что совершать головокружительное путешествие в прошлое с хладнокровным и проницательным провожатым, который показывает все и не комментирует ничего. А по обеим сторонам этой вьющейся среди повседневной жизни тропинки – единство стиля, творящее истинные чудеса. «Краткость – сестра таланта», – заявил Чехов брату Александру. Эта строгость автора к себе, точность, умение скрыться за спинами персонажей не изменили Чехову и в последнем его рассказе. Читая «Невесту», ни на секунду не ощущаешь слабости писателя, жизненные силы которого истощились.
Закончив рассказ, Чехов хотел воспользоваться приливом вдохновения и заняться «Вишневым садом». Но реплики плохо вязались одна с другой. Ольга пыталась стимулировать мужа к писанию, даже пыталась «припугнуть», применяя политику кнута и пряника: «Ах, Антон, если бы сейчас была твоя пьеса! Отчего это так долго всегда! Сейчас надо бы приниматься, и чтоб весной ты уже видел репетиции. А то опять все отложено на неопределенный срок; я начну с тобой поступать более энергично. Так нельзя, дусик милый. Квасить и квасить пьесу. Я уверена, что ты еще не сел. Тебе, верно, не нужны тишина и покой для писания. Надо, чтобы были толчея и суета кругом. Авось тогда ты засядешь. Ну, прости, только обидно, что так долго. Ждут, ждут без конца, и все только и слышишь кругом: ах, если бы сейчас была пьеса Чехова! Напишешь ее к весне и потом опять положишь киснуть на неопределенный срок. Как она тебе не надоест!»,[707]«Засел ты за пьесу наконец? Что ты делаешь целый день? Я бы на твоем месте писала целый день»,[708]«Как тебе не стыдно, что ты при писании пьесы можешь думать, что вдруг она не будет делать полный сбор. Даже в шутку нельзя допускать этой мысли. Слышишь, золотой мой?»[709] Чехов в ответ сперва вяло отшучивается, сообщая, что за пьесу уже засел и даже написал на листе бумаги название, потом немножко обижается, хотя, как всегда, прикрывается шуткой: «Ты делаешь мне выговор за то, что у меня еще не готова пьеса, и грозишь взять меня в руки. В руки бери меня, это хорошая угроза, она мне улыбается, я только одного и хочу – попасть к тебе в руки, что же касается пьесы, то ты, вероятно, забыла, что я еще во времена Ноя говорил всем и каждому, что я примусь за пьесу в конце февраля или в начале марта. Моя лень тут ни при чем. Ведь я себе не враг, и если бы был в силах, то написал бы не одну, а двадцать пять пьес».[710] Спустя два дня он проявляет больший оптимизм: «В „Вишневом саду“ ты будешь Варвара Егоровна, или Варя, приемыш 22 лет. Только не сердись, пожалуйста. <…> Если пьеса у меня выйдет не такая, как я ее задумал, то стукни меня по лбу кулаком. У Станиславского роль комическая, у тебя тоже».[711] А еще чуть позже уточняет: «„Вишневый сад“ будет, стараюсь сделать, чтобы было возможно меньше действующих лиц; этак интимнее».[712] И наконец 9 апреля внезапно заявляет: «Пьесу буду писать в Москве, здесь писать невозможно. Даже корректуру не дают читать».[713]
О Москве он мечтал уже давно, надеясь прожить там до декабря, но доктор Альтшуллер был неумолим. «…Сегодня был Альтшуллер и уверял меня, что до середины апреля мне нельзя ехать в Москву ни в коем случае», – пишет он 5 марта и сразу начинает просить, подкрепляя свою просьбу убедительными аргументами: «Дуся моя, жена моя, актрисуля, голубчик родной, не найдешь ли ты возможным приехать в Ялту на Страстной, а если поедете в Петербург – то на Фоминой? Мы бы с тобой чудесно пожили, я бы поил тебя и кормил чудесно, дал бы тебе почитать „Вишневый сад“, а потом вместе покатили бы в Москву. Альтшуллер клянется, что плеврит у меня еще не всосался и что ехать ни в коем случае нельзя. Приезжай, роднуля! Театр даст тебе отпуск, я упрошу, если твоих просьб будет недостаточно. Напиши, что приедешь, а главное – подумай. Подумай, как для тебя лучше и удобнее. Но я так соскучился, так жажду видеть тебя, что у меня нет терпения, я зову и зову. Ты не сердись, дуся, а сначала подумай, обсуди».[714] Но об ее приезде не могло быть и речи: Ольга нужна была в театре, предстояли гастроли в Санкт-Петербурге. И если Чехов зависел от решения врача, то она подчинялась режиссеру. Ни тот ни другая не были свободны в передвижениях, и отсюда – снова более чем печальное письмо в ответ: «Я в ужасном состоянии. Я ужасная свинья перед тобой. Какая я тебе жена? Раз приходится жить врозь. Я не смею называться твоей женой. Мне стыдно глядеть в глаза твоей матери. Так и можешь сказать ей. И не пишу я ей по той же причине.
Раз я вышла замуж, надо забыть личную жизнь и быть только твоей женой. Я вообще ничего не знаю и не знаю, что делать. Мне хочется все бросить и уйти, чтоб меня никто не знал.
Ты не думай, что это у меня настроение. Это всегда сосет и точит меня. Ну, а теперь проскочило.
Я очень легкомысленно поступила по отношению к тебе, к такому человеку, как ты. Раз я на сцене, я должна была оставаться одинокой и не мучить никого.
Прости меня, дорогой мой. Мне очень скверно. Сяду в вагон и буду реветь. Рада, что буду одна».[715]
Чехов пытается ее успокоить, но и ему очень грустно: «Не говори глупостей, ты нисколько не виновата, что не живешь со мной зимой. Напротив, мы с тобой очень порядочные супруги, если не мешаем друг другу заниматься делом. Ведь ты любишь театр? Если бы не любила, тогда бы другое дело. Ну, Христос с тобой. Скоро, скоро увидимся, я тебя обниму и поцелую 45 раз. Будь здорова, деточка».[716]
И вот наконец с приходом теплых дней Альтшуллер смягчается и разрешает своему пациенту… нет, не ехать в Москву, а только – прогуливаться вдоль дамбы. Но Чехов не пользуется этой привилегией, он делает несколько шагов по саду – обе собаки по пятам, обследует деревья, перенесшие зиму, наблюдает за тем, как слуга подстригает розовые кусты, потом начинает задыхаться и садится на скамейку лицом к морю…
С весной в Крым приехали друзья писателя: Бунин, Горький, Куприн. Они часто навещали его, пытались развлечь разговорами. Но Чехов слушал их рассеянно, с почти сонным безразличием, зажав трость между коленями. Лицо его было землистым, взгляд блуждал. Похоже было, что жизнь совершенно утратила для него вкус и смысл. Иногда с его губ срывались странные фразы. Бунин вспоминает одну такую: «Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…»[717] Сказав что-нибудь такое, хозяин проявлял нетерпение, и посетители, друзья тем более, понимали, что им пора уходить. «Голова болит, кашляю, гости сидят подолгу, вчера один бородатый просидел 2 часа около моего стола, но все же чувствую себя сносно и помышляю о нашей встрече», – пишет он Ольге 11 апреля. Поездка в Москву, к жене стала для него навязчивой идеей, его не очень пугает даже то, что новая их квартира высоко: «Но вот беда: подниматься по лестнице! А у меня в этом году одышка. Ну да ничего, как-нибудь взберусь».[718] Он дошел до того, что просто возненавидел Ялту, всех ее назойливых обитателей, доктора Альтшуллера, противившегося его отъезду. И 22 апреля, ни с кем не посоветовавшись, взял да и сбежал в Москву.
Глава XV «…как мне трудно было писать пьесу!»
После теплой солнечной Ялты – сырая и холодная Москва… Чехову пришлось какое-то время не выходить из дому. Новая квартира, которую Ольга с Машей сняли на Петровке, показалась ему очаровательной. Но она находилась на третьем этаже, а лифта в доме не было. Когда жена и сестра сообщили ему об этом в письме, он не придал сказанному никакого значения. А теперь начались муки: свист вместо дыхания, перебои в сердце, словно бы выскакивавшем из груди, – так ему давался подъем по лестнице. И путь до своей площадки занимал полчаса с остановками. Избегая выходить, он приглашал к себе друзей. Звал некоторых – приходили многие. Среди настоящих друзей был верный Бунин, который напишет потом: «Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не „грусть“, не „теплоту“. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде. Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. Руки у него были большие, сухие, приятные. Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко: сам он говорил прекрасно – всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом».[719]
Весть о том, что Чехов вернулся в Москву, быстро облетела весь город, и толпой повалили просители. Как всегда, Чехов считал, что обязан принять каждого и терпеливо выслушивал юных авторов, бормочущих нечто нечленораздельное, старых писателей-неудачников, журналистов, нуждавшихся в «свежатинке» для репортажа, издателей, пришедших за рукописями, кудахчущих дам, мечтающих сделать литературную карьеру…
Чтобы приободрить Чехова, Толстой прислал ему свою фотографию с подписью и список его рассказов, которые считал лучшим из всего, что тот до сих пор опубликовал. Рассказов таких оказалось пятнадцать «первого сорта» и пятнадцать «второго».[720] Яснополянский мудрец даже приказал переплести в отдельный том те рассказы, которые ему особенно нравились и которые он перечитывал особенно часто. Толстой говорил Лазаревскому: «Чехов – это Пушкин в прозе», добавляя, что в рассказах Чехова, так же как в стихах Пушкина, мы находим отражение собственных чувств автора, а некоторые из этих рассказов просто восхитительны.
Теперь широкая публика и знатоки пришли к согласию: все признавали Чехова «птицей высокого полета». Но ведь он явился на литературную арену после Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Толстого – что же такого нового он принес, чтобы оправдать увлечение им современников? Главное тут: искренность и чувство меры. Знаменитые предшественники Чехова были, каждый в своем роде, страстотерпцами. Они брали читателя за душу преувеличениями в своих речах, лиризмом описаний, роскошью и магией языка. Он первый заговорил тихо, доверительно. В противовес медленному, гармоничному, художественному развитию повествования, свойственному Тургеневу, Чехов использовал стиль, для которого характерен был лаконизм, при котором каждое слово имело свое тайное и очень важное значение. Другие великие русские писатели делились с читателем своими эмоциями, он же оставлял читателя наедине с событиями и характерами, не требовал от него во что бы то ни стало слез или смеха, но довольствовался тем, что прописывал ему время от времени щелчок по нервам. Таким образом, ничего не объясняя, он готовил читателя, преподнося ему одну деталь за другой, одно потрясение за другим, к глубокому сопереживанию со своими персонажами. И потому его читатель не глотал произведение, пассивно им восторгаясь, а – сам того не понимая – сотрудничал с творцом в создании этого произведения. Тут не было интеллектуального закармливания, а было содружество. Если же говорить о строе мыслей Чехова, выраженном в его рассказах и пьесах, то он, несомненно, отличался безрадостным отношением к настоящему, но одновременно – и простодушной верой в прогресс, в совершенствование человека, в возможность лучшей жизни. Чехов хранил в глубине души мистическое беспокойство, предчувствие чуда, которое он сам был не в состоянии определить словами. Эта причудливая смесь научного мышления и человеческой нежности, теплой иронии и холодного наблюдения и придавала его прозе необычайную, подчеркнутую правдивость. Несмотря на природную скромность, писатель сознавал, что он – основоположник нового способа мыслить и писать в России. Недаром же он говорил Горькому, что путь, проложенный им, останется неизменным и верным, в чем, собственно, и состоит его единственная заслуга.
Не первый день, даже не первый год друзья Чехова во главе с Горьким пытались убедить его, что договор с Марксом кабальный и условия нужно пересмотреть. Действительно, издатель, получив около двухсот тысяч рублей прибыли от продажи произведений «своего» автора, теперь издавал их в виде приложения к журналу «Нива», не платя Чехову ни копейки. Речи о том, чтобы расторгнуть договор, и быть не могло: в этом случае пришлось бы возвращать семьдесят пять тысяч, выплаченных, когда было подписано соглашение. Но можно было попросить Маркса пересмотреть условия этого соглашения и, учитывая блестящий коммерческий успех издания, выплачивать автору треть доходов от продажи его книг. Если бы Чехов не получал крупных отчислений от спектаклей, сейчас он был бы в нужде, несмотря на то что продавались его книги превосходно. Однако всякий раз, как друзья предлагали писателю послать письмо Марксу, он наотрез отказывался. А теперь, после долгих размышлений, решил съездить в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с ним и поговорить. Поехал и – наткнулся на стену. Издатель и слышать не хотел о пересмотре условий договора. Впрочем, Чехов никогда не умел вести деловых переговоров. Он по-детски терялся, видя ряды цифр. А оказавшись лицом к лицу с решительным противником, испытывал почти физическую невозможность что-то потребовать, говорить громко и с напором, стукнуть кулаком по столу. Вернувшись в Москву, он написал сестре, что поговорил с Марксом, но это не дало никакого результата: тот подарил ему «около четырех пудов» его роскошно изданных сочинений (Чехов взял) и предложил пять тысяч рублей на лечение (Чехов, «естественно, не взял»).
Мечтой его, лелеемой всю зиму, было поехать с Ольгой в Швейцарию и Италию. Но он боялся отправляться в такое путешествие, не получив квалифицированного медицинского совета от какого-нибудь светила. Выбор пал на профессора Остроумова, который лечил его в своей клинике несколько лет назад во время первого легочного кровотечения. Профессор после осмотра сказал, что пациент в очень плохом состоянии, от туберкулеза сильно пострадало правое легкое, а левое – сплошь в эмфиземе. При таких обстоятельствах он не мог рекомендовать больному поездку за границу – даже Ялту и ту не советовал. «Вы инвалид», – таков был приговор Остроумова. Назавтра после консультации Чехов написал сестре, которая в это время была с матерью в Аутке, что профессор долго его выслушивал, выстукивал, ощупывал, «…прописал мне пять рецептов, а главное – запретил мне жить зимою в Ялте, находя, что ялтинская зима вообще скверна, – рассказывал он, – и приказал мне проводить зиму где-нибудь поблизости от Москвы, на даче». И заканчивал письмо восклицанием: «Вот тут и разберись!», а потом долго шутил на тему о том, что Остроумов в тот день был попросту пьян.
На самом деле предписание медицинского светила привело Чехова в восторг. Забыв о печальном диагнозе, он думал только об одном: теперь ему не нужно будет проводить холодное время в опротивевшем ему уголке Крыма, он будет зимовать в Москве, рядом с женой, в суете литературной жизни. И не из-за собственного каприза, а по состоянию здоровья, по рекомендации крупного врача. Он поторопился написать Маше, что следует продать гурзуфские и кучук-койские имения, Ольга стала подыскивать дачу в окрестностях Москвы.
Однако, сам будучи врачом, он все-таки был удивлен противоречивыми мнениями коллег по медицинскому цеху. Кому верить? Альтшуллеру, который проповедовал целебность крымского воздуха, или Остроумову, приписывавшему этому воздуху, наоборот, неблагоприятное воздействие на больного? Писал доктору Средину в Ялту, что ничего не понимает: если Ялта так вредна, как же он провел там целых четыре зимы… Писал приятелю-журналисту Лаврову, что уверен: стоит ему обосноваться в Москве и начать привыкать к новым условиям зимовки, как врачи тут же снова отправят его в Крым или Каир…
В это самое время приятельница Ольги Мария Якунчикова предложила Чехову провести несколько недель у нее в Наро-Фоминском, поблизости от Москвы. Театральный сезон закончился, и Антон Павлович с Ольгой поторопились принять приглашение. Приехав в имение Якунчиковой, они обнаружили, что радушная хозяйка приготовила для них отдельный флигель, где легко могли бы разместиться десять человек. Чехов с радостью писал Марии Павловне, которая все еще находилась в Ялте, что тут есть речка, где полно рыбы, что вокруг много места для прогулок, что неподалеку старая заброшенная часовенка… И справлялся о любимом, разбитом своими руками аутском саде: «…в каком положении фруктовые деревья, розы и вообще растительность. Отошел ли эвкалипт? Как японские ирисы?»[721]
Чехов надеялся найти поблизости дачу на осень и зиму и объехал вместе с Ольгой все окрестности, но – тщетно. Те редкие дома, что казались им привлекательными, были слишком дороги. Двое суток супруги провели у «русского Рокфеллера», Саввы Морозова, в Воскресенске. Тогда Антон Павлович и сказал жене Морозова, что все написанное им – в прошлом, а как он сможет писать дальше – непонятно, и это его очень волнует. «Боюсь, мой тон вообще устарел», «мне кажется, что как литератор я уже отжил» – такие мысли точили его изо дня в день.[722]
Вернувшись в Наро-Фоминское, писатель хотел вернуться и к «Вишневому саду», начатому год назад, но сначала пришлось держать корректуру «Невесты». Недовольный текстом, он стал переписывать большие куски. 5 июня 1903 года писал Вересаеву: «Рассказ „Невеста“ искромсал и переделал в корректуре», а 12-го, отсылая рассказ издателю Миролюбову, извинялся: «…сегодня послал Вам заказною бандеролью рассказ. Простите, делать мне нечего, и вот на досуге я увлекся и почеркал весь рассказ».[723] Труд был тяжелый, истощал его силы, но Антон Павлович никогда не мог отправить издателю несовершенное произведение. Он видел в такой работе над рукописью своего рода интеллектуальную гигиену, считал ее проявлением профессиональной чести писателя.
Но вот наконец он садится за «Вишневый сад» – и выясняется, что продолжать ему тяжело, отвык он от пьесы. Драматург слишком долго прожил со своими героями, и они потеряли для него свежесть. Как-то он оставил на столе у открытого окна черновик и ушел из дому. А тут началась гроза, дождь полил как из ведра, ветер, ворвавшись в комнату, закружил исписанные листки и выбросил их в открытое окно. Пока прибежали люди, пока подобрали бумагу, почти все было с нее смыто ливнем: прочесть что-то было почти невозможно. Один из гостей Якунчиковой, желая утешить Чехова, сказал ему, что он, конечно же, помнит свой текст наизусть. «Представьте себе, не помню, придется писать эти сцены заново», – улыбаясь, ответил Чехов.
Несмотря на то что Наро-Фоминское недалеко от Москвы, казалось, будто оно где-то на краю света, настолько спокойно, удобно и упорядоченно протекала там жизнь. Тем не менее и на этот островок блаженства долетали слухи о некоторых политических событиях. Так, с ужасом и возмущением узнал Чехов о еврейских погромах в Кишиневе. Официальная пресса воздерживалась от комментариев. Однако поговаривали, что погромы – дело рук реакционных отрядов, которым покровительствовала полиция. Желая узнать побольше, Антон Павлович пишет Суворину и просит прислать ему несколько томов «сочинений Ежова» – так для конспирации он называл орган либеральной буржуазии, нелегальный журнал «Освобождение», выходивший за границей под редакцией Петра Струве. Закоренелый консерватор Суворин не побоялся тайком передать другу опасное издание – раз, потом другой, третий. Чехов внимательно читал все, что там было направленного против власти, а потом писал Суворину: «Присланные Вами сочинения Ежова получил, большое Вам спасибо. Предыдущие томы того же Ежова я по прочтении сдавал в Ваш московский магазин для передачи Вам, что сделаю и с этим томом. У Ежова тон однообразен, становится в конце концов скучновато, точно читаешь энциклопедический словарь, и будет так, пока не придет к нему на помощь беллетристика».[724] Что же до опубликованного «Освобождением» открытого письма Горького, посвященного кровавым событиям в Кишиневе, то он оценил его суть, но раскритиковал форму: «Письмо Горького, конечно, симпатично, как и все, что он пишет, но оно не написано, а сделано, в нем нет ни молодости, ни толстовской уверенности, и оно недостаточно коротко».[725]
Высказанные Чеховым оговорки были чисто литературными, он всей душой сочувствовал жертвам кишиневской бойни. Когда знаменитый еврейский писатель Шолом-Алейхем попросил у него рассказ для сборника в пользу пострадавших в кишиневской трагедии, который он надеялся издать в Варшаве, Антон Павлович откликнулся мгновенно (приписка «я получил Ваше письмо только вчера» подтверждает это): «Многоуважаемый Соломон Наумович! Я теперь вообще не пишу или пишу очень мало, так что обещания дать могу только условно: напишу рассказ с удовольствием, если не помешает болезнь. Что касается моих уже напечатанных рассказов, то они в полном Вашем распоряжении, и перевод их на еврейский язык и напечатание в сборнике в пользу пострадавших в Кишиневе евреев не доставит мне ничего, кроме сердечного удовольствия. С искренним уважением и преданностью. А.Чехов».[726]
С такой же готовностью он принял предложение Гольцева стать рецензентом рукописей, присылаемых в «Русскую мысль». Может быть, опасался, что теперь уже не хватит сил писать свое, а чтение произведений других авторов воспринимал как возможность по-прежнему служить литературе? Но, соглашаясь на это, он забыл, что плохое состояние здоровья не позволяет ему много работать…
Тогда как Ольга просто расцветала в обществе многочисленных гостей Марии Якунчиковой, Чехов переносил этих людей с их скучной и пошлой болтовней все с большим и большим трудом. Для него разговоры светских бездельников, толпившихся вокруг хозяйки дома, были куда менее интересны, чем высказывания одного из служивших в имении садовников, Максима. Антон Павлович собирался пробыть в Наро-Фоминском месяца два, но не прошло и шести недель, как он сбежал. По логике вещей ему бы следовало остаться в Москве, а он, вопреки предписаниям профессора Остроумова, отправился с женой в Ялту.
Они прибыли туда 9 июля 1903 года, и Чехов был полон решимости не уезжать, пока не закончит «Вишневого сада». Чтобы вернее заставить себя сесть за работу, он даже назначил точный срок, когда должен закончить пьесу: «Вишневый сад» будет готов к октябрю, к началу нового театрального сезона. В том состоянии физического истощения, в котором Антон Павлович теперь находился, ему требовались неимоверные усилия, чтобы дописывать – день за днем, строчка за строчкой – вещь, которая, как он предчувствовал, станет для него последней. Он надеялся, что красота пейзажа, мягкий климат, мир в семье помогут ему выполнить с честью свою задачу. Но сад был весь в цвету, солнце сияло в лазурном небе, а вот мира в семье не получилось, царила грозовая атмосфера. Мария Павловна была так счастлива, что снова увидела брата, что делить его с невесткой для нее было мучительно. А Ольга, как и прежде, рьяно обустраивала жизнь мужа, который подчинялся любому ее капризу. Она критиковала то, как он одевается, устанавливала свою диету, заставляла делать каждый день в своем присутствии холодные обливания, которые, как ей казалось, должны придавать ему сил. Мария Павловна и Евгения Яковлевна неодобрительно наблюдали за проявлениями этой домашней тирании. А Ольга спрашивала с тоской, почему, как только она появляется, начинаются трудности, почему, хотя она так беспокоится за него, он никогда ничего не делает для своего здоровья, а стоит ей уехать или ему уехать от нее, ему тут же прописывают лекарства, он начинает хорошо питаться и позволяет Маше делать для себя все, что угодно…
Ольга не довольствовалась тем, что руководила повседневным существованием мужа, она постоянно стояла за плечом, заставляя его больше работать, напоминая, что театр ждет пьесу к осени. Словно провинившийся школьник, драматург обещал «вовремя сдать сочинение». Но Станиславский и Немирович беспокоились и спрашивали его жену в письмах, продвигается ли работа Чехова, есть ли надежда, что он сдержит слово. Чехов сам написал Константину Сергеевичу, оправдываясь: «Пьеса моя не готова, подвигается туговато, что объясняю я и леностью, и чудесной погодой, и трудностью сюжета. Когда будет готова пьеса или перед тем, как она будет готова, я напишу Вам или лучше буду телеграфировать. Ваша роль, кажется, вышла ничего себе, хотя, впрочем, судить не берусь, ибо в пьесах вообще, при чтении их, понимаю весьма мало…Пьесы своей я читать Вам не буду, ибо не умею читать; я только дам Вам прочесть – конечно, если она будет готова».[727] За этими развязными признаниями в лени Станиславский мало-помалу разглядел истинную причину запаздывания с пьесой: тяжелая болезнь не давала выхода творческой мощи писателя. Осознав, насколько жестокими были его требования к Чехову, теперь уже он принялся оправдываться перед Ольгой Леонардовной: писал ей, чтобы она не думала плохо о нем и Немировиче, писал, что они беспокоятся за Антона Павловича и всех, кто рядом с ним, а о пьесе думают только тогда, когда одолевает тревога за судьбу театра. Наш театр – театр Чехова, утверждал режиссер, и без него нам будет плохо.
Ольга же на эти стенания оптимистично отвечала, что муж теперь работает каждое утро, вот только вчера и сегодня плохо себя чувствовал и потому не писал, что теперь к ним приходит не много народу и что поэтому, если здоровье позволит, он станет работать прилежнее. На этом месте она бросила писать, сбегала посмотрела, что делает супруг, и, вернувшись, снова взялась за перо, чтобы сообщить: не стоит беспокоиться, он как раз минуту назад засел за работу.
Чехову казалось, что он лучше себя чувствует, когда пишет рассказ, чем когда берется за пьесу. Сто раз он клялся бросить театр, называя драматическую форму – в отличие от повествовательной, «законной жены» – «эффектной, шумной, наглой и утомительной любовницей».[728] И столько же раз возвращался к нему, зачарованный самой трудностью задачи. Искусство театра давало ему возможность прямого, почти телесного контакта с публикой. Он видел в драматургии своего рода состязание между автором, растворившимся в персонажах, и зрителем, который, слушая звучащие со сцены реплики, должен позабыть о собственных проблемах и жить заботами этих персонажей. Эта борьба за душу зрителя, это насилие над полным людей залом опьяняли куда сильнее, чем скромное удовлетворение романиста, работающего за закрытой дверью своего кабинета. К тому же благодаря Ольге он постоянно был в курсе театральной жизни и, записывая на бумаге то, что говорили герои пьесы, знал уже, какому актеру они предназначены, и слышал его голос.
В конце августа Ольга Леонардовна сообщила Немировичу-Данченко, что мужу лучше и он работает хорошо, увлеченно. 2 сентября Чехов и сам подтвердил эту победную сводку: «Моя пьеса (если я буду продолжать работать так же, как работал до сегодня) будет окончена скоро, будь покоен. Трудно, очень трудно было писать второй акт, но, кажется, вышел ничего. Пьесу назову комедией».[729] Поскольку отъезд Ольги в Москву был назначен на 19 сентября, он питал надежду, что она возьмет с собой законченную рукопись. Но его подстерегала болезнь и не давала спуску. Новый приступ – и он не может не только писать, но и диктовать. 15 сентября в довольно шутливом письме к Марии Петровне Лилиной, жене Станиславского, он признается: «Пьесу я почти окончил, но дней 6—10 назад заболел, стал кашлять, ослабел, одним словом, началась прошлогодняя история. Теперь, т. е. сегодня, стало тепло и здоровье как будто стало лучше, но все же писать не могу, так как болит голова. Ольга не привезет пьесы, я пришлю все четыре акта, как только будет возможность засесть опять на целый день». И еще раз настойчиво повторяет: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича».[730]
После отъезда Ольги дом показался ему таким опустевшим, что и работу-то продолжать не хотелось. Она еще едет, а он уже пишет ей. 19 сентября: «А я вернулся с парохода нездоровый; есть не хочется, нудно, глупо в животе, ходить не особенно приятно, голова разболелась. Не знаю, отчего это. Но самое худшее, конечно, это твой отъезд; к твоему отсутствию я не скоро привыкну».[731] И 20-го: «Мне сегодня легче, но все же я не совсем здоров. Слабость, во рту скверно, не хочется есть. Сегодня я сам умывался. Вода была не холодная. Твое отсутствие очень и очень заметно. <…> Пиши мне подробности, относящиеся к театру. Я так далек от всего, что начинаю падать духом. Мне кажется, что я как литератор уже отжил, и каждая фраза, которую я пишу, представляется мне никуда не годной и ни для чего не нужной».[732] Но назавтра он уже собирается с силами и, несмотря на слабость, головные боли и непорядок с кишечником, снова склоняется над незаконченной рукописью. «Женуля моя великолепная, сегодня чувствую себя полегче, очевидно, прихожу в норму; уже не сердито поглядываю на свою рукопись, уже пишу и когда кончу, тотчас же сообщу тебе по телефону». Он марает бумагу, вычеркивает, вписывает другое – при свете свечи, поздно ночью, – и, чувствуя себя сразу и героической личностью и виноватым перед театром, заявляет: «Последний акт будет веселый, да и вся пьеса веселая, легкомысленная; Санину не понравится, он скажет, что я стал неглубоким».[733] И затем он рассказывает Ольге в ежедневных сводках о своей борьбе со словом и с болезнью. «Четвертый акт в моей пьесе сравнительно с другими актами будет скуден по содержанию, но эффектен. Конец твоей роли мне кажется недурным. Вообще не падай духом, все обстоит благополучно».[734] Или еще: «Четвертый акт пишется легко, как будто складно, и если я его кончил не скоро, то потому что все побаливаю. Сегодня мне легче, чем вчера, правда, но часов в 11 начало ломить в ногах, в спине, начался кашель. Все-таки, думаю, теперь будет становиться все лучше и лучше».[735] А 26 сентября Чехов отправляет Ольге телеграмму: «Четыре акта совершенно готовы. Переписываю. Пришлю тебе. Здоровье поправляется. Тепло. Целую. Антуан».[736] А 27-го, уже письмом, добавляет подробностей: «Дусик мой, лошадка, я уже телеграфировал тебе, что пьеса кончена, что написаны все четыре акта. Я уже переписываю. Люди у меня вышли живые, но какова сама по себе пьеса, не знаю. Вот пришлю, ты прочтешь и узнаешь. <…> Пиши мне и не очень сердись, если я буду писать не каждый день. Теперь переписываю пьесу, стало быть, заслуживаю снисхождения».[737]
Однако, как только Чехов стал «Вишневый сад» переписывать набело, энтузиазм его сильно спал: он нашел много психологических ошибок, длиннот, непростительных оплошностей в диалогах. Недовольный собой, он решил переписать все, что ему не понравилось при чтении. А Ольга в Москве тем временем сгорала от нетерпения: когда же, когда она получит обещанную рукопись? когда сможет показать ее в театре – вся труппа так же ждет, как она сама. Но ялтинский затворник увиливал от ответа, тянул, вылизывая каждое слово… И смиренно защищался: «Сегодня у меня температура нормальная. Альтшуллер прописал такие пилюли, что я теперь по семи дней не буду ни бегать, ни надевать халата. Осталась слабость и кашель.
Пишу ежедневно, хотя и понемногу, но все же пишу. Я пришлю пьесу, ты прочтешь ее и увидишь, что можно было бы сделать из сюжета при благоприятных обстоятельствах, то есть при здоровье. А теперь один срам, пишешь в день по две строчки, привыкаешь к тому, что написано, и проч. и проч.»[738] Назавтра он умоляет жену не сердиться на то, что он не способен писать быстрее: «…за пьесу не сердись, дусик мой, медленно переписываю, потому что не могу писать скорее. Некоторые места мне очень не нравятся, я пишу их снова и опять переписываю. Но скоро, скоро, лошадка, я кончу и вышлю. <…> Дуся, прости за пьесу! Прости! Честное слово, я кончил ее и переписываю».[739] А четырьмя днями позже: «Тяну, тяну, тяну, и оттого, что тяну, мне кажется, что моя пьеса неизмеримо громадна, колоссальна, я ужасаюсь и потерял к ней всякий аппетит. Сегодня все-таки я переписываю, не беспокойся».[740]9 октября оправдывается: «Уверяю тебя, каждый лишний день только на пользу, ибо пьеса моя становится все лучше и лучше и лица уже ясны. Только вот боюсь, есть места, которые может почеркать цензура, это будет ужасно»,[741]10-го сообщает: «Пьесу переписываю в другой раз и пришлю непременно через три дня, о чем уведомлю телеграммой»,[742] а 12-го наконец раздается победный клич: «Итак, лошадка, да здравствуют мое и ваше долготерпение! Пьеса уже окончена, окончательно окончена и завтра вечером или, самое позднее, 14-го утром будет послана в Москву. Одновременно я пришлю тебе кое-какие примечания. Самое нехорошее в пьесе это то, что я писал ее не в один присест, а долго, очень долго, так что должна чувствоваться некоторая тягучесть. Ну, да там увидим». Так он начинает письмо, а в середине, после отчета об обеденных меню, вдруг добавляет отчаянно: «Дуся, как мне трудно было писать пьесу!»[743]
Действительно, 14-го рукопись была упакована в конверт, и слуга Арсений отнес «Вишневый сад» на почту, а вслед полетела телеграмма: «Пьеса уже послана. Здоров. Целую. Кланяюсь. Антон»,[744] а за ней письмо Ольге с просьбой немедленно по прочтении телеграфировать и Немировича попросить сделать то же, чтобы автор знал, «как и что», и со множеством примечаний к ролям – примечаний, в которых названы и исполнители: сама Книппер (Раневская), Лилина (возможно – Варя), Вишневский (Гаев), Станиславский (Лопахин), Качалов (Петя Трофимов) и так далее. На две роли Чехов актеров не знал: Аню, по его мнению, должна была играть «непременно молоденькая актриса», а Шарлотту – «актриса с юмором». В этом же письме Чехов говорит о декорации («Дом старый, барский; когда-то жили в нем очень богато, и это должно чувствоваться в обстановке. Богато и уютно»), предусматривает для себя возможность переделок: «Если пьеса пойдет, то скажи, что произведу все переделки, какие потребуются для соблюдения условий сцены. Время у меня есть, хотя, признаюсь, пьеса надоела мне ужасно». Но, может быть, самое главное тут – одной строчкой: «Завтра сажусь писать рассказ, не спеша».[745] Намерение, надежда, которой не суждено было сбыться…
Отправив пьесу в Москву, Чехов начал терзаться сомнениями: что подумают в Художественном театре об этой «комедии», которая далась ему с таким трудом? Не переоценил ли он свои возможности? Терзаемый этими мыслями, он уже сожалел о том, что отослал столь несовершенное творение. И не прошло и пяти дней, как стал волноваться, почему нет никакого отклика. Да, конечно, он знал, что письмо идет из Ялты в Москву не меньше двух суток, но все-таки!..[746] То, что Немирович не объявляется, – несомненно, дурной знак!
И вот наконец 18 октября приходит телеграмма от Ольги: «Дивная пьеса. Читала упоением, слезами. Целую, благодарю. Оля»,[747] а 19 другая – в сто восемьдесят слов, тут Немирович не просто говорит о том, что пьеса хороша, а довольно подробно разбирает ее: «Мое личное первое впечатление – как сценическое произведение, может быть, больше пьеса, чем все предыдущие. Сюжет ясен и прочен. В целом пьеса гармонична. Гармонию немного нарушает тягучесть второго акта. Лица новы, чрезвычайно интересны и дают артистам трудное для выполнения, но богатое содержание».[748] Антон Павлович, довольный, пишет Ольге: «Вчера я не писал тебе, потому что все время с замиранием сердца ждал телеграммы. Вчера поздно вечером пришла твоя телеграмма, сегодня утром от Влад. Ив. – в 180 слов. Большое спасибо. Я все трусил, боялся. Меня главным образом пугала малоподвижность второго акта и недоделанность некоторая студента Трофимова. Ведь Трофимов то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета, а как ты изобразишь сии штуки?» – и сразу же нетерпеливо спрашивает: «Пойдет ли моя пьеса? Если пойдет, то когда?»[749]
Два дня спустя пришла телеграмма и от Станиславского. Она окончательно успокоила Чехова: «Потрясен, не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего прекрасного, Вами написанного. Сердечно поздравляю гениального автора. Чувствую, ценю каждое слово. Благодарю за доставленное уже и предстоящее большое наслаждение. Будьте здоровы».[750] В следующие дни – опять телеграммы от обоих основателей Художественного театра – о том, какое громадное впечатление произвел на всех «Вишневый сад». Вот как писал Станиславский: «Чтение пьесы труппе состоялось. Исключительный, блестящий успех. Слушатели захвачены с первого акта. Каждая тонкость оценена. Плакали в последнем акте. Жена в большом восторге, как и все. Ни одна пьеса еще не была принята так единодушно восторженно».[751]
Любой другой на его месте обрадовался бы, воспрянул духом. Любой – но только не Чехов. Он никак не мог успокоиться. Теперь его волновало изобилие похвал. Ольга еще подливает масла в огонь, сообщая, что «Конст. Серг., можно сказать, обезумел от пьесы. Первый акт, говорит, читал как комедию, второй сильно захватил, в третьем потел, а в четвертом ревел сплошь. Он говорит, – пишет Книппер, – что никогда ты не писал ничего такого сильного. Приподнятое настроение у всех. За обедом у Алексеевых вчера, конечно, пили твое здоровье. <…> Как все жаждут видеть тебя! Милый, милый мой. На меня как-то все хорошо смотрят, а мне приятно. Ненаглядный ты мой! Мне хочется стоять на коленях перед тобой и только смотреть в твои чудные глаза».[752] А он, не получив еще этого письма, делится с женой своими тревогами: «Сегодня получил от Алексеева телеграмму, в которой он называет мою пьесу гениальной; это значит перехвалить пьесу и отнять у нее половину успеха, какой она, при счастливых условиях, могла бы иметь. Немирович не прислал мне еще списка артистов, участвующих в пьесе, но я все же боюсь. Он уже телеграфировал, что Аня похожа на Ирину; очевидно, хочет роль Ани отдать Марии Федоровне. А Аня так же похожа на Ирину, как я на Бурджалова. Аня прежде всего ребенок, веселый до конца, не знающий жизни и ни разу не плачущий, кроме II акта, где у нее только слезы на глазах. А ведь М.Ф. всю роль проноет, к тому же она стара. Кто играет Шарлотту?»[753] Кроме того, Чехов раздражен тем, что Немирович-Данченко нашел возможным и полезным опубликовать в одной из ежедневных московских газет содержание «Вишневого сада», в котором к тому же была допущена грубая ошибка. Ему казалось, что дирекция Художественного театра, получив в свое распоряжение рукопись, не стесняется в обхождении с автором. Как это ему до сих пор не сообщили, станут играть «Вишневый сад» в этом сезоне или нет? Почему не говорят, как пьеса будет поставлена? Где список исполнителей? Не навяжут ли ему актеров, которых он не хочет? Взяв на себя инициативу, он посылает свой собственный список. Нервы его на пределе. Он больше никому не доверяет. В конце концов распределение ролей происходит по общему согласию, и первую репетицию назначают на 10 ноября.
По мере того как приближалась эта дата, Чехов становился все раздражительнее. Прикованный к Ялте приступами кашля и неполадками с кишечником, он опасался, что так далеко от него, в Москве, пьесу его совершенно исказят неумелые исполнители, пусть даже и воодушевленные благими намерениями. А может ли быть худшее наказание для автора, чем невозможность вмешаться в постановку спектакля, успех или провал которого в первую очередь отразится на нем самом? Узнав, что некий Корсов собирается перевести «Вишневый сад» на французский язык, он пишет Ольге: «Дусик мой, лошадка, для чего переводить мою пьесу на французский язык? Ведь это дико, французы ничего не поймут из Ермолая, из продажи имения и только будут скучать. Не нужно, дуся, ни к чему. Переводчик имеет право переводить без разрешения автора, конвенции у нас нет, пусть К. переводит, только чтобы я не был в этом повинен».[754] С другой стороны, он засыпал Книппер и Станиславского письмами, то умоляющими, то угрожающими, уточняя в этих посланиях свое мнение насчет декораций, мизансцен, психологии того или иного персонажа. При этом он был уверен, что все останутся безразличны к его указаниям. «Началось с недоразумений, недоразумениями и кончится – такова уж судьба моей пьесы…»[755] – пишет он Ольге.
Чехов решил немедленно ехать в Москву. Но состояние его здоровья так стремительно ухудшалось, что даже просто одеться без одышки уже было невозможно. Призванный к больному доктор Альтшуллер снова запретил ему любые поездки. А поскольку Чехов сослался на мнение профессора Остроумова, который посоветовал ему провести зиму в Москве, Альтшуллер сильно рассердился на знаменитого коллегу. «Вчера Альтшуллер долго говорил со мной о моей болезни и весьма неодобрительно отзывался об Остроумове, который позволил мне жить зимой в Москве. Он умолял меня в Москву не ездить, в Москве не жить. Говорил, что Остроумов, вероятно, был выпивши».
В глубине души Чехов понимал, что доктор прав. Истощение у него было такое, что ни на минуту он не мог забыть о своей болезни. Вес пальто на плечах казался ему непереносимым. Если он делал несколько шагов по саду, то вынужден был остановиться, чтобы перевести дыхание, в ушах шумело. Сидя в кабинете, он часто откладывал перо, потому что грудь разрывал очередной приступ кашля. От одного вида еды на столе его тошнило. Он с отвращением глотал пилюли, прописанные доктором. Мать и сестра с болью наблюдали за ним и уговаривали следовать совету доктора Альтшуллера и есть каждый день по восемь яиц. Он не мог не сопротивляться этому однообразному откармливанию. Малейшие события повседневной жизни стали тяжелы ему. Даже переписка с Ольгой не удовлетворяла. Кроме театра, единственное, о чем они говорили, было его здоровье. Как обычно, Ольга призывала мужа следить за собой, соблюдать режим, диету, строже всего – гигиену, донимая его своими навязчивыми идеями по поводу ухода за телом. Он написал жене, что доктор Альтшуллер в ужасе всплеснул руками, услышав о том, что она заставляет его обливаться холодной водой. Но очевидно, говорил он, теперь, когда он не обливается, по всему его телу вырастут папоротники и грибы.
После отъезда Маши в Москву 4 октября Чехов совсем растерялся. Чтобы успокоить нервы, читал рукописи, присланные из «Русской мысли», и раскладывал пасьянсы. Время от времени пытался получить у Альтшуллера разрешение на отъезд в Москву. Но врач оставался непреклонным. И даже Ольга не советовала пока приезжать – уж очень плохая погода была на севере. Но чем больше его урезонивали, тем сильнее он бил копытом. «Живу я одиноко, сижу на диете, кашляю, иногда злюсь, читать надоело – вот моя жизнь», – пишет он Немировичу-Данченко. Воспоминания о московской жизни временами накатывали на него, и тот же Немирович в начале ноября получил от друга такое признание: «Очень бы мне теперь хотелось пойти в Эрмитаж, съесть там стерлядь и выпить бутылку вина. Когда-то я solo выпивал бутылку шампанского и не пьянел, потом пил коньяк и тоже не пьянел».
Несколько дней спустя он возвращается к теме и пишет Ольге: «Дусик мой, лошадка моя, здравствуй! Нового ничего нет, все благополучно, решительно все. Писать не хочется, а хочется ехать в Москву, и все жду твоего разрешения. <…> Чувствую себя, кажется, недурно. Только вот расстройство кишечника. Надо бы изменить режим, вести более безнравственную жизнь, надо бы все есть – и грибы, и капусту – и все пить. А? Как ты думаешь? <…> Выписывай меня поскорее. Неужели тебе не интересно увидеть мужа в новой шубе?»[756] Теперь он уверен, что стоит ему ступить на московскую землю, силы снова вернутся к нему. И, как три сестры из его собственной пьесы, он живет только утопической этой мечтой. Разумные люди, включая Ольгу, отговаривают его. А он… Услышав ее доводы, чувствуя, что она не желает скорее прислать ему желанное разрешение приехать, Чехов начинает обвинять жену в том, что она просто не хочет, чтобы он был рядом. Потом, опомнившись, извиняется: «Милая лошадка, я все это время выказывал свой крутой характер, прости меня. Я муж, а у мужей, как говорят, у всех крутой характер. <…> Скорей, скорей вызывай меня к себе в Москву; здесь и ясно, и тепло, но ведь я уже развращен, этих прелестей оценить не могу по достоинству, мне нужны московские слякоть и непогода; без театра и без литературы уже не могу. И согласись, я ведь женат, хочется же мне с женой повидаться. <…> Погода совсем летняя. Нового ничего нет. Не пишу ничего, все жду, когда разрешишь укладываться, чтобы ехать в Москву. В Москву, в Москву! Это говорят уже не „Три сестры“, а „Один муж“. Обнимаю мою индюшечку».
Еще через два дня предотъездная лихорадка вышла за все пределы. Чехов даже рассказывает о ней Станиславскому: «Жду не дождусь дня и часа, когда наконец жена моя разрешит мне приехать. Я уже начинаю подозревать жену, не хитрит ли она чего доброго.
Погода здесь тихая, теплая, изумительная, но как вспомнишь про Москву, про Сандуновские бани, то вся эта прелесть становится скучной, ни к чему не нужной.
Я сижу у себя в кабинете и все поглядываю на телефон. По телефону мне передаются телеграммы, и я вот жду каждую минуту, что меня позовут наконец в Москву».
И вот оно пришло, вожделенное разрешение приехать. 29 ноября Ольга прислала телеграмму: «Морозит. Поговори Альтшуллером и выезжай. Телеграфируй. Целую».
Но он не стал говорить с Альтшуллером, 2 декабря, в страшной спешке он уже сел на пароход. Ему безразличны были последствия его безрассудной поездки. Даже если – по собственной неосмотрительности – он сократит себе жизнь, разве можно лишать себя этой последней радости?
Глава XVI «Ich sterbe»
Узнав о поспешном отъезде своего пациента, доктор Альтшуллер вскричал, что это самоубийство. Однако Чехову стало лучше от одного только вида заснеженной Москвы. Он любил сухой морозец, оживленную толпу на улицах, перезвон колоколов в чистом холодном воздухе… Единственным врагом его здесь оказалась бесконечная лестница на третий этаж, которую приходилось преодолевать всякий раз, как он возвращался с прогулки. И, чтобы сберечь силы, Антон Павлович принял решение: взять за правило отныне отказываться от любых приглашений. Тем не менее он посетил оперный спектакль – бенефис друга, Федора Шаляпина, побывал на одном из первых «капустников» – празднике, организованном в его честь «художественниками» на встрече нового, 1904 года. Гвоздем вечера была пародия на схватку борцов, роли которых исполняли огромный, атлетически сложенный Шаляпин, одетый восточным принцем, и маленький Сулержицкий. После кулачного боя примирившиеся противники исполнили дуэт по-украински. Хохот стоял немыслимый. А после ужина, который был накрыт в фойе, после множества веселых тостов столы отодвинули к стенам, и хозяева с гостями начали танцевать; дам в сверкающих, переливающихся разными цветами, сильно декольтированных платьях вели мужчины в элегантных фраках или мундирах. Ольгу тоже унес этот вихрь. Сидя в сторонке, Чехов пытался беседовать с Горьким, несмотря на шум, музыку и смех. Они повышали голос, стараясь быть услышанными, ласково и понимающе переглядывались, и – поскольку горло у обоих было раздражено – все время кашляли. Поговорить так и не удалось, и вскоре Чехов сказал с меланхолической улыбкой, что зато они очень интересно друг с другом покашляли.
Но обычно Антон Павлович проводил вечера дома, на Петровке. Ольге приходилось убегать – в театр, на концерт, на благотворительную ярмарку. «Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт, – вспоминает Бунин, который нередко приходил составить компанию Чехову. – За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:
– Не скучай без меня, Дусик, впрочем с Букишончиком[757] тебе всегда хорошо… До свиданья, милый, – обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги.
Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его, рассказывал о себе, расспрашивал о семье. Он много говорил о своих братьях, Николае, Александре, которого он ставил очень высоко и бесконечно жалел, так как он иногда запивал, – этим он объяснял, что из него ничего не вышло, а одарен он был щедро.
Итак, оставшись вдвоем, друзья говорили свободно. Более того, как мы видели, Чехов чувствовал себя при Бунине настолько непринужденно, что не стеснялся – повинуясь предписаниям жены – мыть голову в присутствии своего молодого собрата по перу. Не прерывая гигиенических процедур, Чехов рассказывал не только о своей семье, о детстве, но и о своем понимании искусства, о последних прочитанных им книгах…
„Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами…
– Что же ты не спишь, Дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну, конечно, он с вами не скучал!
Я быстро вставал и прощался“».[758]
Иногда Чехову случалось и выходить в город под руку с Ольгой, и он с гордостью показывался с ней на улицах. Книппер заказала мужу новую меховую шубу и бобровую шапку. Украшенный и утепленный таким образом, он осторожно двигался, тяжело дышал и присматривался к витринам магазинов. Присутствовал драматург и на многих репетициях, чтобы использовать свое влияние на режиссера, но с каждым днем у него все больше крепло убеждение, что Станиславский извращает смысл «Вишневого сада». Чехов сидел одинокий в темном, холодном, пустом зале, кутался в застегнутую до подбородка шубу, нервно снимал и надевал пенсне и страдал, видя, как его пьеса мало-помалу становится чем-то прямо противоположным тому, чего ему бы хотелось. Сначала робко, потом с раздражением он пытался разъяснить свою точку зрения Станиславскому, но тот упорно отказывался выслушать автора. По мнению основателя Художественного театра, писатель превышал свои полномочия, критикуя постановку. «Только распустились цветочки, как явился автор и все запутал», – говорил он приятельнице-артистке. Да и Ольга Книппер признавала, что режиссер и автор друг друга не понимали и к согласию прийти не могли. Это расхождение в их взглядах было вызвано тем, что они по-разному подходили к психологическому толкованию произведения. Чехов раз двадцать говорил о том, что задумывал «Вишневый сад» как комедию, почти фарс, а Станиславский видел в нем социальную драму, рассказывающую об отступлении мелкого провинциального дворянства под напором вульгарных, упорных и предприимчивых нуворишей. Еще до приезда Чехова он убеждал актеров, что играть надо именно это. И речи не может быть о том, утверждал режиссер, чтобы зритель смеялся или улыбался, зритель должен плакать, видя крушение очаровательного старого мира, приговоренного к смерти современными экономическими требованиями. Как ни возмущался Чехов, Станиславский со своим мнением все равно одержал верх. Не знаю, что происходит, жаловался Чехов одному из гостей, то ли пьеса моя нехороша, то ли актеры ее не понимают… Так, как ставят сейчас «Вишневый сад», добавил он, играть его нельзя. А за несколько дней до премьеры написал старому своему другу, директору гимназии Варваре Константиновне Харкеевич, в Ялту: «…успеха особенного не жду, дело идет вяло».[759] Да и сам Станиславский с некоторых пор стал опасаться, что критики будет столько же, сколько похвал. И, чтобы придать спектаклю больше блеска, решил назначить премьеру на 17 января 1904 года, день рождения и именины Антона Павловича, отмечая, правда, не эти праздники (такого Чехов никогда не допустил бы), а 25-летие его работы в литературе. Таким образом Станиславский надеялся подогреть публику и заставить ее аплодировать – если не актерам, то по крайней мере автору.
Горький и Андреев, со своей стороны, тоже решили воспользоваться юбилеем, но не просто праздника ради, а ради того, чтобы побудить все-таки Маркса пересмотреть его договор с Чеховым. Они написали Марксу письмо. Подписи под этим письмом, как предполагали инициаторы, поставит вся писательская и художественная Москва, а затем и Санкт-Петербург, после чего оно будет передано издателю, чтобы получить от него определенный ответ к юбилейным торжествам.
Письмо это приведено целиком в воспоминаниях писателя Николая Телешова. Текст такой:
«В настоящий момент, когда вся Россия приготовляется праздновать четвертьвековой юбилей А.П. Чехова, с особенной силой выдвигается вопрос, которым в последнее время болезненно интересуется русское общество и товарищи Антона Павловича. Дело заключается в поразительном и недопустимом несоответствии между деятельностью и заслугами Антона Павловича перед родной страной, с одной стороны, и необеспеченностью его материального положения – с другой.
25 лет работает А.П. Чехов, 25 лет неустанно будит он совесть и мысль читателя своими прекрасными произведениями, облитыми живою кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться всем, что дается в удел честным работникам, – должен, иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат – об этом не смеет думать русский писатель, – он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами, он должен жить тем, что зарабатывает сейчас – печальная и незаслуженная участь для человека, на которого обращены восторженные взоры всей мыслящей России, за которым, как грозный укор, стоят 25 лет исключительных трудов, ставящих его в первые ряды мировой литературы. Совсем недавно, на наших глазах, маленькая страна, Польша, сумела проявить дух великой человечности, щедро одарив Генрика Сенкевича в его юбилейный год, неужели в огромной России Антон Павлович будет предоставлен капризу судьбы, лишившей его законнейших его прав?
Нам известен ваш договор с А.П. Чеховым, по которому все его произведения поступают в полную вашу собственность за 75 000 рублей, причем и будущие его произведения не свободны: по мере появления своего они поступают в вашу собственность за небольшую плату, не превышающую обычного его гонорара в журналах, – с тою только огромной разницей, что в журналах они печатаются раз, а к вам поступают навсегда. Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А.П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова, как приложение к журналу „Нива“, должны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избытком вознаградить вас за все понесенные вами издержки. Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что А.П. Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им. Бесспорно нарушая имущественные права вашего контрагента. Указанный договор имеет и другую отрицательную сторону, не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи вам, хотя бы другие издательства предлагали неизмеримо большую плату, должна тяжелым чувством зависимости ложиться на А.П. Чехова и несомненно отражаться на продуктивности его творчества. По одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 5 000 рублей за каждый печатный лист, отданный им другому издательству. Таким образом, он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только дорогим именем – именем А.П. Чехова.
И мы просим вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготевшую над А.П. Чеховым. Допуская, что в момент заключения договора вы, как и Антон Павлович, могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обращаемся к вашему чувству справедливости и верим, что формальные основания не могут в данном случае иметь решающего значения. Случаи расторжения договоров при аналогичных обстоятельствах уже бывали; достаточно вспомнить Золя и его издателя Фескеля. Заключив договор с Золя в то время, когда последний не вполне еще определился как крупный писатель, могущий рассчитывать на огромную аудиторию, Фескель сам расторг этот договор и заключил новый, когда Золя занял во французской литературе подобающее ему место. И новый договор дал покойному писателю свободу и обеспеченность.
Для фактического разрешения вопроса мы просим принять наших уполномоченных: Н.Г. Гарина-Михайловского и Н.П. Ашешова.
Подписали бумагу: Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Влас Дорошевич, Ю. Бунин, М. Горький, В. Дмитриева, И. Белоусов, А. Серафимович, Е. Гославский, Сергей Глаголь, П. Кожевников, В. Вересаев, А. Архипов, Н. Телешов, Ив. Бунин, Виктор Гольцов, С. Найденов, Евгений Чириков».[760]
Познакомившись с этим письмом, Чехов стал возражать против его передачи Марксу, причем возражать категорически. «Не вспомню теперь, как именно произошло все это, – пишет в мемуарах Н. Телешов, – показали ли Чехову копию письма, или вообще передали ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу его освобождения, но только выяснилось, что дальнейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Павлович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к Марксу. Не ручаюсь за достоверность, но вспоминается мне, что говорилось тогда о таких приблизительно словах самого Антона Павловича при отказе:
– Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее».[761]
А бывшему своему ученику, литератору Анатолию Яковлеву, Чехов написал, что ему следовало бы публиковать свои произведения самостоятельно, но как он мог предположить, что будет еще писать целых пять лет. К тому же в то время, признается писатель, семьдесят пять тысяч рублей казались ему неистощимым богатством. А теперь, продолжает он, если бы не доход с пьес, то у него не было бы просто ничего.
Труппа Художественного театра тем временем по секрету от Чехова готовила его чествование на премьере «Вишневого сада». Наверное, Чехов подозревал, что друзья захотят публично поздравить его, и, поскольку очень боялся демонстраций подобного рода, решил вечером 17 января оставаться дома. Начало представления, к великому горю актеров, прошло без него. Но в конце второго акта Станиславский и Немирович-Данченко отправили Антону Павловичу записку о том, что «спектакль идет чудесно», а зрители и актеры в полный голос требуют его присутствия. Чехов пришел в театр к концу третьего действия, и оба директора дружно потащили его на сцену, где уже собрались артисты и представители московских ведущих литературных объединений. Стоя впереди, он видел перед собой полный зал народу, с восторгом аплодировавшего и выкрикивавшего приветственные возгласы.
Чествование началось с чтения адресов, с подарков, венков, цветочных гирлянд, которые складывали к ногам смущенного юбиляра. Потом начались речи – напыщенные, высокопарные, они сменяли одна другую… Журналисты, актеры, руководители литературных кружков поочередно брали слово, чтобы воскурить фимиам человеку, который до омерзения ненавидел комплименты. Сутулый, смертельно бледный, в куцем своем учительском сюртуке, он жмурился от яркого света рампы и не знал, куда деть руки. Самым трудным для него оказалось подавлять приступы кашля. Поскольку в какой-то момент зрителям показалось, что он вот-вот упадет, из зала донеслись крики: «Сядьте!» – но он не слышал этих криков, да, впрочем, и не сел бы все равно, считая, что вежливее принимать такие неумеренные похвалы стоя. И стула на сцене все равно не было…
Антону Павловичу всегда казалась смешной российская страсть к хвалебным речам на юбилеях, равно как и к лживым тостам. Разве в свое время он не воздержался от участия в юбилее своего «первооткрывателя» Григоровича? Разве не сказал как-то Немировичу, что не так боится смерти, как речи Гольцева над его свежей могилой? И вот теперь Виктор Гольцев, редактор «Русской мысли», так превозносит его, будто он уже зарыт в землю… Между речами читали поздравительные телеграммы, пришедшие со всех концов России. Все еще стоя, Чехов слушал, улыбался в пустоту, протирал запотевшее пенсне… Так, будто вся эта суета не имела к нему ни малейшего отношения. Он мечтал, чтобы церемония скорее закончилась.
Зато Мария Павловна, сидя в одной из лож, мечтала, чтобы дифирамбы пели без конца. Ей, взволнованной донельзя, чудилось, будто триумф брата вознаграждает ее за двадцать лет любви и самоотверженности по отношению к нему. Ольга на ярко освещенной сцене и Маша в тени зрительного зала были двумя главными женщинами его жизни.
Наконец, от имени Художественного театра слово взял Немирович-Данченко и произнес хорошо поставленным, красивым, звучавшим медью голосом: «Милый Антон Павлович! Приветствия утомили тебя, но ты должен найти утешение в том, что хотя отчасти видишь, какую беспредельную привязанность питает к тебе все русское грамотное общество. Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: это мой театр. Сегодня он ставит твою четвертую пьесу, но первый раз переживает огромное счастье видеть тебя в своих стенах на первом представлении. Сегодня же по случайности неисповедимых судеб первое представление совпало с днем твоего ангела. Народная поговорка говорит: Антон – прибавление дня. И мы скажем: наш Антон прибавляет нам дня, а стало быть, и света, и радостей, и близости чудесной весны».[762]
Многоголосые панегирики, сопровождаемые бурными овациями вставших как один зрителей, продолжались более часа. Когда аплодисменты смолкли, Чехов, измученный, ушел со сцены, не сказав ни слова благодарности в ответ. Станиславский впоследствии напишет: «Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе».[763] Что же до самого Чехова, то, критикуя смехотворность самого по себе «юбилейного жанра», он все-таки был тронут до глубины души полученными на празднике доказательствами любви и восхищения. «Как бы то ни было, – напишет он через два дня Батюшкову, – на первом представлении „Вишневого сада“, 17 января, меня чествовали, и так широко, радушно и в сущности так неожиданно, что я до сих пор никак не могу прийти в себя».[764]
И в самом деле, овации публики были предназначены скорее автору, чем пьесе. То первое ее представление было отмечено лишь успехом, связанным с обстоятельствами: все собрались почтить Чехова. Пресса после премьеры выступила сдержанно. Журналисты правого крыла упрекали спектакль в том, что в нем эксплуатируется избитая тематика, левого – ругали его за некоторые комические эффекты, неуместные, на их взгляд, в этой «социальной трагедии». И никто, никто не хотел увидеть в «Вишневом саде» комедию, о которой говорил Чехов! И это непонимание раздражало его настолько, что даже спустя несколько месяцев он написал Ольге: «Милая моя конопляночка! Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы».[765]
На самом деле волнует в «Вишневом саде» контраст между глухо звучащей трагедией сюжета и легким комизмом персонажей. Еще больше, чем в других пьесах Чехова, отсутствие действия здесь порождает драматическую напряженность. Околдованный магией диалога – полного аллюзий, беспечного, обыденного, публика уже не надеется на неожиданный поворот действия. Больше того, зритель уже начинает опасаться, что такой поворот способен нарушить покой, царящий в этой провинциальной жизни. Ах, говорит он себе, хоть бы не продали Вишневый сад! Потому что в центре пьесы – именно он, этот сад, цветущий в старом фамильном поместье, наполненном воспоминаниями, поместье, владельцы которого, находясь на пороге разорения, должны вот-вот продать его. И помещики эти снова – мечтатели. Любовь Раневская и ее брат Леонид Гаев ностальгически вспоминают о прошлом в этом деревенском доме, о своих детских комнатах, о вишнях в цвету… Но это легкомысленные существа, неспособные предпринять хоть что-то, что могло бы сохранить для семьи это такое дорогое их сердцам место. И тот и другая даже не пытаются принять решение, постоянно откладывая на завтра скучные обязанности и надеясь, что вдруг повезет. Любовь Раневская даже не едет навестить богатую тетку, чье вмешательство помогло бы спасти поместье от продажи, а Гаев играет на бильярде в ожидании бедствия. Впрочем, у Раневской есть любовник, который томится без нее в Париже, а Гаев слишком взволнован перспективой получить место в банке. Что же до Ани и Трофимова, пары, представляющей молодое поколение, то они радостно приветствуют потерю вишневого сада. «Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест», – заявляет Трофимов Ане.[766]
Всеобщая беззаботность ярче всего проявляется в импровизированном празднике третьего акта – в тот самый час, когда решается судьба вишневого сада. Все вальсируют, пьют, флиртуют, чтобы забыть об ужасе, который вызывает продажа имения. Так, словно дом поразила смерть и владельцы его пляшут на холодеющем трупе.
Тот, кто купил поместье, купец Лопахин – это жесткий, решительный и практичный человек, который срубит вишневые деревья, выкорчует пни и распродаст землю участками, чтобы на каждом построить дачу, которую потом перепродаст. Вот его монолог: «Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу… (Смеется.) Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, Господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется… (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется… Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности… <…> Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы тут дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь… Музыка, играй! <…> Музыка, играй отчетливо! Пускай всё, как я желаю! (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада! (Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.) За все могу заплатить!»[767]
Дух наживы делает его разрушителем красоты, поэзии, но все-таки Лопахин заслуживает порицания в меньшей степени, чем другие персонажи пьесы, ведь именно их небрежение, ими допущенные оплошности делают это разрушение, эту потерю неизбежными. Лопахин символизирует будущее, видит его в работе и в холодном рассудке, и в этом он антипод старой – чарующей, рабски покоряющейся судьбе и пришедшей в упадок России, воплощенной в образах помещиков. Еще более строгий, чем другие пьесы Чехова, напрочь лишенный всяких украшений, «Вишневый сад» околдовывает читателя и зрителя именно атмосферой семейного юмора, излучаемой этим произведением. Когда ты слушаешь, как перетекают одна в другую реплики, вроде бы такие простые, тебе кажется, будто ты многие годы прожил рядом с этими людьми, в непосредственной близости от них, знаешь все об их прошлом, будто ты, как и они, один из хозяев этого бедного банального рая, где каждый предмет – реликвия, рая, в который сегодня ворвутся разрушители. Чудо и тайна чеховского текста – в этом смешении смеха и целомудрия, иронии и печали. Когда старый лакей Фирс оказывается один в запертом доме, забытый хозяевами, а за окнами дома уже стучат топоры дровосеков, пришедших срубить вишневый сад, публика уже не знает, кто прав, а кто виноват, кого осуждать, а кого жалеть. Потому что, высмеивая своих слабых и нерешительных героев, автор с огромной любовью живописует даже эти их недостатки. Покидая вишневый сад, Аня восклицает: «Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!», а Трофимов подхватывает: «Здравствуй, новая жизнь!»,[768] – и это крик надежды нарождающегося поколения. Но последние слова в пьесе принадлежат Фирсу: «Забыли… Уехали… Про меня забыли… Ничего… я тут посижу… А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал… Я-то не поглядел… Молодо-зелено!.. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Я полежу… Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего… Эх ты, недотепа!..» И за этим – ремарка: «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».
Жизнь-то прошла, словно и не жил… Должно быть, такое же чувство испытывал сам Чехов назавтра после спектакля. Внезапно получивший возможность жить праздно, отрезвевший, лишенный необходимости тревожиться, как и что получится, теперь он был убежден, что никогда ничего больше не напишет. Чтобы убить время, он правил гранки «Вишневого сада», готовя пьесу к печати, читал с карандашом в руке рукописи, присланные из «Русской мысли». Принимал многочисленных посетителей и, как всегда, жаловался на их настырность. 20 января он написал доктору Средину, что вокруг него суета, полно людей и не остается ни минуты на себя самого, писал, что вынужден постоянно кого-то принимать, провожать, говорить без остановки, и, когда вдруг находится несколько минут, чтобы остаться наедине с собой, свободным, он начинает мечтать о своих ялтинских пенатах, причем, должен признаться, не без удовольствия.
А с друзьями был сейчас новый повод для оживленных разговоров: только что разразившаяся война между Россией и Японией. Хотя Чехов не доверял лживой информации, которую распространяла пресса, он вел себя патриотично, надеялся на близкую победу русских воинов и даже говорил, не слишком-то в это веря, что запишется в армию – конечно же, в качестве врача. Однако когда кто-то предложил ему написать пьесу о событиях этой войны, он ответил, что для того, чтобы это стало возможным, должно пройти двадцать лет, а сейчас говорить о событиях в художественном произведении нельзя: сначала душа автора должна успокоиться, потому что только в этом случае он сможет быть беспристрастным. А когда Лидия Авилова, возникнув из долгого забвения, написала ему и попросила рассказ для сборника, который она хотела издать с благотворительной целью – в пользу жертв русско-японской войны, он ответил: «Многоуважаемая Лидия Алексеевна, в настоящее время у меня нет (и не предвидится) ни одной такой строки, которую я мог бы предложить Вам для сборника. В начале Вел[икого] поста я поеду к себе в Ялту, там пороюсь в бумагах, но не обнадеживаю, так как едва ли найду что-нибудь.
Если Вы не прочь выслушать мое мнение, то вот оно: сборники составляются очень медленно, туго, портят составителю настроение, но идут необыкновенно плохо. Особенно сборники такого типа, как Вы собираетесь издать, т. е. из случайного материала. Простите мне Бога ради эти непрошеные замечания, но я бы повторил их пять, десять, сто раз, и если бы мне удалось удержать Вас, то я был бы искренно рад. Ведь пока Вы работаете над сборником, можно иным путем собрать тысячи, собрать не постепенно, через час по столовой ложке, а именно теперь, в горячее время, когда не остыло еще желание жертвовать. Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник ценою в 25–40 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и проч.) насчет раненых, сострадания к ним, помощи и проч., что только найдется у этих авторов подходящего. Это и интересно, и через 2–3 месяца можно уже иметь книгу, и продастся очень скоро.
Простите за советы, не возмущайтесь.
Кстати сказать, в настоящее время печатается не менее 15 сборников, как и печаталось».[769]
Обратим внимание, что в этом письме Чехов ставит Авилову в известность о своем намерении вернуться в Ялту. Он и сам точно не знал, что привлекает его в Крыму, который был ему ненавистен, который он нередко называл своей «южной Сибирью», тюрьмой под голубым небом. Но называть-то называл, а обойтись без Ялты не мог: болезнь вынуждала его постоянно ездить туда и обратно, и бесконечные эти перемещения сейчас, при взгляде в те времена, выглядят патетически. Так, будто он менял место жительства, стараясь убежать от преследовавшей его смерти, сбить ее со следа. При той степени упадка сил, до которой Антон Павлович к тому времени дошел, ему уже не нужны были советы Альтшуллера или Остроумова, какой смысл обращать на них внимание? Тем не менее он вдруг припомнил, что последний рекомендовал ему провести лето в окрестностях Москвы, и они с Ольгой поехали смотреть дачу в Царицыне. Конечно, поездка в открытых санях, пусть и в солнечный, и все же морозный день была безрассудством, но зато Чехов, как пишет Ольга Леонардовна в воспоминаниях, беспредельно наслаждался зрелищем белой, горевшей на солнце равнины, получал огромное удовольствие от бодрящего свежего воздуха, от позвякивания колокольчиков под дугой и скрипа полозьев, движущихся по крепкому, укатанному снегу.
В тот же вечер, прибыв домой, он получил еще одно письмо от Лидии Авиловой. Она явно жаждала возобновить с ним отношения. Переменив тактику, теперь она обвиняла себя в неловком поведении прежних дней и выражала надежду, что они встретятся для искреннего объяснения. Простите мне непрошеную откровенность, Антон Павлович, писала она, и продолжала: «Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей. И что же я оклеветала себя в Вашем мнении…»[770] Или еще: «Увы! мне суждено всю жизнь порываться так или иначе и потом долго, иногда годами, страдать от стыда, презирать себя до того, что и жалости к себе не чувствуешь».[771]«Пусть я уронила себя в ваших глазах, – пишет Лидия Алексеевна далее, – наверное, низко уронила, и это было самым большим горем моей жизни, но теперь пришло время сказать… Я даже не прошу, чтобы вы меня простили, прошу только, чтобы вы меня поняли…»[772]
Разумеется, Чехов опасался ловушки, у него не было ни малейшего намерения вновь вступать в переписку с этой женщиной, чувства которой неуправляемы, а в голове сплошная каша. Да как же она не понимает, что давным-давно исключена из его жизни? Он отвечает ей с раздражением, и это письмо ставит наконец точку в их отношениях, включая переписку.
«Многоуважаемая Лидия Алексеевна, завтра я уезжаю в Ялту. Если вздумаете написать мне, то я буду Вам очень благодарен.
Если Вы не издаете сборника, если так решили, то я очень рад. Редактировать и издавать сборники беспокойно, утомительно, доходы же обыкновенно не важные, часто убытки. По-моему, лучше всего напечатать в журнале свой рассказ и потом гонорар пожертвовать в пользу Кр[асного] Креста.
Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике, так как не идут поезда, что-то там сошло с рельсов), руки плохо пишут, да и укладываться нужно. Всего Вам хорошего, главное будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, – это еще вопрос.
Крепко жму руку и шлю сердечное спасибо за письмо. Будьте здоровы и благополучны.
Преданный А. Чехов».На следующий день, 15 февраля, Чехов попрощался с Ольгой и сел в поезд на Севастополь, чтобы оттуда пароходом добраться до Ялты. Приехав на место, встревожился, застав брата Александра обосновавшимся с женой, самым младшим ребенком, кормилицей и собакой на соседней даче. Они решили провести месяц в Крыму. Но очень скоро опасения Антона Павловича рассеялись. Александр больше не пил, не вытворял ничего из ряда вон выходящего, как прежде, а разговаривать с ним оказалось интересно. Но, к сожалению, брат вскоре вернулся в Санкт-Петербург.
Узнавший о том, что Чехов прибыл в Ялту, доктор Альтшуллер тут же пришел его проведать и удивился, обнаружив, что пациент достаточно хорошо выглядит.[773] Тот, смеясь, показывал врачу разнообразные и причудливые подарки, полученные к юбилею. Самому Антону Павловичу больше всего нравилась отличная удочка. Зато Альтшуллер пришел в восторг от серебряной чернильницы XVIII столетия. И, поскольку вещь так ему понравилась, Чехов весело, как вспоминает врач, сказал гостю, что оставит распоряжение, чтобы, в наказание Альтшуллеру, чернильница была передана ему после смерти пациента.
Но вскоре Антону Павловичу веселиться расхотелось. Здесь, в Ялте, как и везде, где он появлялся, ему досаждали докучливые посетители, и ему не хватало мужества захлопнуть перед ними дверь. Он уже задумывался, зачем вообще уехал из Москвы. Если бы наша московская квартира не была так глупо помещена чуть ли не под самой крышей, пишет Чехов жене 23 февраля, я бы скучал по Москве. А четыре дня спустя: «Живется мне скучновато, неинтересно; публика кругом досадно неинтересна, ничем не интересуется, равнодушна ко всему». И – мечтает о лете, которое проведет с женой на даче в московском пригороде: «Надумала ли ты что-нибудь насчет лета? Где будем жить? Хотелось бы недалеко от Москвы, недалеко от станции, чтобы можно было обходиться без экипажа, без благодетелей и почитателей. Подумай, радость моя, насчет дачи, авось и надумаешь что-нибудь. Ведь ты у меня умненькая, рассудительная, обстоятельная, – когда не бываешь сердита. Я с таким удовольствием вспоминаю, как мы с тобой ездили в Царицыно и потом обратно. Ну, Господь с тобой, радость моя, собачка добрая, приятная. Я по тебе скучаю и уже не могу не скучать, так как привык к тебе».[774]
Приходивших из Москвы сообщений о все возрастающем успехе «Вишневого сада» было недостаточно, чтобы поднять ему настроение. Пьесу уже играли и в провинции – и тоже при аншлагах. «Лулу и К.Л.[775] были на „Вишневом саде“ в марте; оба говорят, что Станиславский в IV акте играет отвратительно, что он тянет мучительно. Как это ужасно! Акт, который должен продолжаться 12 минут maximum, у вас идет 40 минут. Одно могу сказать: сгубил мою пьесу Станиславский. Ну, да Бог с ним»,[776] – пишет он Ольге. А Карпову[777] задает вопросы: «Разве это мой „Вишневый сад“, разве это мои типы?» – и сам же отвечает на них, утверждая: «За исключением двух-трех исполнителей – все это не мое… Я пишу жизнь… Это серенькая, обывательская жизнь… Но это не нудное нытье… Меня то делают плаксой, то просто скучным писателем… А я написал несколько томов веселых рассказов… И критика рядит меня в какие-то плакальщицы… Выдумывают на меня из своей головы, что им самим хочется, а я этого и не думал, и во сне не видел… Меня начинает злить это…»[778] Раздраженный донельзя, он вновь обретает веру в Художественный театр только после того, как приходит 2 апреля телеграмма от Станиславского, посвященная первому представлению «Вишневого сада» в Санкт-Петербурге, которое, как сообщил режиссер, прошло с огромным успехом, несравненно большим, чем в Москве. И тут же эта оценка была подтверждена второй телеграммой, от Немировича-Данченко, написавшего, что никогда с тех пор, как он работает на театре, он не видел публики, с такой силой отзывавшейся на малейшие нюансы психологической драмы. С большей частью пьес Чехова все было точно так же: сдержанный, если не враждебный прием первыми зрителями и внезапно – подобно взрыву – бешеный успех. Он бы должен привыкнуть за много лет к этому медленному раскачиванию общественного мнения. Но он не привыкал и всегда поначалу оказывался удивлен, уязвлен, потом постепенно успокаивался, но в глубине души оставалась горечь. Тем не менее сейчас он советовал Ольге не волноваться, сталкиваясь с язвительными нападками некоторых журналистов: «Сегодня читали в „Руси“ про Художественный театр. Правильно. Вчера читал фельетон Буренина и заключил из него, что „Новое время“ решило растерзать вас, и порадовался, так как растерзать вас уже никому не удастся, что бы там ни было. Ведь вы уже сделали свое, к настоящему и будущему можете относиться почти безразлично».[779] Она больше не думала о том, чтобы бросить театр и посвятить себя мужу. А он больше не надеялся, что сумеет жить весь год вместе с женой. Наверное, он бы и не вынес постоянного присутствия женщины рядом, зато какой желанной казалась ему Ольга на расстоянии! Он писал ей почти каждый день, уверял, что любит, называл «моя лошадка», «моя замечательная половинка», «роднуля», «милая моя собачка», «конопляночка», «зяблик», выдумывал десятки нежных прозвищ… «Я жду не дождусь, когда увижу тебя, радость моя, – писал он Ольге. – Живу без тебя, как кое-кака, день прошел – и слава Богу, без мыслей, без желаний, а только с картами для пасьянса, с шаганьем из угла в угол. В бане не был уже давно, кажется, шесть лет. Читаю все газеты, даже „Правительственный вестник“, и от этого становлюсь бурым. <…> Не забывай меня, думай иногда о человеке, с которым ты когда-то венчалась, и целую Дусю мою. Твой кое-кака».[780] На следующий день он спрашивал ее приказаний насчет его путешествия (он уже собирался в Москву), насчет дачи, насчет всей жизни, шутил: очень хочется побить тебя и показать тем самым свою власть, мечтал, как они пойдут гулять по Тверской и Петровке… А еще через несколько дней, снова повторив, как скучает без нее, и снова пошутив, на этот раз на тему о том, что боится завести любовницу, вдруг пишет две строчки, в которых вроде бы шутка оборачивается системой мировоззрения: «Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это все равно, что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, а больше ничего не известно».[781]
В этой мнимой остроте, как в зеркале, отражается отношение Чехова к метафизическим вопросам. Любое религиозное или философское объяснение потустороннего представляется ему фальшивым. Если Бог существует, думал он, претендовать на способность определить Его мерками, доступными нашему разуму, значит приуменьшить Его значение. И в записных книжках есть такие слова: «Умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам, а что вне этих чувств, что, вероятно, громадно, невообразимо, высоко и находится вне наших чувств, остается жить».[782] И еще: «Боже мой, как все эти люди страдают от умствования, как они встревожены покоем и наслаждением, которое дает им жизнь, как они не усидчивы, непостоянны, тревожны; зато сама жизнь такая же, как и была, не меняется и остается прежней, следуя своим собственным законам». И еще: «До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть недовольным, пока наконец не отыщет своего Бога. Жить во имя детей или человечества нельзя. А если нет Бога, то жить не для чего, надо погибнуть».[783]
Временами его охватывает неутолимая потребность писать. Но вскоре, слишком слабый для того, чтобы отдаться продолжительной работе целиком, он начинает искать оправданий своему бездействию: конечно, в первую очередь это надоедливые посетители, от которых никак не избавишься, но теперь еще и вести о войне на Дальнем Востоке. «Наши побьют японцев»,[784] – пишет он жене в одном письме, в других просит присылать вырезки из газет, жалуется, что работа кажется ему безуспешной, впрочем, как он говорит, ему все время кажется, что из-за войны нас все равно никто читать не станет. А фельетонисту и беллетристу Александру Амфитеатрову, сказав, что пишет мало, читает много, заявляет: «Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент».[785] Но, с другой стороны, жадно, как все его соотечественники, глотая газетные сводки и глубоко переживая поражения русских, Чехов от всей души надеется, что сражения вскоре прекратятся и будет заключен мирный договор, пусть даже не прибавляющий славы родине.
Практически отказавшись брать в руки перо, он утешается тем, что мечтает о новых пьесах, которые напишет, как ему представляется, как только чуть-чуть поздоровеет. 25 марта пишет жене: «Опять приходил сегодня Орленев, просил написать для него трехактную пьесу для заграничных поездок, для пяти актеров; я обещал, но с условием, что этой пьесы, кроме орленевской труппы, никто другой играть не будет».[786] Пьесу Чехов пообещал написать уже к сентябрю… Да и со Станиславским он обсуждал новые планы. «Сам он мечтал о новой пьесе совершенно нового для него направления, – рассказывает тот в книге „Моя жизнь в искусстве“. – Действительно, сюжет задуманной им пьесы был, как будто бы, не чеховский. Судите сами: два друга, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общая любовь и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс. Декорация последнего действия изображает громадный корабль, затертый в льдах. В финале пьесы оба приятеля видят белый призрак, скользящий по снегу. Очевидно, это тень или душа скончавшейся далеко на родине любимой женщины. Вот все, что можно было узнать от Антона Павловича о новой задуманной пьесе».[787]
Ожидая, когда же к нему вернутся силы, необходимые для творчества, Чехов проводил долгие часы в своем кабинете, ничего не делая, просто глядя в пространство. Чтобы хоть чем-то себя занять, почитывал рукописи, которые присылал ему редактор «Русской мысли» Виктор Гольцев, правил их и сопровождал кратким комментарием. Еще он стал обводить чернилами стершиеся карандашные записи в записных книжках. Один из гостей, побывавших у него весной в Ялте,[788] вспоминал, как Антон Павлович, показывая ему записную книжку, сказал: «Листов на пятьсот ещё неиспользованного материала. Лет на пять работы» – и добавил, что, если он сможет все это написать, его семья никогда не узнает нужды.
С середины апреля состояние Чехова ухудшается, он жалуется на приступы кашля, на сильные боли в кишечнике. Думаю, пишет он Соболевскому, что усугубляется это все здешним климатом, который я люблю и презираю, как любят и презирают красивую женщину с дурным характером. Но, несмотря на постоянные недомогания, Антону Павловичу не сидится на месте. Решив уехать 1 мая, он позаботился о том, чтобы навестить своего дантиста и поставить пломбу, но даже не подумал спросить совета у доктора Альтшуллера. Радуясь своим «достижениям», он сообщает Ольге: «Дуся моя, жена, пишу тебе последнее письмо, а затем, если понадобится, буду посылать телеграммы. Вчера я был нездоров, сегодня тоже, но сегодня мне все-таки легче; не ем ничего, кроме яиц и супа. Идет дождь, погода мерзкая, холодная. Все-таки, несмотря на болезнь и дождь, сегодня я ездил к зубному врачу. <…> В Москву я приеду утром, скорые поезда уже начали ходить. О мое одеяло! О телячьи котлеты! Собачка, собачка, я так соскучился по тебе!»[789]
На этот раз Чехов плохо перенес долгое путешествие, в дороге у него был приступ, и, высадившись в Москве из поезда 3 мая, он еле передвигал ноги. Ольга сняла к приезду мужа новую квартиру, на этот раз – с лифтом, в Леонтьевском переулке. Но Антону Павловичу не удалось порадоваться удобствам и оценить их по достоинству, потому что он сразу же слег в постель. Ольга пригласила врача, пользовавшего ее семью, доктора Таубе, который смог только констатировать, что состояние больного крайне тяжелое. Диагностировал рецидив плеврита и одновременно «катар кишечника», что означало, без всяких сомнений, что туберкулез поразил уже и брюшную полость. Чехову становилось все труднее дышать, его бил озноб, он страдал от резкой, стреляющей боли в руках и ногах. Ночью он не мог уснуть от этой боли и, лежа без сна, думал: вот, уже и позвоночник задет. Доктор Таубе поддерживал сердце больного уколами морфия, назначил строгую диету, запретил подниматься с постели и велел, как только ему станет лучше, немедленно отправляться в Германию, чтобы его там осмотрел берлинский специалист по туберкулезу. Ольга ухаживала за больным, и Чехов писал в Ялту доктору Средину, их общему другу, что жена у постели больного мужа – чистое золото, что никогда он не видел подобной сестры милосердия, а это значит, что он поступил хорошо, просто замечательно, когда женился, потому что иначе просто непонятно, что бы он делал теперь. А Марии Павловне, которая уехала к матери в Ялту: «…я все еще в постели, ни разу не одевался, не выходил, и все в том же положении, в каком был, когда ты уезжала. Третьего дня ни с того ни с сего меня хватил плеврит, теперь все благополучно. <…> Дышать я стал лучше, одышка уже слабее. Доктором своим я доволен. Теперь у меня уже не бывает поносов, и такого удобства я не испытывал чуть ли не с 25 лет». В этом же письме он дает сестре и хозяйственные советы, обустройство ялтинского дома и порядок в нем волнуют хозяина по-прежнему.[790]
В ожидании времени, когда можно будет встать с постели, Антон Павлович продолжает читать и комментировать рукописи, отвечать на письма просителей, отправлять кипами книги в Таганрогскую библиотеку и подробные инструкции по уходу за садом сестре. Друзьям, которые заходят повидаться с ним, Чехов кажется сильно осунувшимся, теперь он принимает их в халате, сидя на турецком диване. Извиняясь перед ними за «неглиже», он изо всех сил старается выглядеть веселым и любопытным ко всему. Но гостей поражали его впалые щеки, восковой цвет лица, расширенные зрачки. Профессор Россолимо, университетский товарищ Антона Павловича, заметил, придя к другу, что, хотя, как у всех чахоточных, у него обжигающе-горячие руки и красные пятна на скулах, он говорит о своей болезни с веселой беспечностью. И задумался: в самом ли деле Чехов надеялся выздороветь или притворялся, желая, чтобы близкие поверили в такую возможность?
С поэтом[791] Гиляровским, который поддержал его когда-то в пору литературного дебюта, Чехов вспоминал их юношеские проделки. А во время последнего его визита накануне отъезда, когда Гиляровский рассказывал о своем путешествии по задонским степям, откуда недавно вернулся, о калмыцком хуруле, о каторжной работе табунщиков зимой, в метель, воскликнул: «Ах, степи, степи!.. Вот ты счастливец… Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то что мы. Только помни: водку пей до пятидесяти лет, а потом не смей, на пиво переходи».[792] Гиляровский продолжал свой рассказ, а хозяин «слушал, слушал, сначала всё крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль… задумчивые, радостные». Гостю показалось, что друг словно видит ту степь, которую так любит, и он замолчал, подлив себе вина. Чехов похвалил вино, но сказал, что сливянка лучше, и выпьет он ее обязательно – тогда, когда снова попадет в степь. А потом вдруг задремал. «Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежащие жёлтые руки с синими жилками и думал: „Нет, Антоша, не пивать тебе больше сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных…“ – грустно заканчивает свои воспоминания об этой встрече Гиляровский.»
К концу месяца температура у Антона Павловича снизилась, и он нашел в себе силы подняться. 31 мая он торжествующе отчитывается сестре в том, что – только представь себе! – впервые надел калоши и сюртук и – тоже впервые! – поехал прокатиться на извозчике. На следующий день, 1 июня, они с Ольгой Леонардовной вышли погулять снова и «шажком на резиночках прокатились по Тверскому бульвару». Теперь ничто не мешало воспользоваться советом доктора Таубе и отправиться в Германию. Билеты для Чехова и Ольги были уже взяты: поезд до Берлина уходил из Москвы 3 июня 1904 года.
Друзья пришли проводить их, пожелать счастливого пути. Среди них – писатель Телешов.
«Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу, – вспоминал тот спустя годы. – Случилось так, что я зашел к нему днем, когда в квартире как раз никого не было, кроме прислуги. Перед отъездом было много всяких забот, и все его семейные хлопотали без устали.
Я уже знал, что Чехов очень болен – вернее, очень плох, и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.
Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человечек с узкими плечами, с узким бескровным лицом – до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.
А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:
– Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.
Он сказал другое, не это слово, более жестокое, чем „умирать“, которое не хотелось бы сейчас повторить.
– Умирать еду, – настоятельно говорил он. – Поклонитесь от меня товарищам вашим по „Среде“.[793] Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю… Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше уже мы не встретимся.
Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.
– А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.
Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом, боялся зашуметь сапогами. Нужна была какая-то нежная тишина, нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними и исходили от чистого и прекрасного – чеховского сердца.
На другой день он уехал».[794]
Черная меланхолия, готовность к смерти рассеялась у Чехова, словно по волшебству, сразу, как они с Ольгой прибыли в Берлин, 5 июня 1904 года. Едва устроившись в удобном номере отеля «Савой», он почувствовал себя лучше. Как всегда, перемена места способствовала приливу энергии. Вечный кочевник, он обновлялся телом и душой в путешествиях. В первых же письмах из Германии сестре он говорит о том, что ест теперь с аппетитом, толстеет на глазах, что боли в ногах и понос совершенно исчезли, что он целый день на ногах – бегает по Берлину, посещая магазины, побывал с женой в Тиргартене, знаменитом во всей Европе зоологическом саду, и с удовольствием рассказывал, как туда ездил и как это «далеко»… Ощущение затерявшихся в иностранном городе путников сближало его с Ольгой. Впервые они оказались вместе за пределами России. Антон Павлович наслаждался тем, что открывает новый мир рядом со своей подругой и что они могут вволю обмениваться туристскими впечатлениями. Он смеялся над тем, что им до сих пор не удалось встретить ни одной хорошенькой немки, и над тем, как все здесь «гнусно» одеваются. Зато, добавлял он, жизнь в Берлине весьма комфортабельна, едят хорошо, все тут недорого, лошади упитанные, улицы чистые, везде порядок…[795] Письмо летело за письмом: «Пишу Вам сие из Берлина, где в настоящее время Ваш покорный слуга ест за десятерых, спит чудесно и вообще живет недурно. Здоровье с каждым днем все лучше и лучше…»[796] Чехова переполнял оптимизм, и он строил даже планы пожить потом некоторое время на итальянских озерах, а в Ялту вернуться оттуда в августе через Константинополь.
Эту счастливую веру в будущее отнюдь не разделял профессор Карл Эвальд, знаменитый специалист по туберкулезу, к которому направил Антона Павловича доктор Таубе. Профессор тщательно осмотрел пациента, развел руками в знак собственной беспомощности и ушел, не сказав ни слова, словно понял, что какое бы то ни было лечение бесполезно. «Это, конечно, было жестоко, но развел он руками, наверное, от недоумения, зачем и куда такого больного везут», – напишет потом доктор Альтшуллер.[797]
Со своей стороны, корреспондент газеты «Русские ведомости» Иоллос, повстречав Чехова, написал своему издателю Соболевскому, что лично у него впечатление, будто дни Антона Павловича сочтены: он показался журналисту тяжело больным, был чудовищно худым, кашлял, при малейшем движении задыхался, а температура у него постоянно была повышенной.
Этот же корреспондент «Русских ведомостей» провожал Чехова и Ольгу на Потсдамский вокзал, когда, после трех дней пребывания в Берлине, они садились в поезд, который должен был отвезти их в Баденвейлер, в Шварцвальд. Журналист записал тогда, что Антон Павлович с трудом преодолел маленькую лестничку Потсдамского вокзала, потом ему пришлось несколько минут посидеть, чтобы перевести дыхание. Припомнил он и то, что тем не менее в момент отправления поезда, хотя Иоллос и просил Чехова спокойно сидеть на месте, тот встал, высунулся из окна и долго делал ему знаки головой, пока вагон удалялся.
Расположенный на западном краю Шварцвальда, в сорока километрах от Базеля, маленький городок на водах Баденвейлер – чистенький, заурядный и тихий – показался Чехову обетованной землей для выздоровления. Два первых дня они с Ольгой провели в семейном пансионе, потом поселились в особняке под названием вилла «Фредерике», где принимали платных постояльцев. Из большого сада виллы, с его вычищенными дорожками, изобилием заботливо ухоженных цветов, открывался прекрасный вид на горы вдалеке. Чехов с утра и до семи часов вечера оставался на свежем воздухе, сидя в удобном кресле. Здесь, писал он сестре, солнце не обжигает, а ласкает кожу. Местный врач, доктор Швёрер, оказался толковым и приятным человеком. Согласно его предписаниям, пациенту полагался полный покой и специальное питание: желудевое какао, громадные количества масла, протертая овсяная каша (Чехов писал: «необыкновенно вкусная и ароматичная, не похожая на нашу русскую»), на ночь – «для сна» – чай, заваренный на землянике. Антон Павлович ворчал, что все это сильно смахивает на шарлатанство, хотя признавал, что результаты вполне удовлетворительные. У него больше не болели ноги, он стал хорошо спать. Друзьям он писал, что «здоровье входит не золотниками, а пудами», Маше – что «доктора-немцы» перевернули всю его жизнь, что он набирает силы с невероятной скоростью, а матери сообщил 13 июня, что здоровье его настолько улучшилось, что, может быть, через неделю он будет совсем излечен. Даже находившаяся рядом Ольга и та обрела такую надежду на скорое выздоровление мужа, что решалась время от времени оставлять его одного, чтобы съездить в Базель полечить зубы. Еще она побывала в Фрейбурге – заказала Антону Павловичу белый фланелевый костюм.
Однако эйфория была недолгой, и через неделю Чеховым овладели беспокойство, тоска и желание перемен. После похвал мирному германскому комфорту Баденвейлера посыпались жалобы. Вот что писал сам Чехов Куркину: «…хорошее местечко, теплое, удобное для жизни, дешевое, но, вероятно, уже дня через три я начну помышлять о том, куда бы удрать от скуки»,[798] Соболевскому: «…очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе. Масса зелени, впечатление гор, очень тепло, домики и отели, стоящие особняком в зелени. Я живу в небольшом особняке, пансионе, с массой солнца (до 7 час. вечера) и великолепнейшим садом, платим 16 марок в сутки за двоих (комната, обед, ужин, кофе). Кормят добросовестно, даже очень. Но воображаю, какая здесь скука вообще! Кстати же сегодня с раннего утра идет дождь, я сижу в комнате и слушаю, как под и над крышей гудит ветер»,[799] Марии Павловне: «…никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 час. утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем. Ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее, а про итальянскую или французскую и говорить нечего…»[800] Даже врачебная наука доктора Швёрера теперь вызывала у него сомнения: 21 июня он пишет Марии Павловне, что доктор его лечит… то есть наносит ему визиты, но лечение ничем не отличается от того, какое было в Москве, – то же дурацкое какао и та же овсянка… Поскольку не могло быть и речи о том, чтобы уехать из Баденвейлера, единственной для Чехова возможностью хоть как-то развлечься оказалось покинуть «слишком обычную», на его вкус, виллу «Фредерике» и перебраться в лучший здешний отель – «Зоммер». Здесь он облюбовал балкон, с которого можно было часами смотреть, как собираются люди вокруг почтового отделения, расположенного напротив. Он все еще строил планы путешествий, изучал разные маршруты, 28 июня просил Машу, чтобы она прислала ему расписания разных пароходов: хотел идти морем из Триеста в Одессу, а неделей раньше писал: «Меня неистово тянет в Италию»…
Между тем на Баденвейлер обрушилась жара. Чехов с его полуразрушенными легкими задыхался в тяжелой, влажной атмосфере. Но тем не менее в тот же день, что писал Марии Павловне, 28 июня, он обращается с просьбой и к другу, коллеге-врачу Григорию Россолимо: «Вы как-то рассказывали мне вечерком про свое путешествие мимо Афона, с Л.Л.Толстым, Вы шли из Марселя в Одессу? На Австрийском Ллойде? Если это так, то, ради Создателя, поскорее берите перо и пишите мне, в какой день пароход выходит из Марселя и в каком часу, сколько дней идет до Одессы, в какой час дня или ночи приходит в Одессу, можно ли на нем иметь комфорт, например, каюту для меня и для жены, хороший стол, чистоту… вообще остались ли Вы сами довольны. Мне главным образом нужны спокойствие и все то, что страдающему одышкой потребно. Умоляю Вас, напишите! Напишите также цену билетов». И только после этого делится своими скорбями: «У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу, т. е. не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу. Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а легкого платья у меня нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко – по крайней мере на юге».[801]
Жара ли, частые ли переезды снова истощили его силы, как знать… В письме к милой его Маше – впервые за все время пребывания в Шварцвальде – тоже прорываются невеселые нотки: «Питаюсь я очень вкусно, но неважно, то и дело расстраиваю желудок. Масла здешнего мне нельзя. Очевидно, желудок мой испорчен безнадежно, поправить его едва ли возможно чем-нибудь, кроме поста, то есть не есть ничего – и баста. А от одышки единственное лекарство – это не двигаться…»[802] Письмо Антона Павловича разминулось в пути с письмом сестры, которая сообщала ему, что, поскольку ему стало лучше, она согласилась поехать с братом Иваном отдохнуть на Кавказ, советовала лечиться как следует, стараться поменьше кашлять и побольше есть, набираться сил и возвращаться домой.
Мария Павловна и Иван Павлович поднялись по трапу парохода, идущего в Батум, 29 июня, а Антону Павловичу в этот день вдруг стало совсем плохо. Ночью случился ужасный приступ, сердце почти остановилось. Чтобы поддержать больного, Швёрер впрыснул морфий, дал кислород. Пульс нормализовался, до утра все было спокойно. Но назавтра все началось сначала, припадок повторился. Двое корреспондентов русских газет, примчавшиеся в Баденвейлер, отослали в свои редакции тревожные бюллетени о здоровье Чехова. Выбравшись из повторного криза, Чехов, спокойный и безмятежный на вид, попросил Ольгу Леонардовну вписать в чек, который они должны были отправить в берлинский банк, не его, а свое имя. Она растерялась, испугалась: зачем? А он только улыбнулся: так, на всякий случай.
1 июля Чехову, казалось, стало получше, и журналисты отправили в газеты успокаивающие сводки: сердце в норме, день прошел спокойно. А вечер Ольга Леонардовна вспоминает так: «Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выдумывая один рассказ. <…> После трех тяжелых, тревожных дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, на что я ответила, что гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, мы просто прослушали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катания, с пешеходной прогулки – одним словом, отовсюду – собираются с мечтой хорошо и сытно поесть после физической усталости дня. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, – и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях… Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!»[803]
Чуть позже Антон Павлович задремал. Жара в комнате была удушающая. Больной дышал тяжело, но лицо его оставалось спокойным. Несколько часов спустя, в половине первого ночи, Чехов проснулся: у него началось удушье и он сам – впервые в жизни! – попросил вызвать доктора. «Ощущение чего-то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня», – вспомнит потом Ольга Леонардовна. Но вспомнит и «минуту потерянности», когда она вдруг почувствовала себя совершенно одинокой и беспомощной в большом немецком отеле, населенном незнакомыми людьми, к тому же в это время наверняка спящими. Правда, после секундной нерешительности она сообразила, что здесь, в соседнем номере, живут два русских студента, два брата, разбудила их и послала одного из них за доктором Швёрером: «Я слышу как сейчас, среди давящей тишины июльской мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку…» – напишет она в воспоминаниях.[804]
А пока студент бегал за врачом, Ольга вместе с его братом прямо на полу колола лед, чтобы положить на сердце умирающему.
У Антона Павловича подскочила температура, начался бред. Он в полузабытьи, блестя глазами, говорил что-то о неизвестном моряке, спрашивал про японцев… А когда жена положила ему на грудь пузырь со льдом, внезапно пришел в себя и сказал тихо, но очень ясно: «Зачем? На пустое сердце лед не кладут».[805]
Несмотря на то что окна были распахнуты, он задыхался, волосы на висках намокли от пота. Доктор Швёрер пришел в два часа ночи. Увидев врача, Антон Павлович приподнялся, сел в подушках и, повинуясь свойственному ему рефлексу вежливости, заговорил по-немецки (вообще он языка почти не знал). «Ich sterbe…», «я умираю» – спокойно и серьезно сказал он доктору. Тот сразу же сделал пациенту укол камфары, дал кислород. Потом, поскольку принятые меры не помогали, распорядился послать за новым кислородным баллоном. Чехов тихо запротестовал: «Не надо уже больше. Прежде, чем его принесут, я буду мертв». Тогда доктор Швёрер приказал принести шампанского.
Чехов взял бокал, повернулся к Ольге, улыбнулся, как она говорит, своей удивительной улыбкой, произнес: «Давно я не пил шампанского», выпил все до дна и тихо опустился на левый бок. Спустя мгновение он уже не дышал: перешел из жизни в смерть со своей обычной простотой. Было 2 июля 1904 года. Часы показывали три пополуночи. «И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горячие электрические лампочки и металась по комнате…»
Сказав несколько слов в утешение вдове, доктор ушел. И тут среди тишины и духоты ночи с хлопком выскочила из недопитой бутылки шампанского пробка. Бабочка нашла открытое окно и растворилась в жарком воздухе. Снова воцарились безмолвие и неподвижность. Ольга, как зачарованная, не сводила глаз с лица мужа. Этих мгновений она не забудет до конца жизни: «Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и звуки органа, доносившиеся из ближней церкви. Не было слышно звука людского голоса, не было суеты обыденной жизни, была красота, покой и величие смерти…
И у меня – сознание горя, потери такого человека, как Антон Павлович, пришло только с первыми звуками пробуждающейся жизни, с приходом людей, а то, что я испытывала и переживала, стоя одна на балконе и глядя то на восходящее солнце и на звенящее пробуждение природы, то на прекрасное, успокоившееся, как бы улыбающееся лицо Антона Павловича, словно понявшего что-то, – это для меня, повторяю, пока остается тайной неразгаданности… Таких минут у меня в жизни не было и не будет…»[806]
* * *
Ольга Леонардовна сделала все, чтобы Чехова проводили достойно. Первую панихиду по нему отслужили в католической часовне, на время превращенной в православную с помощью русской жены доктора Швёрера. Сюда в течение двух суток приходили с ним прощаться и русские, лечившиеся в Германии, и иностранцы. Затем останки положили в цинковый гроб, запаяли крышку, определили с властями маршрут следования, и начался долгий, недельный путь на родину ее великого сына. По всей Германии на вокзалах стояли и плакали люди, в основном русские студенты, учившиеся за границей, – с цветами, с венками. Похороны в Москве были назначены на 9 июля. Друзья, почитатели таланта собрались на Николаевском вокзале в половине седьмого утра – никто не знал точно, в котором часу прибудет поезд. Народу пока – из-за путаницы с телеграммами со станции на станцию уже на территории России – было немного, но он все прибавлялся, перрон превратился в море цветов. И каково же было изумление присутствовавших, когда после того, как освобожденный от пассажиров и багажа состав угнали на запасной путь, маневровый паровоз, пыхтя, подвез к перрону… зеленый товарный вагон с жирной надписью на дверях: «Для перевозки свежих устриц. № Д-1734». Потом выяснилось, что гроб с телом Чехова, «так нежно любимого Москвой», переставили в этот вагон на первой же российской станции – в Вержболове.
Горький был вне себя от гнева, он 11 или 12 июля писал жене: «Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне „для перевозки свежих устриц“ и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Это – мелочи, дружище, да, но когда я вспоминаю вагон и Кукареткину – у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы. Ему – все равно, хоть в корзине для грязного белья вези его тело, но нам, русскому обществу, я не могу простить вагона „для устриц“. В этом вагоне – именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее, которая всегда так возмущала покойного».[807] Вскоре вагон, да и весь перрон были завалены цветами. Двинулась похоронная процессия, люди потянулись за ней, удивляясь про себя, почему играет военный оркестр, однако одобряя действия властей, сумевших придать событию некоторую торжественность. Еще одна путаница. Тот же Горький вспоминает: «Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более;[808] очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках – женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В.А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:
– Ах, он был удивительно милый и так остроумен…
Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и многое другое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике».[809] Горькому казалось, что никто вокруг не осознает огромности потери, которую понесла Россия.
Во дворе Николаевского вокзала отслужили первую панихиду. Процессия двинулась улицами города. Гроб от вокзала несли студенты Петровской академии. И так, на руках, его пронесли через всю Москву. Ольга Леонардовна шла за гробом.
По мере продвижения траурного кортежа толпа росла на глазах. Люди снимали шляпы, крестились. Студенты взялись за руки и образовали живую цепочку, чтобы не допустить любопытных на мостовую. Движение трамваев на улицах было остановлено, многие из них были перегорожены канатами. Ротозеи толпились на тротуарах и тыкали пальцами в Горького и Шаляпина, которые шли плечом к плечу, некоторые пытались прорваться к знаменитостям. Люди стояли у окон, провожая любимого писателя.
Было несколько остановок. Первая – возле Художественного театра, в Камергерском переулке. Здесь над толпой поднялся и поплыл на флагштоке макет чайки. Затем остановились у редакции «Русской мысли», где также отслужили короткую литию и куда привезли с вокзала приехавших в этот день в Москву мать, сестру и братьев Чехова. Их не хотели пропускать, пришлось доказывать, что они – родные. Маша кричала: «Пустите, пустите меня к брату!», кто-то сказал: «Дайте дорогу матери» – и толпа наконец расступилась. От «Русской мысли» гроб понесли на руках писатели. Еще одна остановка с церковной службой была у памятника Пирогову около клиники Остроумова – там Чехов в 1897 году лежал, когда у него впервые открылось кровохарканье. На Девичьем поле писателей сменили врачи…
У Новодевичьего кладбища ждала еще одна огромная толпа. Врачи внесли тело Чехова в Успенскую церковь, где была отслужена заупокойная литургия. В половине второго, после отпевания, гроб снова подняли и хотели вынести, но не давала толпа. Тогда его стали передавать с рук на руки над головами людей – до самой могилы, уже убранной цветами и устланной хвоей. Сюда с трудом протиснулись родные, жена, близкие друзья. Еще одна – последняя – панихида, и вместе с монастырским хором огромная толпа запела «Вечную память». Никаких речей не говорили. Опустили гроб в яму, Ольга, члены семьи, друзья покойного по обычаю бросили по горсти земли на длинный ящик, могилу засыпали, поставили простой деревянный крест с надписью «Антон Павлович Чехов», весь участок (Чехов был похоронен рядом с отцом) завалили цветами… Еле стоящие на ногах от горя три женщины не могли оторвать взгляда от этой горы венков и букетов, под которой теперь покоился их любимый Антон: мать, сестра, жена…[810]
«Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон, – пишет Александр Куприн. – Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.
Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:
– Вот горе-то у нас какое… Нет Антоши…»[811]
Это были единственные слова, произнесенные над свежей могилой. Чехов, ненавидевший пафос, высоко оценил бы такую сдержанность.
Список литературы, использованной при переводе
Чехов А. П. Собрание сочинений. Т. 1—12. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954–1957.
Чехов А. П. Переписка с женой. М.: Захаров, 2003.
Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950 (сетевой вариант).
Бунин И. А. О Чехове. Неизданная рукопись. Издательство имени Чехова, 1955 (сетевой вариант).
Гиляровский В. А. Друзья и встречи. Антоша Чехонте. В кн.: Москва и москвичи. Минск: Народная Освета, 1980.
Чехова М. П. Из далекого прошлого. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.
Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М. 1954.
Чехова М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М.: Московский рабочий, 1959.
Ермилов В. Чехов. М.: Молодая гвардия, 1946.
Паперный З. Тайна сия… Любовь у Чехова. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2002.
Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Л.: Academia, 1928.
Малюгин Л., Гитович И. Чехов. Повесть-хроника. М.: Советский писатель, 1983.
Чехов в воспоминаниях современников. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1952.
А.П. Чехов в воспоминаниях современников, серия литературных мемуаров. М.: Художественная литература, 1986.
Громов М. Книга о Чехове. М.: Современник. Серия – библиотека «Любителям российской словесности», 1989.
Российская академия наук, Научный совет по истории мировой культуры, Чеховская комиссия. Чеховиана. Чехов и его окружение. М.: Наука, 1996.
Киреев Р. Чехов. Посещение бога. Из книги «Семь великих смертей» (сетевой вариант).
Моэм С. Второе июля четвертого года. Пер. Б. Штерна. К 50-летию со дня смерти А. П. Чехова (сетевой вариант).
Клех И. Чехов: Ich sterbe. Знамя, 2003, № 2.
Чуковский К. Современники. М.: Молодая гвардия, 1962.
Шкловский В. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 1963.
Фото
Семья Чеховых
А. Чехов с семьей на крыльце мелиховского дома
А. Чехов. 1893 г.
А. Чехов. 1899 г.
А. Чехов, Л. Толстой, М. Горький
А. Чехов с М. Горьким
А. Чехов. 1902 г.
А. Чехов и Л. Толстой в Крыму
А. Чехов в ялтинском кабинете. 1901 г.
А. Чехов и О. Книппер
А. Чехов в Ялте
Мелихово
Дом А. Чехова в Ялте
Скромная спальня А. Чехова
А. Чехов с артистами МХАТа
МХАТ поставил все пьесы А. Чехова
Примечания
1
Классы в российской гимназии (учебном заведении) нумеровались с первого по восьмой, первый был начальным, а восьмой выпускным. (Примеч. автора.)
(обратно)2
Александр родился в 1855, Николай в 1858, Антон в 1860, Иван в 1861, Мария в 1863, Михаил в 1865. (Примеч. автора.)
(обратно)3
Отца семейства (лат.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)4
Письмо от 2 января 1889 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А.П. Собрание сочинений: В 12 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. Т. 11. С. 328. (Примеч. переводчика.) (Далее при ссылках на это издание будет указано – Чехов.)
(обратно)5
Этот диалог, как и сцену, которая последует ниже, привел в своих «Воспоминаниях» старший брат Чехова, Александр. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. Государственное издательство художественной литературы, 1952. С. 1–2. (Примеч. переводчика.)
(обратно)6
Верста равна 1067 метрам. (Примеч. автора.)
(обратно)7
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 9. (Примеч. переводчика.)
(обратно)8
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 10. (Примеч. переводчика.)
(обратно)9
Чехов в воспоминаниях современников. С. 34. (Примеч. переводчика.)
(обратно)10
Рачинский С.А. – профессор Московского университета, сторонник религиозного воспитания детей. (Примеч. переводчика.)
(обратно)11
Цит. по: Чехов А. Т.11. С. 553–554. (Примеч. переводчика.)
(обратно)12
Некоторые из этих икон были бережно сохранены Антоном Чеховым и теперь находятся в ялтинском Доме-музее Чехова. (Примеч. автора.)
(обратно)13
Дед будущего рьяного ученика и душеприказчика Льва Толстого. (Примеч. автора.)
(обратно)14
Этот дом существует и сейчас, по адресу: улица Чехова, дом 47. (Примеч. автора.)
(обратно)15
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 121. (Примеч. переводчика.)
(обратно)16
Письмо от 7 апреля 1887 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 127–139. (Примеч. переводчика.)
(обратно)17
Сдобная булка цилиндрической формы, которую традиционно пекут в России к празднику Пасхи. (Примеч. автора.)
(обратно)18
Греческое вино. (Примеч. автора.)
(обратно)19
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 126. (Примеч. переводчика.)
(обратно)20
Рассказывали, будто его смерть была притворной, будто в гроб положили тело солдата, а царь бежал в Сибирь и вел там святую жизнь под именем старца Федора Кузьмича. (Примеч. автора.)
(обратно)21
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 292. (Примеч. переводчика.)
(обратно)22
Названном в честь супруги Александра I. (Примеч. автора.)
(обратно)23
Письмо к Тихонову. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 547. (Примеч. переводчика.)
(обратно)24
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 42. (Примеч. переводчика.)
(обратно)25
Позже эта улица была переименована в Елизаветинскую. (Примеч. автора.)
(обратно)26
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. М.: Советский писатель, 1983. С. 17. (Примеч. переводчика.)
(обратно)27
Уменьшительное от Ивана. (Примеч. автора.)
(обратно)28
Уменьшительное от Марии. (Примеч. автора.)
(обратно)29
Цитата не проверена, источник не указан. (А.В.)
(обратно)30
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 15. (Примеч. переводчика.)
(обратно)31
Цит. по: Ермилов В. Чехов. М.: Молодая гвардия, 1946. С. 45. (Примеч. переводчика.)
(обратно)32
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 20. (Примеч. переводчика.)
(обратно)33
Письмо от 8 апреля 1979 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 9. (Примеч. переводчика.)
(обратно)34
Письмо от 8 февраля 1877 года. (Примеч. автора.)
(обратно)35
Письмо от 10 мая 1877 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 6. (Примеч. переводчика.)
(обратно)36
Письмо от 29 июля 1877 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Там же. Т. 11. С. 7. (Примеч. переводчика.)
(обратно)37
Письмо от 7–8 апреля 1879 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 9—10. (Примеч. переводчика.)
(обратно)38
Матф., 6, 26. (Примеч. переводчика.)
(обратно)39
Чехов нередко будет с иронией повторять эту отцовскую сентенцию в своих письмах. (Примеч. автора.)
(обратно)40
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 28. (Примеч. переводчика.)
(обратно)41
Цит. по: Ермилов В. Чехов. С. 46–47. (Примеч. переводчика.)
(обратно)42
Миша и Маша пошли учиться задолго до приезда Антона в Москву: Миша уговорил директора Второй мужской гимназии принять его в число освобожденных от платы учеников, Маша поступила в Филаретовское училище, за ее обучение платил таганрогский купец Сабинников; во всяком случае, так пишет в своей книге М.П. Чехова. (Примеч. переводчика.)
(обратно)43
Отвергнутые рассказы до нас не дошли. (Примеч. автора.)
(обратно)44
Пьеса была сыграна во Франции под названием «Ce fou de Platonov» («Безумный Платонов») в сокращении, сделанном Полом Кантеном. Если бы ее поставили полностью, спектакль длился бы семь часов. Позже она под разными названиями шла в Германии, Соединенных Штатах, Англии. В Советском Союзе была впервые поставлена лишь в 1959 году. (Примеч. автора.)
(обратно)45
Письмо от 1 февраля 1886 года. (Примеч. автора.)
(обратно)46
Рассказ Лескова, в котором говорится о раскольниках. (Примеч. автора.)
(обратно)47
Письмо Н.А. Лейкину между 21 и 24 августа 1883 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 31–32. (Примеч. переводчика.)
(обратно)48
Письмо от 7 января 1889 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 330–331. (Примеч. переводчика.)
(обратно)49
Ничего (лат.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)50
Письмо от 13 мая 1883 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 26. (Примеч. переводчика.)
(обратно)51
Письмо от 12 января 1883 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 1112. (Примеч. переводчика.)
(обратно)52
Написано в апреле 1883 года, после 17 числа. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 23. (Примеч. переводчика.)
(обратно)53
Письмо от 20 февраля 1883 года. (Примеч. автора.)
(обратно)54
Письмо от 20 февраля 1883 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 16–17. Предыдущие цитаты взяты из того же письма. С. 14. (Примеч. переводчика.)
(обратно)55
Письмо от 13 мая 1883 года. (Примеч. автора.) // Чехов А. Т. 11. С. 27. Приведенная немного выше цитата – см.: Чехов А. Т. 11. С. 26. (Примеч. переводчика.)
(обратно)56
В книге Л. Малюгина и И. Гитович эта история изложена несколько по-другому и куда более лестно для Чехова: «Чехов хотел помочь вдове друга, но не знал, как это сделать поделикатнее. После Попудогло осталась целая полка бульварных романов, принадлежавших перу его друга Евстигнеева. Чехов купил их. Вдова была смущена высокой ценой. Чехов убедил ее, что это ценные, уникальные издания, ставшие библиографической редкостью (на Сухаревке они продавались по пятаку)…» (с. 71). (Примеч. переводчика).
(обратно)57
Написано в октябре 1883 года, между 15-м и 20-м. (Примеч. переводчика.)
(обратно)58
Историями болезней (лат.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)59
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 26. (Примеч. переводчика.)
(обратно)60
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 42–43. (Примеч. переводчика.)
(обратно)61
Крестьянин, выбранный другими крестьянами исполнять обязанности полицейского. (Примеч. автора.)
(обратно)62
Письмо от 27 июня 1884 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 44–45. (Примеч. переводчика.)
(обратно)63
Здесь, видимо, ошибка или опечатка – рецензия никак не могла появиться в 1881 году, задолго до выхода сборника. Это была газета от 1 декабря 1884 года, вырезку с рецензией прислал Чехову сам Сергеенко. Текст цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 86. (Примеч. переводчика.)
(обратно)64
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 61. (Примеч. переводчика.)
(обратно)65
Письмо Михаилу Чехову от 10 мая 1885 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 61. (Примеч. переводчика.)
(обратно)66
Письмо от 9 мая 1885 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 59. (Примеч. переводчика.)
(обратно)67
Сама М.П. Чехова в своих воспоминаниях пишет об учебе в 1883–1886 годах на Высших женских курсах Герье. (Примеч. переводчика.)
(обратно)68
Чехова М.П. Из далекого прошлого. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 43–44. (Примеч. переводчика.)
(обратно)69
Письмо от 12 октября 1885 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 65. (Примеч. переводчика.)
(обратно)70
Письмо от 4 января 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 70. (Примеч. переводчика.)
(обратно)71
Письмо от 21 февраля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 74. (Примеч. переводчика.)
(обратно)72
Письмо от 28 февраля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 116. (Примеч. переводчика.)
(обратно)73
Цит. по: Чехов А. Т. 4. С. 43. (Примеч. переводчика.)
(обратно)74
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 117–118. (Примеч. переводчика.)
(обратно)75
Письмо от 28 марта 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 79–81. (Примеч. переводчика.)
(обратно)76
Письмо от 4 апреля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 120. (Примеч. переводчика.)
(обратно)77
Письмо от 6 апреля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 86. (Примеч. переводчика.)
(обратно)78
Письмо от 1 февраля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 112.
(обратно)79
Письмо от 14 февраля 1886 года, опубликованное в «Литературном наследии». (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 112. (Примеч. переводчика.)
(обратно)80
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 131. (Примеч. переводчика.)
(обратно)81
В 1954 году в доме на Садово-Кудринской был открыт музей Чехова. (Примеч. автора.)
(обратно)82
«Воспоминания» Короленко. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 75. (Примеч. переводчика.)
(обратно)83
Здесь и далее – отрывки из письма, написанного в марте 1886 года. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 83–84. (Примеч. переводчика.)
(обратно)84
Здоровый дух в здоровом теле (лат.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)85
Письмо от 6 апреля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 89. (Примеч. переводчика.)
(обратно)86
Письмо от 10 мая 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 95. (Примеч. переводчика.)
(обратно)87
Письмо от 17 января 1887 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 117. (Примеч. переводчика.)
(обратно)88
Письмо от 21 сентября 1886 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 101. (Примеч. переводчика.)
(обратно)89
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 133. (Примеч. переводчика.)
(обратно)90
Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)91
Здесь и далее – отрывки из письма от 7—19 апреля 1887 года. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 130–138. (Примеч. переводчика.)
(обратно)92
Письмо от 11 мая 1887 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 143. (Примеч. переводчика.)
(обратно)93
Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)94
Письмо от 13 сентября 1887 года. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 154. (Примеч. переводчика.)
(обратно)95
Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)96
Письмо от 29 сентября 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 102. (Примеч. переводчика.)
(обратно)97
Письмо от 13 сентября 1887 года. (Примеч. автора). Там же. С. 154. (Примеч. переводчика).
(обратно)98
Между 10 и 12 октября 1887 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 159. (Примеч. переводчика.)
(обратно)99
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 48. (Примеч. переводчика.)
(обратно)100
На самом деле в финале пьесы события происходят в несколько ином порядке – сначала Иванов отказывается жениться, а уж потом Львов заявляет во всеуслышание, что он подлец. В первоначальной редакции пьесы Иванов после нанесенного ему оскорбления не стрелялся, а умирал от потрясения. (Примеч. переводчика.)
(обратно)101
Письмо, написанное между 6 и 8 октября 1887 года. (Примеч. автора). Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 156. (Примеч. переводчика.)
(обратно)102
Письмо от 24 октября 1887 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 162. (Примеч. переводчика.)
(обратно)103
Письмо от 20 ноября 1887 года. Там же. С. 169.
(обратно)104
Там же.
(обратно)105
Письмо от 24 ноября 1887 года. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 171.
(обратно)106
Письмо от 20 ноября 1887 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 171. (Примеч. переводчика.)
(обратно)107
Письмо от 24 ноября 1887 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 173. (Примеч. переводчика.)
(обратно)108
Там же. С. 172.
(обратно)109
Письмо от 3 декабря 1887 года. Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 162. (Примеч. переводчика.)
(обратно)110
На самом деле – карие с голубыми отсветами. (Примеч. автора.)
(обратно)111
Приведенный отрывок относится к первой встрече Короленко и Чехова в Москве, в «доме-комоде»; Труайя выбрасывает слова «в это первое свидание», приспосабливая воспоминания к петербургской встрече. (Примеч. переводчика.)
(обратно)112
«Воспоминания» Короленко. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 162. (Примеч. переводчика.)
(обратно)113
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 55. (Примеч. переводчика.)
(обратно)114
Письмо от 12 января 1888 года. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 179. (Примеч. переводчика.)
(обратно)115
Там же.
(обратно)116
Письмо от 9 января 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 176. (Примеч. переводчика.)
(обратно)117
Письмо от 22 января 1888 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 187. (Примеч. переводчика.)
(обратно)118
Письмо от 23 января 1888 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 187. (Примеч. переводчика.)
(обратно)119
Письмо от 3 февраля 1888 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 189. (Примеч. переводчика.)
(обратно)120
Письмо от 4 февраля 1888 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 190. (Примеч. переводчика.)
(обратно)121
Письмо от 3 февраля 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 189. (Примеч. переводчика.)
(обратно)122
Письмо от 8 февраля 1888 года. Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 74; Чехов А. Т. 6. С. 484.
(обратно)123
Письмо от 9 февраля 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А Т. 11. С. 198. (Примеч. переводчика.)
(обратно)124
Цит. по: Чехов А. Т. 6. С. 111–112. (Примеч. переводчика.)
(обратно)125
Письмо от 15 марта 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 210. (Примеч. переводчика.)
(обратно)126
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 172. (Примеч. переводчика.)
(обратно)127
Письмо от 25 марта 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 212. (Примеч. переводчика.)
(обратно)128
Письмо к Суворину от 30 мая 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 228–229. (Примеч. переводчика.)
(обратно)129
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 229. (Примеч. переводчика.)
(обратно)130
Там же.
(обратно)131
Там же. С. 230.
(обратно)132
Там же.
(обратно)133
Цит. по: Чехов А. Т. 1. С. 230–231. (Примеч. переводчика.)
(обратно)134
Там же. С. 231.
(обратно)135
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 231. (Примеч. переводчика.)
(обратно)136
Письмо от 22 июля 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 215–216. (Примеч. переводчика.)
(обратно)137
Письмо от 18 июля 1888 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 244. (Примеч. переводчика.)
(обратно)138
Там же.
(обратно)139
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 244–245.
(обратно)140
Письмо от 13 августа 1888 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 254. (Примеч. переводчика.)
(обратно)141
Письмо от 24 сентября 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 262. (Примеч. переводчика.)
(обратно)142
В одиночку (итал.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)143
Письмо от 10 октября 1888 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 276–277. (Примеч. переводчика.)
(обратно)144
Письмо от 30 сентября 1888 года. Там же. С. 489. (Примеч. переводчика.)
(обратно)145
Письмо от 10 октября 1888 года. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 274–276. (Примеч. переводчика.)
(обратно)146
Там же. С. 276.
(обратно)147
Письмо от 9 октября 1888 года. (Примеч. автора.) Там же. С. 268. (Примеч. переводчика.)
(обратно)148
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 269. (Примеч. переводчика.)
(обратно)149
Письмо от 4 октября 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 263. (Примеч. переводчика.)
(обратно)150
Письмо от 30 мая 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 232. (Примеч. переводчика.)
(обратно)151
Письмо от 27 октября 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 287–288. (Примеч. переводчика.)
(обратно)152
Письмо от 20 октября 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 283–284. (Примеч. переводчика.)
(обратно)153
Письмо от 9 октября 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 270, 272–273. (Примеч. переводчика.)
(обратно)154
Письмо от 3 ноября 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 297. (Примеч. переводчика.)
(обратно)155
Из письма И.Щеглову от 11 ноября 1888 г. Цит. по: «Чехов в воспоминаниях современников». С. 123. (Примеч. переводчика.)
(обратно)156
Письмо от 30 декабря 1888 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 318. (Примеч. переводчика.)
(обратно)157
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 323. (Примеч. переводчика.)
(обратно)158
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 324–325. (Примеч. переводчика.)
(обратно)159
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 336. (Примеч. переводчика.)
(обратно)160
Картина И.Г. Семирадского «Фрина на празднике у Посейдона в Элевсине» была выставлена на персональной выставке художника в зале Санкт-Петербургской Академии художеств. (Примеч. переводчика.)
(обратно)161
Письмо от 17 февраля 1889 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 335. (Примеч. переводчика.)
(обратно)162
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 336. (Примеч. переводчика.)
(обратно)163
Письмо от 23 декабря 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 311, 313–314. (Примеч. переводчика.)
(обратно)164
Состояние без перемен (лат.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)165
Письмо от 8 мая 1889 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 359. (Примеч. переводчика.)
(обратно)166
Определение из письма А.С. Суворину от 7 мая 1889 г., почти целиком посвященного анализу этого романа Бурже, переведенного Сувориным. Труайя, как всегда, неточно передает мысли героя своей книги, да и цитирует, вырывая те мысли из разных мест, какие ему, Труайя, подходят. Впрочем, читатель может найти полный и точный текст по адресу: Чехов А. Т. 11. С. 356–358. (Примеч. переводчика.)
(обратно)167
Там же. С. 357–358.
(обратно)168
Письмо от 31 мая 1889 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 369. (Примеч. переводчика.)
(обратно)169
Вместе с братом Иваном, гостившим в то время у них Свободиным и Линтваревыми. (Примеч. переводчика.)
(обратно)170
Письмо от 26 июня 1889 г. (Прим. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 371–372. (Примеч. переводчика.)
(обратно)171
Письмо от 13 августа 1889 г. (Прим. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 376–377. (Примеч. переводчика.)
(обратно)172
На самом деле Чехов очень подружился с немолодой уже тогда и прекрасно образованной актрисой, с которой можно было не только болтать о бенефисах. Естественно, они обменивались и шутками. Антон Павлович надписывал ей свои книги «Великой артистке земли русской», намекая не только на талант, но и на то, что она объехала всю Россию, включая и Сибирь, в ту пору для многих почти неведомую, а она в отместку называла его «адски нарядным литератором». (Примеч. переводчика.)
(обратно)173
Письмо от 3 августа 1889 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 375–376. (Примеч. переводчика.)
(обратно)174
Письмо от 7 сентября 1889 г. (Примеч. автора). Там же. С. 379. (Примеч. переводчика.)
(обратно)175
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 379–380. (Примеч. переводчика.)
(обратно)176
Письмо от 17 октября 1889 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 390–391. (Примеч. переводчика.)
(обратно)177
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 385–386. (Примеч. переводчика.)
(обратно)178
Секретная служба. (Примеч. автора.)
(обратно)179
Письмо от 5 марта 1889 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 339. (Примеч. переводчика.)
(обратно)180
Письмо от 27 декабря 1889 г. (Примеч. автора.) Цитата оборвана на середине фразы, далее – через тире – следует: «– и все это в силу того, что жизнь не имеет смысла, что у женщин […] и что деньги – зло. Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там царствует несправедливость во всей своей форме. Общество, которое не верует в Бога, но боится примет и черта, которое отрицает всех врачей и в то же время лицемерно оплакивает Боткина и поклоняется Захарьину, не смеет и заикаться о том, что оно знакомо с справедливостью». Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 404. (Примеч. переводчика.)
(обратно)181
Письмо от 18–23 декабря 1889 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 402. (Примеч. переводчика.)
(обратно)182
Там же. С. 403.
(обратно)183
Воспоминания Лидии Авиловой под названием «А.П. Чехов в моей жизни» были опубликованы в Советском Союзе в 1947 году. (Примеч. автора.)
(обратно)184
Следом родились еще двое. (Примеч. автора.)
(обратно)185
Письмо от 19 марта 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 557. (Примеч. переводчика.)
(обратно)186
Письмо от 9 марта 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 415–417. (Примеч. переводчика.)
(обратно)187
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 428–429. (Примеч. переводчика.)
(обратно)188
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 423–425. (Примеч. переводчика.)
(обратно)189
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 429–431. (Примеч. переводчика.)
(обратно)190
Оба письма цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 434, 435–436. (Примеч. переводчика.)
(обратно)191
Письмо родным от 14–17 мая 1890 г. из села Красный Яр, в 45 верстах от Томска. (Примеч. автора.) Там же. С. 439. (Примеч. переводчика.)
(обратно)192
Письмо от 14–17 мая 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 439–442. (Примеч. переводчика.)
(обратно)193
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 444–445. (Примеч. переводчика.)
(обратно)194
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 446. (Примеч. переводчика.)
(обратно)195
Там же. С. 443.
(обратно)196
Там же. С. 444.
(обратно)197
Прямая кишка (лат.).
(обратно)198
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 441. (Примеч. переводчика.)
(обратно)199
Письмо от 20 мая 1890 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 454–455. (Примеч. переводчика.)
(обратно)200
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 456. (Примеч. переводчика.)
(обратно)201
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 455–456. (Примеч. переводчика.)
(обратно)202
Письмо от 28 мая 1890 г. Там же. С. 459. (Примеч. переводчика.)
(обратно)203
Там же. С. 458–459.
(обратно)204
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 457. (Примеч. переводчика.)
(обратно)205
Письмо от 28 мая 1890 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 458. (Примеч. переводчика.)
(обратно)206
Письмо от 6 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 462–463. (Примеч. переводчика.)
(обратно)207
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 225–226. (Примеч. переводчика.)
(обратно)208
Письмо от 5 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 461–462. (Примеч. переводчика.)
(обратно)209
Годовщина смерти Николая. (Примеч. переводчика.)
(обратно)210
Именины отца. (Примеч. переводчика.)
(обратно)211
Письмо от 6 июня 1890 г. Там же. С. 464. (Примеч. переводчика.)
(обратно)212
Письмо к сестре от 13 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 466. (Примеч. переводчика.)
(обратно)213
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 466. (Примеч. переводчика.)
(обратно)214
Там же. С. 467.
(обратно)215
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 469–470. (Примеч. переводчика.)
(обратно)216
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 474. (Примеч. переводчика.)
(обратно)217
Там же. С. 474–475.
(обратно)218
Письмо от 27 июня 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 476. (Примеч. переводчика.)
(обратно)219
Из книги Л. Малюгина и И. Гитович (с. 228): «На следующий же день он отправился к начальнику острова – генералу Кононовичу… Кононовичу было не до Чехова: он готовился к встрече более важной персоны – приамурского генерал-губернатора Корфа… В дороге на Сахалин Чехов жалел потерять лишний день, а здесь ему пришлось потратить впустую восемнадцать дней, пока было получено разрешение посещать тюрьмы и поселения, собирать необходимые сведения и материалы». Без комментариев. (Примеч. переводчика.)
(обратно)220
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 64. (Примеч. переводчика.)
(обратно)221
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 73. (Примеч. переводчика.)
(обратно)222
Эти листки сохранились в Библиотеке имени Ленина в Москве. (Примеч. автора.)
(обратно)223
Остров Сахалин. Гл. XXI. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 331–333. (Примеч. переводчика.)
(обратно)224
Там же. С. 339.
(обратно)225
Бродяга-убийца, бежавший из Воеводской тюрьмы, до того приговоренный хабаровским окружным судом к 90 плетям и прикованию к тачке, но наказание тогда по недосмотру, как пишет Чехов, не было приведено в исполнение. Если бы не неудачный побег, возможно, обошлось бы без экзекуции, но теперь она была неизбежна. (Примеч. переводчика.)
(обратно)226
Остров Сахалин. Гл. XXI. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 344. (Примеч. переводчика.)
(обратно)227
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 345. (Примеч. переводчика.)
(обратно)228
Письмо от 11 сентября 1890 г. (Примеч. автора.) Там же. Т. 11. С. 479. (Примеч. переводчика.)
(обратно)229
Остров Сахалин. Гл. XXI. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 333–334. (Примеч. переводчика.)
(обратно)230
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 276–277. (Примеч. переводчика.)
(обратно)231
Письмо от 11 сентября 1890 г. (Примеч. автора.) Там же. Т. 11. С. 479–480. (Примеч. переводчика.)
(обратно)232
Письмо от 6 октября 1890 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 481. (Примеч. переводчика.)
(обратно)233
Письмо от 9 декабря 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 483. (Примеч. переводчика.)
(обратно)234
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 483. (Примеч. переводчика.)
(обратно)235
Цит. по кн.: Чехов М. Вокруг Чехова. Московский рабочий, 1959. С. 220.
(обратно)236
Мария Павловна в своих воспоминаниях («Из далекого прошлого») рассказывает, что брата обманули: третий мангуст оказался пальмовой кошкой чрезвычайно дикого нрава; впрочем, вскоре с нею и со вторым мангустом семья рассталась, третий же, быстро приручившись, прожил в доме некоторое время, после чего его отдали в Московский зоопарк, где тогда не было таких животных. М.П. Чехова часто навещала там зверька. (Примеч. переводчика.)
(обратно)237
Письмо от 9 декабря 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 482. (Примеч. переводчика.)
(обратно)238
Письмо от 17 декабря 1890 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 489. (Примеч. переводчика).
(обратно)239
Письмо от 10 декабря 1890 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 486. (Примеч. переводчика.)
(обратно)240
Еще одна собака Лейкина, порода неизвестна. (Примеч. переводчика.)
(обратно)241
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 487. (Примеч. переводчика.)
(обратно)242
Письмо от 14 января 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 492. (Примеч. переводчика.)
(обратно)243
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 492. (Примеч. переводчика.)
(обратно)244
Новое время. 1891. № 5341. 11 января. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 687. (Примеч. переводчика.)
(обратно)245
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 99. (Примеч. переводчика.)
(обратно)246
Письмо от 20 марта 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 243. (Примеч. переводчика.)
(обратно)247
«Молодой русский писатель», раскавычивая цитату, уточняет здесь Труайя. (Примеч. переводчика.)
(обратно)248
Письмо от 24 марта 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 499–500.
(обратно)249
«Прекрасная Венеция» (итал.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)250
«Прекрасной» (итал.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)251
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 243. (Примеч. переводчика.)
(обратно)252
Письмо от 1 апреля 1891 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 503. (Примеч. переводчика.)
(обратно)253
Письмо от 1 апреля 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 244. (Примеч. переводчика.)
(обратно)254
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 245. (Примеч. переводчика.)
(обратно)255
Тут сказывается расхождение между григорианским календарем, принятым в России, и юлианским, которым пользовалась в то время вся Европа. По-русски все эти события случились 19 апреля: нужно учитывать, что расхождение, о котором выше, в девятнадцатом веке составляло не 13, как сейчас, а 12 дней. (Примеч. автора.)
(обратно)256
Письмо сестре от 21 апреля 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 245. (Примеч. переводчика.)
(обратно)257
Письмо от 24 апреля 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 245. (Примеч. переводчика.)
(обратно)258
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 244. (Примеч. переводчика.)
(обратно)259
Твой Антуан. (фр.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)260
Письмо от 18 мая 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 507. (Примеч. переводчика.)
(обратно)261
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 101. (Примеч. переводчика.)
(обратно)262
Будущего великого актера Московского Художественного театра Михаила Чехова. (Примеч. автора.)
(обратно)263
Письма от 28 и 30 августа 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 528, 520. (Примеч. переводчика.)
(обратно)264
Вагнер, как и Киселевы, были, по выражению Михаила Чехова, «готовыми дачниками», то есть соседями по поместью, на самом деле приезжали только на несколько дней Суворин и Н. Линтварева, Лика с Левитаном успели побывать только в Алексине, а в Богимово «…главной нашей гостье – „прекрасной Лике“ – так и не удалось к нам приехать. Это нас очень огорчало», – вспоминает брат А.П. Чехова. См.: Чехов М.П. Вокруг Чехова. С. 225. (Примеч. переводчика.)
(обратно)265
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 247–248. (Примеч. переводчика.)
(обратно)266
Письмо от 10 мая 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 505. (Примеч. переводчика.)
(обратно)267
Письмо от 18 августа 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 517. (Примеч. переводчика.)
(обратно)268
Письмо от 30 августа 1891 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 519, 521. (Примеч. переводчика.)
(обратно)269
«Послесловие» к «Крейцеровой сонате». Напечатано в XIII части Собрания сочинений Л.Н. Толстого, вышедшей в свет в июне 1891 г. «Письма к губернаторше» – письма к жене калужского губернатора А.О. Смирновой-Россет в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Ссылка приводится по: Чехов А. Т. 11. С. 691. (Примеч. переводчика.)
(обратно)270
Там же. С. 522. (Примеч. переводчика.)
(обратно)271
Письмо Суворину от 11 декабря 1891 г. (Примеч. автора.) Цитата не проверена! (Примеч. переводчика.)
(обратно)272
Письмо от 11 декабря 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 540–541. (Примеч. переводчика.)
(обратно)273
Худеков С.Н. – журналист, издатель «Петербургской газеты». (Примеч. переводчика.)
(обратно)274
Труайя опустил, что на всякий «пир» и на всякий «праздник» в Санкт-Петербурге Чехов брал с собою подписные листы в пользу голодающих крестьян и что «уклоняться от визитов Чехову мешали деликатность и забота о подписных листах». Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 258. (Примеч. переводчика, курсив мой.)
(обратно)275
Письмо от 19 октября 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 527. (Примеч. переводчика.)
(обратно)276
Письмо Суворину от 22 ноября 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 108. (Примеч. переводчика.)
(обратно)277
Письмо Суворину от 30 ноября 1891 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 533. (Примеч. переводчика.)
(обратно)278
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 109. (Примеч. переводчика.)
(обратно)279
Примерно двести двадцать пять гектаров земли. (Примеч. автора.)
(обратно)280
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 111. (Примеч. переводчика.)
(обратно)281
Письмо от 28 февраля 1892 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 548. (Примеч. переводчика.)
(обратно)282
Если верить воспоминаниям М.П. Чеховой, считающей переезжающих «всей семьей», то 5 марта. (Примеч. переводчика.)
(обратно)283
Речь идет о юбилее «Петербургской газеты», о котором см. выше.
(обратно)284
Письмо от 19 марта 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 557. (Примеч. переводчика.)
(обратно)285
Там же. С. 556.
(обратно)286
Александр Павлович Чехов в это время редактировал журнал «Пожарный», на присылку которого откликнулся этим письмом Антон Павлович. (Примеч. переводчика.)
(обратно)287
Письмо от 21 марта 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 558–559. (Примеч. переводчика.)
(обратно)288
«Дуэль» была закончена 18 августа и опубликована осенью 1891 года, когда Чехов и не помышлял о Мелихове! В декабре автор уже получал от читателей пачками отзывы о ней – «задушевные и доброжелательные». (Примеч. переводчика.)
(обратно)289
Совершенно очевидно, что некоторые реплики фон Корена Чехов «позаимствовал» из своих в Богимове с зоологом Вагнером. (Примеч. автора.)
(обратно)290
Цит. по: Чехов А. Т. 6. С. 476. (Примеч. переводчика.)
(обратно)291
Там же, стр. 478.
(обратно)292
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 412. (Примеч. переводчика.)
(обратно)293
Письмо от 9 июня 1888 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 234–235. (Примеч. переводчика.)
(обратно)294
Письмо от 25 октября 1891 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 531. (Примеч. переводчика.)
(обратно)295
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 113. (Примеч. переводчика.)
(обратно)296
Цит. по: Гроссман Л. Роман Нины Заречной, Прометей. Молодая гвардия. Т. 2. С. 226. (Примеч. переводчика.)
(обратно)297
Познакомились действительно там, но позже бывали и в имении самого Смагина, вообще дружили с ним, а перед покупкой Мелихова именно к нему Маша ездила осматривать хутора для покупки, только Труайя об этом уже забыл… (Примеч. переводчика.)
(обратно)298
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 77. (Примеч. переводчика.)
(обратно)299
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 47. (Примеч. переводчика.)
(обратно)300
Там же.
(обратно)301
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 77. (Примеч. переводчика.)
(обратно)302
Письмо от 8 декабря 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 604–605. (Примеч. переводчика.)
(обратно)303
Письмо А.С. Суворину от 8 апреля 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 569. (Примеч. переводчика.)
(обратно)304
Письмо от 29 апреля 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 570. (Примеч. переводчика.)
(обратно)305
Письмо от 27 и 30 июля 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 584. (Примеч. переводчика.)
(обратно)306
Письмо от 13 августа 1893 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 81. (Примеч. переводчика.)
(обратно)307
Письмо от 29 марта 1892 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 562–563. (Примеч. переводчика.)
(обратно)308
Письмо от 27 марта 1892 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 562. (Примеч. переводчика.)
(обратно)309
Письмо от 28 июня 1892 г. Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 576–577. (Примеч. переводчика.)
(обратно)310
Письмо от 16 августа 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 587–588. (Примеч. переводчика.)
(обратно)311
Письмо от 1 августа 1892 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 584–585. (Примеч. переводчика.)
(обратно)312
Мера веса, принятая в России. Пуд равен 16,38 килограмма. (Примеч. автора.)
(обратно)313
Письмо от 1 августа 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 585–586. (Примеч. переводчика.)
(обратно)314
Письмо от 7 августа 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 79–80. (Примеч. переводчика.)
(обратно)315
Пигасов – персонаж из романа И.С. Тургенева «Рудин». (Примеч. переводчика.)
(обратно)316
Письмо от 22 ноября 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 598–599. (Примеч. переводчика.)
(обратно)317
Цит. по: Чехов М.П. Вокруг Чехова. С. 246. (Примеч. переводчика.)
(обратно)318
Письмо от 26 апреля 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 23–24. (Примеч. переводчика.)
(обратно)319
Письма от 13 и 24 февраля 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 15–16, 18–19. (Примеч. переводчика.)
(обратно)320
Письмо от 28 июля 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 28. (Примеч. переводчика.)
(обратно)321
А ла тремонтана – шутливое прозвище, данное братьями Чеховыми отцу. (Примеч. автора.) Тремонтана (правильно – трамонтана) – холодный ветер в средиземноморских странах. (Примеч. переводчика.)
(обратно)322
Письмо Суворину от 28 июля 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 28. (Примеч. переводчика.)
(обратно)323
Письмо Л. Мизиновой от 13 августа 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 31–32. (Примеч. переводчика.)
(обратно)324
Письмо от 8 октября 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Л. Гроссман. Роман Нины Заречной. С. 240. (Примеч. переводчика.)
(обратно)325
Цит. по: Гроссман Л. Роман Нины Заречной. С. 240. (Примеч. переводчика.)
(обратно)326
Характеристики, данные Яворской Т.Л. Щепкиной-Куперник. Там же. С. 241. (Примеч. переводчика.)
(обратно)327
Там же. С. 242. (Примеч. переводчика.)
(обратно)328
Письмо от 7 ноября 1893 г. (Примеч. автора.) Цитату проверить не удалось, потому она раскавычена. (Примеч. переводчика.)
(обратно)329
Окрестил себя Авеланом сам Чехов – в память о морском министре, «которого ввиду франко-русских симпатий беспрерывно чествовали то в России, то во Франции». Так свидетельствует Щепкина-Куперник. (Примеч. переводчика.)
(обратно)330
Из Щепкиной-Куперник опять же: «Когда он наезжал в Москву, он останавливался всегда в „Большой Московской“ гостинице, напротив Иверской, где у него был свой излюбленный номер. С быстротой беспроволочного телеграфа по Москве распространялась весть: „А.П. приехал!“, и дорогого гостя начинали чествовать». Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 263. (Примеч. переводчика.)
(обратно)331
Письмо от 11 ноября 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 35–36. (Примеч. переводчика.)
(обратно)332
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 264. (Примеч. переводчика.)
(обратно)333
Чехов в воспоминаниях современников. С. 264. (Примеч. переводчика.)
(обратно)334
Письмо от 11 ноября 1893 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 36. (Примеч. переводчика.)
(обратно)335
Начиная с октябрьского за 1893 год номера. (Примеч. переводчика.)
(обратно)336
Письмо от 2 января 1894 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 42. (Примеч. переводчика.)
(обратно)337
Там же. Т. 7. С. 133. (Примеч. переводчика.)
(обратно)338
Цит. по: Чехов А. Т. 7. С. 142–143. (Примеч. переводчика.)
(обратно)339
Письмо от 25 ноября 1892 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 600–601. (Примеч. переводчика.)
(обратно)340
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 307. (Примеч. переводчика.)
(обратно)341
Письмо от 27 марта 1894 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 49–50. (Примеч. переводчика.)
(обратно)342
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 354–355. (Примеч. переводчика.)
(обратно)343
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 314. (Примеч. переводчика.)
(обратно)344
Письмо от 27 марта 1894 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 51–52 (Примеч. переводчика.)
(обратно)345
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 53. (Примеч. переводчика.)
(обратно)346
На самом деле Чехов с Потапенко все-таки немножко отдохнули: они еще съездили в Сумы, на Псел, прожили там в полном блаженстве шесть дней, и, только вернувшись оттуда, Антон Павлович получил письмо о болезни дяди и собрался в Таганрог. См. процитированное выше письмо. (Примеч. переводчика.)
(обратно)347
Там же. С. 54. (Примеч. переводчика.)
(обратно)348
Письмо от 18 сентября 1894 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 56. (Примеч. переводчика.)
(обратно)349
Письмо от 22 сентября 1894 г. Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 56–57. (Примеч. переводчика.)
(обратно)350
Никаких прямых рассказов в письмах Лики нет, есть намеки на случившееся, окрашенные болью, горечью и желанием сочувствия близкого человека. Не случайно – даже при обилии цитат – Л.Малюгин и И.Гитович уточняют: «Ликины письма тревожили своей недоговоренностью». См. Указ. соч… С. 325–326. (Примеч. переводчика.)
(обратно)351
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 325–326. (Примеч. переводчика.)
(обратно)352
На самом деле первое письмо – ответ на открытку Чехова еще из Таганрога, второе – на его записку из Вены о том, что он «с восторгом» бы с Ликой повидался (см. цитату из этой записки).
(обратно)353
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 325–326. (Примеч. переводчика.)
(обратно)354
Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)355
Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 144. (Примеч. переводчика.)
(обратно)356
Письмо от 21 января 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 70. (Примеч. переводчика.)
(обратно)357
Письмо от 19 января 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 68. (Примеч. переводчика.)
(обратно)358
Письмо от 19 января 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 68. (Примеч. переводчика.)
(обратно)359
Письмо от 23 марта 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 78. (Примеч. переводчика.)
(обратно)360
Письмо от 10 ноября 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 92–93. (Примеч. переводчика.)
(обратно)361
Письмо от 14 марта 1895 г. (Примеч. автора.) Этого письма нет ни в мемуарах Л. Авиловой, ни в Собрании сочинений А.П. Чехова. Цит. по примечаниям к воспоминаниям «А.П. Чехов в моей жизни», опубликованным в книге «Чехов в воспоминаниях современников». С. 522. (Примеч. переводчика.)
(обратно)362
Письмо от 15 марта 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 174. (Примеч. переводчика.)
(обратно)363
Письмо от 18 апреля 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 86. (Примеч. переводчика.)
(обратно)364
На самом деле Мария Павловна преподавала в гимназии Ржевской, о чем неоднократно упоминает в книге «Из далекого прошлого». (Примеч. переводчика.)
(обратно)365
Письмо от 21 октября 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 89. (Примеч. переводчика.)
(обратно)366
Письмо от 26 октября 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 91. (Примеч. переводчика.)
(обратно)367
Письмо от 21 октября 1895 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 83–84. (Примеч. переводчика.)
(обратно)368
Сильно (итал.).
(обратно)369
Очень тихо (итал.).
(обратно)370
Письмо от 21 ноября 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 93–94. (Примеч. переводчика.)
(обратно)371
Письмо от 16 декабря 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 360. (Примеч. переводчика.)
(обратно)372
Письмо от 13 декабря 1895 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 360. (Примеч. переводчика.)
(обратно)373
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников (Потапенко И.Н. Несколько лет с А.П. Чеховым). С. 253. (Примеч. переводчика.)
(обратно)374
Письмо от 12 октября 1896 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 161. (Примеч. переводчика.)
(обратно)375
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников (Потапенко И. Н. Несколько лет с А. П. Чеховым). С. 253. (Примеч. переводчика.)
(обратно)376
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 479. (Примеч. переводчика.)
(обратно)377
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 161. (Примеч. переводчика.)
(обратно)378
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 270. (Примеч. переводчика.)
(обратно)379
Там же. С. 280. (Примеч. переводчика.)
(обратно)380
Вероятнее всего, тут реминисценция: Чехов вспомнил о вальдшнепе, которого подстрелил Левитан, а он вынужден был добить. (Примеч. автора.)
(обратно)381
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 252–254. (Примеч. переводчика.)
(обратно)382
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 277–281. (Примеч. переводчика.)
(обратно)383
В российских театрах была традиция давать первый спектакль по новой пьесе в бенефис знаменитого артиста. Часто, как и в случае с «Чайкой» 17 октября 1896 года, в один вечер играли две пьесы. (Примеч. автора.)
(обратно)384
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 237. (Примеч. переводчика.)
(обратно)385
Цит. по: Чехова М.П. Из далекого прошлого. С. 164. (Примеч. переводчика.)
(обратно)386
В воспоминаниях Игнатенко, со слов Суворина: 700 лет! См.: Чехов в воспоминаниях современников. С. 382. (Примеч. переводчика.)
(обратно)387
Все письма от 18 октября 1896 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 109–110. (Примеч. переводчика.)
(обратно)388
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 258. (Примеч. переводчика.)
(обратно)389
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 187. (Примеч. переводчика.)
(обратно)390
Русское уменьшительное от имени Игнатий. (Примеч. автора.)
(обратно)391
Письмо от 22 октября 1896 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 111. (Примеч. переводчика.)
(обратно)392
Обе телеграммы цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 387. (Примеч. переводчика.)
(обратно)393
Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)394
Письмо от 11 ноября 1896 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 117. (Примеч. переводчика.)
(обратно)395
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 430. (Примеч. переводчика.)
(обратно)396
Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)397
Письмо от 2 декабря 1896 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 129. (Примеч. переводчика.)
(обратно)398
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 391–392. (Примеч. переводчика.)
(обратно)399
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 396. (Примеч. переводчика.)
(обратно)400
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 396. (Примеч. переводчика.)
(обратно)401
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 164–165. (Примеч. переводчика.)
(обратно)402
Письмо от 16 апреля 1897 г. (Прим. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 162. (Примеч. переводчика.)
(обратно)403
Предела (лат.). (Примеч. переводчика.)
(обратно)404
Письмо от 17 апреля 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 162. (Примеч. переводчика.)
(обратно)405
Письмо от 1 апреля 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 155. (Примеч. переводчика.)
(обратно)406
Письмо от 7 апреля 1897 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 158. (Примеч. переводчика.)
(обратно)407
Письмо Р.Ф. Ващук от 28 марта 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 154. (Примеч. переводчика.)
(обратно)408
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов С. 406. (Примеч. переводчика.)
(обратно)409
Письмо от 7 апреля 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 158. (Примеч. переводчика.)
(обратно)410
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 528. (Примеч. переводчика.)
(обратно)411
Май 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 527. (Примеч. переводчика.)
(обратно)412
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 138–139. (Примеч. переводчика.)
(обратно)413
Там же. С. 139. (Примеч. переводчика.)
(обратно)414
Письмо от 21 июня 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 177. (Примеч. переводчика.)
(обратно)415
«Слепые», «Непрошенная», «Аглавена и Селизетта» (франц.).
(обратно)416
Письмо от 12 июля 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 181. (Примеч. переводчика.)
(обратно)417
Письмо от 4 июля 1897 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 180. (Примеч. переводчика.)
(обратно)418
Письмо от 14 декабря 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 198. (Примеч. переводчика.)
(обратно)419
Письмо от 14 декабря 1897 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 199. (Примеч. переводчика.)
(обратно)420
Письмо от 1 октября 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 184–185. (Примеч. переводчика.)
(обратно)421
Письмо от 15 декабря 1897 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 200. (Примеч. переводчика.)
(обратно)422
Письмо от 14 декабря 1897 г. Там же. С. 199. (Примеч. переводчика.)
(обратно)423
Это было заказное письмо, за которым пришлось идти на почту пять верст и в котором редактор журнала «Детский отдых» Барсков предлагал Чехову денег взаймы. (Примеч. переводчика.)
(обратно)424
Письмо от 1 ноября 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 191–192. (Примеч. переводчика.)
(обратно)425
Письмо от 18 сентября 1897 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 182. (Примеч. переводчика.)
(обратно)426
Письмо от 27 декабря 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 204–205. (Примеч. переводчика.)
(обратно)427
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 203. (Примеч. переводчика.)
(обратно)428
Публицист, редактор журнала «Русская мысль». (Примеч. переводчика.)
(обратно)429
Письмо от 3 ноября 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 192–193. (Примеч. переводчика.)
(обратно)430
Письмо от 6 октября 1897 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 185–186. (Примеч. переводчика.)
(обратно)431
Письмо от 15 декабря 1897 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 200–201. (Примеч. переводчика.)
(обратно)432
Из письма Ивану Чехову от 2 октября 1897 г. (Примеч. автора.)
(обратно)433
Письмо от 4 декабря 1898 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 196. (Примеч. переводчика.)
(обратно)434
Письмо от 4 января 1898 года, датированное, как и прочие письма, по юлианскому календарю, запаздывавшему в XIX веке на двенадцать дней по сравнению с григорианским календарем, принятым во Франции. (Примеч. автора.) Там же. С. 207. (Примеч. переводчика.)
(обратно)435
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 416. (Примеч. переводчика.)
(обратно)436
От французского «cour d’assises» – суд присяжных. (Примеч. переводчика.)
(обратно)437
Доказательства (франц.). Письмо от 2 февраля 1898 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 211. (Примеч. переводчика.)
(обратно)438
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 211–214. (Примеч. переводчика.)
(обратно)439
Письмо от 23 февраля 1898 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 218. (Примеч. переводчика.)
(обратно)440
Письмо от 23 марта 1898 г. Этот портрет экспонируется теперь в Москве в Третьяковской галерее. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 221–222. (Примеч. переводчика.)
(обратно)441
Письмо от 28 марта 1898 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 222. (Примеч. переводчика.)
(обратно)442
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 223. (Примеч. переводчика.)
(обратно)443
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 417–418. (Примеч. переводчика.)
(обратно)444
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 179. (Примеч. переводчика.)
(обратно)445
Окружение. В оригинале по-французски. (Примеч. автора.)
(обратно)446
Письмо, написанное между 23 и 27 июля 1898 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 233. (Примеч. переводчика.)
(обратно)447
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 432. (Примеч. переводчика.)
(обратно)448
Письмо от 8 октября 1898 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 243. (Примеч. переводчика.)
(обратно)449
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 289–290. (Примеч. переводчика.)
(обратно)450
Письмо от 14 октября 1898 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 244. (Примеч. переводчика.)
(обратно)451
Письмо от 17 октября 1898 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 245. (Примеч. переводчика.)
(обратно)452
Письмо от 14 октября 1898 г. Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)453
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 190–191. (Примеч. переводчика.)
(обратно)454
Разумеется, ни о какой женитьбе в прямом смысле слова речи не шло, это обычное для Чехова выражение, когда он имеет в виду какую-то сделку – например, продажу авторских прав Марксу и так далее. (Примеч. переводчика.)
(обратно)455
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 193. (Примеч. переводчика.)
(обратно)456
Цит. по: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Л.: Academia. 1928. С. 388. (Примеч. переводчика.)
(обратно)457
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 440 (все три телеграммы). (Примеч. переводчика.)
(обратно)458
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 657. (Примеч. переводчика.)
(обратно)459
Письмо от 27 октября 1898 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 253. (Примеч. переводчика.)
(обратно)460
Письмо от 5 января 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 274. (Примеч. переводчика.)
(обратно)461
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 263–265. (Примеч. переводчика.)
(обратно)462
Письмо от 3 сентября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 340–341. (Примеч. переводчика.)
(обратно)463
Письмо от 10 июля 1898 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 231–232. (Примеч. переводчика.)
(обратно)464
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 316–317. (Примеч. переводчика.)
(обратно)465
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 206–207. (Примеч. переводчика.)
(обратно)466
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 249–250. (Примеч. переводчика.)
(обратно)467
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 252. (Примеч. переводчика.)
(обратно)468
Или 202 500 тогдашних франков. (Примеч. автора.)
(обратно)469
Письмо от 27 января 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 289. (Примеч. переводчика.)
(обратно)470
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 195. (Примеч. переводчика.)
(обратно)471
Письмо от 22 января 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 286. (Примеч. переводчика.)
(обратно)472
Письмо от 5 февраля 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 295–296. (Примеч. переводчика.)
(обратно)473
Письмо от 18 февраля 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 301–302. (Примеч. переводчика.)
(обратно)474
Письмо от 27 апреля 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 324–325. (Примеч. переводчика.)
(обратно)475
В целом (фр.).
(обратно)476
Письмо от 27 апреля 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 448. (Примеч. переводчика.)
(обратно)477
Письмо от 4 марта 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 309. (Примеч. переводчика.)
(обратно)478
Статьи Суворина, опубликованные в «Новом времени», назывались «Маленькие письма». (Примеч. переводчика.)
(обратно)479
Письмо от 24 апреля 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 321–322. (Примеч. переводчика.)
(обратно)480
Родившийся в 1834 году Алексей Суворин жил и процветал до 1912 года. Умер в возрасте семидесяти восьми лет. (Примеч. автора.)
(обратно)481
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 387–388. (Примеч. переводчика.)
(обратно)482
Письмо от 23 марта 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 318. (Примеч. переводчика.)
(обратно)483
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 449. (Примеч. переводчика.)
(обратно)484
Мария Павловна пишет: «Мы переехали…» Из далекого прошлого. С. 196. (Примеч. переводчика.)
(обратно)485
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 457. (Примеч. переводчика.)
(обратно)486
Письмо от 25 апреля 1899 г. Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 323. (Примеч. переводчика.)
(обратно)487
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 215. (Примеч. переводчика.)
(обратно)488
Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)489
Письмо от 16 июня 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 21. (Примеч. переводчика.)
(обратно)490
Письмо от 17 июня 1899 г. (Примеч. автора.)
(обратно)491
Письмо от 21 июля 1899 г. (Примеч. автора.)
(обратно)492
На самом деле даже первой выплаты пришлось долго ждать, а следующих не произошло вовсе. В конце концов Мелихово было перепродано некоему барону Стюарту. (Примеч. автора.)
(обратно)493
Письмо от 19 августа 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 336. (Примеч. переводчика.)
(обратно)494
Письмо от 15 сентября 1899 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 343. (Примеч. переводчика.)
(обратно)495
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 201. (Примеч. переводчика.)
(обратно)496
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 410. (Примеч. переводчика.)
(обратно)497
Письмо от начала января 1900 г. (Примеч. автора.) Там же. Т. 12. С. 541. (Примеч. переводчика.)
(обратно)498
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 470. (Примеч. переводчика.)
(обратно)499
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 410. (Примеч. переводчика.)
(обратно)500
Письмо от 3 сентября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 27. (Примеч. переводчика.)
(обратно)501
Письмо от 4 октября 1899 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 37. (Примеч. переводчика.)
(обратно)502
Там же. С. 46. (Примеч. переводчика.)
(обратно)503
Письмо от 11 ноября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 362–363. (Примеч. переводчика.)
(обратно)504
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 227. (Примеч. переводчика.)
(обратно)505
Мария Павловна вспоминает об этом иначе: «В результате на пожертвованные средства ялтинское благотворительное общество, состоявшее преимущественно из врачей-общественников, организовало в Ялте, в Аутке, где была и наша дача, пансионат, названный „Яузларом“. В нем было 20 мест, которые предоставлялись за минимальную плату беднякам, болевшим туберкулезом. Известность этого пансионата была настолько велика, что всегда имелась очередь желающих попасть в него. Позднее стало ясно, что такого маленького пансионата для Ялты совершенно недостаточно. Антон Павлович написал новое воззвание, в котором говорил уже об организации настоящего санатория на сорок-пятьдесят больных. И вновь на это дело средства были собраны. На окраине города, на горе, где был прекрасный воздух и откуда открывался великолепный вид на море, появился санаторий, также названный „Яузларом“. Это был в то время один из первых в Ялте общедоступных санаториев для неимущих туберкулезных больных. Он существует в Ялте и поныне и носит имя Антона Павловича, так много сделавшего для его создания». Воспоминания написаны в 1956 году, как сейчас обстоят дела с санаторием имени Чехова, неизвестно. Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 228. (Примеч. переводчика.)
(обратно)506
Письмо от 26 ноября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 368. (Примеч. переводчика.)
(обратно)507
Письмо от 25 ноября 1899 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 366. (Примеч. переводчика.)
(обратно)508
Письмо от 3 декабря 1899 г. Там же. С. 370–371. (Примеч. переводчика.)
(обратно)509
Письмо конца 1899 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 380. (Примеч. переводчика.)
(обратно)510
См. примечания к пьесе «Дядя Ваня». Чехов А. Т. 9. С. 385. (Примеч. переводчика.)
(обратно)511
Письмо от 26 сентября 1899 г. (Прим. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 33. (Примеч. переводчика.)
(обратно)512
Письмо от 30 сентября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 35. (Примеч. переводчика.)
(обратно)513
Имеется в виду письмо Ольги Леонардовны от 23 октября, где она сообщала: «Была у нас первая генеральная „Дяди Вани“, сегодня будет вторая, 25-го днем – третья, и 26-го играем», и спрашивала: «А вы будете волноваться, конечно? Так и надо, волнуйтесь, волнуйтесь вместе с нами». Там же. С. 40. (Примеч. переводчика.)
(обратно)514
Там же. С. 42. (Примеч. переводчика.)
(обратно)515
Письмо от 27 октября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 41. (Примеч. переводчика.)
(обратно)516
Там же. С. 42–43. (Примеч. переводчика.)
(обратно)517
Письмо от 1 ноября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 43–44. (Примеч. переводчика.)
(обратно)518
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 332–333. (Примеч. переводчика.)
(обратно)519
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 485. (Примеч. переводчика.)
(обратно)520
Там же. С. 486–487. (Примеч. переводчика.)
(обратно)521
Письмо от 24 октября 1899 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. С. 12. С. 365. (Примеч. переводчика.)
(обратно)522
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 444. (Примеч. переводчика.)
(обратно)523
Письмо от 15 февраля 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 408. (Примеч. переводчика.)
(обратно)524
Письмо от 28 января 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 395–396. (Примеч. переводчика.)
(обратно)525
Письмо от середины февраля 1900 г. Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 545. (Примеч. переводчика.)
(обратно)526
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 447. (Примеч. переводчика.)
(обратно)527
Во всех источниках – другая дата, 17 января, день именин и сорокалетия Антона Павловича. (Примеч. переводчика.)
(обратно)528
У Л. Малюгина и И. Гитович об этом написано так: «…его избрали в почетные академики по недавно учрежденному в Академии наук разряду изящной словесности». Чехов. С. 474. (Примеч. переводчика.)
(обратно)529
Письмо от 23 января 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 392. (Примеч. переводчика.)
(обратно)530
Из письма однокурснику по университету, врачу Н. Коробову от 29 января 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 398. (Примеч. переводчика.)
(обратно)531
Сигма – псевдоним сотрудника «Нового времени» С.Н. Сыромятникова. (Примеч. переводчика.)
(обратно)532
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 536. (Примеч. переводчика.)
(обратно)533
Тут Чехов ошибается в датировке. (Примеч. переводчика.)
(обратно)534
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 409. (Примеч. переводчика.)
(обратно)535
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 225. (Примеч. переводчика.)
(обратно)536
Письмо от 3 февраля 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 403. (Примеч. переводчика.)
(обратно)537
Письмо от 10 февраля 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 55–56. (Примеч. переводчика.)
(обратно)538
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 402–403. (Примеч. переводчика.)
(обратно)539
У Труайя – три, но Мария Павловна в воспоминаниях приводит письмо Чехова, в котором ясно сказано «четыре». См.: Из далекого прошлого. С. 230. (Примеч. переводчика.)
(обратно)540
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 316–317. (Примеч. переводчика.)
(обратно)541
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 321. (Примеч. переводчика.)
(обратно)542
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 231–322. (Примеч. переводчика.)
(обратно)543
Не на первый спектакль! Ср. с воспоминаниями Станиславского! (Примеч. переводчика.)
(обратно)544
Там же. С. 323–324. (Примеч. переводчика.)
(обратно)545
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 325. (Примеч. переводчика.)
(обратно)546
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 483. (Примеч. переводчика.)
(обратно)547
Письмо от 20 мая 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 64. (Примеч. переводчика.)
(обратно)548
Письмо от 9 августа 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 67. (Примеч. переводчика.)
(обратно)549
Там же. С. 68. (Примеч. переводчика.)
(обратно)550
Там же. С. 70. (Примеч. переводчика.)
(обратно)551
Они и в это время продолжали писать друг другу почти каждый или каждый день. Во всяком случае от Чехова Ольге как раз за две недели до 23 августа ушло семь писем… (Примеч. переводчика.)
(обратно)552
Письмо от 14 августа 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 71. (Примеч. переводчика.)
(обратно)553
Письмо от 10 сентября 1900 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 86. А доброго десятка, если не больше, писем между процитированным выше и этим, в которых Ольга Леонардовна говорит, что никуда не ходит, видится только с Марией Павловной и невыносимо тоскует о Чехове, автор не заметил… (Примеч. переводчика.)
(обратно)554
Письмо от 28 сентября 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 424. (Примеч. переводчика.)
(обратно)555
Письмо от 16 октября 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 425. (Примеч. переводчика.)
(обратно)556
Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве: Л.: Academia, 1928. С. 402–403. (Примеч. переводчика.)
(обратно)557
Письмо от 13 ноября 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 426–427. (Примеч. переводчика.)
(обратно)558
Сулержицкий Л. А. (1872–1916) – режиссер, литератор, художник, театральный деятель, один из создателей МХАТа. (Примеч. переводчика.)
(обратно)559
Письмо от 12 декабря (в цит. издании либо по ошибке, либо по старому стилю указано 1 декабря) 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 102. (Примеч. переводчика.)
(обратно)560
Письмо от 12 декабря 1900 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 104. (Примеч. переводчика.)
(обратно)561
Письмо от 14 декабря 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 107. (Примеч. переводчика.)
(обратно)562
Письмо от 15 декабря 1900 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 109. (Примеч. переводчика.)
(обратно)563
Письмо от 17 декабря 1900 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 111. (Примеч. переводчика.)
(обратно)564
Письмо от 21 декабря 1900 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 115. (Примеч. переводчика.)
(обратно)565
Письмо от 2 января 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 128. (Примеч. переводчика.)
(обратно)566
Письмо от 11 января 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 134. (Примеч. переводчика.)
(обратно)567
Письмо от 18 января 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 142. (Примеч. переводчика.)
(обратно)568
Письмо от 24 января 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 146. (Примеч. переводчика.)
(обратно)569
Письмо от 11 декабря 1900 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 103. (Примеч. переводчика.)
(обратно)570
Между этими письмами было десятка два еще с обеих сторон, так что никакой это не ответ на процитированное выше! (Примеч. переводчика.)
(обратно)571
Письмо от 2 января 1901 г. (Примеч. автора.)
(обратно)572
Другое письмо от 2 января 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 430–431. (Примеч. переводчика.)
(обратно)573
Письмо от 21 января 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 436. (Примеч. переводчика.)
(обратно)574
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 151. (Примеч. переводчика.)
(обратно)575
Письмо от 28 января 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 148. (Примеч. переводчика.)
(обратно)576
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 491. (Примеч. переводчика.)
(обратно)577
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 329. (Примеч. переводчика.)
(обратно)578
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 401. (Примеч. переводчика.)
(обратно)579
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 395. (Примеч. переводчика.)
(обратно)580
Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 234–236. (Примеч. переводчика.)
(обратно)581
Цит. по: Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 36–37. (Примеч. переводчика.)
(обратно)582
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 406. (Примеч. переводчика.)
(обратно)583
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 401. (Примеч. переводчика.)
(обратно)584
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 408. (Примеч. переводчика.)
(обратно)585
Там же. С. 409. Цит. по воспоминаниям А.И. Куприна. (Примеч. переводчика.)
(обратно)586
Цит. по: Чехова М. П. «Письма к брату А.П. Чехову». М., 1954. С. 178 (Примеч. переводчика.)
(обратно)587
Письмо от 5 марта 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 170. (Примеч. переводчика.)
(обратно)588
Письмо от 18 марта 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 180. (Примеч. переводчика.)
(обратно)589
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство имени Чехова, 1955. С. 71. (Примеч. переводчика.)
(обратно)590
Письмо от 5 марта 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 169–170. (Примеч. переводчика.)
(обратно)591
Письмо от 19 апреля 1901 г. (в Собр. соч., т. 12 – от 26 апреля. – Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 189. (Примеч. переводчика.)
(обратно)592
Письмо от 22 апреля 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. С. 191. (Примеч. переводчика.)
(обратно)593
Письмо от 2 мая 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 196. (Примеч. переводчика.)
(обратно)594
Кумыс – напиток из перебродившего кобыльего или верблюжьего молока, изготовляемый татарами. (Примеч. автора.)
(обратно)595
Цит. по: Чехова М. П. Письма к брату А.П. Чехову. М., 1954. С. 182. (Примеч. переводчика.)
(обратно)596
Телеграмма от 25 мая 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 452. (Примеч. переводчика.)
(обратно)597
Письмо от 2 июня 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 453–454. (Примеч. переводчика.)
(обратно)598
Одно из нежных прозвищ, которыми награждал Чехов Ольгу Книппер. (Примеч. автора.)
(обратно)599
Письмо от 24 мая 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехова М. П. Письма к брату А.П. Чехову. М., 1954. С. 182–183. (Примеч. переводчика.)
(обратно)600
Цит. по: Паперный З. Тайна сия… Любовь у Чехова. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2002. С. 219. (Примеч. переводчика.)
(обратно)601
Цит. по: Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954. С. 183–185. (Примеч. переводчика.)
(обратно)602
Цит. по кн.: Чеховиана. Чехов и его окружение. М.: Наука, 1996. С. 248. (Примеч. переводчика.)
(обратно)603
Письмо от 16 июня 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954. С. 186–187. (Примеч. переводчика.)
(обратно)604
«Кумыс не противен, – писал Чехов Горькому, – можно пить, но противно, что приходится пить помногу». Письмо от 8 июня 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 455. (Примеч. переводчика.)
(обратно)605
Письмо от 3 сентября 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 223. (Примеч. переводчика.)
(обратно)606
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 502. (Примеч. переводчика.)
(обратно)607
Письмо от 28 августа 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 212. (Примеч. переводчика.)
(обратно)608
Письмо от 24 августа 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 206. (Примеч. переводчика.)
(обратно)609
Письмо от 31 августа 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 218. (Примеч. переводчика.)
(обратно)610
Письмо от 30 августа 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 216. (Примеч. переводчика.)
(обратно)611
Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Л.: Academia, 1928. С. 466. (Примеч. переводчика.)
(обратно)612
Письмо от 24 сентября 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 459. (Примеч. переводчика.)
(обратно)613
Письмо от 19 октября 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 460–461. (Примеч. переводчика.)
(обратно)614
Письмо от 29 октября 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 234–235. (Примеч. переводчика.)
(обратно)615
Письмо от 28 ноября 1901 г. (Ничего себе – несколько дней! Между тем как – «спустя несколько дней» – были куда более нежные и страстные письма!). (Примеч. автора.) Там же. С. 280. (Примеч. переводчика.)
(обратно)616
Письмо от 26 октября 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 231. (Примеч. переводчика.)
(обратно)617
Письмо от 28 октября 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 233. (Примеч. переводчика.)
(обратно)618
Письмо от 4 ноября 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 245. (Примеч. переводчика.)
(обратно)619
Письмо от 1 декабря 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 285. (Примеч. переводчика.)
(обратно)620
Письмо от 9 ноября 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 250. (Примеч. переводчика.)
(обратно)621
Письмо от 6 ноября 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 246–247. (Примеч. переводчика.)
(обратно)622
Письмо от 7 ноября 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 247. (Примеч. переводчика.)
(обратно)623
Письмо от 11 ноября 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 253. (Примеч. переводчика.)
(обратно)624
Там же. С. 290–291. (Примеч. переводчика.)
(обратно)625
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 299. (Примеч. переводчика.)
(обратно)626
Там же. С. 301. (Примеч. переводчика.)
(обратно)627
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 302. (Примеч. переводчика.)
(обратно)628
Письмо от 17 декабря 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 308. (Примеч. переводчика.)
(обратно)629
Письмо от 18 декабря 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 310. (Примеч. переводчика.)
(обратно)630
Письмо от 23 декабря 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 318. (Примеч. переводчика.)
(обратно)631
Письмо от 29 декабря 1901 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 326. (Примеч. переводчика.)
(обратно)632
Письмо от 30 декабря 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. С. 328. (Примеч. переводчика.)
(обратно)633
Письмо от 3 января 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 334–335. (Примеч. переводчика.)
(обратно)634
Письмо от 7 января 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 342. (Примеч. переводчика.)
(обратно)635
Письмо от 3 февраля 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехова М. П. Письма к брату А.П. Чехову. М., 1954. С. 198. (Примеч. переводчика.)
(обратно)636
Письмо от 15 января 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 356. (Примеч. переводчика.)
(обратно)637
Цит. по: Бунин И. А. Воспоминания. Париж. 1950. С. 38 по сетевому варианту. (Примеч. переводчика.)
(обратно)638
Цит. по кн.: Шкловский В. Лев Толстой. С. 731. (Примеч. переводчка).
(обратно)639
Запись от 29 ноября 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М.: ГИХЛ, 1985. Т. 22. С. 140. (Примеч. переводчика.)
(обратно)640
Письмо от 17 ноября 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 263. (Примеч. переводчика.)
(обратно)641
Горький М. А.П. Чехов. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 391. (Примеч. переводчика.)
(обратно)642
Горький М. А.П. Чехов. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 395–396. (Примеч. переводчика.)
(обратно)643
Горький М. Воспоминания. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 507. (Примеч. переводчика.)
(обратно)644
Бунин И.А. Воспоминания. (Примеч. автора.) Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова. С. 48. (Примеч. переводчика.)
(обратно)645
Там же. С. 57. (Примеч. переводчика.)
(обратно)646
Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. (Примеч. переводчика.)
(обратно)647
Письмо от 7 декабря 1901 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 294–295. (Примеч. переводчика.)
(обратно)648
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 472. (Примеч. переводчика.)
(обратно)649
Письмо от 13 февраля 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 402. (Примеч. переводчика.)
(обратно)650
Цит. по: А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 203–204. (Примеч. переводчика.)
(обратно)651
Письмо от 28 февраля 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 407. (Примеч. переводчика.)
(обратно)652
Письмо от 16 марта 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 432. (Примеч. переводчика.)
(обратно)653
Письмо от 17 марта 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 434. (Примеч. переводчика.)
(обратно)654
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 452–453. (Примеч. переводчика.)
(обратно)655
Там же. С. 455. (Примеч. переводчика.)
(обратно)656
Письмо от 20 апреля 1902 г. (Примеч. переводчика.)
(обратно)657
Брата Сергея Морозова, о котором рассказывалось выше. (Примеч. автора.)
(обратно)658
Письмо от 18 июня 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 459. (Примеч. переводчика.)
(обратно)659
Письмо от 19 июня 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 460. (Примеч. переводчика.)
(обратно)660
Письмо от 22 июня 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 462. (Примеч. переводчика).
(обратно)661
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 471. (Примеч. переводчика.)
(обратно)662
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 472. (Примеч. переводчика.)
(обратно)663
Ходили слухи, что Савва Морозов, чтобы продемонстрировать свободомыслие, оказывал финансовую помощь русским революционерам. (Примеч. автора.)
(обратно)664
Там же. С. 478. (Примеч. переводчика.)
(обратно)665
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 476. (Примеч. переводчика.)
(обратно)666
Оно включено в последнюю реплику Фирса в «Вишневом саде». Там же. С. 476–477. (Примеч. переводчика.)
(обратно)667
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 480–481. (Примеч. переводчика.)
(обратно)668
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 479. (Примеч. переводчика.)
(обратно)669
Воспоминания Тихонова. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 482. (Примеч. переводчика.)
(обратно)670
Письмо от 18 июля 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 496. (Примеч. переводчика.)
(обратно)671
Письмо от 17 августа 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 465–466. (Примеч. переводчика.)
(обратно)672
Ольга к этому времени написала ему шесть писем, и только три или четыре дня он, как сообщает в этом письме, их не получал – издержки «любви по почте»: время кажется длиннее.
(обратно)673
Письмо от 24 августа 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 474. (Примеч. переводчика.)
(обратно)674
Письмо от 27 августа 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. Кстати, в этот же день Ольга писала А.П. так: «Опять прошел день, и опять ничего от тебя. Что это значит? Сильно удерживаюсь, чтобы не послать телеграмму, так как знаю, что ты этого терпеть не можешь и будешь ругаться. Но мне тяжело сидеть здесь одной и к тому же без писем. Здоров ли ты, дусик? Сердишься на меня и потому не пишешь? Я тебе противна, потому что ною? Ты отдыхаешь без меня? Мне всякие глупости лезут в голову, когда я не чувствую, что ты около меня, что ты любишь меня.» (Примеч. переводчика.)
(обратно)675
Там же. С. 477–479. (Примеч. переводчика.)
(обратно)676
Письмо от 28 августа 1902 г. (автором не датировано). Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 479–480. (Примеч. переводчика.)
(обратно)677
Письмо от 1 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Чехов А. Переписка с женой. С. 485–486. (Примеч. переводчика.)
(обратно)678
Письмо от 5 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 489. (Примеч. переводчика.)
(обратно)679
Письмо от 14 сентября 1902 г. Там же. (Примеч. переводчика.)
(обратно)680
Письмо от 10 сентября 1902 г. (Примеч. автора, устроившего всю эту путаницу с датировками и ответами на то, о чем еще не спрошено). Чехов А. Переписка с женой. С. 495. (Примеч. переводчика.)
(обратно)681
Письмо от 14 сентября 1902 г. (Примеч. переводчика.)
(обратно)682
Там же. С. 504. (Примеч. переводчика.)
(обратно)683
Подробно об этом было рассказано выше, в главе XIII. (Примеч. переводчика.)
(обратно)684
Пьеса написана в сентябре 1902 года и – вместе с водевилем 1886 года – была предназначена для второго издания VII тома собрания сочинений. Чехов писал тогда Марксу: «В числе моих произведений, переданных Вам, имеется водевиль „О вреде табака“, – это в числе тех произведений, которые я просил Вас исключить из полного собрания сочинений и никогда их не печатать. Теперь я написал совершенно новую пьесу (курсив мой. – Н.В.) под тем же названием, сохранив только фамилию действующего лица, и посылаю Вам для помещения в VII томе». Письмо от 1 октября 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 493. Там же – ответ Маркса. (Примеч. переводчика.)
(обратно)685
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 108. (Примеч. переводчика.)
(обратно)686
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 122–123. (Примеч. переводчика.)
(обратно)687
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 81. (Примеч. переводчика.)
(обратно)688
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 419. (Примеч. переводчика.)
(обратно)689
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 481. (Примеч. переводчика.)
(обратно)690
Цит. по: Чехов А. Т. 10. Записные книжки. Книжка первая (1891–1904). С. 126 (491). (Примеч. переводчика.)
(обратно)691
Там же. Т. 9. С. 397–398. (Примеч. переводчика.)
(обратно)692
Письмо от 22 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 510. (Примеч. переводчика.)
(обратно)693
Письмо от 24 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 512. (Примеч. переводчика.)
(обратно)694
Письмо от 28 сентября 1902 г. Там же. С. 517. (Примеч. переводчика.)
(обратно)695
Все бы ничего, да только мамаша проездом в Питер довольно долго пробыла в Москве, и Маша с Ольгой ее лечили и развлекали очень дружно.
(обратно)696
Письмо от 30 ноября 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 532. (Примеч. переводчика.)
(обратно)697
Письмо от 30 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 507–508. (Примеч. переводчика.)
(обратно)698
Цит. по: Чехов А. Т. 10. Записные книжки. Книжка первая (1891–1904). С. 49 (439). (Примеч. переводчика.)
(обратно)699
Письмо от 12 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 547. (Примеч. переводчика.)
(обратно)700
Письмо от 25 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 562–563. (Примеч. переводчика.)
(обратно)701
Письмо от 14 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 550. (Примеч. переводчика.)
(обратно)702
Письмо от 20 января 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 589–590. (Примеч. переводчика.)
(обратно)703
Письмо от 23 января 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 515. (Примеч. переводчика.)
(обратно)704
Письмо от 5 февраля 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А.. Переписка с женой. С. 608. (Примеч. переводчика.)
(обратно)705
Письмо от 16 февраля 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 620. (Примеч. переводчика.)
(обратно)706
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 507. (Примеч. переводчика.)
(обратно)707
Письмо от 27 февраля 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 628. (Примеч. переводчика.)
(обратно)708
Там же. С. 631. (Примеч. переводчика.)
(обратно)709
Там же. С. 634. (Примеч. переводчика.)
(обратно)710
Письмо от 4 марта 1903 г. (Примеч. автора.). Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 634. (Примеч. переводчика.)
(обратно)711
Письмо от 6 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 636. (Примеч. переводчика.)
(обратно)712
Письмо от 21 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 646. (Примеч. переводчика.)
(обратно)713
Там же. С. 658. (Примеч. переводчика.)
(обратно)714
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 635. (Примеч. переводчика.)
(обратно)715
Письмо от 13 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 640. (Примеч. переводчика.)
(обратно)716
Письмо от 18 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 644. (Примеч. переводчика.)
(обратно)717
Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 99 (Примеч. переводчика.)
(обратно)718
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 660. (Примеч. переводчика.)
(обратно)719
Порядок фраз Труайя сохранен. Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство имени Чехова, 1955. С. 73. (Примеч. переводчика.)
(обратно)720
Вот какие рассказы, по мнению Толстого, оказались произведениями «первого сорта»: «Детвора», «Хористка», «Драма», «Дома», «Тоска», «Беглец», «В суде», «Ванька», «Дамы», «Злоумышленник», «В потемках», «Спать хочется», «Супруга», «Мальчики». Рассказы, отнесенные ко «второму сорту», были следующие: «Беззаконие», «Горе», «Ведьма», «Верочка», «На чужбине», «Кухарка женится», «Ну, публика», «Маска», «Женское счастье», «Нервы», «Свадьба», «Беззащитное существо», «Бабы», «Переполох», «Канитель». (Примеч. автора.)
(обратно)721
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 542. (Примеч. переводчика.)
(обратно)722
Там же. С. 540. (Примеч. переводчика.)
(обратно)723
Оба письма цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 554. (Примеч. переводчика.)
(обратно)724
Письмо от 29 июня 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 538–539. (Примеч. переводчика.)
(обратно)725
То же письмо. Там же. С. 539. (Примеч. автора и переводчика.)
(обратно)726
Письмо от 19 июня 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 538. (Примеч. переводчика.)
(обратно)727
Письмо от 28 июля 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 541–542. (Примеч. переводчика.)
(обратно)728
Письмо А.Н. Плещееву от 15 января 1889 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 333. (Примеч. переводчика.)
(обратно)729
Там же. Т. 12. С. 547. (Примеч. переводчика.)
(обратно)730
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 549. (Примеч. переводчика.)
(обратно)731
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 667. (Примеч. переводчика.)
(обратно)732
Письмо от 20 сентября 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 669. (Примеч. переводчика.)
(обратно)733
Письмо от 21 сентября 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 670. (Примеч. переводчика.)
(обратно)734
Письмо от 23 сентября 1903 г. Там же. С. 672. (Примеч. переводчика.)
(обратно)735
Письмо от 25 сентября 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 675. (Примеч. переводчика.)
(обратно)736
Там же. С. 676. (Примеч. переводчика.)
(обратно)737
Там же. С. 678–679. (Примеч. переводчика.)
(обратно)738
Письмо от 2 октября 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 685. (Примеч. переводчика.)
(обратно)739
Письмо от 3 октября 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 685–686. (Примеч. переводчика.)
(обратно)740
Письмо от 6 октября 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 692. (Примеч. переводчика.)
(обратно)741
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 692 (Примеч. переводчика.)
(обратно)742
Там же. С. 693. (Примеч. переводчика.)
(обратно)743
Там же. С. 695. (Примеч. переводчика.)
(обратно)744
Там же. С. 696. (Примеч. переводчика.)
(обратно)745
Письмо от 14 октября 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 697–698. (Примеч. переводчика.)
(обратно)746
На самом деле письма шли четыре-пять дней (хорошо видно по переписке А.П. с О.Л. – они оба четко обозначают, когда получили какое письмо). (Примеч. переводчика.)
(обратно)747
Там же. С. 701. (Примеч. переводчика.)
(обратно)748
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 545. (Примеч. переводчика.)
(обратно)749
Письмо от 19 октября. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 703. (Примеч. переводчика.)
(обратно)750
Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 720. (Примеч. переводчика.)
(обратно)751
Там же. С. 721. (Примеч. переводчика.)
(обратно)752
Письмо от 20 октября 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 704–705. (Примеч. переводчика.)
(обратно)753
Письмо от 21 октября 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 705. (Примеч. переводчика.)
(обратно)754
Письмо от 24 октября 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 710. (Примеч. переводчика.)
(обратно)755
Письмо от 25 ноября 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов. А Переписка с женой. С. 740. (Примеч. переводчика.)
(обратно)756
Письмо от 7 ноября 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 725. (Примеч. переводчика.)
(обратно)757
Букишон – дружеское прозвище, которое дал Бунину Чехов. (Примеч. автора.)
(обратно)758
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова. С. 96–97 и 101. (Примеч. переводчика.)
(обратно)759
Письмо от 13 января 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 550. (Примеч. переводчика.)
(обратно)760
Подлинник письма Н. Телешов, по его свидетельству, передал в ЦГАЛИ, где он и хранится. Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 439–441. (Примеч. переводчика.)
(обратно)761
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 441–442. (Примеч. переводчика.)
(обратно)762
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 553. (Примеч. переводчика.)
(обратно)763
Цит. по: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 468. (Примеч. переводчика.)
(обратно)764
Письмо от 19 января 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 575. (Примеч. переводчика.)
(обратно)765
Письмо от 10 апреля 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 764–765. (Примеч. переводчика.)
(обратно)766
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 436. (Примеч. переводчика.)
(обратно)767
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 449–450. (Примеч. переводчика.)
(обратно)768
Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 460. (Примеч. переводчика.)
(обратно)769
Письмо от 7 февраля 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 578–589. (Примеч. переводчика.)
(обратно)770
Цит. по: Громов М. Книга о Чехове. М.: Современник, 1989. С. 308.
(обратно)771
Письмо около 10 февраля 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Паперный З. Тайна сия… Любовь у Чехова. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2002. С. 201. (Примеч. переводчика.)
(обратно)772
Письмо от 9 февраля 1904 г. (Примеч. автора.)
(обратно)773
Цит. по: Альтшуллер И. Н. О Чехове. Из воспоминаний. В кн.: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 553. (Примеч. переводчика.)
(обратно)774
Письмо от 27 февраля 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 747. (Примеч. переводчика.)
(обратно)775
Брат Ольги Леонардовны Константин и его жена. (Примеч. переводчика.)
(обратно)776
Письмо от 29 марта 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 756. (Примеч. переводчика.)
(обратно)777
Директору театра, принадлежавшего Суворину. Письмо цитируется по «Воспоминаниям» Карпова. (Примеч. автора.)
(обратно)778
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 491. (Примеч. переводчика.)
(обратно)779
Письмо от 31 марта 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 758. (Примеч. переводчика.)
(обратно)780
Письмо от 10 апреля 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 765. (Примеч. переводчика.)
(обратно)781
Письмо от 20 апреля 1904 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 772. (Примеч. переводчика.)
(обратно)782
Цит. по: Чехов А. Т. 10. С. 486. (Примеч. переводчика.)
(обратно)783
Обе цитаты – там же. С. 535. (Примеч. переводчика.)
(обратно)784
Письмо от 3 марта 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 582. (Примеч. переводчика.)
(обратно)785
Письмо от 13 апреля 1904 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 584. (Примеч. переводчика.)
(обратно)786
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 755. (Примеч. переводчика.)
(обратно)787
Цит. по: Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Л.: Academia., 1928. С. 469. (Примеч. переводчика.)
(обратно)788
Гарин-Михайловский. (Примеч. автора.)
(обратно)789
Письмо от 22 апреля 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 773. (Примеч. переводчика.)
(обратно)790
Письмо от 22 мая 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 587. (Примеч. переводчика.)
(обратно)791
Так в оригинале. (Примеч. переводчика.)
(обратно)792
Гиляровский В. А. Друзья и встречи. Антоша Чехонте. Цит. по кн.: Москва и москвичи. Минск: Народная Освета, 1980. С. 275.
(обратно)793
«Среда» – московский товарищеский кружок литераторов, созданный по инициативе Телешова, у которого члены объединения в основном и собирались. (Примеч. переводчика.)
(обратно)794
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 446. (Примеч. переводчика.)
(обратно)795
Из письма Марии Павловне от 8 июня 1904 г. (Примеч. автора.)
(обратно)796
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 560. (Примеч. переводчика.)
(обратно)797
Цит. по: Альтшуллер И. Н. О Чехове. Из воспоминаний. В кн.: А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. С. 555. (Примеч. переводчика.)
(обратно)798
Письмо от 12 июня 1904 г. Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 590. (Примеч. переводчика.)
(обратно)799
Там же. С. 591. (Примеч. переводчика.)
(обратно)800
Там же. С. 592. (Примеч. переводчика.)
(обратно)801
Письмо от 28 июня 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 594–595. (Примеч. переводчика.)
(обратно)802
Письмо от 28 июня 1904 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехова М. П. Из далекого прошлого. С. 253. (Примеч. переводчика.)
(обратно)803
Книппер-Чехова О. Л. Несколько слов об А.П. Чехове. Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 18–19. (Примеч. переводчика.)
(обратно)804
Обе цитаты – Книппер-Чехова О. Л. Несколько слов об А.П. Чехове. Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 19. (Примеч. переводчика.)
(обратно)805
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 563. (Примеч. переводчика.)
(обратно)806
Книппер-Чехова О. Несколько слов об А.П. Чехове. Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 19–20. (Примеч. переводчика.)
(обратно)807
Цит. по: А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 684. (Примеч. переводчика.)
(обратно)808
Здесь есть примечание к мемуарам Горького: «Горький ехал из Петербурга в Москву на похороны Чехова в том же поезде, к которому был прикреплен вагон с гробом писателя. Он говорит, вероятно, об очень немногочисленной публике, которая встречала гроб Чехова в Петербурге (до последнего дня в Петербурге не было известно о времени прибытия поезда). О встрече гроба в Москве Горький писал Е. П. Пешковой: „Я видел толпу „публики“, ее было, может быть, три—пять тысяч“». Цит. по: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 684–685. (Примеч. переводчика.)
(обратно)809
Там же. С. 450–451. (Примеч. переводчика.)
(обратно)810
Мать Чехова, Евгения Яковлевна, пережила сына на пятнадцать лет. Его сестра Мария Павловна после русской революции стала директором Музея Чехова, открывшегося в его ялтинском доме, она умерла в 1957 году в возрасте девяноста четырех лет. Жена Чехова, Ольга Книппер, сделала блестящую театральную карьеру, никогда больше не вышла замуж и скончалась в 1959 году на восемьдесят девятом году жизни. (Примеч. автора.)
(обратно)811
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 427. (Примеч. переводчика.)
(обратно)



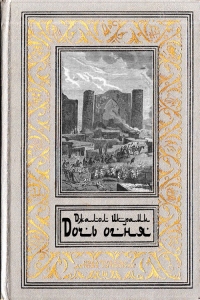
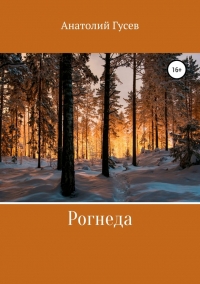
Комментарии к книге «Антон Чехов», Анри Труайя
Всего 0 комментариев