Елена Хаецкая Симон-отступник
Сарацины называли нас «франками», не давая себе труда разбираться в различиях между нами. Все мы жили по латинскому закону и пришли сражаться с ними за Святую Землю.
Франк. Это слово и означает – «враг», по крайней мере, так утверждают многие. Враг, вракья, преследователь, тот, кто идет за тобой по пятам, чье жаркое дыхание ощущает твой затылок, заставляя страх сочиться по позвоночнику.
Все мы исповедуем кроткую веру Христову и во имя ее убиваем, убиваем без устали.
Одни из нас были «франками» только по названию, по языку и по религии, внушенной с детства.
Но не он.
Франк. Первое и последнее слово о нем, единственный ключ к этой страшной и чистой душе.
Он вспоминается мне светловолосым, хотя на самом деле это была седина. Стального отлива седина, которая очень рано залила его жесткие, коротко стриженые волосы, мазнула по бровям и даже задела, кажется, ресницы – впрочем, очень короткие. Он никогда не обгорал, даже на самом жарком солнце. Лицо у него приобретало медный оттенок, и на этой красной темной коже блестели его серые глаза.
У него было выразительное лицо, с годами немного обрюзгшее, но все же сохранившее твердую ясность очертаний: тонкий прямой рот, крупный нос, широко расставленные глаза, крепкие скулы – будто это лицо растянуто на рукоятках скрещенных ножей.
И еще он был – постоянно задумчив, что ли. Мне все казалось, что он прислушивается к чему-то неслышному. Как будто вслушивается в неслышный шелест лепестков Вселенной. Вселенная представлялась ему гигантской розой, в центре которой – Бог, чье присутствие одно лишь и одушевляет ее.
Симон слушал это нечто – неразличимое, а его брат Гюи слушал Симона.
Гюи де Монфор был братом Симона. То есть, конечно, Гюи де Монфор был отважный рыцарь и благочестивый католик и все такое, но в первую очередь он был братом Симона. Он сражался за Симона и умер за Симона.
Левая рука Господа Бога – Гюи де Монфор.
Ибо правой, всегда с сомкнутыми на рукояти меча пальцами, был его старший брат Симон.
Симон.
Это имя нисходит с моих губ, и мне становится жарко, будто сухой, раскаленный ветер, полный песка, дышит мне в лицо.
Венецианское сидение
1202 год, июнь – октябрь
Симону 37 лет
Венеция вспоминается сплошной сыростью, гнилью и плесенью. Мы прибыли туда вскоре после Пятидесятницы, в начале лета, и сразу же будто с головой погрузились в сонные миазмы этого города – алчного, изнеженного и беспощадного в одно и то же время, какого-то сладострастно жестокого, что ли.
В сам город нас не пустили. Симон, высокомерно морща свой мясистый нос, выслушивал не менее высокомерного холуя, присланного к нам от венецианского дюка, – тот многословно и докучливо разъяснял и втолковывал нашему графу, почему славная торговая республика не может допустить, чтобы орды франков невозбранно таскались по ее влажным и скользким, точно лягушка, мостовым – «священной почве державы святого Марка», как он изволил выразиться. Проводя дни в неусыпных заботах о благе сограждан, дюк Дандоль озаботился отдать предусмотрительное распоряжение, дабы никому из франков не предоставляли жилье под постой долее, чем на одни сутки, буде в том возникнет необходимость, ибо…
Тут Симон соскучился и слушать перестал. Позевывая, по сторонам глядеть стал. Ждал, пока холуй скажет, где разместиться с палатками, лошадьми, оруженосцами, пехотой, слугами, котлами, где брать воду, хлеб и фураж; прочее же Симона не занимало.
Венеция воняла рыбой и тиной. Кругом вода, в воде медленно шевелятся водоросли, как змеи. По стенам домов тут и там ползет плесень; отбросы вываливают из окон прямо в воду, и всякое дерьмо плывет по каналам. Гнилой город, смрадный. Не больно-то и хотелось встать здесь на постой.
Другое дело, что сидеть там, куда всех нас, будто скот, загнали венецианцы, было еще скучнее.
Однако Симон смолчал и безропотно подчинился распоряжению дюка. Было в нем это, почти монашеское, беспрекословное послушание.
До поры.
Итак, повернулись мы спиной к венецианским чудесам и дивам – к огромному монастырю святого Марка, где хранились мощи евангелиста, к другим роскошно убранным церквам и дворцам, выстроенным в незапамятные времена (ибо богатства в Венеции сберегались немалые, оно и немудрено!) – и позволили переправить себя на остров святого Николая, где венецианцы назначили нам место разбить лагерь.
С острова хорошо был виден город. На берегу имелась недурно обустроенная пристань для кораблей. Впрочем, в Венеции, похоже, нет такого места, где не могли бы стать на якорь корабли. И у нашего острова они стояли, уткнувшись носами в берег, точно щенки в живот кормящей суки, – слегка покачиваясь на волнах в ветреную погоду и отражаясь в ртутной глади вод, если над нами нависало тяжкое безветрие (а такие душные дни выдавались теперь довольно часто, ибо лето близилось к перелому).
Весь остров незамедлительно покрылся палатками паломников. Духота, бездействие и скверно поставленное дело с продовольствием, а пуще всего – наше безденежье, исключительно быстро и ловко усугубленное алчностью венецианцев, – все это довольно скоро привело к тому, что среди нас начались болезни, нечто вроде гнилой лихорадки, которая жрет человека изнутри.
Засадив нас на острове и запретив топтать «священную почву республики святого Марка», венецианцы очень быстро смекнули, как обратить себе на пользу наше безвыходное положение. То и дело прибывали к нам шустрые торговцы. Они сновали между палаток, неустанно скаля в улыбке зубы на загорелых, совершенно разбойничьих рожах, и повсюду щедро предлагали хлеб, рыбу, овощи, довольно неплохие с виду и весьма вкусные, однако грабительски дорогие.
Так искусно опустошали они наши кошельки, а время шло, и мы оставались в Венеции, ибо поджидали остальных паломников, чтобы всем вместе отправиться за море в Святую Землю.
Мы задолжали Венеции. Мы были должны ей непомерно большие деньги за то, что она поставила нам корабли, на которых обязалась переправить нас, вместе с нашим оружием, осадными машинами, оруженосцами, конями за море. За эти деньги мы могли пользоваться венецианским флотом целый год, а сверх того – кормиться девять месяцев из этого года. Однако пока что мы кормились за свой счет и больше тощали, чем жирели на венецианских харчах.
В ожидании, пока соберутся все паломники, мы сидели на острове святого Николая, вынужденные безропотно отдавать венецианцам огромные деньги за обыкновенную еду, которую купили бы на здешнем рынке в десять раз дешевле, – купили бы, если бы этот кровопийца, дюк Дандоль, не запретил нам появляться в городе и не принял бы своих мер, надежно отгородив нас от Венеции водами.
Воин не может долго сидеть в бездействии, к тому же, дурно питаясь. Ничего удивительного, что начались болезни.
Единственное, что кое-как мирило Симона с этим бездарным сидением на клочке суши посреди тухлой воды, которая, несомненно, тоже была собственностью великой Венецианской республики, – так это церковь святого Николая, где сберегались мощи этого святого.
Нам казалось, что наши волосы и одежда постоянно пропитаны влагой. Наступила вторая, наиболее жаркая половина лета. Дюк тряс договором, подписанным в прошлом году некоторыми владетелями – из тех, кто возглавлял наше предприятие, – и Венецией, по которому мы должны были выплатить за венецианские корабли огромные деньги, и требовал, требовал.
День ото дня Симон становился все мрачнее. Он не хотел сидеть на острове и голодать. Ему не нравилось, что полог его палатки по утрам тяжелеет от влаги, что оружие так и норовит покрыться пятнами ржавчины, что оруженосец слег в гнилой лихорадке, а дело, ради которого они отправились в путь, стоит на месте.
И вот было решено, что все паломники собрались и больше никого ждать не следует и был объявлен сбор денег за перевоз.
Явились присланные от дюка – два жирных старца и один тощий, все чин по чину: с глашатаем и даже при барабане.
…Ибо Венеция, терпя убытки все то время, пока строила для наших нужд этот прекрасный флот, превосходно выполнила все свои обязательства, взятые год назад по договору, и теперь благородному крестоносному рыцарству надлежит выкладывать денежки в размере: за каждого рыцаря четыре марки чистым серебром кельнской меры, с каждого оруженосца по две марки, за каждого коня еще по четыре марки, а за поваров, конюхов, щитоносцев и шлюх, коли нам так любо тащить их за собой, – по одной марке…ибо не оставлять же всю эту сволочь в благородной Венеции… как это указано в договоре, исходя из того, что предполагалсь изначально, будто людей будет двадцать пять тысяч, а коней девять тысяч, и еще какие-то тысячи за продовольствие, фураж и перевозку осадных орудий, и все это самым торжественным образом, под барабанный бой.
Гюи де Монфор был в те дни болен – его свалила та самая лихорадка, которая еще раньше унесла в могилу оруженосца, и потому Симон (хоть и молчал, по своему обыкновению), был куда более мрачен и задумчив, чем всегда.
Младший брат Симона, Гюи, был выше его ростом. Худощавый, подвижный, с темными, почти не тронутыми сединой волосами, он был еще молчаливее Симона. Могло показаться, что братья почти не разговаривают друг с другом; однако ж их редко видели порознь, а такого, чтобы один шел против другого, никто не припомнит.
Венецианский лекарь, который время от времени появлялся на острове и с многозначительным видом рассуждал о том, что внутри тела больного идет великая битва между черной и желтой желчью, сказал, поглядев на Гюи, что, судя по всему, желтая желчь одолеет в его теле черную, и с тем торжественно отбыл.
Симон, как любой воин, сам был неплохим лекарем и при случае неплохо справлялся с резаными и колотыми ранами. Мне доводилось испытывать это на себе, когда он вытаскивал стрелу, засевшую глубоко в ране, и могу сказать, что рука у него легкая. Но Гюи не был ранен, и Симон терялся. Между тем, его брату становилось все хуже и делалось совершенно очевидным, что черная желчь одерживает верх и скоро совсем задушит Гюи де Монфора.
Потом явился еще один лекарь. Тот утверждал, будто он – христианин, хотя за версту было видать, что он еврей. Мы хотели его прогнать, потому что он неверный, но Симон велел пустить его – так велико было отчаяние нашего графа. Еврею же сказал, чтобы тот поглядел на Гюи и определил, одолеет лихорадка его брата или же его брат одолеет лихорадку. Еврей на то сказал, что надо бы отбросы сливать подальше от того места, где мы берем для своих нужд воду. После этого мы еврея выгнали.
Вот так и вышло, что Гюи де Монфор и еще несколько наших лежали больные в лихорадке, а прочие проклинали Венецию, дюка и несчастливую судьбу, которая занесла их в этот город.
Пока глашатай надрывался, громогласно напоминая нам о наших долгах, все мы начали сносить в одно место свою долю платы, включая и самых бедных, почти неимущих рыцарей, ибо мы хотели отправиться в наше паломничество за море и покрыли бы себя позором, если бы что-нибудь, пусть даже нехватка средств, помешала нам это сделать.
Свою лепту несли все – и могущественные и знатные бароны, и знатные рыцари, и бедные рыцари, и оруженосцы, конные и пешие, и пехотинцы, и повара, и конюхи, и щитоносцы, словом, все, и никто не уклонился.
Когда венецианцы подошли к палатке Монфора и завели свою песню, оттуда вышел Симон и гаркнул:
– А ну, заткнитесь!
От изумления глашатай уронил свой барабан. Жирные венецианские старцы побагровели, а тощий побледнел.
Симон же сказал, как ни в чем не бывало:
– У меня брат болен, а вы его тревожите.
– Деньги, – молвил глашатай кратко, сведя всю долгую заранее разученную речь к основному.
– Знаю, знаю, – сказал на то Симон и вытолкал посланцев дюка в шею. К своему казначею отправил. Старец из жирных подвернулся Симону под кулак (последним в шествии следовал), Симон его осторожненько в спину подталкивал, выпроваживая. Почтенный старец только ежился, лопатками шевелил под симоновым деликатным кулаком.
Симон присовокупил:
– Идите, передайте вашему дюку: нас тут черная желчь одолевает, да как бы красная верх не взяла…
Тощий старец вдруг повернулся и с достоинством ответил:
– Потому и держим вас на острове, а не в городе.
Так вышло, что Симон заплатил венецианцам все то, что причиталось с него и его людей за перевозку. И все остальные тоже заплатили, кто сколько мог, но не менее одной марки.
И снова стали ждать, когда наступит, наконец, пора поставить большие квадратные паруса и направиться за море, к Вавилону, ибо сидеть на одном месте становилось невмоготу.
Только одно из случившегося в то наше сидение на острове святого Николая и можно почитать за удачу: Гюи де Монфор не умер и на исходе лета поднялся на ноги. Исхудал больше прежнего; больше же никаких перемен с ним не произошло.
Разговоры между тем ходили кругами, как вол, впряженный в мельничные жернова, и все никак не могли остановиться.
Венецианцы требовали денег, которые мы им задолжали.
А у нас денег уже почти не оставалось…
Чтобы избежать позора и выплатить долги, вторично собрали деньги – со всех, кто мог дать. Симон давать отказался, сказав, что уплатил уже за себя, а сверх того платить не намерен.
Тут многие стали его стыдить и говорить, что он роняет свою честь. Почему-то так всегда выходило, что у Симона оказывалось на диво много врагов и недоброжелателей и всяк норовил оставить о нем худое слово.
Так и в этот раз. И скупой-то он, хуже жида, и о чести рыцарской не заботится, и к Святой Земле сердце его состраданием не преисполено. Нашлись такие, кто утверждал, будто граф Симон из трусости хочет сделать так, чтобы войско разошлось и наше паломничество рассеялось.
У Симона хватило выдержки на все обвинения каменно промолчать. Гюи рядом с ним красными пятнами весь пошел; Симон же слушал, как поносят его последними словами, – и молчал.
Только когда до упреков в трусости дошло, хмыкнул.
Те, кто его обвинял, немедленно прикусили язык: неровен час предложит граф Симон проверить на деле, кто из двоих настоящий трус – обвинитель или обвиняемый. А этого, как нетрудно догадаться, никому не хотелось, кроме, может быть, самого графа Симона.
И потому оставили Симона в покое.
Обтрясли именитых франкских баронов, как груши, из самых дальних кошелей серебряные марки выковыряли – и все равно остались мы должны Венеции.
И снова заскрипели жернова, снова тяжкой поступью начал ходить старый слепой вол, по кругу, по кругу, безнадежно, казалось – до самой смерти:
– Венецианцы свои обязательства выполнили, а мы остались им должны.
– Так что с того, что должны, – у нас все равно больше ничего нет.
– Великий позор для нас, что венецианцы свои обязательства выполнили, а мы свои – не можем.
– Так все равно ведь нет больше денег, сколько ни ищи…
– Венецианцы поставили нам флот…
– Нет денег, нет!.. ну нет у нас денег…
– Великий позор для нас…
– Хоть задавись – нет больше денег… сами скоро с голоду подохнем…
Ходит по кругу, по бесконечному кругу вол, а между тем надвигается осень и первый праздник с нею – Рождество Богородицы, и все поняли уже – а поняв, впали в уныние, – что мокрую зиму придется проводить в постылой Венеции.
И вот когда всем стало внятны обстоятельства, ввергшие нас в позорное рабство к венецианскому дюку, когда самые недальновидные и тупые во всех тонкостях и оттенках усвоили это, дюк решил: настала пора прервать бесконечное хождение по кругу. И подал новое предложение.
Стоило посмотреть на этого древнего старца, облаченного в роскошнейшие одежды, когда в день Рождества Пречистой Девы стоял на высоком амвоне в монастыре святого Марка и, заливаясь слезами, говорил о своем сострадании к Святой Земле, терзаемой в руках сарацин!
Многие из слушавших его невольно прослезились, так хорошо и красно он говорил. Каждое слово из произнесенных дюком достигало до самого сердца и находило там себе прибежище среди прочих заветных слов.
Многие – да, но только не Симон. Слушал, сжав губы, будто перемогая неприязнь. Когда же дюк вскрикнул от сердечной боли за плененный Гроб Господень, и все, кто был в монастыре, отозвались горестным криком, Симон, взяв своего брата Гюи за руку, шепнул ему на ухо:
– Он замыслил подлость.
Гюи встретился с Симоном глазами и коротко кивнул. Он еще не вполне оправился от лихорадки и долгое стояние на ногах в переполненном храме давалось ему нелегко.
Дюк Дандоль прокричал плачущим голосом:
– Вижу я, что нет среди венецианцев никого, кто смог бы возглавить их в паломничестве, ибо мы хотим присоединиться к вам! И потому, хоть я и стар, хочу сам возглавить пилигримов!
Тут уж многие зарыдали, как женщины, не стыдясь.
И дюк, с залитым слезами лицом, опустился на колени, а святые отцы пришили крест, вырезанный из материи, на его высокую шапку, чтобы все могли это видеть издалека.
Симон сказал еще тише:
– Фигляр.
Тут началась служба, и Симон забыл о дюке.
На следующий день к острову святого Николая пристала длинная галера, вся разукрашенная флажками с гербами и лентами разных цветов. Она сверкала и переливалась, как плавучая беседка, а в самой середине, окруженный знатными венецианцами, восседал сам дюк. И высокая шапка с нашитым на нее крестом была на нем.
Дюк торжественно сошел на землю. Ему подали богато украшенное кресло, чтобы он мог усесться сообразно своему положению. Справа и слева встали два герольда и трубачи. Трубы взревели так, что дюк, некогда ослепленный врагами, едва не оглох. Однако старец даже не пошевелился при этом громовом звуке и сохранил на лице улыбку.
На зов явились все наиболее знатные бароны и графы из тех, что носили крест на одежде.
Дюк обратился к ним, как равный к равным:
– Мессиры, – сказал он, приятно улыбаясь, – все мы знаем, в какой тупик зашло наше предприятие. Мы не можем отпустить вас и предложить вам уйти восвояси, ибо это сильно повредило бы нашей репутации, а для торговой республики репутация – такой же капитал, как и деньги. Вы же не можете заплатить нам, ибо у вас больше нет денег и многие даже сделали в городе займы…
Тут высокие бароны и графы побелели от злости. Дюк же в силу своей слепоты не мог этого видеть и потому продолжал говорить, все так же приветливо и доброжелательно:
– И потому единственный способ, каким вы можете нам заплатить и рассчитаться со всеми долгами, состоит в том, чтобы взять военную добычу у врагов нашей веры и Иисуса Христа и отдать ее Венеции в счет уплаты долга.
Все слушали молча, не догадываясь еще, куда он клонит. Дюк же сделал короткую паузу и завершил:
– Потому мы перевезем вас за море бесплатно в надежде, что вы рассчитаетесь с нами из первой же добычи.
Все зашумели и засмеялись от радости, как будто дюк преподнес им Бог весть какой подарок. Даже Симон улыбнулся – впервые за долгое время. Брат же его Гюи засиял. Оба они ненавидели Венецию и остров святого Николая лютой ненавистью и одна только мысль о том, что скоро они покинут эти места, была для них радостной.
Дюк перемолвился с некоторыми из баронов добрыми словами. Симон протолкался к старцу и проговорил:
– Прошу простить мне дурные мысли о вас, дюк Дандоль.
Старик пошевелился, дернул своим высохшим лицом в сторону голоса.
– Кто здесь? – спросил он.
– Симон де Монфор.
– Господь с вами, мессир, – милостиво молвил старец.
И отбыл, поддерживаемый под руки своими герольдами. Его водрузили на галеру, и вскоре корабль, трепыхая в воздухе лентами и флажками, направился в сторону дворца, нырнув в каналы, которыми источена вся Венеция, точно порченое яблоко ходами червей.
На острове поднялось великое ликование. Откуда-то из самых дальних – наидальнейших – запасов, куда не дотянулась жадная ручонка венецианских заимодавцев, извлекалось доброе вино, привезенное еще из Франции, добывались сыр и даже мясо, все это жарилось и варилось, нарезалось и поглощалось с большой скоростью и огромным душевным весельем.
Симон сидел возле маленького костра, разведенного чуть поодаль, у его палатки, и неторопливо глодал кость, обкусывая с нее мясо. Время от времени он обтирал ломтем белого хлеба жир со рта. Тощая встрепанная девица с желтыми волосами, за которую Симон лично внес одну марку, вертелась вокруг, норовя вспрыгнуть к нему на колени. Симон отмахивался, лениво и добродушно, и время от времени совал ей кусок хлеба с впитавшимся жиром. Улыбаясь, девица, похожая на мышь, мелко грызла хлеб. И Симон улыбался ей.
По лагерю бродили веселые пьяные люди с крестами на одежде, которые таскали на копьях большие светильники. Лагерь весь переливался праздничными огнями. Светились палатки, повсюду прыгали огни факелов и ламп. Иной раз начинало казаться, будто в лагере вспыхнул пожар, но это горела наша буйная веселость. Всем было радостно оттого, что завтра мы покидаем эту скучную мокрую землю.
На то земля и мокрая, чтобы любой огонек, едва вспыхнув, тотчас же погас. Наутро дюк собрал у себя во дворце наивысшую латинскую знать из тех, кто не носил короны, и продолжил свои вчерашние речи.
– Мессиры, – так сказал дюк, удобно устроившийся в своем позолоченном кресле с бархатным сиденьем, – надвигается зима, когда никто не посмеет пуститься в плавание через открытое море. Осенний Иоанновский переезд в Сирию уже свершен, а затем безопасное время наступит только в марте. Так что зиму вам предстоит провести с нами.
Услышав эти речи, бароны и графы омрачились. Однако дюк знал, что делает, и потому продолжал уверенно:
– Однако ж я не хотел бы – мы все не хотели бы, – чтобы вы просидели всю зиму на острове святого Николая, зная за собою долги перед нами. И потому вот вам мое предложение. Мне хорошо ведом один город неподалеку, где можно взять хорошую добычу и таким образом рассчитаться с нами…
Так впервые прозвучало название Зары.
Зара был город в Далмации – большой торговый город, давний и сильный соперник Венеции. Несколько раз случалось так, что венецианцам удавалось подчинять Зару себе, однако двадцать лет назад она отдалась под руку венгерского короля – а связываться с венграми никому не хотелось, ибо этот народ совсем недавно принял христианство и до сей поры отчасти пребывал в своей первобытной дикости.
Бароны стали переглядываться между собой. Золотое осеннее солнце вливалось в широкие окна дворца, под лучами вспыхивал то один, то другой позолоченный завиток кресла, на котором восседал дюк. Крест на его шапке горел, будто зажженный светильник, а слепое старческое лицо под высокой шапкой казалось совершенно спокойным, умиротворенным.
Симон слушал, неподвижный, – только ресницы подрагивают. Хорошо говорит дюк. Только что предложил латинским рыцарям, представителям знатнейших родов, превратиться в наемников венецианских торгашей – и хоть бы смутился.
Какое там – смутился. Очень быстро дюк повернул свою речь таким образом, что многие начали всерьез верить в то, что он предлагает им доброе и весьма богоугодное дело, которое принесет выгоду и самим паломникам, и венецианцам, и даже жителям Зары.
– Ибо взять столь превосходно укрепленный город – само по себе уже является героическим деянием, – разливался дюк. – К тому же этот город весьма богат всяким добром, так что даже расплатившись с долгами, вы сумеете вознаградить себя за все перенесенные тяготы. Доверьтесь мне, мессиры! Мы проведем в этом городе всю зиму, а затем, достойно отпраздновав пасху, с Божьей помощью двинемся за море воевать с сарацинами!
Закончил. Обвел всех незрячими глазами. Более зоркий, чем иные из тех, кто наделен плотским зрением, безошибочно задержался мыслями на Монфоре: тот не поверил ни единому слову дюка и безмолвно кипел от негодования.
А дюк окликнул его:
– Мессир де Монфор, вы здесь?
– Да, мессир, – сказал Симон.
Дюк протянул ему руку, сухую, как птичья лапа.
– Негоже оставлять товарищей на середине пути, – сказал ему дюк.
– Негоже, – согласился Симон. И коснулся руки дюка.
– Вот и хорошо, – сказал дюк Дандоль.
У себя в палатке Симон молчал. Так же молча смотрел на следующее утро, как собирают вещи, как сворачивают полог. Конюхи болтали, желтоволосая девица вертелась под ногами, без толку гремела котлами и кружками, визгливо смеясь. Когда оруженосец подошел к Симону с пустяковым вопросом, граф Симон неожиданно закатил ему пощечину. Пока оруженосец глотал ртом воздух и таращил глаза, Симон поднялся и ушел на берег, где и устроился неподалеку от пристани, спиной к острову.
Так, пятном плесени на истерзанном теле земли, осталась в нашей памяти Венеция…
Отплытие в Зару
8 октября 1202 года
Одеяла, кожаные подушки, набитые соломой тюфяки, бочки с пресной водой, сундуки с припасами – копченой свининой, вялеными говяжьими и свиными языками, копченой и сушеной рыбой, сухарями двойной и тройной закалки, сухими яблоками – все это было горой навалено на пристани. Симон оставил возле своих богатств повара и двух пехотинцев, о которых доподлинно знал, что те не станут воровать даже от голода, и вместе с одним рыцарем (его звали Алендрок де Пэм) отправился к причалу – выяснять, на который из кораблей ему можно погрузиться.
После долгих перебранок и хождений от одного плавучего гроба к другому (не все венецианцы хорошо понимали речь франков, особенно когда не хотели), нашелся один венецианский комит, который крикнул:
– Мессир де Монфор! Сюда!
Симон поднялся по крутой шаткой лесенке на палубу, с сомнением оглядел белые пятна, оставшиеся от плохо отмытой блевотины. Комит (так называл себя тот венецианец, имелся еще патрон судна, жирная ленивая образина) закивал в ответ на отрывистые вопросы Симона и принялся показывать стойла, постоянно о чем-то спрашивая. Венецианец выпаливал огромное количество полупонятных слов и все время лапал Симона за плечо, требуя ответа. Симон осмотрел стойла: да, здесь хватит места для его лошадей. Комит замахал ему рукой, теперь уже сердясь на проволочку и торопя.
Симон спрыгнул на землю, не слишком доверяя лесенке, и крикнул конюху, чтобы заводил лошадей. Кони пугались и шарахались, но конюх, заводя их по одному, ловко успокаивал их. Стойла были устроены на корабле таким образом, что лошади – а их уместилось здесь девятнадцать – висели в них в кожаных лямках, лишь слегка касаясь копытами палубы и царапая подковами доски настила. Конюхам (их у Монфора было трое, все немолодые, весьма искусные в своем деле люди) было велено устраиваться неподалеку от стойл.
Сундуки с продовольствием и бочки занесли на нижнюю палубу. Погрузка тянулась бесконечно долго из-за бестолковой суеты и путаницы, неизбежно возникающей при такого рода делах. Одну бочку уронили и разбили. Человек, допустивший эту оплошность, нашел глазами Симона и помертвел: граф видел. Симон же нетерпеливо махнул ему рукой, чтобы продолжал работу.
Занесли также четыре большие клетки с насестами, где отчаянно кудахтали перепуганные курицы. Симон закупил их в Венеции на последние деньги, не желая, чтобы из-за отсутствия живого мяса среди его людей начались болезни, от которых выпадают зубы, так что молодой человек становится подобен дряхлому старцу. Этот совет дал ему еще во Франции один тамплиер, который не раз ходил в Святую Землю и многому научился у сарацин.
Корабль наполнился шумом; негде было свободно шагу ступить – везде носили грузы, устраивали себе временное жилье на все время плавания, спорили и бранились между собой и венецианскими галиотами и комитом.
Судно было огромным, широким, с множеством палуб и надстроек, что делало его похожим на плавучий муравейник. В носовой и кормовой части корабля громоздились две башни, на которых соорудили дополнительно навесы и установили два копья с флажками, чтобы бело-красный двухвостый леопард Монфора оповещал без слов о том, кто плывет на этом корабле. Башни были сделаны таким образом, что выступали вперед и назад, как бы высовываясь за пределы судна, удлинняя его.
Внизу имелась палуба, где разместились пехотинцы, прислуга и дешевые шлюхи (желтоволосую девицу Симон взял к себе, чтобы она не набралась вшей).
Выше этой палубы была еще одна, по которой ходили, а еще выше – помост, где по обеим сторонам имелись помещения для знатных и состоятельных господ. На крыше этих помещений были воздвигнуты ограждения с узкими бойницами (угадайте, для чего бойницы), так что вся верхняя палуба превращалась в подобие большого двора, со всех сторон окруженного постройками, вроде тех, которые можно увидеть в зажиточном крестьянском хозяйстве. Над этим двором можно было натягивать парусину, чтобы защитить людей от дождя и ветра, – эта мера была бы весьма кстати, ибо мы пустились в плавание в начале октября, да вот незадача: парусины на нашем корабле не хватило. Не то пропили, не то порвали еще в прошлых плаваниях. Впрочем, мы так спешили отплыть и так радовались тому, что выступаем, наконец, в поход, что не обратили на это внимания, и потом мокли под дождем или дрожали под порывами холодного ветра.
Таких кораблей, как наш, было в гавани великое множество, и если бы я не видел их собственными глазами, то никогда бы не поверил, что возможно такое скопление в одном месте столь большого количества прекрасных оснащенных для похода кораблей.
Рядом с нами грузили на транспорты лошадей, заводя их в трюмы по перекидному мостику через дверцы в кормовой части. Шум стоял нестерпимый. Младший пилот нашего корабля громко переругивался с таким же пилотом соседней галеры. Ему кричали какие-то дерзости и обидно смеялись.
Длинные венецианские галеры, казалось, трепетали от нетерпения выйти в море. Их было много, и дюк снарядил их за свой счет – из любви к Богу, как он сообщил. Галера самого дюка была выкрашена красной краской. На корме, где с превеликими удобствами помещался сам дюк, раскинули, наподобие шатра, красный балдахин, шитый золотом.
Корабли расцветились флагами, выставленными на башнях кормовых надстроек. Один за другим поднимались латинские паруса, белые с красными или черными крестами. На большинстве кораблей, в том числе и на нашем, были две мачты, стоявшие довольно близко одна к другой. На верхушке каждой мачты была приделана особая корзина, где, как птица в гнезде, сидел наблюдатель, а при случае мог поместиться и лучник.
Пилоты засели на корме. Их было двое, старший и младший. Они ловко управлялись с двумя длинными веслами, которые позволяли им направлять корабль по нужному пути.
На кормовой надстройке башни мы вывесили свои щиты, обратив их гербами наружу. И на всех других кораблях рыцари поступили точно так же.
Паруса наполнились ветром, потянув корабли за собой, подобно тому, как беспокойная душа увлекает тело в дальние странствия. Заиграли трубы, загрохотали барабаны. Поднявшись на башни, бывшие с нами клирики (а их насчитывалось немало) запели громкими голосами:
Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia, Quae tu creasti, pectora.Хвала Духу Святому, Утешителю, разнеслась далеко над всем нашим флотом, и таким великолепным зрелищем предстал он нашим глазам сейчас, развернутый во всей своей красе и шири, что у многих выступили слезы. И повсюду вторили пению наших клириков и простые пехотинцы, и слуги, которые больше кричали или подвывали от восторга, и знатные сеньоры. Симон петь не умел и только проговаривал слова, шевеля губами почти беззвучно:
Deo Patri sit gloria, Et Filio, qui a mortuis Surrexit, ac Paraclito, In saeculorum saecula. Amen.Падение Зары
11 – 24 ноября 1202 года
…Словно не мы надвигались на город, а город медленно, неотвратимо надвигался на нас: башни его, казалось, вонзаются в пронзительное синее небо. Еще издалека мы увидели, как хорошо он укреплен – хорошо и превосходно, так что мало надежды было взять его долгой осадой или штурмом.
Воды залива покрылись кораблями. Вода – блекло-голубая, с черными провалами в бездну меж гребней волн – закипала под веслами длинных венецианских галер. Наш круглый неф шел будто человек в толпе себе подобных; флажок с бело-красным гербом Монфора пообтрепался за месяц каботажного плавания. Стояла уже поздняя осень, то и дело шли дожди, а ветер дул то с берега, то на берег и выстуживал наши бренные настрадавшиеся тела то с одного, то с другого бока. От его проницающих повсюду пальцев негде было укрыться. Симон помалкивал, только брови хмурил; многие же роптали.
И вот перед нами этот город – Зара – подступивший своими огромными стенами почти к самой воде. Залив перегорожен огромной цепью, волны захлестывают ее и стекают, переваливая, с ее звеньев, так что кажется, будто впереди сверкает драгоценный водопад – первая преграда на нашем пути к Заре.
Венецианские моряки, орущие на своем языке, снуют по всему кораблю, кое-кто босой, несмотря на холод. Парус вместе с рангоутом валится на палубу. Цепкие руки сворачивают парусину, готовят мостки для перехода на сушу. Наш неф теперь почти не двигается. Он пузато переваливается на волнах.
Мы кажемся лишними здесь, на корабле, среди всей этой моряцкой возни и суеты. Не храбрые латинские рыцари, не воины Христовы, не владетельные сеньоры, Господи, какое там! Мы – просто груз, доставленный сюда, под стены Зары. Мы ведем себя смирно, как и подобает грузу.
У Симона хмурый вид; он недоволен. Он недоволен все то время, что длится плавание, весь месяц; он разжимает губы только для того, чтобы молвить «аминь» вослед за аббатом, когда все собираются на корме для скудной и скучной трапезы.
Пять галер проносятся мимо. От их весел расходятся волны, так что нашего дрейфующего пузана весьма ощутимо качает. Дрожь пробегает по всей цепи кораблей. Вырвавшись далеко вперед, галеры бросаются на цепь, протянутую поперек залива. С громовым звуком цепь лопается под окованными острыми загнутыми вверх мордами галер. Один конец цепи, точно живой, бьет по воде, прежде чем сгинуть в волнах.
На всех наших кораблях поднимается ликующий вопль. Зрелище так необычно и великолепно, что крик восторга непроизвольно рвется из груди. Даже Симон – и тот ахнул, так что говорить об остальных.
Постепенно мы подходим ближе к городу. Мы проходим над тем местом, где только что сверкал над цепью водопад. Воды, поглотив преграду, послушно расступаются перед нами. Стены Зары надвигаются все ближе, все выше запрокидывает голову Симон.
Город ждет нас. Молчаливый, неприступный, огромный. Он смотрит на нас сотнями глаз.
Только слепой не сосчитал бы наши паруса, не разглядел бы крестов на нашей одежде. Благочестивые паломники, вооруженные пилигримы, мы идем в Святую Землю, ибо сердца наши полны жалости и содрогаются при мысли о том, что Гроб Господень находится в руках у сарацин.
Что же мы делаем здесь, у стен Зары? Господи, что мы здесь делаем?
На стенах, на башнях, устремленных в осеннее небо, ослепительное, как покрывало Богородицы, над воротами Зары – везде вывешены образа, кресты, распятия; куда ни глянь – повсюду встретишься взором с ясным ликом Пречистой Девы, с изможденным страдающим лицом Ее Сына, везде навстречу нам раскрыты в благословении ладони, раскинутые крестообразно руки.
Ожидая нас, Зара вывесила святые образа, как бы призывая нас опамятоваться, очнуться от дурмана: зачем мы, с нашитыми на одежду крестами, пришли к стенам христианского города?
Сотнями строгих глаз глядит на нас Зара. Глазами Иисуса Христа глядит на нас Зара. И спрашивает Иисус у сеньора де Монфора:
– Что ты делаешь здесь, Симон? Зачем ты пришел сюда?
Мягкий, но сильный толчок, шуршание песка: мы ткнулись в мелководье. До берега неблизко, мостков не хватит. С плеском сходят в воду рыцари и оруженосцы, пехотинцы и слуги, волоча ноги по воде и пошатываясь на ходу от привычки к долгому морскому переходу, направляются к берегу. С дромонов выводят коней, застоявшихся, ошалевших. Белая лошадь, откинув назад хвост, роняет яблоки прямо в воду, и ведущий ее в поводу оруженосец громко хохочет, задирая голову. Он рад снова очутиться на суше.
Суета закипает вокруг. Мы больше не бессловесный груз, мы снова соль земли, латинские рыцари. Мы переносим на сушу мешки и бочки, мы разбиваем палатки, обсиживая узкую полосу берега между стеной и водами, как муравьи. Мы повсюду. Мы стиснули Зару в кольце нашего лагеря, мы отняли у нее залив, чьи воды полны теперь наших кораблей, так что по ним можно идти, как по суше.
Никто не смотрит вверх, на стены, на это больше нет времени.
Умелые руки вбивают в мягкую землю колья, растягивают цветное полотно палаток. Везде на воткнутых в землю копьях флажки с гербами. Стало красиво и празднично, как перед началом турнира. Захлебывается где-то труба, смеющийся голос повторяет сорвавшуюся было мелодию. С треском ломается о колено хворост: сегодня горячая еда будет у всех.
К нам направляется монах. Он идет, торопливым, хоть и неверным шагом; его, как и многих, еще шатает после моря. Длинное одеяние, раздуваемое ветром, путается у него в ногах, так что иной раз чудится, будто он вот-вот упадет. Но он не падает и двигается довольно скоро.
Это аббат Гюи из Сернейского аббатства, бенедиктинец – или, правильнее сказать, цистерцианец, который ни с кем не ладит из-за своего злого нрава. Не говорит, а гавкает, да и норовом чаще напоминает цепного пса, нежели монаха.
Симона собачьими повадками не смутишь. К тому же, он выше аббата на голову и шире в плечах, хотя вряд ли старше.
Остановившись в двух шагах от Симона, аббат раскрывает рот и принимается орать. Он кричит, надрываясь; у него сорван голос, и мы понимаем, что он давно уже бегает по всему лагерю, от шатра к шатру, от сеньора к сеньору, и везде кричит. Глас Вопиющего.
Монах орет, Симон слушает. Ветер бьет аббата по лицу, рвет с плеч белое облачение. Симон неподвижен, как скала. Флажок с красно-белым гербом трещит у его плеча.
Аббат кричит:
– Дюк привел нас под стены христианского города! Нас всех отлучат от Церкви! – И понес, понес: – Преступные негодяи, отступники, спутники разнузданности, злодеи, позор человечества, гнусная мразь, зловреднее любого неверного!..
Симон слушает и молчит. Аббат ему нравится, это заметно по тому, как смягчается суровое обветренное лицо Симона. Клянусь Распятием, этот крикливый аббат нравится нашему графу.
Симон протягивает к нему свою огромную руку – крепкую загорелую руку с множеством белых шрамов – и берет того за плечо.
Аббат замолкает, удивленный. А Симон, повернувшись в ту сторону, где двое расторопных слуг выносят на берег бочки, рявкает:
– Вина святому отцу!
И аббату подносят вина. Вернее, подносят Симону, а тот уже подает аббату. Глас Вопиющего пьет, кашляет, стонет, снова пьет.
– Ох, – говорит он наконец, возвращая Симону кружку, – благодарю вас.
– Где вы поставили палатку? – спрашивает Симон. – Я встану рядом с вами.
Аббат показывает. Его палатка стоит немного в стороне, как бы на отшибе от остальных. Аббат – крестоносец, как и остальные, однако он – духовное лицо и не собирается принимать участия в сражениях.
Симон хочет спросить у аббата что-то еще, но трубит рог, гнусаво и громко, и сразу же в ответ на этот звук раздается шум, прокатившийся волной по всему лагерю: крики, топот ног. Симон направляется туда, где выше остальных реют флажки дюка Анри Дандоля и Бодуэна Фландрского. Аббат едва поспевает за рослым Симоном, на ходу смешно подскакивает и пару раз спотыкается, непрестанно ворча себе под нос и оглаживая себя по груди – будто хоронит там что-то драгоценное.
Симон – как камень, но на самом деле кипит от ярости. Позор человечества, гнусная мразь, мать вашу, дочь вашу!.. При виде дюка, величавого увечного старца в высокой дюковской шапке с нашитым на нее крестом, Симон едва не заскрежетал зубами.
Дюк, невозмутимый, как сарацинский старейшина, сидит – ждет, пока все соберутся на его зов. Погасил злобу в серых глазах Симон. Скрестив ноги, уселся на голую землю. Метнул взгляд налево, направо. Собрались уже почти все – знатнейшие сеньоры из тех, кто носит крест на одежде. Нет-нет да поглядит то один, то другой в сторону Зары: какие же богатства (несметные, уверял дюк) скрывают эти высокие стены? И хотелось добраться до этих богатств – смертно хотелось, ибо почти все сильно поиздержались, пока были в Венеции. Хоть по договору с жадными венецианцами половина из взятого в Заре отойдет в цепкие старческие руки дюка Дандоля, а все же и половины будет довольно и с долгами рассчитаться, и как следует покушать перед трудным паломничеством.
Наконец, дюк дал понять, что все собрались и более он ждать не намерен. Старик пошевелился – а до этого он сидел, как истукан, – и заговорил своим тихим, вкрадчивым голосом. Дюк сказал:
– Мессиры, вот присланные к нам граждане Зары, которые хотели обратиться к вам с речами и высказать, возможно, свои предложения.
И усмехнулся, еле заметно. Колыхнулись уголки сухих губ – и все.
Присланные выступили вперед: в длинных просторных одеждах, с богатыми украшениями на груди и пальцах. Вид этих украшений еще больше подействовал на жадность воинов Христовых, и по рядам баронов и владетелей пробежало как бы небольшое волнение.
Граждане Зары сказали:
– Дюк венецианский много лет ненавидит нас, ибо наш город и Венеция издавна наносят друг другу ущерб, и неприязнь наша взаимна. Двадцать лет назад мы признали над собой короля венгерского и с тех пор оставались ему верны, хотя мессир дюк венецианский десять лет назад ходил воевать нас. Однако, как все мы помним, ему не удалось осуществить это намерение.
Тут дюк венецианский и посланники из Зары обменялись вежливыми поклонами.
Дюк заметил вполголоса:
– С той поры минуло десять лет, мессиры, и многое переменилось.
– Не в силах совладать с нами и терпя великие убытки от нашей успешной торговли, – продолжали посланники, – дюк венецианский призвал на службу вас, воины Христовы, позабыв, однако же, о том, что и наш король Имрэ принял крест и собирается отправляться в вооруженное паломничество, ибо и его сердце преисполнено жалости к Святой Земле.
И снова они обменялись с дюком поклонами, еще глубже прежнего.
Симон слушал с неподвижным лицом. Рядом с ним – его брат Гюи; у того в глазах тревога.
А посланники из Зары сказали так:
– Видим мы, что нынче не одолеть нам той рати, которую повел на нас наш враг, дюк венецианский. И потому готовы сдать город и признать над собою дюка при условии, что тот пощадит наши жизни и имущество.
Дюк сморщил лицо. Жизни – пожалуйста; но вот имущество… А ради чего весь поход затеялся? И многие крестоносцы тоже забеспокоились, разволновались, стали взгляды друг на друга метать.
И сказал дюк вкрадчиво:
– Вы видите, сколько славных и знатных баронов и шателенов пришли со мной, мессиры. Разве я могу принимать подобные решения единолично, не посоветовавшись с ними?
– Так советуйтесь же, мессир, – сказали ему послы из Зары.
Тут все зашумели, стали переговариваться между собой. Симон слушал, молчал – злобой полнился.
И пока все кричали друг на друга, давясь от жадности, и подсчитывали убытки и доходы (ибо уже безмолвно решили между собой непременно обложить Зару большими поборами в свою пользу), вскочил Ангерран де Бов – рыжий, как осенний лес, долговязый, костлявый, в простой шерстяной рубахе (в отличие от многих почитал за необходимость в паломничестве отказаться от роскоши и излишеств). Этот Ангерран много лет провел в Святой Земле за морем, сражаясь, и потерял там отца.
Он закричал, обращаясь к посланцам Зары:
– Почему вы хотите сдавать свой город?
Посланцы отвечали ему:
– Потому что жизнь нам дороже, мессир.
– Вы построили такие высокие стены! – крикнул им Ангерран, ибо находился на довольно большом расстоянии от послов, а все прочие рыцари и бароны вокруг них кричали и галдели. – Вы живете в неприступной крепости! Мы – паломники, мы хотим воевать с сарацинами, а вовсе не с христианами!
– Да уж, – сказали на то послы. – Желательно бы… Да только не верится.
– Пилигримы не станут воевать с христианским городом, – убежденно сказал Ангерран. И взглядом вокруг себя обвел всех рыцарей и баронов. Но мало кто отвечал на его взгляд таким же прямым взглядом. – Мы не станем проливать кровь христиан, – повторил Ангерран. – А от венецианцев вы легко отобьетесь. Не нужно сдавать города.
Дюк венецианский зашипел от злости. Но он видел, что лишь немногие сеньоры из пилигримов были согласны с Ангерраном; остальных же тревожил призрак скрытого за стенами Зары богатства.
И встал аббат Гюи Сернейский, достав из-за пазухи свиток со свисающей внизу печатью. Закричал своим сорванным голосом, но мало кто его услышал. Тогда Ангерран де Бов, видя, как захлебывается аббат, пришел к нему на помощь и заревел:
– Ма-алча-ать!..
Все возмутились было и ополчились на Ангеррана за то, что он перебивает разговоры, но Ангерран, от натуги красный, еще раз закричал, чтобы все замолчали. И постепенно разговоры смолкли.
Тогда аббат просипел:
– Папа римский грозит отлучением от Церкви за нападение наше на христианский город…
И свитком тряхнул.
– Святой отец предостерегает нас, – хрипло сказал аббат. И закашлялся на ветру. Все ждали, пока он остановится. Наконец аббат развернул свиток и начал читать. Ветер относил его слова, почти никто не разбирал того, что читает аббат. Наконец тот махнул рукой и начал сворачивать свиток.
Дюк венецианский отчетливо проговорил:
– Ложь и фальшивка.
И сделал кому-то знак – почти незаметный.
Снова поднялся шум, все спорили, перекрикивая друг друга. Аббат вдруг нелепо взмахнул руками и шарахнулся в сторону, как будто испугавшись чего-то. И тотчас же Симон, до того сидевший молча и неподвижно, бросился к нему.
Никто не успел понять, что произошло, когда все было кончено. На песке у ног аббата остался лежать мертвец. Кровь быстро впитывалась в песок. Аббат, дрожа, прижимал ладони к груди: на тыльной стороне ладони остался глубокий порез. Кровь стекала по руке и пачкала его белое облачение.
Симон толкнул ногой человека, которого убил, спасая жизнь аббата.
– Венецианец, конечно, – пробормотал он. И поднял над головой руку с мечом, возвышая голос: – Мессир дюк, перед всеми я объявляю, что вы – предатель!
Дюк пошевелился, неторопливо поворачиваясь в сторону этого громового голоса.
– Вы приказали убить аббата, – сказал Симон. – Я видел это.
Дюк еле заметно пожал плечами.
– Я не отвечаю за ваши видения, мессир, – молвил дюк.
– Я отказываюсь участвовать в ваших планах! – сказал граф Симон и вложил меч в ножны.
– И я! – крикнул Ангерран.
К Симону подошел его брат Гюи и молча встал рядом. И еще рядом с ним оказались Робер Мовуазен, и Дрию де Крессонессар, а бок о бок с Ангерраном встали его старший брат Робер и еще Симон де Нофль.
Тогда дюк, наконец, утратил свое нечеловеческое самообладание и завизжал:
– Дезертиры! Трусы! Предатели! Вы взяли деньги у Венеции и не хотите платить долгов! Нищая рвань! Чем вы заплатите за наши корабли?
Симон молчал. А Дрию засмеялся. И глядя на него, засмеялся Робер де Бов, такой же рыжий, как и его младший брат.
Дюк закричал, пронзительно, как торговка зеленью:
– Вы подписали договор!.. Вы дали слово!.. Ваши послы клялись Венеции от вашего имени!..
Тут Ангерран смутился было, но Симон ответил ясным твердым голосом:
– Мой сюзерен ничего с вами не подписывал и я ничего вам не должен.
Ибо Симон был вассалом французской короны, а король Франции никаких договоров с Венецией не заключал.
Дюк заскрипел зубами – всеми, что у него еще оставались, а Симон сказал:
– Клянусь всеми святыми, мессир, если с аббатом Гюи что-нибудь случится по вашей вине, я сам перережу ваше тощее горло.
И они ушли из совета, а первым шел Симон и рядом с ним, поминутно спотыкаясь, – аббат.
И когда они ушли, дюк пришел в себя и перевел дыхание, как будто близость Симона душила его и не давала вздохнуть свободно. И дюк сказал оставшимся сеньорам, которых было куда больше, чем тех, что ушли:
– Ну так что же, мессиры?
И сеньоры так сказали дюку венецианскому и послам города Зары:
– Поначалу мы подумывали о том, чтобы принять ваши условия и взять город без боя. Однако теперь мы видим, что для всех нас будет великим позором, если мы не поможем Венеции взять этот город.
Так ушли послы, а крестоносцы стали готовиться к осаде.
Наши палатки стояли поодаль от города, потому что Симон отказался воевать с Зарой. Однако и уходить он пока что не собирался, потому что не считал для себя возможным дезертировать и покинуть своих товарищей. Потому он праздно сидел в своей палатке, либо на берегу и смотрел на то, что происходит у стен Зары.
Он слышал конское ржание и видел большие осадные башни, которые привезли с собой на дромонах крестоносцы; мангонели метали камни, длинные лестницы, защищенные с боков толстым слоем парусины, приникали к каменным стенам города. Сверху лилась горячая вода и летели стрелы и дротики. Шум поднимался в самое небо.
И вместе с убитыми и ранеными людьми валились со стен на землю изрубленные, залитые смолой священные образа – рассеченные мечами лики Пресвятой Девы, отрубленные вместе с крестом руки Сына Божьего – как будто мало Ему перенесенных страданий! – сыпались куски облачения, позолоченные нимбы, разбитые в щепу ангельские крылья…
Целыми днями, не переставая, шел яростный штурм Зары. Около сотни человек погибли в те пять дней.
Бездеятельно смотрел на это Симон. Лучезарные воды залива плескали в берег, будто им не было никакого дела до войны, и шелест волн иной раз звучал в ушах Симона громче людских криков, треска пламени и рева камнеметательных машин.
Ослепительное синее осеннее небо расстилало свои крылья над содрогающейся Зарой.
На шестой день после начала штурма город был взят.
Высокие стены, гордые башни, испачканные смолой, разбитые во многих местах, пали, и ярость венецианцев разметала их. Почти сразу из-за рухнувших стен к небу поднялся черный жирный дым: город подожгли сразу в нескольких кварталах. Вместе с дымом полетели к небу жалобные крики; полилась кровь.
Тогда Симон покинул свой лагерь и вместе со своим братом Гюи и Ангерраном пошел к Заре. Он ступал медленно, словно боялся оступиться среди трупов, камней, стрел, брошенных повсюду бревен. И вот что-то мелькнуло среди поваленных друг на друга человеческих тел. Симон наклонился, нетерпеливо отбросил в сторону мертвую, уже коченеющую руку – убитый венецианец словно и после смерти судорожно цеплялся за землю Зары – и взял в ладони упавший со стены образ Пресвятой Девы.
Образ был совсем маленький и поэтому уцелел, только был сильно испачкан кровью и копотью. Ангерран протянул руку:
– Что вы нашли, мессир?
Симон показал ему. Ангерран молча стиснул плечо Симона и ничего больше не сказал. А у Симона вдруг заныло в груди. Болело почти нестерпимо, как будто к его коже приложили раскаленное тавро. Симон даже провел пальцами по рубахе, однако ничего не почувствовал – все было холодным.
И он забыл о боли, привыкнув к ней, – как часто делал и раньше, и впоследствии.
Они вошли в горящую Зару. Рыцари успели передраться с венецианцами, не поделив добычу, и на горящих, разоренных улицах шла всеобщая свалка: все против всех. Несколько раз разъяренные дракой люди бросались на Симона; брезгливо кривя губы, Симон отбрасывал их, не прикасаясь к мечу, голыми руками.
Втроем они прошли весь город. Большая улица, охваченная смятением, вывела их к храму. На площади перед церковью уже лежали несколько убитых, однако сама церковь не была тронута ни пожаром, ни грабежом.
– С них станется, – проворчал Гюи де Монфор.
Они поднялись по ступеням и постучали в запертую дверь. Им не хотели отворять, сердито кричали что-то на непонятном языке. Симон сказал:
– Во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Дверь приоткрылась. На Симона уставились перепуганные глаза: монах.
– Почему ты здесь? – спросил его Симон. – Ты должен быть там, с ними, когда их убивают!
И подал ему найденный у стен образок.
Монах все так же испуганно выхватил образок из пальцев Симона и тут же с лязгом захлопнул дверь.
Тут жар от невидимого тавра стал нестерпим. Симон вдруг побелел, пошатнулся. Боль не хотела, чтобы о ней забывали.
– Что с вами? – спросил Гюи де Монфор.
– Не знаю, – сказал Симон. – Идемте же дальше.
Они прошли весь город, от ворот до ворот, и всюду видели одно и то же: опустошение, вывороченные камни, разваленные или горящие дома, каких-то растрепанных людей, волочащих за собой тюки с барахлом.
– Уйдем отсюда, – сказал, наконец, Симон, когда его сердце насытилось страданием.
В своей палатке, сняв рубаху, он увидел, что крест на его груди раскалился и выжег на коже, над самым сердцем, большую рану, которая потом долго еще болела и никак не хотела заживать.
Новые планы дюка Дандоля
ноябрь – декабрь 1202 года
К ночи Зара сдалась, а с наступлением темноты всякие стычки на ее улицах прекратились. Утомленные непрерывным пятидневным штурмом, люди заснули там, где настиг их сон.
Наутро же Заре предстояло пробудиться лишь для того, чтобы полнее осознать свое плачевное положение. Стены и башни и прочие укрепления, какие еще уцелели после приступа, было решено срыть; многие здания были, по распоряжению дюка, разрушены (это распоряжение считали весьма разумным, и Симон, будь он, подобно дюку Дандолю, врагом Зары, поступил бы точно так же).
Дабы довершить разорение города, дюк предложил победоносному воинству провести в нем всю зиму. Ибо любому ясно, что прокормив в течение целой зимы такое многочисленное и прожорливое войско, как наше, по весне Зара умрет голодной смертью, уподобившись пеликану, который выкармливает детенышей собственной кровью, отчего и умирает, едва лишь те подрастут. Так и мы предполагали высосать все жизненные соки из захваченного нами города, чтобы нам жить, а ему – проститься с жизнью.
Было также решено поделить город пополам, чтобы одна из этих половин принадлежала латинскому рыцарству, а другая – венецианцам, и я не могу сказать, которой из двух половин пришлось хуже.
Симон и Гюи заняли большой красивый – до разграбления – дом недалеко от церкви, той самой, куда они стучали в день падения Зары. Аббат Сернейский был с ними, ибо Симон опасался за его жизнь. Хозяин того дома, где встал на постой Монфор, был убит на второй день штурма; его семья, оглушенная потерями, в безмолвии и покорности взирала на то поругание, которому неизбежно подверглось их жилище. Для начала мы забили и съели у них птицу, оставив хозяевам лишь кости. Симон сказал этим людям, что им придется перейти в помещения, где прежде обитала прислуга, а прислугу либо выгнать долой, либо переместить в загоны для скота, ибо скот все равно скоро будет съеден. Больше Симон с этими людьми не разговаривал; те же старались не попадаться ему на глаза.
Мы отъелись и отоспались за те три спокойных дня, что прожили в Заре. Город стенал и плакал, выплачивая назначенную победителями контрибуцию, однако жизнь граждан пощадили и никого из тех, кто остался в живых после штурма, больше не тронули.
В ночь на четвертый день после падения Зары мы были разбужены страшным шумом. На церкви, бывшей совсем неподалеку от занятого нами дома, громко, не в лад, забили колокола. Треск и крики то проносились под самыми окнами, то стихали в отдалении, чтобы тотчас же зародиться где-нибудь в другом месте.
Симон оделся, взял оружие и спустился в комнаты для прислуги. Хозяйка в голос плакала и причитала, ломая руки. Старший сын, подросток лет тринадцати, пытался ее утешать. Симон велел мальчику идти с ним, ибо наш граф плохо знал город и не хотел попасть впросак из-за своего незнания. Хозяйка кинулась было ему в ноги, умоляя пощадить ее дитя, но Симон уже повернулся к ней спиной.
Улицы были полны разъяренных, окровавленных людей. У многих были в руках горящие факелы. Поначалу Симон даже подумал, что в Зару ворвались венгры короля Имрэ, чтобы отомстить за разорение подвластного им города, но вскоре убедился в своей ошибке.
– Нет, это ваши передрались, – сказал ему мальчик.
Дрались венецианцы с французами. На улицах, частью пострадавших от недавнего пожара, стучали мечи; в любом доме мог скрываться арбалетчик, так что требовалась осторожность при хождении мимо окон. Город был зажиточным и окон здесь имелось много. Недавние союзники сцепились в яростной битве, будто бы охваченные безумным стермлением извести друг друга во что бы то ни стало. Зара сочилась ненавистью.
Мальчишка проговорил презрительно:
– Награбленного не поделили.
Симон ощутил стыд и горечь, ибо паренек был прав. Алчность венецианцев возмущала многих уже открыто, особенно же это касалась небогатых и совсем бедных рыцарей, которые отправились в поход отчасти ради того, чтобы поправить свое бедственное положение. Симон в дележе добычи не участвовал, потому что не хотел, чтобы его отлучили от Церкви за разбойное нападение на христианский город.
Симон велел пареньку, чтобы тот отвел его кратчайшим путем в дом, где остановился Бодуэн Фландрский. Дважды путь им преграждала орда грызущихся между собою людей, и Симон совсем было отчаялся попасть туда, куда намеревался, однако на третий раз им повезло, и окольными переулками они выбрались к богатому и совершенно не пострадавшему дому. Симон наказал мальчику сидеть на кухне, покуда не позовут, и не ходить на улицу, а сам ворвался в покои, где почивал граф Бодуэн.
Впрочем, тот уже не почивал, как и многие собравшиеся у него не на шутку встревоженные бароны и рыцари и десяток венецианцев из самых знатных родов. И многие сходились на мнении, что нужно разнять смутьянов, покуда те не нанесли еще более великого ущерба нашей армии и всему тому благочестивому делу, ради которого мы отправились в наш долгий и опасный путь.
Симон сказал, перебивая многословные споры, что привел с собой паренька из числа местных жителей, который может рассказать о расположении улиц и домов с убежищами и других наиболее опасных местах, где могут укрываться мятежники, и тогда собравшиеся владетели, рыцари и бароны сумеют лучше преградить дорогу мятежу и погасить пожар взаимного недовольства, покуда пламя не охватило все войско и не уничтожило его.
Все, даже те, кто ненавидел Симона (а таких было немало), признали его совет разумным и послали на кухню за мальчиком.
Тот сперва растерялся и оробел при виде столь большого числа знатных латинских баронов, так что не мог вымолвить ни слова и этим весьма прогневал графа Фландрского и маркиза Монферратского, а также двух венецианцев. Один из них даже начал кричать на мальчика, как на слугу, но тут Симон вмешался и довольно резко оборвал венецианца.
– Довели до кровопролития, – молвил он с угрюмым видом, – так попридержали бы хоть язык.
Венецианец вспыхнул, потянулся к своему кинжалу. Граф Бодуэн остановил его, тронув за плечо, и обратился к Симону с кроткой укоризной.
– Почему, – сказал он, – почему, граф Симон, вы с такой легкостью наживаете себе врагов, где бы вы ни оказались?
– На все Божья воля, – спокойно сказал Симон. – Незачем орать на мальчика, если вы хотите, чтобы он ясно отвечал вам.
– Понадобится – вытрясу из щенка все, что нужно, – выговорил венецианец, дрожа от ярости, однако убирая при том руку с кинжала.
– Этот человек мой, – заметил Симон и взял мальчика за плечо. После такого заявления никто уже не обращался к мальчику с угрозами, и тот, постепенно оправившись, довольно толково объяснил все, что от него хотели. Вскоре был уже составлен план, как лучше, пользуясь расположением улиц, разделить враждующие стороны, разбить их на отдельные очаги и разнять. Паренек назвал также несколько домов с тайными укрытиями, о которых латиняне еще не знали. Бодуэн Фландрский остался доволен и подарил парнишке из награбленного пять марок. Мальчик, взяв деньги, опасливо покосился на Симона, боясь, как бы тот не отобрал, но Симон только покривил губы и выпроводил паренька обратно на кухню – пересиживать неспокойное время.
И вот с рассветом многие из тех, кто желал мира в завоеванной Заре, бросились с оружием в руках на улицы и принялись разнимать дерущихся, разрезав город, как и было задумано, на несколько участков. Поначалу ничего не получалось, поскольку миротворцы старались не убивать мятежников, и таким образом, разогнанные в одном месте, они, точно влюбленные, следующие зову запретной любви, тотчас сходились в другом.
Симон со своим небольшим отрядом переходил с одной улицы на другую, собственноручно выбил более десятка зубов, а синяков наставил без счета. Отнятое оружие он передавал одному слуге, который под конец стал напоминать возвращающегося из леса дровосека с дровами, столько на него нагружено было мечей, копий и дротиков.
Латинских рыцарей Симон только обезоруживал и стыдил, иногда после коротких поединков; что до венецианцев, то их Симон, обезоруживая, непременно бил, чаще всего по лицу, а иногда и сопровождал пинком под зад в силу своего великого презрения к ростовщикам.
Только к вечеру мир и покой был восстановлен. Собрали убитых – их оказалось около пятидесяти человек с обеих сторон (однако венецианцы пострадали больше, к тайному удовлетворению многих франков).
Симон вернулся домой на рассвете следующего дня, когда уже погребально звонили колокола. Аббат Сернейский ушел в церковь, поскольку все клирики должны были отпевать убитых. Надлежало сделать это как можно быстрее, пока из Рима не настигло нас отлучение от Церкви. А в том, что эта беда скоро грядет, никто не сомневался.
Паренек, который уходил вместе с Симоном, был уже дома. Он и встретил нашего графа, когда тот возвратился, и взял из его рук теплый плащ и шлем. Симон добрался до кровати, повалился на нее, как был, в кольчуге, и заснул.
После этого мятежа с последующим перераспределением добычи (дюку пришлось кое-что выпустить из рук) и торжественным замирением обеих сторон, другие заботы стали одолевать крестоносное воинство.
Во-первых, отправили нескольких посланников к папе римскому, дабы те вымолили нам прощение. К мольбам присовокупили часть добычи, взятой в Заре, – для нужд папского престола.
Во-вторых, дюк Дандоль потребовал погашения долга. Его справедливое требование было удовлетворено, после чего латинские рыцари в очередной раз с изумлением обнаружили себя нищими, обобранными почти до нитки.
Справили Рождество.
Симон почти не показывался из дома. Целыми днями валялся на кровати, рассеянно тиская желтоволосую девицу, наливался вином, будто торопился выпить впрок все, чем запасся, а выходил только в церковь.
Так минул 1202 год от воплощения; в самом же начале следующего дюк Дандоль, подобно ярмарочному фигляру, вытащил из рукава новое диво.
Диво звалось Алексеем и выглядело прыщавым юнцом, исключительно нервным и вертлявым, будто его дергали за веревочки, привязанные к локтям, коленям, щиколоткам, запястьям, затылку и пояснице.
Этот Алексей был грек и схизматик, что никак не увеличивало симпатий к нему со стороны графа Симона; однако ж дюк представил этого молодого человека латинскому рыцарству самым торжественным образом.
Для начала поведал нам дюк увлекательный роман и рассказывал, пересказывал и повторял его, покуда не убедился в том, что в нашем войске все, до последнего неотесанного пехотинца и вечно вшивого конюха, выучили на память эту превосходную историю и могут при случае связно пересказать ее.
Итак, был в Константинополе владыка могущественный и исполненный всяческих добродетелей; имя ему было Сюрсак. У него был брат, коварный и недостойный, который за грехи свои попал в плен к неверным. И вот Сюрсак, человек весьма благородный, вызволил своего брата из плена, заплатив за него большой выкуп, и на беду приблизил его к себе.
Тогда же неблагодарный тот брат ослепил Сюрсака и стал угрожать жизни его сына и наследника Алексея (того самого, что прибыл к нам вскоре после нового года и разбил палатку – весьма роскошную и просторную – возле палатки маркиза Монферратского, нашего предводителя). Алексею удалось бежать к своей сестре, супруге германского императора, где он и нашел прибежище, а узурпатор тем временем воссел на трон в Константинополе.
И вот, находясь в доме и под покровительством мессира германского императора, этот несчастный, лишенный законного наследства Алексей прослышал вскоре о том, что в Венеции собирается крестоносное воинство – лучшие во всем латинском мире рыцари, преданные любви и справедливости. И потому, следуя совету своего родича императора, прибыл он в Венецию, а затем, на двух галерах, по нашим следам – в Зару, дабы припасть к стопам предводителей этого славного войска и умолять их сжалиться над ним и помочь ему возвратить свое наследие.
Эту историю повторяли и перетолковывали у нас на все лады, пока, наконец, слеза умиления не прошибла даже самых черствых.
Доводов за то, чтобы, оставив первоначальные наши намерения касательно Александрии и Вавилона, отправиться помогать Алексею, дюк изыскивал все больше и больше, и порой чудилось, что колодцы его изобретательной алчности не кажут сухого дна даже в самую лютую жару.
…Ибо тот ослепленный своим братом-злодеем Сюрсак более своих схизматиков-единограждан любил всегда рыцарей, живущих по латинскому закону, а они и прежде выказывали ему немалую преданность. Кстати, буде мы восстановим на престоле Сюрсака и сына его Алексея, это поможет возвратить Константинополь Римской церкви…
На это Симон спросил негромко:
– А что говорит по этому поводу его святейшество папа?
Поскольку папа ничего по этому поводу еще не говорил, то внятного ответа Симону никто не дал.
А дюк, выждав, покуда его сообщение касательно всегдашней любви Сюсака к латинянам внедрится в умы и пустит там прочные корни, перешел к последнему, наиболее сокрушительному доводу.
– Мессиры! – молвил дюк.
Мессиры заранее раскрыли рты в ожидании, покуда туда польется сладкий мед.
– Дабы лучше воевать с сарацинами и уж наверняка одержать над ними победу во славу Господа, нам нужно сначала восстановить и подкрепить наши силы и запастись съестным и всем необходимым, дабы впредь не испытывать ни в чем недостатка.
Ангерран де Бов переглянулся с Симоном, Гюи бросил взгляд на своего тезку Сернейского аббата, и все четверо встали поближе друг к другу, чтобы ловчее было орать, когда дюк завершит свою превосходную речь.
Мовуазена и Симона де Нофля в соборе, где все слушали новый роман мессира дюка Венецианского, не было, поскольку дюк собрал здесь наиболее знатных баронов, чтобы те уже, приняв решение, уговорили своих вассалов следовать за собою. Крессонессар был ранен в стычке с венецианцами и до сих пор еще не оправился.
– И вот, мессиры, – продолжал дюк, – зная ваши нужды, могу сказать, что Константинополь – земля весьма богатая и исполненная всякого разного добра, которое нам столь необходимо для успешной войны с неверными. И если мы сумеем залучить к себе Алексея, несчастного достойного престолонаследника, если мы решим взяться за доброе дело восстановления его прав на престол, то ничто не помешает нам двинуться в землю Константинопольскую и взять там съестные припасы для себя и наших лошадей и все остальное, в чем только есть у нас надобность.
Бароны разрумянились, разволновались. Только что проглотили жирный вкусный кусок – Зару, а дюк, благослови его Господи, предлагает новый, еще жирнее, еще вкуснее, да еще под ароматным соусом любви и справедливости!..
Все эти речи велись в самом центре разоренной Зары, которую Христово воинство ограбило самым беспощадным образом и продолжало грабить, покуда оставалось здесь на зимних квартирах. В раскрытые двери храма видны были в конце улицы крепостные стены, которые развалили по окончании штурма.
Не успел дюк завершить свою сладкоголосую песнь, как закаркали четыре угрюмых вороны: Симон, его брат Гюи, Ангерран де Бов и аббат Сернейский.
– Пусть мессир дюк объяснит, за каким хреном мы попремся к Константинополь? – заревел Симон.
– Мы шли в Сирию! – кричал Ангерран петушиным голосом. – Мы шли в паломничество, а не в пиратский набег!
– Отступники! Лучше уж схизматики, чем католики, замаранные кровью христиан! – хрипел аббат.
А Гюи вторил им своим звучным, красивым, почти певческим голосом:
– Хватит с нас и Зары!
Дюк, разумеется, предвидел такое выступление, и в ответ на этот хор выставил своих кричальщиков.
– Что мы будем делать в Сирии нищие, без припасов?
– На пустой желудок много не навоюешь!
– Граф Симон корчит из себя святого!
Тут Симон заорал:
– Я сейчас тебе скорчу святого!
И стал высматривать – кто посмел его оскорбить.
– Мы идем в Сирию воевать, – завопил кто-то совсем рядом с Симоном, – а не подыхать там от голода!
Алексей, совсем еще молодой человек, стоял рядом с дюком, бледный, растерянный, и его большие глаза раскрывались все шире и шире – испуганные и пустые. Дюк же выглядел уверенным и совершенно спокойным.
Когда все вволю накричались, дюк подтолкнул Алексея, и тот заговорил.
– Мессиры…
И смолк в смущении, потому что все замолчали и уставились на него – десятки грубых обветренных лиц. Неотесанные латинские бароны. Алексей не переставал ужасаться им с тех пор, как оставил Византию.
Дюк еще раз подтолкнул его. Алексей чуть кашлянул и сказал громче:
– Мессиры, я умоляю вас о помощи и восстановлении справедливости в моем отечестве. А за оказанное мне милосердие я обещаю и клянусь, в свою очередь, неустанно оказывать помощь вашему паломничеству. И вот что я обещаю. – Он глубоко вздохнул и произнес ясно и звонко: – Я выдам вашему войску двести тысяч серебряных марок и еще в течение целого года буду содержать флот. Я сам отправлюсь с вами в Святую землю за море и вместе со мною будут мои рыцари числом не менее сорока человек. И до конца своих дней в благодарность за явленное мне чудо и помощь, оказанную Богом руками франков, я буду содержать за свой счет тысячу полностью вооруженных ратников. И я клянусь в том перед вами в присутствии Господа Бога.
И судорожно перевел дыхание. Видно было, что эта речь далась ему нелегко.
Бароны разволновались пуще прежнего. И многие уже не хотели слышать никаких возражений, поскольку им обещали такую весомую поддержку в их благочестивом предприятии, что отказаться от нее выглядело сущим грехом.
Итак, все галдели, смеялись, многие обнимались от радости, и на щеках Алексея, поросших мягкой, реденькой бородкой, выступил слабый румянец. Глядя на ликующее латинское воинство, он взял руку дюка и поднес ее к губам, а маркиз Монферратский дружески ударил Алексея по плечу.
Перекрывая все голоса, закричал Гюи де Монфор:
– Радуйтесь, мессиры! Отныне вы больше не бароны и владетели! Вы – сброд, армия наемников!..
Несколько человек потянулись к оружию, которое носили на поясе, и угрожающе надвинулись на Гюи де Монфора, однако Симон и Ангерран тотчас же встали по левую и правую руку от Гюи, неприятно улыбаясь во весь рот.
А Гюи произнес на всю церковь:
– Благодарю вас, брат, и вас, мессир Ангерран, однако не стоит так тревожиться за меня. Я не стану биться с этими людьми, ибо не к лицу рыцарю обнажать оружие против наемников беглого схизматика.
После этих слов желающих убить братьев из Монфора стало значительно больше, однако никто не посмел поднять на них руки, и они беспрепятственно оставили собрание.
Я не хочу вспоминать о том, как мы покидали Зару в середине зимы, как по холоду, слякоти и снегу уходили в глубь страны, в Венгрию, к королю Имрэ, чтобы просить его о гостеприимстве. Скажу только, что по дороге мы едва не умерли от голода. Весной мы переправились за море и еще больше года воевали с сарацинами, как и намеревались сделать с самого начала.
Тем временем латинское рыцарство, ведомое маркизом Монферратским, Бодуэном Фландрским, дюком Дандолем (этот столетний старец не ведал устали), вместо того, чтобы вызволять Гроб Господень, разграбили и разорили Византию, выказав при том немалую доблесть. Их так увлекло это занятие, что они предавались ему с упоением больше года.
Вот все, что я помню о «предательстве» и «дезертирстве» Симона де Монфора из армии четвертого крестового похода.
Хочу добавить, что этот человек обладал исключительной способностью наживать себе врагов. Впоследствии мне доводилось много слышать о нем, и никто не молвил о Симоне де Монфоре доброго слова. Пусть же мое будет единственным.


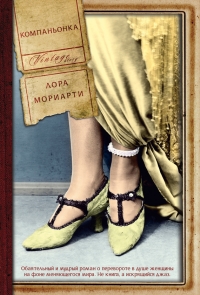

![Воин [The Warrior]](https://www.4italka.su/images/articles/522067/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Симон-отступник», Елена Владимировна Хаецкая
Всего 0 комментариев