Иво Андрич Барышня
Наживай, бог с тобой!
Но если твое сердце запечатано
воском, это – проклятье.
Янко ВеселиновичДа будут прокляты деньги, которые не идут на благо всего народа.
Сима Милутинович-Сарайлия«Так называемые практичные люди были бы весьма полезны и заслуживали бы всяческой похвалы и уважения, если б в этой своей практичности не видели смысла своей жизни и причину своего существования, а также права порабощать и терроризировать всех, кто лишен практической сметки, но зато способен к другим, может быть, большим и высшим подвигам.»
Иво АндричI
В один из последних дней февраля 1935 года все белградские газеты поместили сообщение о том, что на Стишской улице, в доме 16-а, обнаружен труп владелицы дома. Покойную звали Райка Радакович, она была родом из Сараева, поселилась в этом доме лет пятнадцать назад, вела совершенно замкнутый образ жизни одинокой старой девы и слыла скрягой и чудачкой. О ее смерти первым узнал почтальон. Два дня он тщетно звонил в дверь, на третий обошел дом, заглянул со двора в окно и, увидев в передней лежащую навзничь женщину, тут же заявил в полицию.
В те времена уголовная хроника занимала большое место в ежедневной печати. Газетчики использовали убийства, несчастные случаи, кровавые происшествия для того, чтоб распалять воображение толпы, будоражить ее любопытство и, удовлетворяя его описанием мельчайших подробностей, поднимать тираж своих изданий. Сообщение о смерти одинокой старухи газеты дали на видном месте, снабдив интригующими подзаголовками: «Имело ли место преступление?» «Следствие продолжается. Наш репортер на месте происшествия». Однако на сей раз газетам не удалось дать обширных репортажей с захватывающими дух подробностями и фотографиями. Комиссия, немедленно выехавшая на Стишскую улицу, быстро и неопровержимо установила, что о преступлении не может быть и речи: старая дева умерла своей смертью – от разрыва сердца, в доме все в целости и сохранности, без каких-либо следов взлома, насилия или кражи.
Как только стало известно о смерти старой девы, на Стишской улице появился старый белградский торговец Джордже Хаджи-Васич с женой. Это были единственные родственники покойной в Белграде. Они взяли на себя хлопоты, связанные с похоронами, и, как ближайшие родственники, до окончательного решения вопроса о наследовании вступили во владение домом и всем, что там находилось.
Газеты больше никогда не вспоминали о Райке Радакович. Ни жизнь ее, ни смерть не содержали в себе ничего, что могло бы привлечь внимание и возбудить любопытство публики. О ее действительной судьбе расскажут вам эти страницы.
Небо над Белградом высокое и широкое, изменчивое, но всегда прекрасное: и в ясные зимние дни с их студеным великолепием; и в летние грозы, когда все оно превращается в сплошную черную тучу, гонимую бешеным ветром и несущую дождь, смешанный с пылью Паннонской равнины; и весной, когда кажется, что и оно цветет, как земля под ним; и осенью – отяжелевшее от роев осенних звезд. Всегда прекрасное и щедрое, оно словно награда этому удивительному городу за все, чего в нем нет, и словно утешение за то, чего не должно быть. Но самое великолепное в белградском небе – это закаты. Осенью и летом они необъятны и ярки, как мираж в пустыне, зимой их приглушают темные облака и багряные туманы. И в любое время года нередки дни, когда солнце, опускаясь в равнинное междуречье за Белградом, отбрасывает свое закатное пламя под самый небесный купол, где оно дробится и красным сиянием заливает широко раскинувшийся город. Тогда даже отдаленные захудалые уголки Белграда на мгновение окрашиваются солнечными румянами и зажигаются окна даже тех домов, которые почти не видят солнца.
Вот такой закатный огонь освещал под конец одного февральского дня 1935 года фасад небольшого обшарпанного дома на Стишской улице. Стремительный рост этой улицы сбил общинную нумерацию домов и спутал номера, поэтому два дома оказались под номером 16, и одному из них пришлось стать 16-а. Этот номер и стоит на приземистом желтом доме, зажатом между двумя высокими, современного вида зданиями. Неказистый домишко строился еще до балканских войн, когда про эти места говорили, что они и богом забыты, когда земля здесь стоила динар за квадратный метр, когда строений на этой улице было еще мало, все они были такие же приземистые, разделялись обширными огородами и, соответственно нуждам или причудам владельцев, либо прятались в глубине дворов, либо выходили фасадом на улицу. В те времена номера домов не имели особого значения. Было известно, кому принадлежит дом, почти все знали друг друга хотя бы по имени или в лицо. А если не знали, то обходились без этого; в случае же нужды найти кого-либо было гораздо проще, чем сейчас.
Подобные дома довоенного Белграда встречаются на городских окраинах еще довольно часто. Они все похожи друг на друга если не величиной, то своим видом, материалом, из которого они сделаны, расположением комнат и более или менее меблировкой. Двумя или четырьмя окнами дом смотрит на улицу, и по этому можно судить, две или три в нем комнаты. Под окнами на штукатурке стены можно угадать изображение какого-нибудь сецессионистского мотива или примитивный геометрический орнамент по неизменному трафарету мастера из Црна-Травы. Железные ворота, верхняя половина которых сплетена из прутьев, а самый верх усажен шипами, ведут в маленький дворик, мощенный мелкой брусчаткой, с узким цветником вдоль ограды, на которую взбирается виноградная лоза или дикая роза. Тут же крыльцо с одной или двумя каменными ступеньками и небольшим дощатым козырьком, а в домах побогаче – с навесом из толстого матового стекла. В глубине двора, за домом, огород с орехом посредине, часто с колодцем подле дерева, с ранними сливами и абрикосами вдоль ограды, за которой начинаются дворы и огороды соседей. И расположение комнат в домах в основном одно и то же: большая гостиная, две или три комнаты и кухня.
Во всем одинаковые, сейчас эти дома различаются только внешним видом. Одни побелены, хорошо содержатся и регулярно ремонтируются; железные ворота выкрашены светлой масляной краской; на чистых окнах – тонкие белые занавеси. Все это признак того, что их хозяева идут в ногу с веком, трудятся и приобретают, чего-то хотят от жизни и что-то получают. Другие дома, напротив, запущены и неприглядны. Края крыш лохматятся, водосточные трубы сдвинуты, краска поблекла, карнизы и примитивная лепка оббиты. Стены забрызганы уличной грязью и разукрашены детьми, делающими первые свои шаги в грамоте. Заглянув в окна таких домов, увидишь запустение, бедность или просто равнодушие к жизни.
Дом номер 16-а принадлежит ко второму типу. На улицу смотрят всего два окна. Бросаются в глаза мощные железные поперечины на окнах, которые придают всему дому мрачный, тюремный вид. С первого взгляда кажется, что дом пустует или ждет покупателя, который купит его не для того, чтоб в нем жить, а чтоб сломать и построить на его месте новый – большой и похожий на два соседних, что наступают на него слева и справа. Но если присмотреться внимательней, можно увидеть, что за одним из окон, без гардин и цветов, неподвижно сидит, склонившись над шитьем, пожилая женщина с тем отсутствующим и сосредоточенным выражением лица, какое бывает у женщин за рукоделием. Это барышня Райка Радакович.
Старожилы Стишской улицы, те, что пришли сюда до того, как здесь появились новые, многоэтажные дома, в которых поселились новые, незнакомые люди, знают ее и по имени, но все с давних пор зовут просто «Барышня».
Переехав в Белград из Сараева в 1919 году, сразу после освобождения, она купила этот дом и поселилась в нем с матерью. Спустя два года мать умерла, и с тех пор она, Барышня, живет одна, без родных, без прислуги, без друзей и знакомых. На что живет? (Это первый и основной вопрос, которым здесь встречают нового человека и который неустанно повторяют, пока не находят или не придумывают, на него ответ.) В свое время старожилы Стишской улицы пришли к выводу, что Барышню кормят рента и скаредность. Одни утверждали, что она богата и купается в деньгах, другие – что у нее ничего нет и что она бедствует. Впрочем, вот уже много лет в этом пестром и бурном мире никого не интересует жизнь одинокой старой девы.
Последние годы Барышня редко показывается на улице. Изредка сходит на базар или, как сейчас, зимой, выйдет очистить от снега тротуар перед домом. Это высокая худая женщина лет пятидесяти. Желтое лицо ее изборождено морщинами. Они у нее необыкновенно глубокие и на лбу, как раз над носом, сходятся в правильный треугольник, соединяя густые брови. На дне каждой морщины чернеет легкая тень. Это придает ее лицу мрачное и страдальческое выражение, которое не смягчают глаза, потому что и из них, веет мраком. Однако держится она прямо, в ней не заметишь той неуверенности, по которой сразу отличишь одинокого, больного или бедного человека; походка у нее скорая и решительная. Ее черная жакетка и длинная-предлинная юбка, каких теперь никто не носит, стоптанные туфли и грубые чулки, вязаная шапочка на поседелых волосах – все это в полном разладе с модами всех времен. Нынешнее поколение, живущее стремительно, в спешке, которая уже вошла в привычку, почти и не замечает странной фигуры этой высокой черной женщины.
И в этот февральский вечер Барышня, как всегда, сидит у окна и чинит чулки. Днем ей пришлось выйти по делу, но вернулась она засветло, намокнув и продрогнув на февральском ветру со снегом и дождем. Она сняла старые калоши и скинула насквозь промокшее черное зимнее пальто до пят, сшитое из грубого солдатского сукна. Потом вытащила из угла на середину прихожей старинную вешалку и повесила на нее пальто, чтоб оно побыстрей просохло. Вешалка сразу стала похожа на высокого человека без головы, который только что вступил в переднюю и замер посредине. А сама вошла в комнату, показавшуюся ей с холода теплой, взяла работу и села у окна.
Багряный вечерний закат, который над Белградом, кажется, длится дольше и горит ярче, чем над другими городами, осветил и ее окна. При розовом свете последних лучей заходящего солнца можно еще прекрасно работать, надо только придвинуться к окну, потому что глубиной комнаты уже завладевает полумрак. В этом полумраке можно разглядеть убогую обстановку – шкаф, полку, деревянную кровать, накрытую одеялом из верблюжьей шерсти, железную печку. Все в этой комнате отмечено печатью небрежения и запущенности, словно здесь живет слепой или человек, который совершенно равнодушен к этому миру и пользуется вещами лишь постольку, поскольку без них нельзя обойтись, и которому абсолютно безразлично, где стоит вещь и как она выглядит. Убогим и запущенным жилищам румяный отсвет белградского заката придает еще более печальный вид, точно так же, как делает еще более уютными богатые и хорошо обставленные дома.
В этой невеселой комнате Барышня проводит большую часть своей жизни, ибо это единственное помещение, которое отапливается. Здесь она спит, здесь работает, здесь готовит на печке свой скудный обед – одновременно и ужин. На такого рода дела, как уборка дома или приготовление пищи, Барышня не тратит много времени, хотя бы потому, что она вообще не любит что бы то ни было тратить, не любит даже самое слово «тратить». Другое дело занятие, которым она поглощена сейчас, – починка. Это занятие приятное и полезное; правда, оно требует времени и портит глаза, но зато сберегает все прочее, а времени и зрения у человека сколько угодно – во всяком случае, больше, чем всего другого. «Добычка невеличка, да бережь большая», – говорит она себе старую народную поговорку, усаживаясь у окна и принимаясь за свои старые штопаные-перештопаные чулки. И затем тихо и бездумно повторяет на все лады несчетное количество раз: «Добычка невеличка, да бережь большая, добычка невеличка, да бережь большая!» – подобно тому как девушки тихо и машинально повторяют за работой слова любовной песни, которая сама по себе ничего не значит, родилась неведомо где и неведомо когда, но в которой они, как ни странно, видят живое воплощение своих сокровеннейших желаний.
Чинить! Это наслаждение. Но в то же время вечная борьба и ожесточенный поединок с сильным, невидимым противником. В этой борьбе есть томительные, тяжелые, казалось бы, безысходные моменты, есть поражения и спады, но есть – и их гораздо больше – светлые минуты самозабвенного святого служения и победного ликования. Прохудится, порвется иной раз туфля или белье – и носить нельзя, и выбросить жалко. И вот тут-то, где другие люди отступают, покоряясь могущественной силе, которая все на свете треплет и приводит в ветхость, которая, словно наказание за первородный грех, сопровождает жизнь каждого человека, каждый его шаг, тут-то Барышня и вступает в настоящую борьбу, тут-то для нее и открываются блестящие перспективы далеких, трудных, но великих побед. Всю свою тихую и неприметную, но огромную, необоримую силу она бросает на эту вещь и не выпускает ее из своих рук и своего поля зрения до тех пор, пока, залатав и заштопав, снова надолго не пустит в употребление. «Любая другая на моем месте давно бы выбросила, а я ничего не выбрасываю. У меня ничего не пропадает, все идет впрок», – так говорит себе Барышня, восторженно и любовно глядя на спасенную туфлю, отнятую у врага, который все, что на нас и вокруг нас, разъедает, дырявит, истончает, рвет. Правда, туфля получилась уродливая, скособоченная, она так ушилась, что ногу жмет, давит, трет, но что за беда, когда эта победа и эта бережь доставляют такую радость. Пусть нога болит, пусть свербит рана, это – сладостная боль и благодатная рана. Барышня готова снести и гораздо большие страдания.
А что до красоты, так она ее заботит меньше всего. Красота – дорогая, безумно дорогая, но ничтожная и коварная штука. Нет большей мотовки и обманщицы. Никогда Барышня не любила красоты, всегда чуралась ее, а жизненный опыт лишь еще больше утвердил ее в этом. Никогда она по-настоящему не понимала, почему люди так упорно отличают красивое от некрасивого и чем это они так восторгаются и пленяются, отдавая за то, что они называют красотой, здоровье и деньги – всемогущие, святые, великие деньги, которые превыше всего и с которыми никакая красота не может выдержать даже отдаленного сравнения. Но теперь, с приближением старости, когда ей все яснее и очевидней открывается удивительная, неисчерпаемая прелесть и сладость бережения, она испытывает все более сильную и все более определенную ненависть к красоте, к этой ереси, злому идолу – сопернику, который толкает людей на дурной путь и отвращает их от единственно истинного божества – бережения. Чинить – значит тихо и неотступно служить этому божеству. Чинить – значит бороться с гибелью, значит способствовать продлению жизни. Поэтому так велика и свята эта незаметная, мелкая работа, наполняющая душу покоем и довольством. Ради этого стоит и помучиться, и кое-чем поступиться, и потерпеть.
Терпеть! Это тоже наслаждение. Барышне это известно, так как в жизни она и терпела много, и много радости от этого изведала. И почему бы не потерпеть, если знаешь, что тем самым избавляешься от гораздо большего зла и приумножаешь свое богатство? Человек не был бы разумным существом, не будь он в состоянии понять, насколько верно и выгодно дело, когда оно ведется таким образом. Ибо что значат мелкие неудобства и лишения, которые мы терпим на службе береженью, по сравнению с тем, что оно дает нам и от чего спасает. Оно поддерживает жизнь и неизменный порядок вещей, постоянно обогащает нас и словно делает вечным то, что мы имеем; оно охраняет нас от трат, потерь и беспорядка, от бедности, от нищеты, которая подстерегает нас в конце и которая куда страшнее смерти, – сущий ад на земле и при жизни. И стоит представить себе, как все вокруг постоянно и неприметно гибнет, исчезает, рвется, ветшает, ускользает и сколь малы, сколь слабы наши попытки и потуги что-то предпринять, как-то бороться с этим, как сразу согласишься на любые муки и любые лишения, только бы устоять перед этой бедой, и неминуемо устыдишься каждой минуты отдыха как пустой траты времени и каждого проглоченного куска как мотовства и роскоши. Эта бесконечная борьба требует фанатической отваги мученика.
От этих мыслей Барышню бросило в дрожь. Она воткнула иглу в чулок, тяжело поднялась и пошла поглядеть на огонь в печке: в комнате было невыносимо холодно. Собственно, в печке не пламя, а убогий огонек, которому никогда не нагреть комнату, но который, как кажется Барышне, пожирает дрова и уголь, словно Везувий, Этна или какой-то там вулкан в Америке – название его она уже забыла, но знает, что его пламя еще прожорливее, чем у этих знаменитых вулканов. Барышня направилась за углем, но тут же, вздрогнув, остановилась, будто удержала себя от великого и непоправимого зла; стиснув зубы, она мужественно вернулась на свое место и снова взялась за работу, довольная собой и миром, в котором всегда и везде есть на чем сэкономить. (К тому же она вспомнила, что как-то прочла в одной газете, будто в зимние месяцы в казармах предписано поддерживать температуру пятнадцать градусов по Цельсию.) Теперь она не чувствует стужи. Ее греет совок сбереженного угля. Но руки у нее синие, губы серые, нос красный. Временами тело сотрясает глубокая внутренняя дрожь. Однако Барышня не сдается и не покидает своего места. Так бравые, бывалые солдаты в минуты опасности испытывают мимолетный страх, но отважно подавляют его и идут вперед.
Вот и Барышня чинит, страдает, но не горюет и не покоряется. Цепенея от холода, она укрепляет поредевшее место на чулке, осторожно протаскивает иголку между ослабевшими и разъехавшимися нитями – одну захватит, другую пропустит, одну захватит, другую пропустит – вперед-назад, вперед-назад, покуда не зашьет и не укрепит прохудившееся место.
Затем она оглядывает чулок, и всю ее, с головы до пят, наполняет теплом сознание, что еще одна вещь из ее имущества может быть занесена в графу приобретений в ее сложной бухгалтерии потерь и прибытков. И больше того: что в великой и вечной битве с порчей, убытками и тратами одержана еще одна победа, что на огромной вселенской галере, которой постоянно угрожает течь, заделана еще одна коварная щель. А часто бывают такие счастливые минуты, когда сознание это вырастает до победного ликования.
Теперь приходит черед другой дыре на том же или на другом чулке. И каждая дыра поначалу кажется безнадежной и неотвратимой. Однако каждый раз Барышня в конце концов торжествует победу. В этой на первый взгляд однообразной и скучной работе проходят часы, потому что она лишь выглядит однообразной. На самом деле, поддевая нити и протаскивая иголку, Барышня отдается игре воображения, воспоминаниям, и то думает, то мечтает на свой лад, то вспоминает, а то и все это разом. Нить к нити, и за вечер перед ней проходит вся ее жизнь…
Детства, того раннего детства, о котором философы и поэты говорят как о счастливейшей поре жизни, той невинной поре, когда человек не знает, что такое деньги, какой ценой они добываются и чего стоит защитить себя от потерь, такого детства у нее не было. В ее памяти тут бесцветный провал. Жизнь для нее началась, когда ей было пятнадцать лет. Началась в тяжелый и горький час.
Случилось это лет тридцать назад. Отец Райки, газда Обрен Радакович, слыл одним из виднейших сараевских торговцев-сербов. Родом он[1] был не из Сараева, а из пограничного края. В юности, сразу после австрийской оккупации, перебрался в Сараево и тут, благодаря удаче и сноровке, быстро выдвинулся в разряд самых богатых купцов. Жену себе взял из старой и уважаемой сараевской семьи Хаджи-Васичей – красивую, кроткую, белокурую Радойку. Это еще больше укрепило его положение в торговом мире. У начала Большого Чурчилука[2] находился лабаз газды Обрена. Занимался он оптовой торговлей мехами, но со временем занялся и другими делами. Стал, в частности, одним из основных акционеров первого пивоваренного завода в Ковачичах, а также членом других правлений.
Барышне казалось, что она помнит отца чуть ли не с младенчества. Даже в первых ее воспоминаниях он – самая главная и самая важная фигура. Но, думая о нем, она всегда представляет его таким, каким он был в последний год своей жизни. Жили они тогда в новом просторном доме, на берегу Миляцки, ниже протестантской церкви. Райка как раз пошла в четвертый класс женской гимназии. Она и сейчас словно видит отца и таким будет видеть его до могилы: высокий, статный, худощавый; усы с проседью, виски совершенно белые. На нем черный котелок, светлосерый костюм, безупречно белая накрахмаленная рубашка с высоким воротником, шелковый галстук в черную и синюю полоски. На груди золотая цепь, на руке два тяжелых золотых перстня – венчальный и купеческий, на круглых накрахмаленных манжетах – крупные золотые запонки. И когда он идет по улице – статный, горделивый, – кажется, что это памятник, которому не дано нагнуться или сесть. Лицо его торжественно серьезно. Он не смеется, не разговаривает, он лишь отдает краткие распоряжения и приказы. И этот человек, в ее глазах великий и прекрасный, был ее отцом, после обеда и ужина он сажал ее себе на колени, словно ей все еще шесть лет, гладил по голове и ласково спрашивал:
– Что сегодня делала, дочка?
Она рассказывала о своих маленьких делах и заботах, а он глядел в окно, явно слушая только журчание ее голоса. Но и то, что он не слышит ее, а задумчиво смотрит через окно куда-то вдаль, она объясняла непостижимым величием отца. Точно так же он вел себя и со взрослыми. Отец никогда не высказывал своего мнения, он только задавал вопрос и выслушивал ответ с рассеянностью человека, который наперед знает все, что ему могут сказать, и который использует это время на размышления о том, что ему скажут в ответ другие люди.
Великий и могущественный отец был всегда ровен – по крайней мере, так ей казалось; ему были неведомы людские слабости и низменные привычки, он не знал забот и огорчений, какие бывают у всех людей, а глубокие морщины на его лице и седые волосы представлялись ей лишь знаками особого достоинства и необычайного величия. Только с богами Олимпа, которых с осени она начала изучать в школе, можно было сравнить отца, но и в этом сравнении проигрывали боги.
И как раз тогда, в ту самую осень, отец быстро и совершенно неожиданно был сброшен с пьедестала. Это изменило, поломало и судьбу Райки. Как небо перед грозой, помрачнел отец. Стал больше сидеть дома, какие-то люди приходили к нему, он запирался с ними в своей комнате, и они часами шептались там и что-то считали.
Мать, госпожа Радойка, простодушная и мягкая, слабая и телом и духом женщина, была не в состоянии что-либо объяснить дочери. Случившееся открылось Райке неожиданно, во всем его непостижимом ужасе. Из-за какого-то пустяка она повздорила с одной из подружек по гимназии, здоровой и отчаянной девчонкой, которая, подобно всем детям из семей разбогатевших выскочек, не считала нужным следить за своими словами. Дети часто говорят с бесцеремонностью, какую взрослые могут допустить только в мыслях. Девочка эта, для своих лет необычайно крупная, но нескладная, во время игры упала, и Райка засмеялась. Та поднялась, красная, взбешенная, и при всех бросила ей:
– Чего смеешься? Смейся лучше над своим папочкой, он-то во весь рост растянулся.
Райка тут же стала серьезной, словно при ней помянули святыню.
– Мой папа не падает.
Долговязая девочка язвительно засмеялась:
– Твой папа банкрот. Это все говорят. И он не только сам упал, но и других за собой утянул. Спроси кого хочешь.
Мимолетные глупые ссоры на школьном дворе и первые услышанные от людей непонятные и оскорбительные слова никогда не забываются, ибо все, что приходит после, лишь бередит старую рану.
«Банкрот!» Ее отец разорился, все говорят об этом, и только она одна ничего не знает и ни о чем не догадывается. Что это за падение? Чем все кончится? И что бывает с теми, кто пал? Особенно с такой высоты, с какой приходится падать ее отцу.
В этот день она вернулась домой с темной морщинкой между бровей, внимательно посмотрела на мать, к которой и тогда относилась как к слабому и неразумному ребенку, и первый раз подошла к отцу как к человеку, который разорился. Как это произошло и почему, она не знала, однако с того дня находила все больше подтверждений страшному и невероятному открытию. Отец перестал выходить из дому, и к нему часто начал ходить доктор. Отец постоянно сидел в своей комнате, готовил со счетоводом Весо какие-то бумаги и описи, вел неслышные беседы с торговцами – своими компаньонами. А потом кончилось и это. Кроме доктора и самой близкой родни, никто у них не появлялся. Мать, не таясь, с утра до вечера плакала. А в тот день, когда первый раз затопили большую печь, отец слег. Райка приходила из гимназии и садилась возле него. Исхудавший, черный, небритый, с воспаленными глазами, голой шеей и острым кадыком, он был не похож на себя. Отец молчал, и она не смела ни о чем его спрашивать. Лишь чувствовала, что должна быть рядом с ним, и сидела, стиснув сухие губы, безмолвная, напряженная, с темной морщинкой между бровей, которая уже не исчезала.
В один из зимних дней произошло то, что определило ее судьбу. Отец подозвал ее ближе, с усилием приподнялся, погладил ее, как бывало, по голове и заговорил спокойно и тихо:
– Видишь ли, дочка, надо нам с тобой поговорить, Думал я, что устою… поживу еще и не оставлю тебя нищей. Да, видно, не судьба! Ты у меня умная и должна все знать, придет время – и поймешь. Не надо, не надо плакать, слушай и хорошенько запоминай, что скажет тебе папа. Теперь ты сама себе голова – мама ведь, знаешь, какая добрая да слабая. От позора я вас уберег – выполнил и те обязательства, которые мог не выполнять, – это ты хорошо запомни! Но оставить вам мне нечего, кроме вот этого дома, лабаза в Чурчилуке и вклада на твое имя в банке «Адрия», который ты сможешь получить через три года, когда тебе исполнится восемнадцать. Это тебе на приданое или на жизнь, как сама захочешь и решишь. Не надо, не надо плакать, ты у меня большая, единственная моя кровинушка, ты все хорошо и разумно уладишь и устроишь. Кум Михаило будет твоим опекуном, слушайся его и почитай, но с самого начала привыкай своей головой думать, по своему разумению решать, самой о своих делах печься.
Отец сел повыше, придвинулся к ней и спокойно и торжественно заговорил необыкновенными словами об удивительных вещах. Лишь боль, которую он неприметно преодолевал, временами прерывала его речь. Это был один из тех монологов, которые рождаются или в минуты жесточайших страданий, или на смертном одре, когда мир и люди предстают в каком-то необычайном, одностороннем освещении. Она слушала, глядя на него сухими глазами, не всхлипывая, не плача, завороженная величием минуты, когда перед ней, пусть еще в тумане, открывалась подлинная тайна жизни человека в обществе.
– Одна остаешься, не мать о тебе будет заботиться, а ты о ней, поэтому хорошо запомни все, что я тебе скажу. Ты должна знать, запомнить раз и навсегда, что тот, кто не умеет установить между своими доходами и расходами такого соотношения, какого требует жизнь, заранее осужден на гибель. Не помогут ни наследство, ни доходы, ни сбережения! Доходы зависят не только от тебя, но и от многих других людей и обстоятельств, а вот сберечь накопленное зависит только от тебя. Этому ты должна отдать все свои силы и старания. Ты не должна знать милосердия ни к себе, ни к другим. Мало отказаться от собственных желаний и потребностей – на этом много не сэкономишь; надо навсегда убить в себе все так называемые высшие соображения, всякие там барские причуды вроде благородства, великодушия, сострадания. На эти наши слабости, которые для отвода глаз называют прекраснейшими именами, рассчитывают те, кто к нам обращается; они поглощают плоды наших дарований и усилий, они чаще всего становятся причиной нашей безысходной бедности, а то и полного разорения. Все это надо вырвать из души с корнем, не задумываясь. Бережливость должна быть такой же безжалостной, как сама жизнь. Я думал по-другому и жил не так. Вот почему я разорился. Но сейчас, когда я прозрел, мне бы хотелось, чтобы моя гибель послужила тебе уроком и предостережением. Знаю, что все – и в тебе самой, и вокруг – будет толкать и склонять тебя к другому, но ты не должна поддаваться. Затевай какие угодно дела, но экономь, экономь всегда, везде и на всем, ни с кем и ни с чем не считаясь. Ведь жизнь у нас устроена так, что люди благополучием своим, преуспеянием обязаны не делам, а бережению. И хороши и честны они с теми, кто независим от них и ничего от них не ждет, но стоит потерять свободу действий, попасть к кому-нибудь в зависимость, как все исчезает – бог и душа, родство и дружба, честь и совесть. Остается лишь то, что ты крепко держишь в собственных руках, и чем больше будет в твоих руках, чем искуснее и безоглядней ты станешь беречь и защищать свое добро, тем труднее будет тебя побороть. Запомни хорошо: всякие там чувства и принципы – это лишь наши слабости, на которые рассчитывают, которыми пользуются все кому не лень. С малых лет привыкай не радоваться, когда тебя хвалят, и не огорчайся, когда тебя называют скрягой, бездушным эгоистом.
Первое – знак того, что надо быть начеку, второе – что ты стоишь на правильном пути. Добрый и тороватый ничего в жизни не добьется, добьется тот, кто сумеет не быть ни тем, ни другим, – тогда люди ничего не смогут ему сделать. Хвалят же люди добрых и тороватых потому, что они живут их добротой и их разорением. Но ты с самого начала научись не верить словам: они только прикрывают обман; смотри в корень дела, а название, которое ему дают, оставь тем, кто его выдумал, чтоб отвлечь твое внимание. Кто уважает себя и бережет свое, того все берегут и уважают; ни на что другое положиться нельзя. Поэтому береги свое добро и по возможности никогда, ни на одну минуту не ставь его в зависимость от доброй воли других людей. Тяжко мне покидать тебя, молодую и неопытную, одну в этом мире, который я сам постиг только теперь, под конец жизни, но ты можешь облегчить мои муки, если я увижу, что ты поняла мои наставления, и если ты дашь мне слово запомнить их и всегда и во всем им следовать.
Тут голос изменил больному; девочка, не в силах больше сдерживать слезы, зарыдала. Он привлек ее к себе, обнял, и она, дрожа всем телом, дала ему клятву беречь твердо и неуклонно каждый грош, и, будет ли она жить с матерью, выйдет ли замуж или останется одна, – как бы ни сложилась ее судьба, она не выпустит ее из своих рук, никогда не станет жертвой собственных слабостей или людской алчности.
Спустя два дня отец умер. Жизнь покинула его ровно в полдень, он отвернулся к стене, так и не сказав ни единого слова упрека ни судьбе, ни людям. Никто так никогда и не дознался, что произошло между умирающим и девочкой, которая только-только вступала в жизнь, какой зловещий завет оставил отец своей дочери.
Началась новая жизнь. Райка, которой едва минуло пятнадцать лет, и раньше отличавшаяся замкнутостью, теперь еще больше помрачнела и совсем ушла в себя. Закончив пятый класс, она бросила гимназию. Через год, отслужив по отцу панихиду, она сняла траур, расставила и выпустила свои старые платья и, хотя, по сути, была еще ребенком, превратилась вдруг в резкую, себе на уме девицу, которая знает, чего хочет и считается лишь с собственными желаниями, не обращая внимания на то, чего хотят и добиваются от нее другие.
Родные пробовали расшевелить ее, свернуть с этого пути. Наперебой приглашали ее в гости, водили в знакомые дома на вечеринки и семейные торжества. Первое время она уступала. Бывала в обществе своих сверстниц и сверстников и, сжав губы, слушала непонятные и чуждые ей песенки, смех, беспричинный и заразительный, – эту драгоценную эссенцию молодости, значение которой можно сравнить лишь со здоровьем. Она тоже улыбалась, но это была улыбка мышц – не грустная и не озабоченная, а отсутствующая и принужденная. Небольшая темная морщинка между бровей оставалась при этом недвижимой. Точно так же никто не мог заставить ее учиться танцам, устроить вечеринку и позвать подруг, сделать себе новые платья, которых уже давно требовала мода. Совсем еще юная, среди своих сверстниц она казалась взрослой женщиной. По странной логике житейских законов и женского нрава это отнюдь не отталкивало от нее подруг. Напротив: чем беднее и старомодней она одевалась, чем менее привлекательны и женственны были ее манеры, тем большие симпатии вызывала она у своих хорошеньких и нарядных приятельниц. Лицо ее не знало пудры, она гладко причесывалась, ходила всегда без перчаток, в одном и том же старом платье, в стоптанных туфлях, и все-таки ее осыпали похвалами, она пользовалась всеобщей любовью и была, наверное, единственной девушкой в Сараеве, которую никто ни в чем не мог упрекнуть. Но вместе с тем все скоро привыкли не относиться к ней как к молоденькой девушке и не принимать ее в расчет при устройстве балов, в любовных интригах, в изменчивых, но весьма важных комбинациях с помолвками и замужествами. Потому что, кто сам, по своей воле, отделяется от общества, того общество исключает из своих рядов без сожалений и уговоров, да к тому же еще и позаботится навсегда отрезать ему путь к возвращению, хотя бы тот и одумался.
Год-другой родные и кое-кто из подружек еще пытались на нее воздействовать, уговаривали бросить чудачества и, пока не поздно, последовать примеру своих сверстниц. Райка лишь пожимала плечами, усмехалась и как ни в чем не бывало продолжала прежний образ жизни.
Среди тех, кто приложил больше всего стараний ввести ее в общество и привить вкус к его жизни и развлечениям, был родной брат матери, Владимир Хаджи-Васич, «дядюшка Владо».
У матери было четыре брата. Самый старший, Джордже, совсем еще молодым уехал в Белград, там нажил капитал, завел дело и женился. Двое других, Васо и Ристо, наследовали старую торговую фирму в Сараеве и жили так же, как их отцы и деды. Младший брат, Владимир, закончил торговую школу, но о работе вместе со старшими братьями не помышлял, жил баричем, на господскую ногу, не отказывая себе в дорогих развлечениях и красивых вещах. Был он всего на четыре года старше Райки, так как родился за три года до того, как его сестра, мать Райки, вышла замуж. Такие случаи в прежние времена были нередки: женщины имели по многу детей, а девушек выдавали замуж рано. Райка помнила его еще ребенком, но чаще всего в ее памяти он вставал девятнадцатилетним юношей, высоким красивым блондином, улыбающимся, приветливым, полным жизни. Таким он был в первые годы после смерти ее отца.
С Райкой они были друзья. Он был к ней добр и внимателен, по-братски нежен, по-отцовски заботлив. Он сопровождал ее на вечеринки и семейные празднества в дома родных и знакомых, он делал ей самые лучшие подарки. Никогда, ни раньше, ни позже, она не встречала другого человека, который бы так страстно любил дарить и с таким искусством умел выбрать для каждого то, что тому больше всего по душе и что может доставить самую большую радость. Да, редкий был человек, но богом проклят, всем друг-приятель, только не себе. Вот и сейчас, через тридцать лет с лишком, дрожь прохватывает ее при воспоминании о несчастном моте, и ей становится грустно от одной мысли о его болезненной и неодолимой страсти к расточительству, мотовству, беспорядочной трате здоровья, денег, состояния, о той стремительности самоубийцы, с которой тот в непостижимом желании лишиться всего, остаться нищим и голым, отпихивал от себя все, словно каждая вещь, принадлежавшая ему, приобретала настоящую ценность лишь тогда, когда он дарил ее и видел в чужих руках. Даже и сейчас Райка может вызвать в своей душе материнскую нежность, какую испытывала к нему в прежние времена; и сейчас она порой ощущает легкое головокружение перед этим отчаянным водоворотом расточительства, безумных трат и легкомысленного мотовства. И хотя он был ей дядей и на несколько лет старше, он всегда казался ей малым, неразумным ребенком, который не может обойтись без посторонней помощи и которому надо только протянуть РУКУ, чтоб он выбрался из омута, однако ни у кого нет ни умения, ни сил для этого, да и у нее самой тоже. Но до чего же горько и стыдно смотреть на его погибель!
Всего несколько лет прожил такой жизнью этот чудесный юноша с наружностью ангела и образом жизни распутника. За это время он успел раздать и растратить и себя, и все, что у него было. В двадцать три года он умер от туберкулеза, что еще было милостью судьбы и великим счастьем, потому что трудно себе представить, как бы он жил, лишившись возможности дарить и тратить. А ведь у него уже почти ничего не оставалось.
В семейных преданиях память о нем стала устрашающим примером для подрастающего поколения. А для Барышни он и по сей день самое светлое и самое страшное воспоминание, вечная и неразрешимая загадка: как в одном человеке в неразрывной связи могут уживаться столь противоположные проявления духа и тела – одаренность, красота, доброта и нерадивость, разврат, мотовство, граничащее с безумием. Человек, почитаемый ею как никто другой, безудержно предавался пороку, который был в ее глазах хуже любого греха и страшнее самой смерти. Мотовство! Можно ли владеть всем на свете и в то же время быть так безмерно, так бессмысленно расточительным? И все же, если в ее жизни, заполненной мелкими заботами, скопидомством, работой, гордым одиночеством, и существовало что-то высокое и светлое, так это была память о Владо. С памятью о нем была связана та малая доля самозабвенного сострадания и чистой женской нежности, на которую была способна эта необычная женщина со странным и суровым образом жизни.
В ежечасной и непрестанной борьбе против малейших трат и расходов ее годами преследовал образ дяди, загадочный и страшный, но близкий и родной, словно ее собственный. Вот и сейчас, в свете ранних сумерек, вплетающихся в нити, которые она то подбирает, то пропускает, появляется дядюшка Владо, и, как всегда, не грустный и не несчастный, что было бы понятно, а лучезарный, с радостной и доброй улыбкой, не думающий о себе, легкомысленный и порочный. Она внимательно вглядывается в него печальным непонимающим взором, но без страха. Грешник! Каким был всегда и каким останется на веки вечные. Его голубые глаза, полные беспокойного сияния, смотрят на собеседника так, словно хотят излиться и отдать себя в дар; и волна белокурых волос светится и трепещет, словно хочет хлынуть и беспощадно затопить все вокруг.
Она видит его совершенно ясно, будто бы в странном сне. Ей хочется крикнуть, позвать его, удержать от самоуничтожения, но он проходит мимо, легкий, улыбчатый, непоколебимый в своем убийственном решении раздать себя, растратить самым нелепым и недостойным образом.
Барышня действительно легонько вскрикнула – штопая чулок, она уколола указательный палец на левой руке. Восклицание развеяло видение молодости, пробудило ее и на мгновенье вернуло к действительности.
В комнате становилось темно. После светлого видения – холодно и пусто. Тщетными и слабыми кажутся любые усилия сберечь и сохранить свое добро, когда столько людей занимаются лишь тем, что напропалую тратят, обсчитывают и отнимают. Трудно и безнадежно бороться с этим, но и прекратить борьбу, сдаться нельзя. Она снова принимается за работу. Огонь в печке гаснет. Комната погружается во тьму. Барышня все ближе придвигается к окну и от этого все сильнее замерзает. «Не зажечь ли свет», – думает она, но тут же прогоняет эту мысль, берет себя в руки и продолжает работать, напрягая зрение в борьбе с мраком. Так проходят пять минут. Часы громко отсчитывают сбереженные секунды. «Вот, уступи я своему желанию, – с удовольствием рассуждает она, – зажги свет, он уже целых пять минут горел бы без всякой надобности, а приложишь немного усилий, и, пожалуйста, – сейчас еще можно различить каждую нить…» Ах, она прекрасно знает, всегда можно что-то урезать и сберечь: и время, и тепло, и свет, и еду, и отдых, – всегда, пусть иногда это кажется и вправду невозможным.
Барышня с наслаждением тратит зрение вместо электричества, пока на глазах у нее не выступают слезы и темнота не спутывает нитки. Теперь уже на самом деле ничего не видно. Но прежде чем встать и повернуть выключатель, она некоторое время сидит в прежнем положении, сложив руки и шитье, испытывая горькое и возвышенное чувство, что крайние пределы бережливости все же недоступны. Это печалит ее, но не обескураживает. Как бы ни были далеки и недостижимы эти пределы, все равно они гораздо больше заслуживают трудов, лишений и жертв, чем любая другая цель, какую только можно перед собой поставить.
В надвигающихся сумерках эта мысль кажется ей совершенно ясной и более очевидной, чем днем, когда светит солнце, или ночью, когда горит свет.
В ее теперешней жизни без заметных событий и видимых перемен все ясно, как в погожий день, и дали кажутся совсем близкими. А в полумраке, когда сидишь вот так, возле погасшей печи, над законченной работой, все становится еще более ясным и реальным. Прошлое встает перед глазами, воспоминания наплывают сами собой. Вся жизнь, с первых шагов, то есть со смерти отца, проносится перед ней. Она любит вспоминать свои первые шаги. Это лирическая пора ее жизни.
Ведь и в самых страшных пустынях бывают свои весны, какими бы короткими и неприметными они ни были.
В ту пору ею владел один сон, одна мечта. Конечно, не о любви и забавах, а о способах и средствах добывать деньги и умножать и сберегать добытое. А воспоминания, однажды разбуженные, не остановишь…
II
Первые месяцы после отцовой смерти были исполнены скорби и величавы, как музыка похоронного марша, в которой звучит и скорбь, но в то же время и радость оттого, что в этой жизни можно жестоко скорбеть и все-таки жить.
Уже тогда жизнь Райки неожиданно, стремительно и неотвратимо начала принимать свое особое направление.
В те времена казалось совершенно невероятным, чтоб женщина, да еще в столь юном возрасте, сама вела свои дела, ходила по конторам и учреждениям, встречалась с деловыми людьми. Но Райку считали исключением и не осуждали. Все хорошо знали худощавую девушку с горящими черными глазами и желтым лицом, бедно одетую, чуждую моде и женской потребности пофрантить. Всем было известно, что ее отец, Обрен Радакович, разорился и умер – пал жертвой собственной доброты и устарелых дедовских понятий о торговой чести. Люди жалели ее, а она как могла пользовалась этим. Без лишних слов, без улыбки, она выкладывала свои скромные просьбы или непреложные требования. И каждый старался пойти навстречу, помочь этой всегда печальной девушке, с которой так неласково обошлась судьба. Ей удалось провести весьма выгодные операции, обойдя во многих случаях строгие предписания закона. Барышне предлагали лучшие и наиболее благоприятные решения, давали советы, какие обычно в деловых кругах никому не дают. Со временем она сумела упорядочить состояние, доставшееся от отца, укрепить неустойчивые статьи бюджета, взыскать по искам, которые давно считались безнадежными, спустить те бумаги, которые в кассах других лежали мертвым грузом.
В этом ей немало помогли ее крестный и опекун, газда Михаило, и директор банка «Унион» Драгутин Пайер.
Газда Михаило, болезненный, усталый человек, происходил из старого сараевского торгового рода, среди которого туберкулез постоянно находил себе все новые жертвы, но который все же никак не мог уничтожить полностью. Всегда кто-нибудь из этого семейства – вначале сыновья и дочери, а теперь и внуки – находился на лечении в австрийских Альпах или на море. И дела семьи были в сложном и запутанном состоянии. Но самой тяжкой мукой газды Михаила, о которой он никогда не говорил, был его старший сын. Этот тихий и необычайно одаренный юноша, с красивой утонченной внешностью и мятежной душой, в течение первых шести лет считался лучшим учеником сараевской гимназии, что называется, вундеркиндом, но потом начал писать стихи, запустил занятия и незадолго до выпускных экзаменов бежал в Сербию. С тех пор он жил в Белграде жизнью поэта и свободного художника. Долгое время между отцом и сыном велась обширная и ни к чему не приводившая переписка, но и эта связь давным-давно прекратилась. Болезнь, тоска по сыну, деловые заботы надломили и подорвали здоровье отца, но они же придали его лицу выражение скорбного достоинства; большие карие глаза, всегда горящие от боли и горечи, о которых честь и приличие заставляют молчать, напоминали портреты испанских художников золотого века.
Газда Михаиле делал все, чтобы вдова и дочь газды Обрена не остались без крова и куска хлеба и как можно меньше ощущали тяжесть обрушившегося на них несчастья. В этом ему помогали все сараевские торговцы-сербы, все родственники, друзья и почитатели несчастного газды Обрена. Среди них особенно выделялся один иностранец, директор филиала будапештского банка «Унион» Пайер. Этот человек с немецкой фамилией, в сущности, не принадлежал ни к одной расе, ни к одной нации. Отец его был банатским немцем, обосновавшимся в Осиеке, мать происходила из хорватских дворян и очень гордилась своим дворянским родом, хотя бабка ее по отцу была румынка, а бабка по матери – венгерка. Обычно смешение столь разных и непримиримых кровей ведет к постоянной внутренней борьбе, однако в Пайере они мирно уживались, создавая своеобразное гармоническое единство.
Это был высокий, красивый человек с поредевшими седыми волосами, большими серыми глазами и широкими мягкими движениями. Он был женат на венгерке, богатой и чудаковатой женщине, которая жила отдельно от него, в Венгрии, в отцовском поместье. Их единственный сын, красивый мальчик, воспитывался в одном из учебных заведений Венгрии. И по способностям и по связям Пайер давно мог занять более высокое положение, чем он занимал, мог даже стать одним из главных директоров центрального банка в Будапеште, однако он не только к этому не стремился, но по собственному желанию осел в Сараеве, с которым совершенно сроднился и сжился. Обосновался он в богато и со вкусом обставленной квартире на Логавиной улице. Был страстным охотником и превосходным теннисистом. Собрал прекрасные коллекции старинного оружия и народных вышивок, библиотеку на нескольких языках, покупал старые картины и помогал местным молодым художникам, никогда не высказывая своего мнения об их работах. Банком, одним из главных в Сараеве, имевшим на набережной роскошное собственное здание, он руководил спокойно, как бы между прочим, но внимательно и разумно.
С Обреном Радаковичем директор банка был связан не только по службе, но и многолетней искренней дружбой. После его смерти Пайер считал своим долгом помогать его вдове и дочери, облегчить им переход к новой жизни. И делал он это просто, без суеты и лишних слов, как все, что он делал в жизни.
Благодаря этим людям, а также чисто мужской напористости Райки торговые дела Обрена Радаковича были удачно ликвидированы и проблема содержания семьи разрешена вполне благополучно.
От торговых операций в других городах отказались, а фирмой «Обрен Радакович» в Сараеве, войдя в третью долю к наследникам, стал заправлять давний ее счетовод Весо Ружич. Дела, конечно, стали мельче и продолжали мельчать, но у начала Большого Чурчилука по-прежнему стоял приземистый полутемный лабаз, опрятный и пустой, с солидной старинной вывеской над дверями: «Обрен Радакович, комиссионная и посредническая торговля». По бокам в золотых овалах – «Основана в 1885 году», а внизу мелкими буквами скромно стояло: «Собственность Веселина Ружича».
«Обренов Весо» – под этим именем он издавна был известен в торговом мире, да и теперь его никто иначе не называл – всю свою жизнь провел возле газды Обрена и считал совершенно естественным и впредь оставаться под сенью его имени, беречь последние остатки состояния своего бывшего хозяина и служить его семье. Сирота без роду и племени, Весо был безусый полноватый коротышка с тонким голосом, крупной головой и румяным пухлым лицом, до времени изборожденным морщинами. Рядом со своим могучим хозяином этот маленький человечек казался лишенным самостоятельности и воли, однако на самом деле отличался молчаливым упорством крестьянина. Одевался он скромно, но чисто и добротно. У него была жена, Сока, такая же маленькая, беленькая и кругленькая, как он. Жили они на Вароше,[3] в маленьком белом домике, где все сверкало чистотой и порядком; окна и крохотный дворик утопали в цветах. Детей у них не было, жили они тихо и согласно, как два голубка.
После смерти хозяина Весо целые дни проводил в лабазе, озабоченный и словно бы тоже осиротевший. Без поддержки газды Обрена он чувствовал себя одиноким и беспомощным, однако голова его напряженно работала, а маленькие глаза и красные ручки находились в постоянном движении. В несчастье он проявил не только преданность, но и своего рода мудрость и сноровку.
В первые же недели после смерти отца Райка стала ежедневно наведываться в лабаз. Вместе с Весо просматривала книги и счеты, обсуждала дела. Тихо и спокойно, сосредоточенно наморщив лоб, она знакомилась с бухгалтерским учетом, деловой перепиской, с ведением торговых операций вообще. Напрасно ей говорили, что это не женское и тем более не девичье занятие. Каждый день час-два она проводила с Весо, и не потому, что не доверяла ему (это не могло даже в голову прийти), не потому, что этого требовали дела (теперь их было немного), а потому, что хотела изучить, узнать, увидеть, как выглядит эта сторона того механизма, которому отец отдал жизнь и который она теперь все ближе узнавала, посещая банки, конторы и приводя в порядок свое и материно маленькое и шаткое состояние. Уже одно сидение в полутемном, холодном лабазе возле Весо – живого напоминания о газде Обрене – представлялось ей служением завету отца.
Но, занимаясь лабазом, встречаясь с деловыми людьми, Райка не забывала и о доме. И здесь со временем она начала проводить свою линию.
«Теперь дом в моих руках», – сказала она себе, отслужив панихиду по отцу через полгода после его смерти. И в то же мгновение почувствовала, как в ее груди затрепетало и забилось что-то до боли сладкое и жгучее, словно второе, более сильное сердце.
Свой план ведения хозяйства она прежде всего изложила матери, правда, не целиком, а только ту часть, которая касалась матери и которую той необходимо было знать.
– Папа хотел, чтоб мы жили бережливо и тем хоть отчасти поправили зло, которое нам нанесли люди. Я ему обещала. Нужно начать сейчас же. С этого дня гостиная, а также прихожая топиться не будут. Будем топить в твоей спальне, там ты и проводи время. О прислуге, кухне и прочем я позабочусь сама. А ты отдыхай и занимайся шитьем.
Госпожа Радойка заплакала, но в те дни она плакала что бы ей ни сказали. Смысл дочерних слов до нее дошел не сразу.
В начале следующего месяца Барышня призвала Симу, слугу, который ходил за лошадью и коровой, колол дрова, носил воду и делал всякую другую тяжелую работу, какая могла случиться в купеческом доме. Здесь он жил с той поры, как женился хозяин, добродушный богатырь, одинокий, без жены и детей, он словно был создан быть вечным слугой и жить жизнью своих хозяев. Он предстал перед Барышней, приглаживая левой рукой свои каштановые взлохмаченные усы.
– Сима, я позвала тебя, чтобы сказать, что с папиной смертью в нашем доме все изменилось. Люди забрали у нас и свое и наше. Пришло время и нам подумать, как жить.
– Что ж, барышня, подумаем.
– Придется, – продолжала девушка, будто и не слышала его, – продать лошадь и корову, так что слуга нам больше не нужен.
– Как?
– Вот я и хотела сказать тебе, чтоб ты искал себе другое место. У нас ты можешь остаться до первого января.
Сима оглянулся вокруг в поисках кого-нибудь постарше и поразумней этой девчонки, которая сама не знает, что говорит.
– А я-то думал, что как раз сейчас вам нужнее всего в доме мужчина. Жалованья я с вас не спрашиваю. В Мит-ров день семнадцать лет будет, как я к покойному хозяину пришел. Да ради него я вас и барыню ни за что на свете не оставлю, пусть хоть на хлеб и воду сяду.
Голос его помрачнел, глаза потемнели.
В груди Райки задрожало что-то сладостное и страшное, будто она нагнулась над пропастью. Она заколебалась, но тут же ей пришло в голову, что это один из приступов слабости, о которых ей говорил на смертном одре отец; она решительно подняла голову и холодно, резче, чем хотелось самой, сказала:
– Знаю, Сима, ты всегда был прилежен и папа любил тебя, но сейчас для нас настали такие времена, что тебе лучше, пока не поздно, искать себе другое место.
Богатырь вышел в смятении и печали, а Райка позвала кухарку Резику. Сильная, грубоватая и нравная, как все хорошие кухарки на свете, она прослужила в доме шесть лет. Барышня еще больше выпрямилась, все в ней напряглось, словно перед великим испытанием.
– Резина, ты знаешь, что со смертью папы мы потеряли все. И жить мы теперь вынуждены по-другому. Больше у нас не будет ни гостей, ни разносолов. Работы у тебя уменьшится, да и я стану помогать. Дорогую прислугу мы больше держать не можем. Симе я уже отказала. Тебя мы могли бы оставить, но только положив вместо прежних двадцати четырех крон в месяц двадцать. Если ты согласна, оставайся. Поду май, и завтра мне скажешь. Деньги на расходы будут теперь у меня. За покупками на базар первое время станем ходить вместе.
Не только домашних, но и ближайших соседей, родственников и просто знакомых это повергло в замешательство и волнение. Родные бросились уговаривать мать, чтоб она запретила неразумной и самовольной девчонке командовать в доме. Но мать умела только плакать или смеяться. Приходил газда Михаило, советовал Райке не торопиться, – положение хоть и тяжелое, но все же не такое, чтоб сворачивать все хозяйство. Райка спокойно отвечала, что ей лучше знать, о чем говорил отец перед смертью, и что если до совершеннолетия она не может принимать более важных решений, то уж в своем доме она вольна делать, что и как хочет.
На Новый год Сима оставил дом. Резика прожила еще два месяца, но больше и она не выдержала. За покупками с ней ходила Барышня и каждый день урезывала расходы, заставляя брать всего поменьше и подешевле. В конце концов терпение Резики лопнуло. Она со слезами простилась со старой хозяйкой и долго еще потом говорила соседям, что скорее готова прислуживать эскадрону гусар, чем этой проклятой девчонке, о которой, если так пойдет дальше, люди и внукам будут рассказывать.
Для черной работы по дому Барышня наняла молоденькую служанку, кухней же занималась сама с помощью матери. Родные и подруги, которые вначале старались образумить ее, отступились и предоставили ей поступать так, как ей заблагорассудится. А она терпеливо трудилась, ни на шаг не отходя от своего плана. Всякое решение осуществляла быстро и непоколебимо, но перед тем, как принять его, долго размышляла. Одно следовало за другим всегда через определенный промежуток времени; время помогало ей осуществлять принятые и принимать новые решения.
Пока был жив дядюшка Владо, он еще удерживал ее от чрезмерного скопидомства и заставлял поддерживать хоть какие-то связи с миром. Своей сестре, матери Райки, он приносил подарки, чтоб она не так остро ощущала жесткую руку и суровый нрав дочери. При нем еще были возможны и смех и шутки, потому что он был из тех людей, которым трудно отказать в любой просьбе и легко простить любое прегрешение. Даже постоянные стычки между ним и Рай-кой из-за ее скупости и его мотовства выглядели веселыми и беззлобными.
В доме он всегда появлялся неожиданно. Нагрянет как снег на голову, застанет Райку за какой-нибудь грязной работой – с повязанной головой, по уши в пыли – и скажет:
– Ну-ка одевайся. Поедем на Бенбашу[4] мороженое есть. Там сегодня все собираются.
– Бог с тобой, смотри, в каком я виде! Погожий день, надо вот перетрясти и почистить все на чердаке…
– Не убежит твой чердак! Одевайся скорее. Лошади ждут.
– Лошади! Боже мой, сумасшедший!
Райка глянет в окно, а там стоит новешенькая роскошная коляска с кучером в красной феске и с цветком на кончике кнутовища. Мысль, что коляска нанята на время и сумма с каждой минутой растет, причиняет ей невыносимую боль, будто кровь капля за каплей вытекает из жил. Она закрывает лицо руками, чтоб не видеть ни дяди, ни этой проклятой коляски, и кричит, пытаясь заглушить его смех:
– Не хочу, не хочу видеть ни тебя, ни коляски! Владо, я правда сержусь.
– Не жить мне на этом свете, если не поедем!
– Конечно, такому, как ты, лучше и не жить.
Но разве можно на него сердиться по-настоящему и долго сохранять серьезность?
В комнате поднимается беготня, смех, возня; наконец договариваются, что он отпустит коляску (потому что Райка не в силах думать о том, чего стоит каждая минута ожидания), а она приведет себя в порядок и оденется. Потом они пешком идут по городу. Он – красивый, улыбающийся, в белой паре из японского шелка, с розой в петлице; она – хмурая, изможденная, бог знает как причесанная, в юбке, отвисающей сзади.
Случались и еще более невероятные и удивительные вещи: от него ведь можно было ожидать любых выходок!
Однажды он явился к ним утром, непроспавшийся, весь в пыли, но улыбающийся, с крохотным ягненком на руках.
– Вы всегда говорите, что я бездельничаю и не зарабатываю, – заявил он со смехом, – а я всерьез занялся торговлей и сельским хозяйством. Вот вам первые плоды моих трудов.
Только когда он сел и рассказал все по порядку, стало понятно, что с ним произошло.
С двумя товарищами, под стать ему, Владо отправился во Врело Босне.[5] Здесь они пили и пели всю ночь напролет. («А что такое летняя ночь? Не успеешь оглянуться, ее уже нет».) На заре в наемной коляске двинулись обратно в Сараево и по дороге встретили отару овец с молодняком, только-только появившимся на свет божий. Коляска с трудом продиралась сквозь густую волнующую массу, от которой несло шерстью, молоком и пылью. Вначале это едва не испортило им настроение, но потом происшествие показалось забавным.
В душах молодых людей, возбужденных ночным звоном бокалов и струн, такие рассветы рождают тягу к подвигам. Нет ничего, что в подобные минуты не могло бы прийти им в голову и что они не были бы готовы осуществить немедленно. Один из друзей предложил купить сообща отару, пригнать ее в Сараево, продать, а барыши поделить поровну. Все трое загорелись этой идеей. Пастух, который гнал отару, сказал, что хозяин находится в Алипашином Мосту.[6] Добравшись до постоялого двора в Алипашином Мосту, они нашли там владельца овец, толстого и хитрого барышника. Вначале тот решительно отклонил предложение веселых баричей. Но когда те взялись серьезно и настойчиво предлагать сделку, заломил несусветную цену. Покупка была совершена по фантастической цене, по меньшей мере на тридцать процентов выше рыночной. Молодые люди выложили все деньги, что были при них, купили шестьдесят одну голову и одиннадцать сосунков и погнали отару в Сараево. Но уже дорогой пыл их поулегся, и они пожалели о случившемся прежде, чем вернулись в город. День был как раз базарный, и они сразу свернули на скотный рынок. Только тут они увидели, что продать такое стадо оптом нелегкое дело. Наконец, вся эта история им осточертела, и они оставили слугу завершить операцию, – разумеется, с неизбежным убытком.
Райка и смеялась над легкомыслием юнцов, которым бы уже давно пора стать самостоятельными людьми, и горько плакала над их безрассудным мотовством и забавами. Все же она хотела знать, сколько они отдали за голову и во что выльется убыток. Но Владо только смеялся и вместо ответа подносил к ее лицу безмятежного белого сосунка.
Ягненка оставили в доме, он сделался ручным и бегал по двору, как собачонка. К нему так привязались, что ни у кого не хватало духа заколоть его, и через некоторое время ягненка продали мяснику.
Потом наступил последний год жизни дядюшки Владо, двадцать третий. Год выдался мучительный – долги, тяжбы, конфискация, разорение и, наконец, болезнь. Умер Владо в Дубровнике, в одном из отелей на другой день по приезде, в полном одиночестве, захлебнувшись кровью. Гостиничная прислуга растащила то немногое, что у него сохранилось от прежних времен. Даже для собственной смерти он избрал самый дорогой путь из всех возможных!
С тех пор Райка все больше отдалялась от людей, не отдавая себе отчета, как, зачем и почему она это делает. Самые близкие подруги встречались с ней все реже. К матери одно время еще приходили знакомые, но, заметив, сколько кофе и сахара уходит на их досужие разговоры, Райка стала запирать буфет, а ключ держать при себе. Так прекратились и эти посещения. Только родственники с отцовской и материнской стороны в силу нерушимых семейных уз еще продолжали навещать их. Закон родства действует у нас и тогда, когда все прочее рассыпается. К тому же в наших семьях все еще живут по старинному правилу: «Свой своему поневоле друг». Родичи приходили мрачные, напуганные, заранее подготовленные к неприятным неожиданностям, которые их встретят и на этот раз. Дом, где некогда все сверкало, все дышало изобилием и теплом, которые создаются не столько достатком, сколько сердечностью и врожденным благородством, теперь из года в год становился холоднее и неприветней. Ни одна вещь из дома не вынесена, но все, что подвержено износу и что можно убрать, спрятано подальше от рук, ног, а по возможности и от глаз. Барышне казалось, что вещи, запертые в шкафах и сундуках, состоят с ней в заговоре против расточительства, те же, что находятся в употреблении, каждый день приближаются к гибели, ибо каждое прикосновение, каждый чужой взгляд что-нибудь да отнимает у них. Первые представлялись ей богатством, которое вдали от глаз растет и приумножается, а вторые – открытым и незащищенным капиталом, который распыляется и тает, тратится и вызывает новые траты. Но и то, что оставалось в употреблении, необъяснимым образом менялось. Все вещи выглядели так, словно были в ссоре друг с другом. Нельзя сказать, чтобы дом стал грязным и запущенным, но он уже ничем не походил на благополучные дома, где все «поет» и сверкает веселой и здоровой чистотой, потому что скряжничество – одна из тех человеческих страстей, которые со временем приводят к физической нечистоплотности. Пока здесь еще не изжили былой опрятности, но первые признаки перемен появились. В комнатах, вокруг каждой вещи незаметно сгущалась атмосфера угрюмой скуки, ледяной, цепенящей тоски. Все, что было в доме, медленно, но верно, с каждым днем, с каждым часом утрачивало частицы света, жизненного тепла и затягивалось чуть приметной серой пеленой – предвестницей пыли. С первого взгляда было видно: комнаты убираются лишь настолько, чтоб нельзя было сказать, что они не убраны; ясно было, что от вещей не требуют ничего другого, кроме того, что отвечает их прямому назначению и без чего нельзя обойтись. Такой вид принимают с годами кельи мусульманских и христианских монастырей или квартиры чудаковатых холостяков, живущих одной страстью, одной причудой. Подобные дома люди обычно обходят, а если заходят в них, то только по необходимости.
Помимо родственников, в дом еще долго приходили нищие. Надо сказать, что в те времена сараевские нищие составляли особую касту, какие есть в любом восточном городе.
Существование нищенского ордена, основанного, по сути дела, на освященном суеверии и хитром расчете, предоставляет богатым дешевое средство успокоить собственную совесть, а нищим – средство пропитания. Однако прежние поколения смотрели на это иначе. Для них нищие были «божьи люди», забота о которых долг всех и каждого. Малолетние сироты, убогие калеки от рождения, с протянутой рукой и бегающим взглядом, то злобным, то испуганным. Глухонемые, слабоумные, а также падшие женщины, которые не могут и, по общему убеждению и согласию, не должны трудиться. Дряхлые, но неунывающие старцы, обросшие бородой, в одеянии из сплошных заплат, с торбой за плечами и палкой в руке; они похожи на самого господа бога из притчи, в которой он, переодевшись нищим, идет по свету искушать людские сердца, дабы узнать, кто достоин жить в достатке и счастье, а кто нет.
В богатых или просто имущих домах нищие выполняли роль своего рода добрых духов, являясь живым свидетельством прочности благоденствия и процветания дома. Состоятельные люди видели в них подтверждение «неисповедимых, но вечных установлений божьего промысла», по которому у одних есть и будет все, а у других ничего нет и никогда не будет, хотя люди, ради Христа, уделяют им от своих щедрот.
По заранее согласованному порядку, они посещают дома в определенные дни и даже часы, получают свой крейцер или свой кусок хлеба – как бы долю богатства и достатков, которая принадлежит им по неписаному, но святому праву, и идут дальше, оставляя свое благословение – а оно отнюдь не пустые слова – и обостренное ощущение счастья, ибо все, чем наградил господь и что люди и беды не смогли отнять, попадает теперь под защиту и охрану благостыни.
Нищенство у нас и по смыслу и по значению отличается от того, какое бытует в странах Западной Европы. Там нищие часто люди порочные, дармоеды и мошенники, ищущие себе жертв, в то время как здешние (по крайней мере, по нашим, восточным, представлениям) – сами жертвы, на плечи которых общество взваливает часть своих неизбежных бед и которые поэтому всеобщие заимодавцы, законно притязающие на свою долю счастья счастливых и богатства богатых. Подобное отношение к нищенству находится (или находилось) в самой тесной связи с представлениями наших горожан и торгового люда о человеческой судьбе, с нашим образом жизни и путями обогащения. Нищенство – необходимый, древний и устоявшийся способ обмена между имущими и сильными, с одной стороны, и обездоленными – с другой; неизбежный, естественный и привычный путь возмещения и исправления того, чего никаким другим путем люди не могли или не умели исправить. Поэтому нищенство по молчаливому и давнему уговору оправдывалось и почиталось благостным делом, равно необходимым и тем, кто дает, и тем, кто принимает.
В доме Обрена Радаковича последние восемнадцать лет нищих встречали радушно и оделяли щедро. Это было известно. Теперь и это изменилось. Правда, Барышня понимала, что с нищими она не может обойтись так же сурово и круто, как она обошлась с прислугой. Мать, уступавшая ей во всем, на этот раз долго упорствовала. В ее глазах подаяние нищим было святым делом; с таким представлением она вышла из отчего дома и точно такое нашла в доме мужа. Она не допускала мысли, что этот святой обычай может быть нарушен, пока в доме есть хоть корка хлеба. Поэтому Райка не могла одним махом покончить с этой традицией, но, как и все прочее, подаяния тоже взяла под свое начало.
Нищие сразу почувствовали ее руку. Она встречала их по-своему: холодно, сурово, определяя строгим взглядом, кто заслуживает милостыни, кто нет, отыскивая в лохмотьях следы тайно хранимого богатства, а в физических недостатках – фальшь и притворство. Большинство нищих, знавших ее еще ребенком, здоровались с ней по-свойски, шутили или жалко улыбались, тщетно пытаясь вызвать улыбку на ее лице.
Когда Барышня убеждалась, что нищий действительно изможден и стар и, стало быть, предлога отказать нет, она закрывала перед его носом дверь и шла в кухню. Здесь она брала кусок черствого хлеба и засохшей брынзы и направлялась к нищему. Но поскольку она только еще постигала трудное искусство бережения и скряжничества, она вдруг спохватывалась, шагая по коридору, что может прийти нищий еще более нуждающийся, возвращалась в кухню и водворяла брынзу на прежнее место. Потом снова шла к двери с одним хлебом, но, оглядывая его по дороге, обнаруживала, что он слишком велик, поворачивала в кухню, разрезала кусок пополам и половину клала назад в корзинку. Уже выходя из кухни с куском, который она наконец решалась отдать нищему, она вдруг вздрагивала, снова бралась за нож и отрезала еще ломтик. А протягивая хлеб нищему, она все время переводила взгляд с хлеба на его лицо, пытаясь по его выражению уловить, не обманулась ли она и не дала ли лишнего.
Любого повода было достаточно для того, чтоб прогнать нищего. Один забыл притворить за собой калитку, другой принес на босых ногах грязь и запачкал мощенный белой брусчаткой двор – предмет зависти всех купеческих семейств в Сараеве. Однажды она прочла в газетах, что в Париже в убогом жилище умерла нищенка, а после в ее соломенном тюфяке нашли двести пятьдесят тысяч франков. Это дало ей повод целую неделю с бранью гнать нищих, утверждая, что все они притворяются, а сами «спят на деньгах».
И так изо дня в день, из месяца в месяц. В конце концов произошло нечто неслыханное и невероятное для купеческого дома, в котором еще были живые люди. Нищие начали приходить реже и реже, пока наконец не перестали появляться вовсе. Госпожа Радойка горько жаловалась, что «ни сирый, ни убогий не стучится в двери дома». Она часто стояла у окна, озабоченно и испуганно глядя на улицу, и собственными глазами видела, как знакомые нищие обходят их дом, будто он чумной или вымерший. Это представлялось ей тяжким и неискупимым проклятием, и она плакала и страдала из-за этого больше, чем из-за самых жестоких лишений, которые приходилось переносить ей самой.
Таким образом Барышня обдуманно и непреклонно убирала со своего пути все, что, по ее мнению, мешало ей идти к конечной цели, которую она не раскрывала никому и которую и сама не видела еще достаточно ясно и отчетливо. Между тем подошла пора, когда она могла вступить во владение капиталом, положенным отцом в банке на ее имя. В начале нового года Барышне предстояло получить двадцать тысяч крон от страхового общества в Триесте.
И действительно, в конце января пришел газда Михаиле, Райкин опекун, как всегда спокойный и нецеремонный, но настроенный торжественнее обычного, даже чуть растроганный. Он тяжело дышал – астма давно мучила его и мешала жить. Газ-да Михаило пришел сообщить Райке, что общество выплатило ее обеспечение и капитал положен на ее имя в банке «Унион».
Барышня приняла известие без малейшего волнения. Лишь морщинка меж бровей углубилась, говоря о напряженной работе мысли.
Опекун выложил бумаги, подтверждавшие, что общество выплатило сумму сполна за вычетом лишь гербового сбора и семидесяти шести крон комиссионных. Тут же он сказал, что общество, весьма внимательно отнесшееся к ее делу, надеется, что в сараевских газетах появится, как водится, благодарность за точную и аккуратную выплату.
– Пожалуйста, только с условием, что общество возьмет на себя семьдесят шесть крон комиссионных. Иначе я не согласна.
Газда Михаило в изумлении уставился на девушку, словно не веря собственным ушам и желая воочию убедиться, не ослышался ли он. Он попытался спокойно объяснить ей, что обычай требует поместить в газетах благодарность и что это не имеет никакого отношения к комиссионным расходам, которые по всем правилам должны нести клиенты. Так поступают все, и общество этого вполне заслуживает; и кроме того, ей, Райке, это не будет стоить ни гроша.
– Мне не будет стоить, зато обществу выгодно, вот оно и должно мне заплатить, если хочет, чтоб благодарность появилась в газетах.
Газда Михаиле ушел, кашляя и ломая себе голову над странностями этой девушки.
Благодарность в газетах не появилась. А газде Михаило подопечная подготовила новый, еще больший сюрприз.
Однажды, вскоре после этого, Райка зашла в лавку газды Михаило и, застав его одного, просто и кратко объявила, что решила воспользоваться законом, по которому она может, принимая во внимание особые обстоятельства, требовать признания своего совершеннолетия в восемнадцать лет. Она перечислила основания, которые представит суду: отягощенное долгами состояние, оставленное отцом, болезнь опекуна и его занятость собственными делами, преклонный возраст матери, находящейся на ее попечении, готовность и желание самостоятельно вести дела, которые бы в этом случае пошли живее и лучше. Нужно только его согласие.
Газда Михаило смотрел на нее усталыми и до времени поблекшими глазами – в них были удивление и обида. Сворачивая сигарету и глядя на свои пальцы, он кротко произнес:
– Хорошо, дочка, но разве ты недовольна тем, как я вел ваши дела до сих пор?
– Нет, крестный, боже сохрани! Но ты ведь и сам видишь, каково положение. Я молодая, здоровая, зачем же тебе утруждать себя еще и нашими заботами? Я буду обо всем с тобой советоваться, но лучше мне самой вести дела. Это было и папиным желанием.
Газда Михаило смотрел на Райку, словно видел ее впервые, и усиленно искал в ее лице черты девочки, которую когда-то знал.
В конце концов он дал согласие. Обо всем остальном позаботилась Райка. Спустя шесть недель после разговора с опекуном адвокат принес постановление суда о признании ее совершеннолетней.
Газда Михаило, когда ему сообщили об этом, принял известие спокойно, не выказав неодобрения и скрыв озабоченность.
– Теперь, – сказал он ей тихо и торжественно, – закон дал тебе право управлять своим имуществом, но для меня ты по-прежнему как дочь, я тебя от своих детей не от личаю. Что бы вам ни понадобилось – совет ли, помощь, – ни в чем отказа не будет! Имей это в виду.
Барышня поблагодарила, но ни словом не обмолвилась о том, как думает распорядиться деньгами, полученными от страхового общества. В последнее время она все меньше говорила с опекуном о делах, теперь же стала просто избегать его. Она разговаривала только с теми, кто был ей нужен, и только о том, о чем хотела говорить сама. Райка и раньше без особой нужды с людьми не раскланивалась, а когда получила свой капитал, вовсе перестала это делать.
Не только газда Михаило, но и директор банка Пайер, а также старейшие и искуснейшие торговцы не могли надивиться тому, как тщательно Райка приняла свой капитал, как быстро, ловко и незаметно, по всем освященным традициями правилам торгового мира, его разместила. А Барышня шла своей дорогой – ее не смущали и не сбивали с толку ни лесть, ни укоры, не останавливали никакие предрассудки. Деньги стали приносить прибыль.
Но, по сути дела, они приносили прибыль уже и раньше.
В один прекрасный день было замечено, что Барышня давно уже не занимается ликвидацией дел отца и обеспечением дома, а ведет новые операции, ею же самой задуманные. Тем не менее ей по-прежнему во всем шли навстречу, принимали без очереди и с особым вниманием, как несчастную сироту Обрена Радаковича.
Однако когда ее капитал начал стремительно расти, у нее все реже возникала нужда обивать чужие пороги. За несколько лет она познакомилась с людьми, учреждениями, делами; теперь она могла самостоятельно следить за новостями и переменами на сараевском финансовом рынке, причем не на большом и открытом, а на маленьком, тайном и кипучем – скрытом от большинства людей, но хорошо знакомом несчастным и порочным людям, рабам высоких процентов и неумолимых судеб.
Словом, люди сами начали приходить к ней.
III
Сараево 1906 года! Город, где скрещиваются влияния, смешиваются культуры, где сталкиваются разные уклады жизни и противоположные мировоззрения. Но всем этим разным и непохожим друг на друга сословиям, верам, народностям и общественным группам присуща одна общая черта: всем нужны деньги, и всем гораздо больше, чем они имеют. Прежде всего существует большая группа бедняков, не имеющих самого необходимого. Их жизнь состоит из несбыточных желаний и вечной погони за деньгами. Но и те, у кого что-то есть или как будто бы есть, хотят большего и лучшего, чем то, что они имеют. Сараево исстари было городом, где без денег не проживешь, а теперь и подавно. Горожане, и без того унаследовавшие тяжелое бремя турецкой лености и славянской склонности к излишествам, восприняли теперь еще и австрийские бюрократические представления об обществе и общественном долге, согласно которым репутация и достоинство человека определяются величиной бессмысленных и непроизводительных трат на пустые роскошества, часто безвкусные и нелепые.
Трудно представить себе другой город, где было бы так мало денег, так мало источников дохода и так велика жажда денег, так ничтожно желание и умение трудиться и так многочисленны прихоти и капризы. Смешение восточных обычаев и европейской цивилизации привело здесь к возникновению особого типа общества, коренная часть которого успешно соревнуется с пришлой в создании новых потребностей, новых поводов для трат. Дедовские правила воздержания в бедных семействах и бережливости в богатых полностью забыты. И если еще попадаются люди со старинными навыками умеренности, живущие строго по принципу: «Маленькая добычка, да большой береж – век проживешь», то они стоят в стороне от всякой общественной жизни как нелепые реликты давно прошедших времен.
Вот в таком обществе, где неутолимая жажда денег сплела невидимую, но густую и нерасторжимую сеть долгов и займов во всевозможных размерах и самых разнообразных формах, Райка и приступила к созданию своего капитала. Людей, которым, как ей, нужно меньше, чем они имеют, можно было на пальцах перечесть; тех же, которые испытывают постоянную нужду в деньгах или потому, что у них нет на хлеб насущный, или потому, что тратят они больше, чем позволяют средства, насчитывались тысячи. Не вникая глубоко в общественные отношения и не пытаясь установить действительные связи между причинами и следствиями, она делала выводы на основании того, что видела на поверхности явлений, как обычно поступают женщины и вообще люди, поглощенные одной великой страстью, а она относилась и к тем, и к другим. Очень скоро город и все, что так или иначе окружало ее, она стала считать своим охотничьим угодьем, забыв обо всем, кроме жажды добычи.
Еще в первые годы Райка принимала в отцовском лабазе тех, кому требовалась срочная ссуда. Поначалу дело выглядело скромно и невинно, но скоро стало развиваться с ужасающей быстротой, особенно после того как она вошла во владение капиталом и была провозглашена совершеннолетней. И пока Весо, не подозревая о ее планах, занимался розницей, торгуясь с мужиками из-за двух-трех лисьих шкур, Барышня начала входить во вкус «ростовой денежки», того холодного похмелья, которое греет и светит в сырых лавках ростовщиков ярче солнца и теплее весны. Когда дело разрослось и посетителей стало значительно больше, она стала принимать не только в лабазе, но и дома. Разумеется, последнее распространялось лишь на избранных, наиболее уважаемых и солидных клиентов.
В пустом и невеселом, холодном и неуютном доме, где не слышно было ни смеха, ни громкого говора, куда не заглядывали даже нищие, теперь появлялись новые, необычные посетители. Здесь можно было наблюдать, сколь разнообразны типы людей, которых невидимыми нитями опутывают деньги, жажда денег.
В первое время приход каждого такого посетителя был для молодой девушки событием, к которому она готовилась и которое долго помнила, но со временем, когда число просителей так возросло, что стало ей в тягость, она принимала их все менее внимательно и вежливо, все более подозрительно и сурово. (Она быстро научилась распознавать среди посетителей людей, которых толкает на исступленные поиски денег крайняя нужда или всепоглощающая страсть, и убедилась, что подобные люди настолько слабы, беспомощны и на все готовы, что с ними можно не церемониться. Это открытие она сделала неожиданно еще в самом начале своей деятельности и пользовалась им неукоснительно и смело.)
Зимой и летом Барышня принимала в почти пустой гостиной за небольшим столиком, на котором не было ничего – ни книги, ни листка бумаги, – лишь старинная чернильница да дешевенькая ручка, сохранившаяся еще с гимназической поры. Сидела она на простом жестком стуле, а рядом стоял другой – еще меньше и жестче – для посетителей. Не топили здесь даже в самые лютые морозы.
– Раздеваться не надо, – говорила она в таких случаях и добавляла с злорадными нотками в голосе: – У меня не топят.
Поставив таким образом посетителя в наиболее неловкое и невыгодное для него положение, она спрашивала, чего он желает, таким строгим и удивленным тоном, словно тот ошибся адресом и обратился совсем не к тому, к кому его направили.
В большинстве случаев разговор действительно кончался тем, что посетитель, выложив Барышне все свои нужды, уходил с пустыми руками. Когда изредка кому-нибудь удавалось склонить ее в свою пользу, разрешение дела откладывалось на следующий день. Назавтра на ее письменном столе появлялся листок бумаги с условиями краткосрочной ссуды. Вексель, в зависимости от срока, предусматривал превышение суммы, выдаваемой просителю, на десять – тридцать процентов. Прочие условия находились в полном согласии с законом, то есть с его крайними границами. Оплата векселей происходила не в доме, а в лабазе у Весо или даже через посредников; часто это делалось весьма обходным путем у какого-нибудь менялы или у мелкого торговца, сидящего в полузаброшенной лавчонке, на вид пустой и убогой. Ведь глубоко под видимой и бурной поверхностью общества, которое живет, тратит, наслаждается и транжирит, существует невидимая, стальная, тонкая и прочная сеть ростовщичества – безмолвная, безымянная и мощная организация тех, кто отказался от всего лишнего и второстепенного и нашел путь к тому, что, по их мнению, единственно существенно и важно в жизни, кто одну свою страсть удовлетворяет за счет многочисленных мелких и крупных страстей и потребностей всего остального общества.
Но большинству посетителей так и не удается начать деловой разговор. Послушная необъяснимому инстинкту, Барышня прерывала человека на полуслове и своим сильным и звонким голосом объясняла, что его направили к ней по ошибке, что кое-какие деньги у нее имелись, но она уже дала их взаймы друзьям. Проситель выходил из этой приемной, зимой – холодной, а летом – душной, расстроенный неудачей, но довольный, что освободился от этой крутой девицы с пронизывающим взглядом и рукопожатием атлета.
Лишь в исключительных случаях дело принимало другой оборот. И подобные случаи она помнила долго.
В один из февральских дней к ней вошла высокая красивая дама, в длинном пальто тонкого черного сукна с дорогим коричневым мехом на воротнике и рукавах. На голове – шапочка из того же меха. Белое нежное лицо с голубыми ясными глазами, мокрое от тумана, слегка зарумянилось на морозе. Она была иностранка, полька по происхождению, но выросла и жила в Боснии. Муж ее, хорват, служил чиновником. Высокомерный, утонченный щеголь, он пользовался репутацией страстного игрока и большого любителя вина и веселых женщин. Барышня знала супругов в лицо, хотя и не была с ними знакома.
Молодая женщина начала разговор смущенно и неловко, но потом, откинув всякую церемонность и всякое притворство, перешла к сути дела. Ее муж проиграл в карты в офицерском клубе большую сумму; он дал честное слово, что выплатит ее в течение двадцати четырех часов. Она телеграфировала родителям и брату, у которого имелось предприятие в Польше. У нее есть другой брат, в Америке, он уже не раз выручал их в подобных обстоятельствах, но сейчас все упирается в срок. Сумма, собственно, не так уж велика – тысяча двести крон, – и они наверняка получат ее через неделю-другую, но деньги необходимо выложить на стол не позднее завтрашнего утра. Мужем овладела мрачная апатия, и он грозит наложить на себя руки. Она должна спасти его и потому согласна на любые условия и проценты.
– Вас ввели в заблуждение, послав ко мне. У меня нет денег на такие цели. Что было, я раздала друзьям и теперь вот жду, когда они вернут.
Женщина приподнялась:
– Барышня, прошу вас. Мне сказали, что вы можете.
– Вам неверно сказали.
– Барышня, вы моя последняя надежда. Только вы можете спасти нас.
Райка встала было с места, желая прекратить неприятный и бесполезный разговор. Но женщина, будто она только того и ждала, зарыдала в голос, всплеснула руками и умоляюще сложила их перед самым лицом ошеломленной Райки.
– Барышня, умоляю вас, как самого бога!
Барышня резко откинулась на спинку стула, а молодая дама, опустившись на пол, припала к ее коленям. Сквозь рыдания были слышны ее слова:
– Вернем все! Ради бога, спасите нас! Заклинаю, спасите!
После первого оцепенения Барышня высвободила колени, однако женщина как подкошенная упала к ее ногам и обхватила их выше щиколоток. Барышня вскочила оттолкнув стул.
Теперь она глядела сверху на скорченную у ее ног женщину, сотрясавшуюся от судорожных рыданий. И тогда она почувствовала, как в груди ее затрепетало что-то сладостное и теплое, словно второе, более сильное, сердце. Она было уже нагнулась, чтоб поднять женщину и успокоить ее, но потом передумала, отдернула протянутую руку и сказала неестественно тонким голосом:
– Перестаньте, сударыня… перестаньте! Вас ввели в заблуждение, уверяю вас. Вам дорога каждая минута, и будет лучше, если вы, не теряя времени, обратитесь туда, где вы сможете получить деньги.
Прошло порядочно времени, пока несчастная женщина не поднялась, все еще бормоча:
– Барышня, умоляю вас… заклинаю, спасите нас! Он убьет себя!
Она повторяла это до самой двери, но там неожиданно выпрямилась, вытерла лицо, поправила волосы и вышла, не попрощавшись и не взглянув на Барышню.
Райка была смущена, в глубине души она ощущала словно бы легкий стыд. Но тут же навалились дела, и у нее не стало времени думать о красивой несчастной даме и беспокоиться о ее дальнейшей судьбе. Знала только, что муж дамы жив и здоров, так как спустя недели две после того визита она видела их на прогулке вдоль Миляцки. Они шли рука об руку, крепко прижавшись друг к другу. Одинакового роста, похожие, как брат и сестра, они были одеты самым изысканным образом, будто только что сошли с обложки модного журнала.
Но случалось и по-другому.
Однажды сухим и знойным летом в гостиной на жестком стуле оказался жандармский обер-лейтенант Карасек, чешский немец. Он служил в городке неподалеку от Сараева, а веселый нрав его был известен во всех ночных кабаках, посещаемых офицерами. Из-за беспорядочного образа жизни и еще более беспорядочного состояния финансов его несколько раз переводили с места на место и наказывали, сейчас ему угрожала отставка.
Это был полный человек с крупными карими глазами и сильной, плотной шеей, не умещавшийся в своем черном мундире. От него исходил запах офицерского мыла, смешанный с коньячным перегаром. В правой руке он держал новые желтые лайковые перчатки. Заговорил он по-немецки с той наигранной самоуверенностью, которая так свойственна алкоголикам:
– Барышня, мне нужны деньги. Большая сумма. Хотелось бы знать, каковы ваши условия. Две тысячи крон на три месяца. Полагаю, что гарантии, которые я вам представлю, вас удовлетворят.
Однако Райка не дала ему досказать, каковы его гарантии, чтоб он не подумал, что они ее не удовлетворяют, и чтоб не затягивать разговор.
– Простите, сударь, но я не располагаю деньгами.
– Не располагаете?
– Не располагаю, сударь, и не располагала. Была у меня, и то давно, небольшая сумма, доставшаяся мне в наследство, но и ее я отдала взаймы. И это все.
Самоуверенность офицера таяла на глазах. – Все?
– Все, сударь!
– Все! – повторил офицер, переложив перчатки в другую руку и стиснув их еще крепче. – Какие бы условия вы мне ни предложили… я согласен на все.
– Очень сожалею, сударь, но у меня нет денег, и потому об условиях не стоит и говорить.
Офицер ничего не ответил, лишь судорожно мял в правой руке перчатки. На лысеющем темени выступили росинки пота. Остановившимся взглядом он смотрел куда-то в сторону, мимо Барышни, словно бы искал за ней другого человека. Чтоб прекратить тягостное молчание и освободиться от этого взгляда, Барышня поднялась первой. Ведь легче перенести любой неприятный взгляд, чем тот, который упорно устремлен мимо вас. Тогда встал и офицер, сконфуженно откашлялся, взял со стола фуражку, легко и неслышно стукнул каблуками:
– Что ж, прошу прощенья. Благодарю вас, Барышня! Прощайте!
На следующей неделе сараевский «Боснише пост» поместил краткое сообщение, набранное петитом, о том, что обер-лейтенант Карасек «скоропостижно скончался в Tap-чине, куда прибыл по делам службы».
Без особых расспросов Барышня узнала, что офицер отравился и что двое сараевских ростовщиков остались с безнадежными векселями на несколько сот крон. Она была довольна, что не дала офицеру денег; тот, разумеется, заплатил бы мелкие долги, а остаток бы растранжирил и через. два-три месяца сделал бы то же самое, с той лишь разницей, что в роли основного кредитора выступала бы она. И все же ей было неприятно вспоминать об офицере, о его механических, безжизненных ответах, мертвенных и кратких, как эхо, о его невидящем взгляде. Долго после этого она нет-нет да и вспоминала обер-лейтенанта. Обычно это случалось в ту минуту, когда она отказывала кому-нибудь в ссуде, произнося свое привычное: «Нет и никогда не было». Тогда ее внезапно охватывал страх, что человек сейчас встанет, стукнет каблуками и скажет: «Что ж, прошу прощенья. Благодарю вас, Барышня! Прощайте!»
Между тем человек поднимался по-другому, говорил другие слова, и тягостное воспоминание исчезало.
Барышня злилась на себя, старалась забыть офицера и все-таки не могла до конца освободиться от этого бессмысленного и мучительного страха и, провожая очередного посетителя, часто с содроганием ждала, что тот сейчас по-офицерски стукнет каблуками и скажет знакомые слова. Понадобилось много времени, чтоб этот случай совершенно изгладился из ее памяти.
Вначале в потоке посетителей еще выделялись и стояли особняком клиенты с редкой и любопытной судьбой, но с течением времени все они плотно слились в одну длинную и беспорядочную вереницу людей, в серую, безликую и безымянную массу, жаждущую денег.
Впрочем, Барышня скоро и сама убедилась, что так продолжать невозможно. Она не могла принимать посетителей дома. Дело и без того получило огласку (правда, говорили не вслух, а шепотом и только в определенном кругу). Старые друзья отца несколько раз предостерегали ее на этот счет. Тогда клиенты перестали появляться и в доме и в лабазе у Весо; теперь их направляли на улицу Ферхадии, в крохотную лавчонку сараевского еврея Рафо Конфорти. Сюда шли те, кто «временно» находился в стесненных обстоятельствах и нуждался в небольшой ссуде «на неделю», то есть те, кто был готов по истечении недели за каждые десять крон вернуть двенадцать или, если это им не удавалось, за каждую просроченную неделю выплачивать еще одну крону с каждых десяти до тех пор, пока не будут погашены долг и проценты целиком. Эта была та самая смертоносная западня, которая мотам и людям, находящимся в острой нужде, представляется спасительной помощью и избавлением.
Посетителей принимал Рафо, хотя ни для кого не было тайной, что деньги, даваемые здесь на таких условиях, принадлежат Барышне, равно как никто не допускал мысли, что они могут быть Рафины.
Рафо Конфорти, румяный, полный, до времени отяжелевший, вырос в нищей, многодетной семье портного; поступив учеником в галантерейную лавку, он скоро начал торговать от себя, хорошо одеваться и вынашивать смелые планы будущего обогащения. Среди тогдашних сараевских евреев-сефардов он пользовался репутацией предприимчивого, хотя и несерьезного малого с чересчур живым и буйным воображением. Уйдя от галантерейщика, он завел на улице Ферхадии собственное дело. В маленькой, наполовину пустующей лавчонке торговали всем, чем придется. Обычно Рафо закупал партии устаревших, лежалых, но когда-то модных товаров и продавал их, широко пользуясь незнакомой в то время у нас рекламой, устной и письменной. Товар он выкладывал на двух широких прилавках перед лавчонкой. Стены и окна сплошь увешивал красными и зелеными плакатами: «Пользуйтесь случаем! Снижаем цены! Пользуйтесь случаем! Только сегодня!», «Дешевая распродажа! Не упустите случая!». А самую большую рекламу создавал сам Рафо. Толстый, краснощекий, улыбающийся, он кружился волчком, образуя вокруг себя водоворот смеха и гомона, и то и дело прикладывал к груди растопыренную ладонь, повторяя: «Честью клянусь! Да не видать мне счастья!»
Что бы ни произошло в городе, какое бы слово ни обронил прохожий, – все для него было поводом для шутки, разговора, перебранки и рекламы.
– Не обманывай людей, Рафо! – бросит мимоходом какой-нибудь шутник, глядя, как Конфорти нахваливает двум нерешительным покупателям старые галстуки.
– Что, что?
Рафо немедленно покидает клиентов, устремляется на середину улицы и, ударяя ладонью о ладонь, загораживает прохожему дорогу. Его черные испанские глаза заливает влажное сияние, он потрясен до глубины души.
– Что? Мы обманываем? Мы? Да не видать мне счастья, если мы не продаем с десятипроцентным убытком! – кричит Рафо, говоривший о себе всегда во множественном числе.
– Ладно, Рафо! Понятно! – отвечает прохожий, пытаясь продолжить путь, но Рафо хватает его за руки.
– Что понятно? Что понятно? Идем в лавку, я тебе покажу фактуру. Фактура скажет! А ну, давай спорить! Пятьдесят крон даю, пятьдесят моих бедняцких против твоих пяти купеческих, что торгуем себе в убыток.
Рафо подбегает к прилавку, театральным жестом подхватывает галстук и сует его под самый нос прохожему.
– Видишь? Да пусть он в дерьмо превратится, если не в убыток торгуем. Зайди, говорю, и посмотри фактуру, и, если я вру, все раздам народу даром.
Люди останавливаются, хохочут, наслаждаясь сценой, которая повторяется довольно часто. Но всегда находится такой, кто видит ее впервые, и всегда кто-нибудь да раскошеливается.
Таковы были первые шаги Рафо Конфорти. С годами он остепенился, обрюзг и отяжелел, особенно после того как три года назад женился на девушке из весьма состоятельного и очень почтенного семейства. Женился он тоже необычно. Живой юноша приглянулся на одной еврейской вечеринке в Травнике красивой девушке, единственной дочке в семье. Родители не хотели и слышать о Рафо, и свадьбу пришлось справить уходом, без всякого приданого. Умыкнули девушку по всем правилам, со стрельбой (разумеется, в воздух), погоней и полицией. Молодым удалось добраться до Сараева, и родителям не оставалось ничего другого, как согласиться на их брак. Теперь у Конфорти уже двое детей. Однако тесть окончательно их еще не простил. Помогать помогает, но немного и только через третьих лиц.
Конфорти был одним из первых Райкиных клиентов в пору, когда он только завел лавку. Вначале она ссужала его небольшими суммами, не очень доверяя ему и требуя многочисленных гарантий. Но скоро выяснилось, что при всем своем шутовстве он не такой уж пустозвон и обладает гораздо большими способностями, чем казалось на первый взгляд.
Еще два года назад, в самом начале их знакомства, Рафо проявил себя человеком полезным и дальновидным.
В октябре 1908 года он зашел к ней однажды под вечер, чтоб попросить отсрочки очередного платежа.
Дни стояли необычайно ясные и погожие. Окно было открыто. Теплую ночь наполнял странный шум, вторивший их монотонным подсчетам. Воздух дрожал торжественно и жутко. Во всех католических церквах били колокола. Воздушные волны от колокольного звона сталкивались и мешались с громкими и величавыми звуками гимна, который невидимая толпа распевала на центральных улицах, во тьме теплого, почти летнего вечера.
Барышня прислушалась.
– Слышите? Вы знаете, что это такое? – спросил Рафо тихо и взволнованно, подавшись в сторону, откуда доходил шум.
– Да, знаю… аннексия, – ответила Барышня довольно равнодушно.
– Да, объявили аннексию Боснии и Герцеговины, но сразу же началась мобилизация, Teilmobilisation.[7] Войска направляют на сербскую и русскую границы. Теперь самое время покупать дукаты.
– Да это все знают и все делают.
– Нет, видите ли, это не совсем так, – прервал ее Рафо, – не совсем так. Не все об этом знают, а из тех, кто знает, не все делают. Люди глупы, Барышня, а к тому же ленивы и нерадивы. Да и мало у кого есть наличные деньги. Вот и я знаю и вам говорю, а покупать не покупаю – не на что. У вас деньги есть, Барышня, заклинаю вас, купите как можно больше золота, раз вам бог дал и вы можете. Пустите всю наличность, не пожалеете. А через месяц посмотрите, будет война или нет. Если будет, оставите золото у себя вместо бумажных денег, а нет – продадите с прибылью. Послушайтесь меня, говорю вам как друг, не пожалеете. Если хотите, и я могу для вас купить. И без всяких условий, сами потом решите, смотря по барышам.
Конфорти говорил, взволнованно размахивая руками, глаза его сияли и от возбуждения чуть косили, он страшно сожалел, что сам не располагает деньгами на это прекрасное и верное предприятие.
И Барышня потихоньку, с большими предосторожностями стала скупать дукаты, больше всего у мусульманок.
(Позднее она жалела о своей осторожности и медлительности.) Покупал ей дукаты и Рафо. А примерно в январе следующего года, когда кризис, вызванный аннексией, достиг своей высшей точки, Рафо, как хорошая легавая, неожиданно дал знак продавать золото. Барышня колебалась, упиралась: цена на золото продолжала неуклонно расти. Но Рафо нетерпеливо и настойчиво советовал ей спустить его как можно скорее, потому что через неделю другую всем будет ясно, что до войны дело не дойдет, и тогда цена на дукаты начнет быстро падать. Барышня выбрала средний путь, на какой часто становятся женщины и трусливые натуры, – одну часть продала, получив тридцать – сорок пять процентов барыша, а другую на всякий случай попридержала. Через две недели цена на золото действительно стремительно упала, но ей все же удалось спустить остальные дукаты с десятью – пятнадцатью процентами прибыли. Это снизило средний процент барыша от всей операции, но в то же время показало, что на Конфорти можно положиться. За комиссию Барышня заплатила ему один процент.
Вот этот самый Рафо теперь, в начале 1910 года, взял на себя переговоры с Райкиными клиентами. Около его лавки давно уже нет гама и крикливых афиш, и живет он отныне не шумными распродажами, а шепотными сделками, невидными и неслышными. В лавке есть товары, есть и молодой приказчик, но главным делом занимается сам Конфорти. Он сидит за стеклянной перегородкой, где стоят письменный стол, маленькая печка и большой несгораемый шкаф. Сюда приходят люди, которым нужна срочная ссуда, шепчутся с газдой Рафо, оставляют под залог драгоценности или векселя, получают деньги и выходят с чувством огромного облегчения. Таковы все моты – когда, гонимые нуждой или страстью, они находят то, что им нужно, им кажется, что все мучающие их проблемы решены кардинально и навсегда.
А раз в месяц Рафо, коротконогий и грузный, отправляется на другой конец города, к Барышне. Это самый длинный путь, который он проделывает, и настоящий подвиг, подобно тому как расчеты с Барышней – самая тяжелая часть его работы. Ибо при расчетах с Барышней, которая, как клялся Рафо, «видит все насквозь», не помогают ни клятвы, ни божба, ни самые искренние заверения, ни самые выразительные жесты, – она верит только точным и реальным цифрам.
Балканская война 1912 года принесла новый кризис и одну из тех перемен, при которой одни теряют, а другие выигрывают. Барышня и на этот раз была в числе тех, кто выиграл. На паях с Конфорти она снова провела несложную и выгодную операцию с дукатами, которые они скупали у вдов и сынков турецких бегов, привыкших жить на широкую ногу, не работая и не зарабатывая. Куш, однако, теперь сорвали гораздо меньший, так как границы нынешнего кризиса не были столь резко обозначены – с началом, очевидным для всех, и концом, легко предсказуемым; путаный и скрытый, кризис проникал во все области жизни, вроде бы исчезал, снова появлялся, и конца ему не было видно.
Годы проходили для Барышни быстро и незаметно. Время мучит и изнуряет лишь тех, кто занят мелкими заботами о собственной персоне и собственных удовольствиях, но оно пролетает незаметно для тех, кто, забывая о себе, отдается любому, превосходящему его силы делу. А когда человек живет смелой и несбыточной мечтой, время и вовсе перестает для него существовать.
А Барышня уже много лет живет одной великой мечтой, затмившей и сделавшей второстепенным все остальное в ее жизни. Ее давнишнее желание – отомстить, рассчитаться за отца. Раз она не в силах была спасти его, она по крайней мере, не оглядываясь по сторонам, не жалея ни себя, ни других, будет выполнять отцовский завет так, как она его поняла. Эта ее мечта, неприметно для нее самой, с течением времени росла и изменялась – менялись цели, к которым стремилась Барышня, и средства, которыми она пользовалась. Теперь у этой мечты было даже имя, она звалась: Миллион.
Как-то Райка прочла, что один американский миллиардер, бывший некогда продавцом газет, сказал: «Надо добыть первый миллион, дальше все просто. Лишь тот не миллионер, кто не хочет им быть. Надо хотеть. В этом все дело». Легкомысленное и, возможно, выдуманное газетное сообщение озарило и вдохновило Барышню. То, к чему она издавна стремилась и о чем мечтала, получило вдруг свое наименование. Миллион! Вот что светило ей теперь как звезда, которая не гаснет ни днем, ни ночью, ни даже во сне. Устремив взор к этой далекой золотой цели, она трудилась и скопидомничала, мечтала и грезила в своем пустом доме, становившемся все более похожим на могильный склеп. До цели далеко, очень далеко, но тем слаще бере-женье и важнее любой прибыток. Немногие люди находят в себе силы и в мире – возможности идти к этой цели, но неизмеримо меньше тех, кому дано этой цели достигнуть. Она это хорошо понимала, но в то же время знала и чувствовала, что значит идти такой дорогой. Ни один из тех, кто окидывал ее на улице изумленным взглядом или судачил о ней с соседями, даже не подозревал о ее мечте. А Барышня, живя ею одной, проходила мимо людей как мимо покойников. Из всего того, что происходило и около нее, и в большом мире, что двигало людьми, в том числе и самыми ей близкими, что вызывало какие-то перемены и события в странах и народах, она слышала и воспринимала лишь то, что было связано с ее мечтой – бесконечную, сложную, вечную перепалку приходов и расходов.
Для нее давно уже существовало два мира, совершенно различных, хотя и связанных друг с другом. Во-первых, наш мир, тот, что весь мир зовет миром, – шумная и необозримая земля, люди со своими судьбами, инстинктами, стремлениями, думами и верованиями, со своей вечной потребностью строить и разрушать, с непостижимой игрой взаимного притяжения и отталкивания. И во-вторых, мир денег, царство наживы и накопительства, невидное и тихое, лишь немногим известное, бескрайнее царство безмолвных битв и вечных замышлений, в котором властвуют два немых божества – счет и мера. Неслышный и невидный, этот другой мир ничуть не меньше, ничуть не однообразней и ничуть не беднее первого. И в нем есть свое солнце и звезды, свои рассветы и сумерки, свои взлеты и падения, свои урожаи и недороды, и им двигает великая таинственная сила глубокого жизненного начала, на котором все зиждется, вокруг которого все вращается и о котором простой смертный может только подозревать и догадываться. И это темное подпольное царство она считала лицом мира, а первый – его изнанкой.
В нем проходила ее действительная жизнь, ему принадлежала она всем своим существом. А в нашем мире ее жизнь во многом напоминала жизнь аскета, давно и прочно установившего мистическую связь с неким божеством и целиком себя ему посвятившего, – он еще вынужден ходить среди нас, но это явление временное и преходящее; ходит он легко и свободно, с неизменной улыбкой на губах, ибо для него все, что лежит за пределами его мира, заслуживает лишь улыбки, с какой взрослые смотрят на детские игры и забавы.
И действительно, события, которые приносили с собой дни, месяцы, годы, для Барышни были только невнятным звуком и далеким туманом. Ее связи с миром и людьми свелись к минимуму, который определялся необходимостью. Давно были отвергнуты последние претенденты на ее руку. Несмотря на ее замкнутый характер и странную манеру одеваться, и в ее доме, по крайней мере в первые годы, появлялись женихи. Их было несколько, совсем разных, – начиная с учителя арифметики, скромного и застенчивого человека, кончая торговцем, молодым вдовцом с двумя детьми. В одном лишь судьба их оказалась одинаковой: Барышня отказала всем, коротко и без долгих раздумий, не обращая ни малейшего внимания на укоры матери и опекуна.
Точно так же она давно прекратила всякие сношения не только с досужей молодежью, но и со своими замужними сверстницами. А своим образом жизни и поведением оттолкнула от себя всех родичей. Они перестали приглашать ее к себе, ходить к ней и, если бы не мать, вообще не переступали бы порога дома. Барышня не пыталась скрыть своего полнейшего равнодушия к ним, к их мнениям и словам. А думали и говорили они о ней скверно, бранили ее поведение, болезненную скупость, позорное ростовщичество. Тетка Госпава, низенькая, полная, грубоватая и шумная женщина, арбитр и рупор всех Хаджи-Васичей, а также дюжины родственных домов, на семейных сборищах обычно говорила так:
– Не знаю, что выйдет из этой девочки. Растет, как дичок, вдали от дороги, никому от нее и тени нет. Не знаю, не знаю! Как у таких родителей могло уродиться этакое?
Говоря о Райке, родичи не переставали спрашивать себя, в кого она пошла. И при этом всегда вспоминали ее прадеда по матери, покойного газду Ристана.
Еще были живы люди, которые помнили этого де-родного и гордого старика с холодным взглядом и цепкими руками; в жизни он ценил только две вещи: деньги и свое доброе имя, а имя он снискал себе главным образом скряжничеством. Когда его просили о чем-нибудь по дружбе, он отвечал: «Да разве ты мне друг? Друг тот, кто у меня ничего не просит». Он сам ежедневно отправлялся на базар и покупал все припасы для дома. И гордился не столько своим солидным и весьма разветвленным делом, сколько тем, что никто лучше него не умел купить дешево да сердито и что не родился еще тот крестьянин или горожанин, который сумел бы его провести. Когда он шел на базар за яйцами, он брал с собой специальное железное колечко: яйцо, проходившее в него, откладывал в сторону. И пока он перебирал яйца в крестьянской корзинке, лавочники с почтением показывали своим сыновьям и приказчикам на сурового и непреклонного старика:
– Видел, как дело делают и деньги наживают?
Однако газда Ристан, при всей своей бездушной скупости и алчности, умел, когда этого требовали обстоятельства и честь дома, тряхнуть мошной, принять гостей с такой широтой и радушием истинного хозяина, что его грош, казалось, весил больше, чем иной дукат. А Райка жалась и скряжничала, не глядя ни на обычаи, ни на родовую честь, и скорее смахивала на польского еврея, чем на девушку из почтенного купеческого дома. С тех пор как стоит Сараево, никто не помнит, чтоб женщина сама вела дело, распоряжалась деньгами, ценными бумагами и была вот такой бережохой и выжигой. Такого никогда не бывало ни среди православных, ни среди католиков, ни среди мусульман. «Надо же, чтобы этой печальной новиной и великим позором судьба покарала нашу семью», – говорили озадаченные родственники. Больше всего ей ставили в упрек обращение с матерью. Кое-кто даже уговаривал старую хозяйку бросить дочь и перейти к родным, но она не захотела – так и сидела безвылазно в своей комнате, напуганная и одинокая, до времени состарившаяся, угасая, подобно бесправному и безгласному невольнику. На праздники ее навещала какая-нибудь старуха родственница или приятельница, и она тихо и бесслезно плакала, но никогда ни на что не жаловалась.
В городе за Райкой утвердилась нимало не лестная и редкая репутация – сначала странной и безобразной девочки-чудовища, а затем барышни-ростовщицы, человека без души и сердца, своего рода феномена, что-то вроде современной ведьмы.
Еще в первые годы после смерти отца, сводя вместе с Весо баланс, Райка урезала все расходы на благотворительность, которые при жизни газды Обрена были довольно значительны. И с каждым годом продолжала их урезывать, пока однажды не решила вовсе от них отказаться. Весо, не одобрявший и многих других поступков Райки, на этот раз решительно воспротивился:
– Нельзя так, Райка, человек не один на земле, нельзя без людей жить.
– Можно, раз нужно. Нет денег, и все.
– Погоди, деньги ни у кого на полу не валяются, но, если уж так заведено, надо дать.
– Вот ты и давай.
– Я-то дам. Но и ты должна дать. Для твоей же пользы советую!
– Благодарю за совет. Мне лучше знать, что я могу, а что нет.
Ее ледяное спокойствие приводило маленького человека в ярость.
– А мне все кажется, ты сама не знаешь, что говоришь.
– Знаю прекрасно.
– Ну так не знаешь, что о тебе говорят.
– Меня это не интересует.
– Вот и видно, что ума у тебя меньше, чем ты думаешь. Был бы жив покойный хозяин…
– Ты прекрасно знаешь, почему его нет в живых.
Погоди. Я все помню, но ты ведь ни в чем не знаешь меры. Вечно прячешься за предсмертный завет отца, но то, что я вижу, это не благословение, а проклятие. Многих твоих поступков покойный газда никогда бы не одобрил, не мог он этого желать и требовать! Просто полюбились тебе деньги, поработили они тебя, взнуздали; прикрываешься отцовской волей да именем, а сама потакаешь своей причуде. Попомни мои слова: деньги еще не всё. Плох купец, что честью платит за богатство. Пусть хоть миллион добудет, слишком дорого он ему встанет.
Барышня высокомерно, с горьким презрением окинула взглядом этого карлика, который осмеливается ей говорить о миллионе. А Весо продолжал с металлом в голосе, который появляется у низкорослых и безусых мужчин в минуты гнева:
– Можешь думать что хочешь и поступать как тебе заблагорассудится, как ты и раньше поступала, но я говорю тебе: плохо твое дело, и ты еще раскаешься в том, что натворила, да боюсь – поздно будет! Думаешь, ты первая открыла, как из одного гроша сделать два? Много было таковских, но никто не помнит, чтоб такая деньга долго продержалась. Раньше, позже, а дьявол свое возьмет.
Подобные ссоры повторялись часто, но ничто не могло убедить Барышню и заставить ее отступиться от своей цели. И те, кто собирал по сараевским лавкам пожертвования в пользу благотворительных и патриотических обществ, из ее лавки и ее дома выходили с пустыми руками.
Она упрямо отказывалась давать хоть кому-нибудь что-нибудь. Скоро в сараевских газетах стали появляться заметки, явно намекающие на ее способ обогащения.
«Српска рийеч» поместила статью о том, что некоторые потомки основателей и покровителей ряда сербских заведений в Сараеве пренебрегли прекрасной традицией и, погрязнув в меркантилизме и гнусном себялюбии, забыли о своем долге перед народом и народными обществами. Социал-демократическая газета «Слобода» открыто обрушилась на Барышню, когда та отказала в пожертвовании на больных детей рабочих, и назвала ее «Шейлоком в юбке».
Газда Михаиле, ее бывший опекун и директор банка Пайер уговаривали Райку опомниться, дать хоть безделицу, как делают все, и вообще не чураться людей, не отгораживаться от всего света. Однако Барышня твердо продолжала держаться своего образа жизни, идти своей дорогой, с полнейшим равнодушием относясь к людскому мнению, не имея ни времени, ни охоты о нем размышлять.
А годы шли. Барышня до времени приобретала все более законченный вид резкой и чудаковатой старой девы жизнь ее проходила между домом и лавкой, вся в заботах о деньгах и денежных операциях, без развлечений и общества, без какой-либо в них потребности. Единственное место, куда она ходила регулярно, не преследуя деловых целей, была могила отца. Каждое воскресное утро, не глядя на погоду, она шла на кладбище в Кошево. Мать она никогда с собой не брала.
Люди уже привыкли к ее странному облику, который особенно резал глаз в погожие, солнечные дни, когда улицы заполняла оживленная, празднично разодетая толпа. Высокая, хмурая, с мужской поступью, она и манерой держаться, и платьем резко отличалась от нарядных женщин, неумолчно щебечущих на прогулке или по дороге в церковь. На ней всегда один и тот же темно-серый костюм мужского покроя, на голове – допотопная черная шляпа, на ногах – стоптанные туфли на низком каблуке. Люди на улице и даже на самом кладбище провожали ее косыми, испытующими или откровенно любопытными взглядами, но ей до них было столько же дела, сколько до чужих покойников, лежавших на кладбище.
А стоило ей сесть на скамеечку перед отцовской могилой, как тут же захлопывалась последняя дверь, отделяющая ее от людей. Здесь ничто не нарушало ее одиночества.
Кругом тихо. Города не видно, потому что кладбище расположено в глубокой долине среди зеленых холмов. Время от времени тишине вторит (вторит, а не нарушает ее) далекий мягкий звон колоколов городских церквей, горизонт чуть разнообразят белые летние облака, степенно и величаво проплывающие по небу. Но Барышня всего этого не видит. Она видит только могилу.
Могила обложена дерном и окаймлена белым камнем; в головах – небольшая мраморная плита с крестом, перед ней роза, посаженная в землю прямо в горшке. Сквозь зелень на плите можно прочесть сделанную золотом надпись: «Здесь покоится Обрен Радакович, торговец. Преставился 45-ти лет от роду».
Долго, пристально и неотрывно смотрит Барышня на эту надпись, пока в глазах у нее не зарябит и буквы, смешавшись со слезами, не сойдут со своих мест и не превратятся в золотые искорки. Тогда она опускает глаза и погружается в себя, становясь недоступной для внешнего мира. Уйдя от него, она разговаривает с могилой. В согнувшемся, скрюченном теле неудержимой волной поднимается нежность – чудесная, невидимая, но могущественная сила, которая живет в женщинах, этих слабых созданиях, и пробивается в самых разных формах, порождая и губя жизни и судьбы. Задыхаясь от нахлынувших чувств, Барышня прерывисто дышит в сжатые кулаки и проникновенно шепчет:
– Отец! Отец! Отец!
В переливах голоса, когда она произносит это простое слово, – все ступени нежности, сострадания и жалости, на какие только способна женщина в разных обстоятельствах и в разные периоды своей жизни. Однако вслед за первым взрывом долго скрываемых и нерастраченных чувств является мысль – простая, сильная и неумолимая, как холодный ангел с огненным мечом в руке.
Отца, вечного и единственного предмета ее нежности, нет. Он убит подло и безнаказанно, убит, потому что не умел защищать и беречь свое, потому что потакал своему жалостливому сердцу, считался с людской честью и достоинством, по-рыцарски храбро и безрассудно помогал в беде любому, входил в положение каждого, пока однажды, взглянув наконец на себя, не обнаружил, что у самого ничего нет. Это его судьба, и это ее жизнь; так случилось, что ее жизнь оказалась неразрывно связанной с его смертью.
Здесь Барышня обычно поднимала голову, подавляла в себе все чувства, успокаивалась и, устремив сухие глаза на мраморную плиту, начинала свой безгласный отчет могиле. Она мысленно отчитывалась перед ней во всем, что сделала в течение недели, а также рассказывала и поясняла свои планы на следующую неделю, требуя одобрения сделанному и благословения задуманному.
В полдень она поднималась и шла назад, в город. Улицы тогда бывали особенно оживленными, и ее странная фигура еще сильнее бросалась в глаза, но она шла, ни на кого не глядя, и лишь про себя говорила: «Вот те люди, что убивают добрых и честных и пресмыкаются перед черствыми и наглыми». Ободренная утренней беседой, она чувствовала, как душу ее наполняет спокойной силой равнодушное презрение к толпе, – ведь уже сейчас люди не могут ей ничего сделать, и они непременно падут к ее ногам, когда она окажется в своей крепости, имя которой Миллион. Барышня шла решительной походкой, и ей чудилось, что она не только в мыслях своих выше этой убогой мятущейся толпы, но что она и в самом деле ступает по ней, как по муравейнику.
IV
Воскресенье 28 июня 1914 года ничем не отличалось от всех предыдущих воскресений, разве только какой-то сонливой вялостью, с какой Барышня собиралась на кладбище. Она дольше обычного простояла у открытого окна, глядя на противоположный берег Миляцки с ее зелеными кручами. С неба еще не ушли румяные отсветы зари, и над городом стояла утренняя свежесть, но на другом берегу Миляцки, на набережной, было уже оживленно. Сновали пешеходы, громыхали коляски, с шумом проносились автомобили – в них сидели люди в ярких парадных мундирах, которые, казалось, расцвели на летнем солнце. Барышня смотрела на улицу, но все проходило мимо ее сознания, как мутный сон. Она была поглощена другим, более жизненным видением, видением приснившегося ей этой ночью сна. И, стоя у окна, глядя на просыпающийся в сиянии летнего дня город, она еще жила этим невыразимо сладостным сном, расплывчатым и несвязным. Она не могла бы пересказать его, дать в нем отчет даже самой себе, но с той ночи, когда она его впервые увидела, этот сон не выходит из ее головы ни днем, ни ночью, и особенно он ярок утром, когда впечатления от ночных видений еще не тронуты и не стерты дневной сумятицей.
Не впервые ей снился сон о сне ее жизни – Миллионе. С разной силой и в разных вариантах не единожды за последние годы виделось ей ночью одно и то же: ее состояние достигло миллиона и тут же за него перевалило. И каждый раз, как и в минувшую ночь, она чувствовала при этом, что всю ее заливает и пронизывает упоительное теплое сияние. Неиссякаемый источник этого сияния, которое приносит столько радости и счастья, был в груди – где-то под самым горлом, и, когда она клала на это место руку, а потом подносила ее к глазам, ей чудилось, что рука отливает золотом и серебром, что это сияние – не жидкость и не газ, а что-то среднее между ними и что оно, словно некая добрая и могущественная сила, поднимает человека над землей, защищает и охраняет его от всевозможных бед и унижений. Омытая и пронизанная этим сиянием, она и не ходит и не летает; ее парение – где-то между горделивой поступью и чудесным полетом. Миг, когда, ощутив себя владелицей миллиона, она почувствовала, что отныне она уже не разделяет судьбы большинства людей, что она теперь не подвластна законам борьбы, которая изматывает и губит недостойную чернь, был мигом полного счастья. И весь следующий день она жила под впечатлением этого сна, и на всем – на мыслях, на счетах, на окружающих ее предметах, на ней самой – ей мерещились время от времени отблески таинственного и прекрасного сияния, только очень быстрые – быстрее молнии, так что о них можно скорее догадываться, чем их увидеть.
Вот и сегодня выдалось такое утро. Барышня, одетая, дольше обычного стояла у открытого окна; хотя она давно проснулась, она с трудом освобождалась от власти своего сна и все не решалась приступить к делам, которые принес день; сейчас она походила на других женщин и девушек, что проводят время у открытого окна, погрузившись в мысли о радостях или горестях любви.
Глядя на оживление, царившее на противоположном берегу реки, она вспомнила, что на днях в газетах писали о прибытии в Боснию престолонаследника Франца Фердинанда и о приготовлениях в Сараеве к его встрече. Собственно, самого сообщения она не читала, просто на первой полосе ей бросились в глаза крупные заголовки приветственных статей. В отличие от прочих людей, первые страницы газет она просматривала мельком, внимательно же читала только последнюю, где помещались объявления об аукционах, распродажах и займах, об изменениях курсов ценных бумаг и валюты. На сладостное воспоминание о ночном сне, заставившее ее недвижимо стоять у окна, черной тенью легла мысль о газетах. Она никогда их не любила, всегда страшилась их, как чего-то ненужного и опасного, а в последнее время совсем возненавидела И, как мы видели, не без оснований.
Настроение сразу испортилось. Барышня отошла от окна и стала собираться на кладбище.
Она вышла из дому и, подойдя к мосту, увидела на другом берегу вереницу автомобилей, расцвеченную яркими пятнами парадных офицерских мундиров. Автомобили мчались по набережной к центру города. Пока она переходила мост, они уже скрылись из виду. А когда она вошла в узкую улицу, на которой находились два высоких правительственных здания и которая выводила на Кошевское шоссе, из города донесся сильный глухой взрыв. Барышня подумала, что в автомобильной процессии мог быть престолонаследник и что это, наверное, артиллерийский салют в его честь.
На кладбище она пробыла, по обыкновению, до полудня. На обратном пути ей показалось, что улицы как-то странно оживленны и что люди стремительно разбегаются по домам. Но это наблюдение занимало ее всего лишь минуту, и она тут же забыла о нем. Углубившись в свои мысли, опустив глаза в землю, ни на кого не обращая внимания и не видя ничего вокруг, она той же дорогой вернулась домой, не заметив, что на обоих балконах правительственного здания развеваются черные флаги, которых утром, когда она шла на кладбище, не было.
Лишь только они с матерью кончили свой скромный воскресный обед, в ворота постучали. Это был Рафо Конфорти. Удивленная неожиданным визитом в столь неурочное время, а еще больше необычным видом и поведением Рафо, Барышня, не здороваясь, ввела его в дом.
– Видите, Барышня, видите, что случилось, – взволнованно повторял он, и глаза его растерянно бегали.
– Что такое?
– Как? Вы не знаете? Не знаете? О-о-о, произошло несчастье, Барышня, несчастье для всего мира. Покушение. Убили эрцгерцога и эрцгерцогиню, жену эрцгерцога, и еще нескольких человек.
Рафо говорил возбужденно, руки у него дрожали, и от собственных слов в глазах стоял страх.
– Да кто убил? Каким образом? Когда?
– Ах, какой-то сербский школяр.[8] Гимназисты, студенты, а убили здесь вот, на набережной, у Латинского моста, обоих. Помилуй бог, помилуй бог! – вздыхал Рафо.
С минуту молчали.
– Собственно, я пришел сказать вам, Барышня, чтоб вы были осторожны, в лавку не ходите, берегите и себя и госпожу, потому что неладное готовится, неладное…
– Да что нам кто сделает, газда Рафо, двум несчастным женщинам! Нас это все не касается, вы же знаете.
Рафо нетерпеливо отмахнулся:
– Знаю, что не касается, да видите, что творится. Страшное дело! Тронфольгер!.[9] В городе всякое говорят. Помилуй бог! – И, пригнувшись к ней, испуганным шепотом добавил: – Народ поднялся, грабят, палят. Католический священник в проповеди призывал все сербские лавки порушить. И домам грозил, говорят. Помилуй бог. Люди рассказывали. Мне жалко вас и госпожу, потому и пришел вас предупредить. Лучше всего, Барышня, сидите дома. И видеться нам не нужно, пока неурядицы не кончатся. Понимаете? Сидите и молчите. Мол-чи-те! А я пришлю человека на случай, если у вас в чем нужда будет.
Так Рафо и простился – со страхом в глазах, приложив палец к губам. Только оставшись одна, Барышня почувствовала в душе смятение. Ни слова не сказав матери, она подошла к окну и стала смотреть на противоположный берег Миляцки. Все было на своем месте, как и прежде, людей не меньше и не больше, чем в обычное воскресенье в эту пору, и тем не менее набережная казалась ей теперь какой-то преображенной, новой: в воздухе был разлит страх и неизвестность, хоть она не могла бы объяснить, откуда это и почему.
Вторая половина дня в воскресенье всегда тянется дольше, чем в будни, но сегодня она тянулась особенно долго.
Наконец солнце, утонув в собственном пламени, спустилось за деревья под Хумом. Барышня не разрешила зажечь в доме свет и села вместе с матерью у отворенного окна. Воздух был еще напоен ароматами знойного дня и пыли. Раздавался глухой погребальный звон колоколов. Его перекрывали резкие, пронзительные, словно железные удары большого колокола католического собора. Теперь Райка вынуждена была сказать матери, что произошло и какая угроза нависла над сербскими домами и лавками. Сердобольная старая госпожа заплакала, как плакала она, впрочем, и по другим, менее значительным поводам. Барышня утешала ее небрежно и рассеянно, и та продолжала плакать. Гул колоколов доносился с далекой Ваньской горы и из Конака, а в коротких интервалах крутые горы под Сараевом отзывались протяжным и странным эхом, как бы отвечая этой металлической музыке смерти и смятения. Время от времени в эти звуки врывался дружный и слаженный рев толпы, которая где-то в центре города возвещала одним славу, другим – погибель. Спускался мрак, наполненный духотой, необычайными звуками, торжественным и жутким предчувствием грандиозных и роковых событий. В городе зажглись огни, а две женщины по-прежнему сидели у окна, непривычно близко друг к другу, и настороженно прислушивались.
Мать громко вздыхала, что у женщин всегда предвещает горестные разговоры. Барышня рассердилась. Ей не хотелось даже думать о каком-либо разговоре.
– Иди и ложись, – резко сказала она матери, – ничего не будет, не бойся.
– Не знаю, дочка, что будет, одно знаю, не к добру гибнут большие господа.
– Ложись спать, мама. Нас это совершенно не касается, – повторяла Барышня, а сама прислушивалась к голосам темной дали, словно проверяя правильность своих слов.
– Ах, дочка, касается, еще как касается! Опять несчастным сербам достанется.
Барышня молчала, и разговор прекратился.
Долго еще женщины вслушивались в ночь, а ночь эта, когда стих колокольный звон и замолкли крики манифестантов, стала казаться гораздо тише прежних, потому что ниоткуда не доносилось ни звука – ни музыки, ни песен, обычно раздававшихся летом далеко за полночь. Всюду властвовала тишина, на которую сильные мира сего, умирая, обрекают еще на какое-то время больший или меньший круг живых. Наконец обе женщины легли. Мать, томясь во тьме без сна, оплакивала свою горькую вдовью долю, сокрушаясь не только о «несчастных сербах», но и чуть ли не обо всем мире, – неслышно, без шума и крика, как все, что она делала и переживала в жизни. А дочь в Это время читала путевые заметки одного немца. (Описания путешествий – единственные книги, которые она покупала и регулярно читала, в которых искала и находила нечто такое, что имело довольно неопределенную, но крепкую связь с ее жизнью, особенно если это были книги о путешествиях по неизвестным континентам или об открытиях неведомых богатств и новых рынков.)
Вскоре она погасила свет и заснула.
Проснулась Барышня на рассвете, свежая, успокоенная, бодрая, без всяких следов сонливости, словно она вовсе и не спала. Она лежала, плотно сжав губы и сведя брови, и пристально глядела в темноту за окном, начинавшую редеть и рассеиваться.
Рассветное бдение! С давних пор у нее завелась привычка в эту пору решать все те вопросы, для которых ни днем, ни ночью не могла найти решения. Настало время рассчитаться и со страхом, что занес в их дом Рафо. На рассвете человек чувствует себя словно заново рожденным, ум его юношески свеж, но умудрен опытом. Весь мир, каким она его видела и воспринимала, каким она могла его увидеть, трудясь в поте лица ради осуществления сна своей жизни, вставал перед ней и определял ее действия по отношению ко всему и всем. Барышня чувствовала наступление кризиса, при котором трудно приобретать и богатеть, но легко тратить, и восставала против него всем своим существом, с самых ранних лет отданным одному предназначению.
Что произошло? Убили престолонаследника. Несомненно, это сильное потрясение, значение которого выходит далеко за пределы города и затрагивает разные и гораздо более значительные интересы, чем ее собственные. Это ей ясно, но она не в состоянии примириться с фактом, что в мире существует что-то такое, что смеет без всякой ее вины ставить под угрозу ее состояние и нарушать ее планы. И вообще, что для нее так называемые «общие проблемы», «политические события» и «национальные интересы»? От всего этого, как от чего-то чуждого и далекого, она всегда старательно уклонялась. Все это существовало для нее лишь постольку, поскольку могло принести барыш или, на худой конец, не причинить убытков. А что такое эти студенты? Длинноволосые юнцы, которых она встречала на набережной, – праздные, важные, загадочные; они ходили, подняв воротники легких зимних пальто, в широкополых черных шляпах, которые, казалось, заставляли их сгибаться.
При чем тут она? И почему все это вместе взятое: престолонаследник, политика, студенты – должно и для нее означать убытки, опасность или хотя бы застой в деле, которое никогда не имело со всем этим ничего общего? Ее это абсолютно не касается. Барышня решительно отбрасывает все происшедшее и думает лишь о том, каким образом она перешагнет через все это, обойдет, как любое другое препятствие на пути. Для нее невыносима мысль, что ее дело и ее интересы могут оказаться в зависимости от сил, ей совершенно неподвластных, что и она должна разделять злую судьбу своих соплеменников. «Что мне до сербских студентов?» – гневно спрашивала Барышня серые сумерки, смотревшие на нее из окна. В ней поднималось неудержимое желание раз и навсегда освободиться от всяких связей и обязательств, чтоб никто не имел права от нее чего-либо требовать, подобно тому как она сама никогда не чувствовала себя с кем-либо связанной и никогда ничего во имя этих связей не требовала.
Внезапно она поднялась и села в постели. Нет, никогда, ни за что на свете она не окажется на стороне, которая несет убытки. Все сделает, но этого никогда не допустит. «Никогда», – повторяла она горячим шепотом, ударяя кулаком правой руки по тюфяку, словно выковывая свое решение.
Барышня решила отправиться в десятом часу в банк, найти Пайера, проверить у него основательность опасений Рафо и попросить совета, как поступить, чтоб избежать потерь и убытков. Но не в силах усидеть на месте, она вышла на улицу, не дождавшись девяти. Мать глядела ей вслед, не смея ничего сказать; Барышню так рассердил и раздражил ее слезный и испуганный взгляд, что она с шумом захлопнула за собой дверь.
Пошла она не по берегу Миляцки, а по параллельной улице – длинной, всегда тихой и будто заспанной, которая называлась улицей Терезии. По редким прохожим она не заметила ничего особенного.
Сараевские утра и в самую жару полны утренней свежести гор. В эту пору легко дышится и хорошо ходится. Барышня быстро дошла до моста на Чумурии. Уже на другом берегу показалось большое белое здание банка «Унион», когда из глубины Чумурии донесся рев толпы, похожий на вчерашний. Первые манифестанты высыпали на набережную. Барышня встала за деревом, решив повернуть назад, если толпа направится через мост к ней, или идти дальше к банку, если она двинется вверх или вниз по берегу.
Нужны вот такие дни, чтоб увидеть, кем населен город, рассыпанный, словно горсть зерна, по крутым скатам окрестных гор и в долине около реки. Нужно случиться событию, подобному вчерашнему, или хотя бы и менее значительному, чтоб обнажилось все, что скрыто в людях, которые обычно работают, бездельничают или нищенствуют на крутых и кривых улочках, напоминающих водомоины. Как во всяком восточном городе, в Сараеве была своя нищенствующая голытьба, то есть тот сброд, который, по видимости акклиматизировавшись, десятки лет живет тихо и обособленно, но который при определенных обстоятельствах согласно законам некоей неведомой общественной химии внезапно объединяется и вспыхивает, как затаившийся вулкан, изрыгая пламя и грязную лаву самых низменных страстей и нездоровых желаний. Этот люмпен-пролетариат и голодные городские низы составляют люди, которых отличают друг от друга верования, привычки и одежда, но объединяют врожденная вероломная жестокость, дикие и низменные инстинкты. Приверженцы трех главных религий, они с рождения и до самой смерти живут в постоянной взаимной вражде, вражде безрассудной и глубокой, перенося свою ненависть и в загробный мир, который видится им в блеске собственной победы и славы и постыдного поражения соседей-иноверцев. Они рождаются, растут и умирают с этой ненавистью, с этим чисто физическим отвращением к людям другой веры; но часто жизнь проходит, а им так и не представляется случая излить свою ненависть во всей ее ужасающей силе. Однако стоит какому-нибудь крупному событию поколебать установленный порядок вещей и на несколько часов или несколько дней прекратить действие закона и разума, как этот сброд, вернее, часть его, найдя наконец подходящий повод, заполняет город, известный своей утонченной вежливостью и сладкоречием. Долго сдерживаемая ненависть и затаенное стремление к насилию и разрушению, которые до сих пор владели только чувствами и мыслями, выбиваются на поверхность и, словно огонь, долго тлевший и наконец получивший пищу, завладевают улицами, плюют, измываются, крушат до тех пор, пока их не сломит более мощная сила или пока они не перегорят и не ослабеют от собственного бешенства. Затем они снова уползают, поджав хвосты, как шакалы, в души, дома и улицы, где, притаившись, снова годами живут, прорываясь лишь во взглядах, брани и непристойных жестах.
Этот-то сараевский бес ненависти, который веками культивировался разными религиозными учреждениями, развитию которого благоприятствовали климатические и общественные условия и способствовал ход истории, вырвался сейчас наружу и обрушился на улицы современной части города, построенной для других целей, других порядков и другого обхождения.
В толпе было до двухсот возмутителей спокойствия, мусульман и католиков, в большинстве своем бедно одетых и истощенных, со следами несчастья или порока во внешности и поведении. Они нестройно кричали: «Долой!» и «Да здравствует!», подстрекаемые человеком, одетым немного лучше и очень похожим на полицейского в штатском. Затянули было неумело, грубыми неразвитыми голосами государственный гимн, но ни складу ни ладу не получалось. Впереди двое несли портрет императора Франца Иосифа – цветную репродукцию в раме, явно взятую из какой-то конторы. То были сутулые оборванцы с низкими лбами и мутным взглядом. Промыкавшись всю жизнь где-то на окраине, в нищете, они сейчас, неся портрет императора по главным улицам города, были одновременно и смущены, и вызывающе горды. Впопыхах они перевернули портрет вниз головой, но зато крепко вцепились в него своими огромными, приученными к другой работе ручищами, как негры, несущие своего божка. Двигались медленно, как в церковной процессии, бросая из-под смятых шляп злобные взгляды с беззастенчивой наглостью людей, которые хорошо знают себе цену, но которые так же хорошо знают, что сегодня им все позволено. Портрет старика с белыми баками и лысиной, продолжающей лоб до бесконечности, затянутого в белый мундир с золотыми пуговицами, с красной лентой и цепочкой орденов и медалей, блестящий и парадный, был в вопиющем несоответствии с этими двумя сараевскими босяками, убогими и жалкими, крепко прижимавшимися к нему, словно вторая – живая – рама.
После недолгого замешательства и сутолоки, вызванной тем, что первой паре велели перевернуть портрет как положено, процессия двинулась по набережной. Барышня дождалась, пока толпа, пройдя мимо ее гимназии, не скрылась за ней, и пошла через мост к банку.
Фасад белого красивого здания банка «Унион» протянулся вдоль набережной на восемнадцать метров. В нижнем этаже располагались служебные помещения, и все шторы были в тот день спущены, а в двух верхних этажах, в больших квартирах, самых дорогих в Сараеве, уже много лет жили адвокат и врач. Канцелярия директора банка помещалась в глубине дома и имела отдельный вход с узкой и коротенькой улочки по другую сторону здания. Лишь иностранцы да новички проходили к директору через главный подъезд, друзья же и знакомые пользовались входом с этой маленькой безымянной улочки. Тесная передняя вела непосредственно в просторный кабинет, полутемную и сыроватую комнату, в которой почти весь день горело электричество. Но и ей Пайер сумел придать своеобразный и приятный вид, как любой, даже самой маленькой вещице, к которой прикасалась его рука. По стенам висело несколько ярких акварелей с лесными пейзажами и охотничьими сценами; одинаковые по величине, они, очевидно, принадлежали одному художнику. В летние дни здесь было прохладно, а зимой в большой изразцовой печке потрескивали тяжелые буковые поленья. На полу, целиком застланном серым сукном, у двери лежали боснийские ковры, а около письменного стола, в глубине комнаты, – персидский. На большом столе не было ни беспорядка, ни холодной пустоты банковских конторок. Здесь стояли фотографии госпожи Пайер, черноглазой женщины с фигурой пантеры, и сына, красивого мальчика в форме пансиона, где он учился; подле бронзовой статуэтки оленя помещалась зеленая стеклянная ваза, в которой почти круглый год были цветы или ветки. Позади стола, на глубоких стеллажах, поблескивали золотые корешки расставленных длинными рядами книг.
Сейчас в конторе было прохладно и сумеречно, будто в часовне. Цветы в зеленой вазе завяли. Банк, как и другие учреждения и лавки, по случаю траура не работал. Директор зашел сюда лишь на минутку по пути в церковь, где должна была состояться торжественная месса по жертвам вчерашнего покушения. Он уже стоял в позе человека, собирающегося уходить. На нем был черный сюртук. Высокий белый воротник и черная манишка придавали ему торжественный и необычный вид. Широким дружеским жестом, не соответствующим этому его виду, он предложил Барышне сесть, а сам остался на ногах, прислонившись к письменному столу и скрестив руки на груди. Барышня кратко рассказала о том, что услышала от Рафо, и поделилась своими опасениями за дом и состояние.
– Вы знаете, что я к этим вещам не имела никакого отношения, всегда держалась в стороне и как раз у сербов была на плохом счету. И газеты на меня нападали.
Пайер кусал верхнюю губу, что было самым сильным признаком нетерпения, какой только можно было у него увидеть.
– И вот я пришла спросить у вас, как мне поступить. Я готова на все. Может быть, надо сделать какое-нибудь заявление или что-то в этом роде; может быть, что-то пожертвовать… Я сама не в состоянии решить.
Пайер опустил руки, подошел ближе и склонился над креслом, в котором она сидела.
– Послушайте, Барышня…
Когда-то он звал ее по имени; позже, когда ему приходилось разговаривать с ней по поводу ее своевольных поступков и ростовщических операций, он стал называть ее «Барышня». В ослеплении страсти, не дававшей ей возможности увидеть другие, гораздо более серьезные вещи, она не замечала того, что последние годы ее уже и не зовут иначе.
– Послушайте, Барышня, – продолжал Пайер, – мне представляется, что этот ваш Конфорти напугал вас больше, чем следует. Я знаю, что все, происходящее сейчас, неприятно и тяжело и что будет еще тяжелее и для всего мира, а особенно для сербов, но зачем опережать события и отрекаться от своего народа, когда никто от вас этого не требует? Да хотя бы и потребовали, вы дочь Обрена Радаковича и не должны так поступать, – ведь ваш отец, будь он жив, наверняка никогда бы так не поступил. Вы сербка, и в этом нет ничего постыдного. Напротив. Мой вам совет – ничем не выделяться, в том числе и лояльностью Пусть вас не сбивает с толку и не пугает эта толпа, не делайте ничего такого, из-за чего потом вам было бы стыдно и о чем пришлось бы сожалеть. Не вечно же они будут вопить на улицах. Пока сидите дома, а если что понадобится, приходите или вызовите меня, и мы посоветуемся.
Пайер говорил, понизив голос, в глазах его мерцало легкое смущение.
Барышня вышла неудовлетворенная и неуверенно зашагала к своей лавке. Не в ее привычках было наблюдать за улицей и людьми вокруг себя и делать выводы из этих наблюдений, но на этот раз она весьма внимательно озиралась по сторонам. Лавки стояли закрытые, однако это не придавало улицам праздничного вида. Прохожих было меньше, тишина – глубже. Улицы выглядели так, словно их за ночь замела и вычистила какая-то необыкновенная буря, оставившая после себя пустоту и страшное предчувствие нового вихря. На крышах и в окнах появлялись все новые черные флаги. В начале Большого Чурчилука находилась ее лавка – ее не тронули, тяжелая железная дверь, как и на прочих лавках, была закрыта крест-накрест двумя железными поперечинами. Не задерживаясь, она пошла почти пустыми улицами дальше, на Варош. Весо она застала в тесном, круто поднимающемся дворике, благоухающем цветами, сверкающем чистотой брусчатки и белых стен. В глубине двора, на камнях, покрытых белыми простынями, была разложена лапша. Весо, совершенно одетый – только на ногах были белые носки и шлепанцы, – сидел на камне и прутиком отгонял кур, покушавшихся на лапшу. Барышню возмутила эта мирная идиллия, в которой не было и следа ее забот и волнений.
– Весо, я пришла, чтоб решить, как нам быть с лавкой.
– Я и сам собирался проведать вас. Лавку я закрыл, как было приказано и как все прочие сделали. А там посмотрим…
– Как это «посмотрим»! Разве ты не видишь, что разгулявшийся сброд разоряет сербские дома и лавки? Надо что-то делать.
– Что же можно делать?
– Ну, можно черный флаг вывесить. В других лавках ведь вывешивают.
– Можно-то можно… – протянул Весо.
– Можно и должно.
– Да надо посмотреть, как поступят другие сербы, другие торговцы, а потом уж и нам по их примеру.
– Какое мне дело до других? Другие могут, если хотят, шею себе ломать, что они уже и начали, а я не хочу, чтоб мою лавку спалили или мой дом разграбили.
– Погоди, Райка, не одна наша лавка на свете, рядом тоже люди живут, как будет с другими людьми, так и с нами.
– Какой свет? Какие люди? Мне деньги дает не свет и не люди, а мое дело. Разорюсь – никто ко мне не придет и не спросит, как я и что со мной.
Она говорила быстро, еле сдерживая возмущение.
– Я, Райка, не пойду против людей; как поступят другие, так и я.
Пораженная, Барышня взглянула на Весо внимательней. Был он, как обычно, маленький и сморщенный, в шлепанцах, с прутом в руках и тем не менее какой-то торжественно спокойный и по-мужски твердый. Он стоял прямо, словно его хилое и тщедушное тело поддерживал стальной скелет.
Неожиданное самообладание этого обыкновенно слабого человека и его непробиваемое хладнокровие повергли Барышню в смятение и негодование. Резкие и гневные слова рвались с ее губ, сталкиваясь и преграждая друг другу путь. И как раз тогда, когда она собралась решительно заявить, что она будет поступать так, как считает нужным и как требуют ее интересы, и что поведение сербских торговцев ее мало трогает, сверху, из дома, послышался резкий женский голос:
– Кыш, накажи вас бог! Кыш, подохнуть бы вам до времени! Весо, господь с тобой, не видишь, что ли, – куры лапшу клюют? Кыш, кыш!
На пороге стояла жена Весо, Сока, такая же маленькая, как и он, в белом переднике, чистенькая и аккуратная. Взмахивая руками, измазанными в муке, она гнала кур, которые действительно, воспользовавшись разговором Весо с Барышней, подошли и начали клевать лапшу, разложенную на простынях. Весо усиленно замахал своим прутом, и куры кинулись врассыпную. Сока подошла поздороваться с Райкой.
Этим незначительным волнением в миниатюрном хозяйстве миниатюрной супружеской пары и был завершен визит Барышни к Весо. Она поспешно и рассеянно простилась, решив про себя, что от этого человека в теперешних обстоятельствах ждать нечего и что надо во всем положиться на себя, на собственные силы и собственный разум.
Когда женщина, подобная ей, слепо и непреклонно устремляется к одной цели, для нее не бывает ничего тяжелого или невозможного. Хотя лавки были закрыты, а люди напуганы и разъединены, Барышня уже до обеда нашла все, что требовалось: на ее доме и на лавке повисли черные флаги. Вывесила она их не первая, но снимет – последней.
V
В жизни каждого человека есть темные периоды, о которых память большей частью молчит или говорит очень мало. Таким периодом в жизни Райки были четыре года войны. Эти четыре года походили на живой и странный сон с сильными ощущениями полета и страха, омраченный в конце невзгодами, убытками и страшной горечью. Характер этой горечи Райка и сейчас не может толком уразуметь, но она ее уже никогда не оставит.
Совершен торжественный перенос тела убитого престолонаследника и его супруги на железнодорожную станцию. Прокатилась мощная волна арестов и репрессий. Местная печать выкричалась в специальных выпусках и крупных заголовках, а темные или фанатичные манифестанты – в лозунгах, которых они и сами хорошо не понимали. После нескольких тяжелых и кипучих дней неожиданно наступила необычная тишина, точно после оглушительного взрыва. Эта тишина была не просто отсутствием шума, бурных и волнующих событий и громогласных демонстраций. Это была активная тишина, в нее люди напряженно вслушивались, ожидая новых потрясений, хотя в ушах еще не совсем замерло эхо только что минувших. Этой тишиной кто-то дирижировал, кто-то нуждался в ней, но никто ей полностью не доверял, каждый старался поймать скрытый, неуловимый звук и по нему угадать, «во что это выльется».
В этой тишине Барышня чувствовала, себя как в родной стихии. Она не задумывалась, что скрывается за ней, не спрашивала себя, что ожидает город, горожан и всех соотечественников. Главное, что не стало криков, сумятицы, неудержимых и беспорядочных метаний толпы. Главное, что опять можно думать о делах, подсчитывать, налаживать возврат ссуд, мечтать о будущем. Правда, торговцы сбиты с толку, в банке сдержанны, суровы и молчаливы, словно на бесконечной литургии. Словом, все озабочены.
А на иных лицах можно заметить неизбывный страх и слезы. Это сербы. Но все это Барышня не принимает и не желает принимать в расчет. Она знает только, что на улицах больше не стреляют и не кричат и что не громят дома и лавки. Ни одно из ее опасений не оправдалось. Ее дом и лавка не подверглись разорению и не пострадали. Никто ни в чем ее не обвинял. Она была довольна. Все прочее ее не заботило.
Ее сердило лишь, что никто не мог полностью разделить с ней ее радости, спокойствия и жажды деятельности У всех отсутствующий взгляд, ни от кого слова не добьешься. Даже Рафо Конфорти еще не пришел в себя. На все вопросы он отвечал неопределенно, а все предложения отвергал туманными словами:
– Хорошо, Барышня, надо только подождать, пока все немного уляжется, там посмотрим.
А сам явно думал о другом.
Так прошел примерно месяц, а затем тишина, словно в огромном оркестре, действительно оборвалась и обернулась общим движением и грандиозным грохотом. Первой загремела печать. А за ней пришли в движение массы, повалили события, небывалые по своему характеру, в невиданных до сих пор формах и масштабах. Звонили колокола, громыхали военные оркестры, бухали пушки. Воздух непрестанно дрожал, и эта дрожь сливалась с тревогой, которая тайно или явно охватывала всех жителей злосчастного города. Снова стали выходить специальные выпуски газет с буквами величиной в палец.
События не следовали одно за другим, а сталкивались и перескакивали друг через друга. Ультиматум Сербии объявление войны, потом вступление в войну почти всех великих европейских держав, одной за другой. Все это усиливало сотрясение воздуха и общую тревогу, вызванную самыми разными причинами.
Растерявшаяся Барышня никак не могла прийти в себя и понять что к чему. Она пошла к Рафо Конфорти и застала его, к своему удивлению, бодрым, жизнерадостным и деятельным. Он больше не ждал развития событий. Что должно было случиться, случилось. У него только один совет, один лозунг – покупать. Кто быстрее купит и дольше всех продержит купленное, тот понял дух времени, тот выиграет и устоит при любых переменах.
– Что покупать? – спросила Барышня расслабленным голосом, со страхом глядя на Рафо, который словно вырос, окреп и обрел что-то новое.
– Все, Барышня. Кирпич купите сейчас, полежит он у вас месяц-другой, получите восемьдесят процентов чистой прибыли.
И Рафо действительно покупал. Среди прочего и кирпич, который он брал на кирпичном заводе у Илича в Кошеве, рядом с кладбищем. За Рафо, скромно и незаметно, отваживаясь лишь на небольшие операции, следовала Барышня. Мало-помалу она становилась деятельнее и смелей. Поиски возможных сделок, мучительные и долгие раздумья, перепродажи, страх, который обычно сопровождает спекуляции и который всегда одинаков – и при выигрыше и при проигрыше, – все это целиком забирало ее время и поглощало ее внимание. Крупные события и громадные перемены, происходившие как во всем мире, так и здесь, у нее на глазах, она видела, словно сквозь сон, смутно и неясно.
А мир сотрясали огромные движения масс, первые военные столкновения, газетные известия, походившие на вопли, невероятные угрозы и неожиданные повороты. И здесь, в самом Сараеве, рядом с ней, происходили невиданные и небывалые вещи. Люди жили стремительно, бурно, страдая и мучаясь явно и тайно. Город наполнили резервисты. Одни были еще в своей крестьянской одежде, другие потели в серых и синих мундирах и новых башмаках. Толкались на улицах, орали песни с натужным воодушевлением, кричали, ругались, пили, курили и хотели одного – забыться. На улицах валялись раздавленные фрукты, арбузные корки. Во всем чувствовалось болезненное стремление гулять напропалую. А рядом – подлинная нужда и горе. Сербов снова хватали и сажали в импровизированные тюрьмы, и теперь уже не только молодежь и студентов, но и солидных торговцев, мирных чиновников. Аресты производились не по решению суда, не по какому-либо закону, который можно было бы понять, а слепо, неудержимо, наудачу.
Все, что устрашало и внушало тревогу людям, достигало наконец и до Барышни, на мгновение выводило ее из равновесия и отвлекало от дел, но потом снова исчезало, усилием воли оттесненное в глубины сознания. Все, что для других людей составляло суть и смысл жизни, для нее было лишь помехой, не дающей ей спокойно жить и мирно трудиться. Особенно бесили ее вести и разговоры о непрекращающихся арестах и преследованиях сербов. Они донимали ее даже дома. О них непрестанно говорила мать; глаза ее покраснели и губы распухли от плача, потому что семьи их ближайших родственников тоже пострадали, в некоторых взяли всех взрослых мужчин. Мать ходила туда выразить соболезнование, возвращалась разбитая, как с похорон, и рассказывала подробности – как вели себя полицейские при обыске и аресте, кто был нагл и груб, кто вежлив и предупредителен; что они говорили и что им отвечали; что арестованный взял с собой и что он сказал перед тем, как его увели в тюрьму.
Барышня слушала ее со скучающим видом, негодуя про себя, мечтая о том, чтоб та замолчала или хотя бы переменила тему разговора, но что-то в ее душе – какая-то стыдливость и робость – мешало ей оборвать старушку. А та шепчет сквозь слезы, не в силах закончить свое повествование, ставшее для нее неодолимой, болезненной потребностью. Вернется, например, от соседки Лепши, вдовы Луки Павловича, долго не может прийти в себя, сидит, не раздеваясь, и слова и слезы текут сами собой.
– Ох, несчастная Лепша, до чего дожила – не дай бог никому! Единственного сына увели супостаты – плачь теперь по нем на старости лет! Ох, беда, беда! Рассказала мне все, как было. Проводила его, говорит, до ворот, а он, как выходить со двора, обернулся и говорит: «Не плачь, мать, не радуй супостатов и не смей обивать пороги да просить за меня; правда на моей стороне, и мне ничего не сделают!» А я, говорит, скрепила сердце, пытаюсь улыбнуться, чтоб он меня такой запомнил, смотрю на него и не вижу; его уж увели, а мне все кажется, что он еще стоит у ворот, улыбается и что-то говорит мне.
Барышня поспешно поднимается и выходит словно по делу. С каждым днем ей все ненавистней эти рассказы о мученичестве и героизме; все это представляется ей чрезмерным, напрасным и вредным, но сказать об этом открыто у нее не хватает храбрости. Такое случалось с ней редко. Во всех прочих делах она с матерью не церемонилась, но в этом случае, так же как в свое время с нищими, она не смела противоречить ей открыто. Барышня только старалась не быть дома, когда к ним приходили женщины, у которых кого-то арестовали, потому что тогда не было конца этим разговорам, чередовавшимся с плачем и вздохами, а она считала их недостойной и зряшной тратой времени, и они вызывали у нее странное и смешанное чувство презрения, скуки и вины. Она искренне ненавидела то, что называют «пустой болтовней», еще большую ненависть испытывала к кофе и ракии, которые при этом регулярно подавались, но сильнее всего Барышня ненавидела пылкие излияния возвышенных чувств, в которых сама не могла участвовать.
Однако при столь исключительных обстоятельствах помешать этим посещениям и закрыть перед пострадавшими двери дома было невозможно. Даже у Барышни не поднималась на это рука, особенно когда дело касалось самых близких родственников.
Чаще других к ним приходила Дивна, ближайшая родственница и сверстница Райки, жена известного в городе доктора Иосифовича; у нее арестовали мужа и деверя. Дивна всегда была худощавой, а за последние несколько недель совсем высохла и почернела. В черном платье – она еще носила траур по матери, – с тяжелой волной черных неубранных волос, нависших над большими воспаленными глазами, она вела себя как героиня трагедии. Поздоровается с Райкой, кинув на нее невидящий взгляд, сядет рядом с матерью, но и с ней почти не говорит, только слезы текут и текут, а она их даже не утирает, лишь время от времени отворачивается в сторону. Мать на тысячу ладов старается утешить ее, успокоить, а Барышня терзается про себя, что не может найти для нее ни ласкового слова, ни улыбки.
Когда Дивна уходит, она сухо процедит несколько слов и спешит перевести разговор на другое.
– Никогда не видела, чтоб кто-нибудь проливал столько слез, – отзовется она холодно и неловко.
– Эх, дочка, о двоих она плачет: о муже и девере, и о каком девере!
И Барышня, почувствовав неуместность своего замечания, тщетно ищет слова, будто разговор ведется на иностранном языке.
Только уйдет Дивна, приходит тетка Госпава. И снова варится кофе, и снова идет разговор об арестах и насилиях. Правда, тетка Госпава – полная противоположность Дивне. Энергичная, боевая, она не плачет и не жалуется, но зато говорит, говорит без умолку и без оглядки. В самый день покушения арестовали ее сына – студента, изучавшего в Праге медицину, активного участника национально-революционного движения молодежи. Вскоре после этого был отстранен от должности и ее муж, крупный государственный чиновник, тихий, замкнутый и недалекий человек. Сейчас он сидит дома ни жив ни мертв, не в силах уразуметь, как такое могло с ним случиться, когда он «никогда ни во что не вмешивался».
Тетка Госпава отличалась безрассудной смелостью; она гордилась тем, что ее сын в тюрьме, и всем была готова повторять, что «сербский народ не лепешка, которую можно съесть за завтраком». Она сетовала на малодушие мужа, – сидит сиднем дома, а уж если решится выйти, идет опустив голову, точно преступник.
– Вот и сегодня утром говорю ему: что сидишь дома, прости господи, как баба какая. Пойди к людям. Только не ходи ты, ради Христа, по улице с таким видом. Увидит этот сброд, какой ты бледный да грустный, сразу поймет, что ты серб и боишься за свою жизнь. Нет, ты подними голову и смело шагай мимо этого сброда!
И тетка Госпава шпарит дальше, не щадя ни австрийских властей, ни мягкотелых сербов. Барышня находит какой-нибудь предлог и уходит в город. Впрочем, тетка Госпава никогда и не обращается к ней ни словом, ни взглядом, ясно, что всякий разговор между ними обязательно принял бы опасный оборот. («Дьявол оседлал ее душу», – говорит тетка Госпава, когда заходит речь о Райке и ее торговых операциях.)
Такие же неприятности случаются и на улице. Какой бы рассеянностью ни отличался человек, как бы ни были его мысли заняты делами, а глаза прикованы к земле, он не может совсем не видеть тех, кто проходит, вернее, кого проводят по улице. И если ты не видишь его, он видит тебя. Так и с Барышней. Только вышла из дому, перешла мост и направилась по широкой набережной к центру города, как из-за угла показалась группа людей в сопровождении жандарма и двоих резервистов в новой униформе. Барышня ускорила шаг и отвернулась, чтобы ненароком не увидеть среди арестованных кого-нибудь из знакомых. Короткая процессия уже миновала ее, как вдруг из последнего ряда раздался молодой веселый голос:
– Здравствуй, Райка!
Она искоса взглянула в ту сторону. Кричал ей ее родственник Константин Иосифович, долговязый, белокурый, курносый студент-техник. Он был без шапки, в расстегнутой рубашке, открывавшей загорелую шею. Этого насмешливого юношу она хорошо помнит еще с той поры, когда он ходил в гимназию и слыл отличным спортсменом и превосходным математиком. Барышня глянула на его улыбающееся лицо и быстро отвернулась. Но вслед ей еще раз раздался иронический и веселый возглас:
– Здравствуй, здравствуй!
Вот такие вещи на каждом шагу портят теперь человеку жизнь и не дают заниматься делом.
Так думала Барышня, и в то же время, независимо от ее воли, по спине полз холодный ужас перед властями, перед карой за неведомое ей самой участие в каких-то неведомых, но наказуемых действиях. И она с ненавистью думала об этом Константине, «который никогда не отличался серьезностью», о Иосифовичах, которые все словно дали зарок угодить на каторгу и утянуть за собой других, и обо всех этих арестах и мучениях, которые у одних вызывают слезы, а у других – улыбку. Барышня пригнула голову и быстро свернула в первую улицу налево, решив ни на кого не глядеть, никого не слушать, никому не отвечать – не позволять людям и обстоятельствам, с которыми она не имеет и не собирается иметь ничего общего, портить ей жизнь и нарушать течение ее дел.
Однако такое решение легче принять, чем осуществить. Аресты соотечественников, знакомых и родных, слезы и разговоры преследовали ее на каждом шагу, и она изо всех сил отбивалась от них и от всякой связи с ними. Вначале она убегала и пряталась, стараясь уклониться от неприятных и опасных столкновений и разговоров, или встречала их равнодушным молчанием. А когда это переставало действовать, она поднимала забрало и грубо отказывала в помощи даже самым близким людям, отрицая всякую связь с ними.
Осенью 1914 года, когда сербская армия приблизилась к Сараеву, власти отдали приказ об эвакуации жителей из укрепленного города.[10] Большая часть гражданского населения должна была быть отправлена в глубь страны. В городе оставляли только служащих государственных учреждений и тех, кто работал на армию. Барышне вместе с матерью удалось остаться в Сараеве.
Как только был выпущен первый военный заем, Барышня подписалась на сумму, которая всем бросилась в глаза. Местная печать ставила ее в пример, высоко оценивая ее поступок. «Хрватски дневник» воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть, что в среде заблудшей и обманутой сербской интеллигенции есть и «лояльные граждане восточно-греческой веры». Однако нигде не было отмечено, что Барышня весьма искусным маневром тотчас спустила облигации этого займа, причем на довольно выгодных условиях.
Она и дальше не упускала возможности выказать свою лояльность. Покупала флажки и разные значки стран Центрального блока и выставляла их в окнах своего дома, приобретала фотографии монархов и полководцев, стараясь, чтоб это и не обходилось дорого, и было замечено.
Дела ее разрастались и ширились. Первые месяцы смятения и сумятицы, когда люди жили не оглядываясь и тратили не считая, миновали. Шел 1915 год, и теперь уже всем было ясно, что война будет не легкой, не короткой и не такой веселой, как представлялось кое-кому в первые дни. Вся хозяйственная жизнь стала приспосабливаться и приноравливаться к новым условиям. Тот, кто понял это первым, обладал серьезными преимуществами перед остальными. Среди первых был и Рафо Конфорти. Он мало-помалу ликвидировал все дела, которые не были связаны непосредственно с военными нуждами. И когда подошел черед призываться его году, его освободили от службы в армии, как «unentbehrlich».[11] Подавляющая часть сербских торговцев еще раньше ушла с рынка, мобилизация забрала торговцев других вер и народностей. У Конфорти почти не осталось конкурентов, руки у него были развязаны. Он получал миллионные поставки. А за его спиной действовала и богатела Барышня.
Начало зимы в Сараево, расположенном на высоте пятисот метров над уровнем моря, у подножья высоких гор, всегда неприятно и тягостно. Сейчас же, на второй год войны, оно было во сто крат тяжелее обычного. Шел трудный, военный ноябрь, месяц, который любого приводит в трепет, а бедноту заставляет дрожать, как пшеницу под косой. Мрачный и холодный, он кажется почти сплошной ночью, лишь на несколько часов переходящей в туманные сумерки, а влаги в нем столько, что хватило бы на целую зиму. Город наполовину эвакуирован, зато улицы кишат солдатами всех родов войск, двигаются колонны русских и сербских пленных, арестантов и заложников. А над головами поблескивают штыки – немой, но красноречивый символ времени.
Войдя во все дома, во все дела и предприятия, война сбросила маску и в эти серые дни показала свое истинное лицо. Она была уже не опьяняющим движением масс, порывом к разрушению, столь схожим с порывом к созиданию, а горем и проклятьем как для мертвых вещей, так и для всего живого, и прежде всего для человека. И те, кто не так давно ликовал, подхваченный волной ненависти и уничтожения, теперь пали духом и словно физически сникли. Этой зимой война вступала в свой второй год, распространяясь, как эпидемия, которой не видно конца. Все новые возрасты призывались и уходили в армию. Военные действия в Галиции и на Украине пожирали боснийские полки. Наступали бедность и оскудение, и люди, еще не привыкшие к ограничениям и не способные к разумному распределению, видели в них начало лишений и голода. Заботы терзали и имущих и неимущих, и тех, кто мучился, и тех, до кого очередь мучиться еще не дошла.
В эти серые, короткие дни ноября Барышня ходила по сараевским улицам, сама серая и безучастная. Ее худая, угловатая фигура в черном, доверху застегнутом пальто, в черной шляпе мужского фасона как нельзя лучше соответствовала таким дням и таким временам. Однако в данном случае внешний вид мог привести к неправильным выводам. Кроме наружности, которая, впрочем, всегда была у нее одинаковой, ничто другое не связывало Барышню с тяжелыми временами и страдающим городом. Она даже мысленно не разделяла судьбы своих сограждан – ни тех, кто с первого дня подвергался разного рода гонениям за свое сербское происхождение иди свои взгляды, ни тех, кто явно или тайно стоял на стороне правительства, а теперь понял, что для демонстрации лояльности недостаточно бурных приветствий и манифестаций, а требуются и жертвы – кровь, деньги, имущество. Вообще для Барышни все, что происходило в городе и в большом мире, было чуждо, далеко и нереально. Политические столкновения и взрывы мирового значения, кровопролитные битвы на востоке и западе Европы были для нее лишь крупными заголовками на первых страницах газет. Все это были лежащие где-то в стороне темные, неясные нагромождения событий, среди которых она хладнокровно и осмотрительно выбирала прогалины и находила пути к своей цели. Никогда еще ей не представлялось так много этих прогалин, так много быстрых и легких путей к обогащению, как теперь, когда большинство людей подхватил и понес поток событий, а она шла своей дорогой, свободно и беспрепятственно, используя крепкие связи и благоприятные обстоятельства. И Барышня шаг за шагом продвигалась вперед, преследуя свои интересы в мелких и крупных делах с той же решительностью и энергией, с какой шагала в эти ноябрьские дни по улицам – не оглядываясь по сторонам, не спрашивая, откуда все это взялось, как и почему пришло, как долго продолжится и чем окончится. Даже всеобщие лишения, которые стремительно и для все большего числа семейств перерастали в бедствие, не очень занимали Барышню. С затаенным удовольствием и злорадством наблюдала она, как угасает веселье в кофейнях и на улицах, как все меньше блеска, развлечений и смеха в домах, как люди все глубже погружаются в нищету – своего рода непроизвольную скаредность, и как город и жители немеют и приобретают серый налет, а тем самым приходят во все большее соответствие с ее вкусами и наклонностями. Если бы слово «счастье» имело для нее какой-нибудь смысл, можно было бы сказать, что в те дни она испытывала настоящее счастье, счастье крота, слепо роющего в тишине и мраке рыхлую землю, в которой много пищи и нет ни препятствий, ни опасностей.
В этой атмосфере серости и молчания, когда никто не радуется, не тратит и не расточительствует, а она наживает и сберегает, словно участвуя в каком-то общем деле, конец которого не виден и не ясен, Барышня чувствовала себя в родной стихии. Всего, что могло вырвать ее из этой глухой и унылой тишины, она избегала как чего-то гадкого и ненавистного. Однако совсем избежать этого не всегда удавалось.
В один из пасмурных ноябрьских дней, зайдя на Чурчилук в лавку, Барышня застала Весо не на его обычном месте, а в самом дальнем углу, между кассой и старым шкафом. Сквозь полумрак она увидела, что маленький человечек тихо и безутешно плачет.
Опять слезы, да еще там, где ей меньше всего хотелось их встретить!
– Весо, что с тобой? – спросила она сухо и резко. Весо продолжал плакать, не отзываясь ни словом, ни жестом.
– Что случилось, чего ты плачешь? – нетерпеливо повторила Барышня.
Весо лишь показал рукой на вечерние газеты, лежащие перед ним. В них крупным шрифтом сообщалось, что сербская армия уничтожена и под натиском надвигающихся с севера и юго-востока немецких, австрийских и болгарских частей отступает в непроходимые горы, бросая по пути технику, раненых и больных. «Сербской армии больше не существует», – большими буквами было написано в самом верху газетной полосы.
– Перестань, Весо, слезами горю не поможешь. Весо, который до сих пор, стиснув зубы, лишь тяжелым и прерывистым дыханием выдавал свое волнение, неожиданно с горечью заговорил своим металлическим голосом.
– Как же не плакать? Эх, если бы и ты плакала! Всем нам надо плакать. Глаза выплачем, и того будет мало.
Она чувствовала, как в ней поднимается ярость против этого мужичонки, со слезами произносящего в ее лавке резкие и опасные слова, и как она перестает владеть собой.
– Если тебе хочется плакать, ступай домой и плачь там, а не в лавке, на виду у всех, – раздраженно и зло оборвала она Весо.
– Посмел бы, так и посреди площади плакал бы.
– Плачь где угодно, а я не желаю навлекать на себя подозрение и иметь дело с полицией. Понимаешь, не желаю!
– Не бойся, не бойся, – с горечью и презрением отвечал маленький человек, глядя на нее искоса и словно бы свысока. – Плакать не возбраняется. А к тому же ведь плачешь-то не ты, а я. Тебе ничего не сделают. Все знают, что ты ни о ком слез проливать не станешь.
– Это мое дело. Будь у тебя побольше разума, и ты не стал бы плакать.
– Я плачу, потому что серб не может не плакать. И не стыжусь этого. А куда тебя твой разум заведет, увидим еще. И сегодня мне приятней слышать, что я плачу оттого, что слаб и глуп, чем быть отступником и выродком вроде некоторых.
Бог знает, сколько бы продолжалась эта приглушенная распря в темном углу лавки, что бы они еще наговорили друг другу, если бы вошедший с улицы покупатель не прервал их спор.
Отношения между ними стали еще более натянутыми, чем прежде, но эта натянутость казалась обоим столь естественной и неизбежной, что нисколько их не тяготила, – каждый поступал так, как полагал правильным и единственно возможным.
Однако в длинной веренице картин и лиц того времени, которые она и сейчас отчетливо представляет себе по отдельности, но так и не может охватить в целом, выделяется фигура Рафо Конфорти.
Уже в конце 1914 года стали заметны перемены в его деловых связях, в манере говорить, в поведении, и с течением времени он изменялся все разительней. Барышня не могла бы сказать, как происходили и как развивались эти перемены, но она их ясно видела и прекрасно чувствовала. Вначале Рафо переживал подъем. Он быстро поднимался вверх, становясь в глазах окружающих, вопреки физическим законам и согласно общественным, не меньше, а больше. Перемены были столь стремительны и глубоки, что Барышня даже в памяти не могла вызвать облик довоенного Конфорти. В его манере держаться появились солидность, спокойствие и уверенность, в речах – скупость, в движениях – плавность. Ничто в нем не напоминало о горящих глазах и вздрагивающих от нетерпения руках, о лавинах заклинаний и уверений. Беседуя с ней, он бывал теперь учтив и предупредителен, но в то же время казался каким-то чужим, далеким и рассеянным, словно мысли его, зрение и слух занимало что-то гораздо более важное. Все бы вам отдал, только не свое внимание. Прежние деловые связи, мелкие ростовщические операции Рафо давно забросил, а его длинная старая лавка на Ферха-дии превратилась в один из его многочисленных складов. Сам Конфорти восседал в совершенно новых светлых комнатах Акционерного общества «Ткань». Восседал, когда не был в отлучке по делам общества в Вене, Праге или Будапеште. И каждый раз, возвращаясь из этих поездок, казался Барышне еще более далеким и рассеянным. Летом 1916 года он ездил с женой в Карлсбад и вернулся оттуда совсем умиротворенный и утонченный, словно бы умытый и побелевший.
На глазах Барышни он сколотил первый миллион, а за ним быстро последовал второй. Ее поражало, насколько все это не походило на ее сон о миллионе, даже отдаленно не походило. Все разворачивалось у нее на глазах, и тем не менее она мало что видела и мало понимала. Прежде чем она сумела в чем-либо разобраться, наступил спад. И, подобно тому как она не заметила начала подъема Рафо, она пропустила первые признаки его падения.
Пришла весна 1917 года, затяжная и трудная, когда в Боснии лишь одна семья из ста ела досыта и ни одна не имела всего, в чем нуждалась. В один из мартовских дней – серый и голодный с самого рассвета и до темноты – Конфорти «принял» Барышню для короткой беседы. Она пришла попросить совета и помощи – как ей быть с четвертым военным займом, объявленным в те дни. Она хотела и на этот раз подписаться на значительную сумму и тут же без большого ущерба сбыть облигации, но теперь это стало гораздо труднее.
Барышня не видела Конфорти целый месяц. Он сидел в тяжелом кресле, запрокинув голову и закрыв глаза, обведенные изжелта-синими кругами. При ее появлении он вздрогнул и выпрямился. С нескрываемым усилием он слушал то, что говорила ему Барышня о ничтожном дельце, ради которого пришла. Не дослушав до конца, Рафо вскочил с кресла:
– Хорошо, хорошо, это легко уладить. Хорошо, сделаем, как вы хотите.
А затем, расставив руки, принялся ходить по комнате и громко рассуждать без всякой связи с предыдущим разговором:
– Ах, все бы можно было уладить, все было бы просто. Но людям надо есть! С одеждой еще как-нибудь – залатаешь, перелицуешь, а что делать без обеда? Понимаете, Барышня, люди голодают, вот что самое ужасное; людям теперь не до войны, не до мира, не до торговли; это не жизнь, это погибель!
Барышня слушала, и глаза ее следовали за ним с одного конца комнаты на другой. Взволнованная речь, быстрые движения противоречили его теперешнему виду и поведению; словно вдруг из-под высокомерной маски преуспевающего буржуа выглянул прежний Рафо Конфорти с улицы Ферхадия. Она не могла понять этот неожиданный взрыв негодования, не могла взять в толк, какая связь между ее, Райки, делом и тем, голодают люди или нет. Никогда она об этом не задумывалась. Теперь она спрашивала себя, должна ли она что-нибудь сказать, но Конфорти, и не ожидая, что она ему ответит, по-прежнему шагал по комнате и продолжал озлобленно упрекать кого-то, находящегося далеко отсюда:
– Разум подсказывает, что народ прежде всего должен есть, а потом уже все прочее. Что взять с голодного человека? Душу? На что она нужна!
Он еще некоторое время мерил шагами комнату, потом внезапно остановился, взял себя в руки и попрощался с Барышней так же спокойно и рассеянно, как и встретил. Но Райка с того дня смотрела на него другими глазами.
С того дня она и сама начала внимательнее приглядываться к окружающему, чаще замечать следы голода, оскудения, упадка и недовольства на людях, в конторах, лавках. Этих следов оказалось больше, чем бы ей хотелось. Она видела их всюду, хотя не могла и не умела увязать их между собой, добраться до их сути. И это наводило ее на мысль, что и война не что иное, как огромное предприятие, дело, границы которого весьма неопределенны, но у которого, как у любого дела, есть своя бухгалтерия и свой конечный результат, зависящий от неумолимого соотношения убытков и прибылей. Все чаще думала она об исходе воины и о последствиях, которые она может иметь для нее и ее интересов. Все отчетливее представлялось ей, что «доброе время» близится к концу, что все вокруг нее снова приходит в движение и что эти два года – бурные и тяжелые для всего мира, а для нее спокойные и благоприятные – никогда не вернутся. В это время газеты писали исключительно о сражениях, люди были поглощены одними военными заботами, и никто не обращал внимания ни на тех редких людей, которые занимались каким-либо делом, ни на самое их дело, неброско растущее на свободе. Но сейчас на каждом шагу она видела и ощущала, что этому наступает конец, что неожиданно и неуклонно возвращается старая жизнь, а с нею все прежние треволнения, казавшиеся ей навсегда изжитыми. По мелким, но несомненным признакам она все яснее видела недоверие и неприязнь к себе даже самых близких ей людей.
К Весо в лабаз приходили молодые люди, которым удалось избежать армии, они подолгу тихо разговаривали, но стоило Барышне переступить порог, как разговор или вовсе прекращался, или становился натянутым и искусственным. Ее мать продолжали навещать родственники, у которых были арестованы близкие, но теперь они уже не плакали неслышно и беспомощно, а многозначительно посмеивались, поблескивая глазами. Дивна еще больше похудела и стала еще непреклоннее. Сняла траур. Не плачет. И муж ее и деверь в России. Первые месяцы войны их продержали в Араде,[12] потом, как офицеров запаса, мобилизовали и послали на русский фронт. Там они при первой возможности, чуть ли не в день прибытия, перебежали к русским. Сейчас оба в югославянской добровольческой дивизии. И военные и полицейские власти одно время преследовали Дивну и других членов семьи, снимали с них допросы, конфисковали имущество дезертиров, но это нисколько не поколебало ее спокойного упорства. И когда Дивну спрашивали, где ее муж и деверь, она отвечала:
– Там, где должны быть.
Тетка Госпава, которая и в самые тяжелые, первые годы войны была резка и невоздержанна на язык, сейчас судила обо всем смело и открыто. Сын ее был осужден на семь лет и сидел в Зенице, а она всем говорила, что совершенно за него спокойна, потому что знает, что он не отсидит и половины срока. Придя в дом и не успев еще сесть, она уже рассказывала своим глухим голосом, как вчера к ней пришли «какие-то фрау» из тех, что собирают пожертвования на Красный Крест, и как она не дала им ни гроша, объяснив, что «у нее в Зенице свой крест».
Барышня как могла уклонялась и пряталась от этих встреч, но сейчас она это делала с чувством страха и неловкости, с каким-то смятением в душе, которое раньше было ей неведомо. А признаки перемен, все более ясные и красноречивые, продолжали накапливаться.
Осенью 1917 года в Сараеве разместилось большое войсковое соединение, и офицеров приходилось ставить на частные квартиры, как это уже было в начале войны в 1914 году. Одного офицера направили в дом Радаковичей, хотя до сих пор их не трогали. Этот офицер, которого Барышне пришлось у себя поселить, был молодой военный врач, хорват, родом откуда-то из Славонии,[13] немного полный для своих лет, добродушный, разумный и простой в обхождении человек. Звали его Рокнич. Тихий и аккуратный, он не требовал никаких услуг, что несколько смягчило гнев Барышни на «Einquartierung»,[14] но в ее глазах он имел одно неприятное качество: очень уж любил поговорить, и особенно о политике. Барышне был неприятен и тягостен любой разговор, не касающийся ее интересов, а от политики она бежала с отвращением и суеверным страхом. И теперь она в полной растерянности слушала, как этот человек в мундире австрийского поручика беспечным и вкрадчивым тоном, со своим славонским акцентом говорит ее матери:
– Мне очень приятно, сударыня, что меня поставили в сербский дом. Я знаю, что пришлось и приходится переживать вам, боснийским сербам, но, пожалуйста, не обращайте внимания на мой мундир, я ношу его не по своей воле, и не считайте меня австрийским офицером.
Старая госпожа улыбалась той самой тихой улыбкой, которая у большинства Хаджи-Васичей появлялась на лице, лишь только они открывали глаза на свет божий. А Барышня была так поражена и напугана, что стремительно повернулась и ушла в свою комнату.
Но это было только начало. В свободное время врач без особых церемоний приходил к ним и запросто заводил беседу о всякой всячине. Стоило разговору перейти на войну и политику, как Барышня начинала морщиться, ерзать и искать удобного предлога, чтоб удалиться. Она пробовала спорить с ним, уверяла, что она и ее дом не имеют никакого отношения к политической борьбе, страданиям сербов и прочим подобным материям, что она довольна жизнью и нынешним состоянием дел. Врач смотрел на нее сквозь большие стекла пенсне чистыми голубыми глазами и говорил:
– Послушайте, сударыня, нет нужды вам так со мной разговаривать. Я убежден, что это не ваше мнение, если же я ошибаюсь, вы действительно исключение и стоите на совершенно ошибочном пути. Сейчас каждый разумный человек понимает, что странам Центрального блока войны не выиграть, что они потерпят поражение. И это хорошо. Хорошо для всего человечества, и спасение и счастье для нас, южных славян, потому что иначе мы исчезли бы с лица земли.
И молодой врач рассказывал, что он видел на русском фронте, где он провел весь 1915 год, и на итальянском, откуда вернулся сейчас. Рассказывал все, что знал о положении в мире, о деятельности сербского правительства на Корфу, о Югославянском комитете.[15] О победе Антанты и о поражении Германии и Австрии он говорил как о совершившемся факте, а объединение южных славян рассматривал как естественное следствие этих событий. Цитировал речи югославских депутатов в венском парламенте.
Все это для Барышни было ново и страшно; она всегда избегала даже думать о подобных вещах, а тем более говорить о них. В ней вскипал гнев на болтливого доктора, и она проклинала час, когда его поставили к ней в дом. Теперь она вынуждена была думать об этом и вынуждена была в душе признаться, что боится окончания войны и не хочет, чтоб война окончилась так, как это представлялось доктору. Перед сном к мыслям о деньгах и делах теперь часто примешивался страх, как бы и вправду все «не испортилось» и снова не наступили беспокойные времена газетных нападок и длинноволосых студентов, которые не думают ни о себе, ни о других. Засыпала она лишь после того, как усилием воли отгоняла от себя неприятные мысли.
Две недели спустя полный и словоохотливый доктор вместе со своей частью покинул Сараево, однако Барышня уже не могла не думать о конце и исходе войны. Ей казалось, что это будет страшный день, когда разорвется тишина, искусственно сохранявшаяся вокруг нее, когда с фронта, из тюрем и лагерей вернутся люди, предъявят счет и постараются вернуть себе прежние места. Реально она не представляла себе, как это произойдет, лишь чувствовала, что это повлечет за собой большие перемены и от каждого, в том числе и от нее, потребует тяжких жертв и неизбежной расплаты. А все, что она видела и слышала вокруг, только подхлестывало эти ее мысли и всякого рода опасения, мучительные расчеты и дурные предчувствия.
1918 год был уже из рук вон плохим. Люди устали и измучились от долгой зимы и скудного питания; война казалась в одно и то же время и проигранной и нескончаемой. Деловая деятельность перестала походить на прежнюю. То, что происходило теперь, было безумной пляской цифр, оголтелой погоней за припрятанными продуктами, кожей или тканями, паническим страхом перед бумажными деньгами, постоянным стремлением к надежному и сверхнадежному обеспечению в обстановке вечной ненадежности и неустойчивости. У кого была потребность в деньгах, хищная страсть к накоплению, здоровые ноги и крепкие локти, тот с боя брал свою долю прибыли с товара, на который в данное время спрос, и отступал с добычей в ожидании нового случая. Каждый стремился начать дело – солдаты, священники, кельнеры, недоучившиеся студенты, так что «профессионалы» не выдерживали и терялись в этой всеобщей давке.
Рафо Конфорти – Барышня теперь не выпускала его из своего поля зрения – олицетворял все эти дурные перемены. Вместе с войной угасали и он и все его величие. Дела его так же незаметно и стремительно, как некогда расцветали, теперь запутывались и мельчали; без всякой видимой причины, как бы само собой, все колебалось и таяло. Так же стремительно, но заметно Рафо изменяло здоровье. В нем подмечали все больше странностей, и все меньше он походил на Рафо Конфорти, каким он был в «добрые» военные времена. Каждый раз, когда он принимал ее, Барышня отмечала, что он худее и рассеяннее прежнего. Нужно было приложить немало усилий, чтоб заставить его обратиться к конкретному разговору о конкретном деле, ради которого она пришла. У него была неодолимая потребность говорить о голоде и нищете широких народных масс и о тяжелых последствиях, которые это будет иметь для государства, экономики и судеб отдельных людей. О чем бы ни начинался разговор, он непременно сводил его на эту тему. Было очевидно, что не он владел мыслью, а мысль владела им, постоянно и немилосердно преследуя его и угнетая. Когда он не говорил об этом, он погружался в мрачное молчание и потерянно глядел в одну точку.
Все чаще можно было прочесть в газетах, что господин Рафо Конфорти подарил Народной кухне или сиротскому дому бочку масла или вагон капусты. В последнее время он даже начал скупать продукты, чтоб только иметь возможность по несусветно низким ценам продавать их народу. Снова ожила его старая лавка на Ферхадии. Перед ней выстраивались длинные очереди людей, жаждавших «по цене газды Рафо» получить немного еды. Приказчики с трудом справлялись с взбудораженным и голодным людом, а Конфорти по нескольку раз на день звонил по телефону из своей конторы в «Ткани», расспрашивая, сколько ждет народу и как идет продажа. А бывало, он терял терпение, оставлял свою уютную, теплую контору и, словно кто за ним гнался, бежал в лавку, чтоб на месте во всем разобраться и раздать бесплатно остатки продовольствия самым бедным.
Барышня не понимала, что творится с Конфорти, но видела, что от него нельзя больше ждать ни помощи, ни совета, ни разумного делового разговора. Никогда раньше она и представить себе не могла, чтоб этот человек, энергичный и ловкий, так быстро сдал. Она чувствовала себя одинокой и покинутой, чего с ней никогда до тех пор не случалось. Она инстинктивно озиралась вокруг и первый раз в жизни искала живое существо, с которым можно было бы поговорить, посоветоваться, в котором можно было бы найти понимание и поддержку.
С Весо отношения не налаживались. В сущности, он был все тот же, скромный и бесконечно преданный их дому и делу, но вместе с тем он открыто и непреклонно выражал возмущение поведением и действиями Барышни во время войны. Впрочем, в последнее время Весо целиком погрузился в разговоры и перешептывания с молодыми торговцами-сербами. Она отмечала это со страхом и недоверием, но не решалась ни о чем его спрашивать. Впервые с тех пор, как она себя помнила, она чувствовала свое бессилие и зависимость от этого ничтожного человечишки. Она никогда не ставила высоко его способности и не считалась с его мнением, но теперь поняла, что в чем-то он выше и сильнее ее, и с удивлением наблюдала, с каким достоинством и хладнокровием ходит он по лавке, как сияют его глаза и как русый хохолок, обычно послушный, топорщится на его голове, словно упрямый петушиный гребень. Тот самый Весо, который вырос в их доме, теперь представал перед ней человеком незнакомым, далеким и непостижимым, словно какой-то судья.
С крестным, газдой Михаило, они уже много лет виделись лишь два раза в год: на славу и рождество. Вот уже полгода, как он слег, и сейчас жизнь его висела на волоске; ни совета, ни помощи ждать от него не приходилось.
Барышня вспомнила о Пайере. Во время войны она не нуждалась в его услугах. Встречались они редко, разговаривали мало, и она не заметила, как постепенно между ними образовалась пропасть. Она пошла к нему – якобы узнать насчет ценных бумаг, депонированных в банке «Унион», а по существу – поговорить о делах и деньгах и услышать от него, каких еще перемен следует ждать и что надо предпринять, если действительно свершится то, о чем все шепчутся и о чем никто не говорит ясно и открыто.
Пайер был прежний. Трудно сказать, что должно было произойти, чтоб он изменил свое поведение и отношение к людям. Однако о том главном, ради чего она пришла, и он не смог или не захотел что-либо ей сказать. Обычно, когда он говорил, все становилось кристально ясным, легким и понятным, а все трудности таяли в тумане, из которого они вновь выныривали, лишь только собеседник Пайера выходил из его кабинета. На этот раз, выйдя от Пайера, Барышня не стала осведомленнее и спокойнее, чем раньше. Напротив, она недоумевала и удивлялась, почему Пайер, подобно Весо, в разговоре с ней то и дело подозрительно замолкал, почему его слова ни о чем не говорили, а в молчании ощущалось глухое недоверие и непонятный укор. Почему все люди, к которым она обращалась, растерянно моргали глазами, смотрели на нее загадочно и говорили о каких-то пустяках, не имеющих для нее никакого значения, да так сдержанно и холодно, что ей и самой становилось неловко, она цепенела, ожесточалась и уже не могла спросить их о том, что ее интересовало? Она не находила ответа на свои вопросы, ибо, как и раньше, была не способна задуматься над своим поведением, увидеть себя со стороны. И это еще больше усиливало тяжелое ощущение одиночества и неизвестности, которое она испытывала.
В поисках людей, с которыми можно было бы поговорить и посоветоваться, мать она в расчет не принимала.
Оставалась только могила в Кошеве. Но и могила теперь мало что ей говорила, и она не находила для нее былых слов и жгучего шепота. И все же, суровая и мрачная, она ходила туда каждое воскресенье, неизменно и добросовестно, всегда одной и той же дорогой и в один и тот же час. Однако, сидя у могилы, она рассказывала уже не о своих ясных планах и расчетах, как бывало прежде, а о непонятных страхах и неясных, но печальных предчувствиях. Просидев на кладбище положенное время, она возвращалась домой твердой, хорошо известной в городе походкой, опустив глаза долу, еще более суровая и мрачная, так и не нашедшая желанного успокоения.
Лето 1918 года казалось ей бесконечным, словно оно не должно было пройти, как любое время года, а застыло на месте в ожидании событий. Народ бурлил. Война явно близилась к концу, победы перемежались с революциями, смутные надежды – со смутными опасениями. Барышня – среди тех, кто страшится будущего. Так же как и летом 1914 года, ей не дают спать мысли, расчеты, страхи; правда, тогда ее пугала одна, вполне определенная опасность, теперь же она боится всего, а это намного тяжелее, ибо тот, кто не знает, чего боится, боится вдвойне. Так же как и тогда, все ее мысли и усилия направлены на одно: не оказаться на стороне, которая проигрывает и несет убытки. Ни за что! Ни в коем случае! Но как угадать нужную сторону, как обезопасить себя от потерь, когда в мире все так неустойчиво, так меняется и колеблется? Куда укрыться, чтоб можно было жить и приобретать, чтоб ничто не мешало и не принуждало с кем-то делиться? На что опереться, если сила, которая выглядит наиболее могущественной, если власть, которую считают наиболее влиятельной, так недолговечны и так слабы, что бессильны охранить собственность?
Совершенно не зная и не понимая мира и тех могучих сил, которые в нем действуют, сталкиваются и противоборствуют, она приходила к неправильным или по меньшей мере неточным выводам. То она уверяла себя, что ее жизнь и ее дела не имеют ничего общего с происходящим, то снова все, что случалось, ставила в связь с собой и своими интересами. Внезапно проснувшись ночью от сильного и беспорядочного сердцебиения, она казалась себе затерянной во мраке, небывало беспомощной и слабой, вышвырнутой из привычной колеи жизни и привычного образа мыслей, не способной понять ни мир, ни свое место в мире. Дрожь пронимала ее при мысли о будущем, которое поставит под сомнение все достигнутое и приобретенное, поколеблет все, что она считала прочным и незыблемым. С ее отношением к войне это представлялось невероятным и чудовищным. Что происходит в мире, она толком не знала и никогда этим не интересовалась, но вот здесь, где живет и трудится она, назревают страшные и немыслимые вещи; поражение должна потерпеть та сторона, в руках которой власть, армия и деньги, которая обеспечивает порядок и законность, значит, работу, значит, заработок, значит, жизнь людям, желающим спокойно жить и заниматься своим делом, победит же сторона, которая проповедует и несет разрушение, значит, смятение, праздность, неизвестность или, лучше сказать, верную гибель. Барышня не в состоянии ни уразуметь этого кошмара, ни смириться с ним.
В одну из таких ночей ей приснился жуткий сон о деньгах.
Барышня проснулась. Какое-то странное пробуждение. Глубокий сон и полное небытие внезапно сменились белым бескрайним ярким днем, не знающим ни рассветов, ни сумерек, словно навеки застывшим на земле. Проснувшись, она взялась было за обычные утренние дела, но на первом же шагу споткнулась. Все валилось из рук, все шло шиворот-навыворот. Мучило ощущение, будто она проспала какой-то назначенный час и упустила важное дело. Упустила безвозвратно. «Что за день такой?» – недоумевала Барышня. Давно уже светло, надо спешить, а каждое движение так тяжело и утомительно, словно тащишься по воде, и глаза, словно во сне, трудно открыть. Да проснулась ли она в самом деле?
Бывают такие дни – начнутся плохо, поздно и гнетуще, а потом все идет кувырком. Бывают, но сегодняшнее утро не похоже на такие. Сегодня что-то должно случиться или уже случилось.
Да, случилось. Райка и сама не могла бы определить мгновение, когда она это осознала, потому что поняла, в чем дело, не сразу, а постепенно, с каждым новым шагом, словом и взглядом.
Первым, кого она встретила, выходя из дому, был почтальон. Она получила только письмецо, тоненькое и пустяковое.
– Денежных переводов нет? – спросила она машинально.
– Нет, Барышня. Теперь такого не водится.
Она взглянула на почтальона. Старое, красное, изможденное, хорошо знакомое лицо. И гляди-ка, сегодня он лукаво улыбается, желтые глаза поблескивают дерзко и многозначительно. Так радуются и мстят маленькие люди из подневольных, когда им представляется такая возможность. Барышня резко повернулась и пошла в город.
Однако и на улице ей бросались в глаза подобные лица. Она не могла бы сказать какие, но явно изменившиеся. И по этим лицам, словно каждое лицо – буква, она медленно, точно по слогам, читала, в чем состоит необычность сегодняшнего дня, пока наконец в ее голове молнией не сверкнуло кощунственное открытие: нет денег, деньги исчезли, они ничего не стоят и не существуют нигде и ни в каком виде!
Барышня почувствовала, как изнутри в темя ее что-то сильно ударило, в глазах потемнело, рот сам собой открылся. Она остановилась посреди улицы. Потом, вспомнив вдруг о своей кассе, книгах и счетах, ринулась вперед.
В лавку влетела, словно там занялся пожар, дрожащими руками отперла кассу и, ничего не видя от волнения, провела рукой по пустым ящикам и голым стальным стенкам. Позвала счетовода Весо. Конечно, когда он нужен, его никогда нет на месте. Или вместе с деньгами исчез и счетовод, и все, что с ними связано?
Она выбежала на улицу и стала звать Весо, полицию, все равно кого – только чтоб спросить, что это происходит с ней и с миром. Она кричала, била себя кулаком в грудь и голову, не чувствуя боли. Никто не отзывался, никто не обращал на нее внимания. Она двинулась по улице в поисках людей.
Шла от лавки к лавке. Всюду было одно и то же. Никто ничего не продавал и не покупал за деньги. А на нее все смотрели с легкой усмешкой, как на чудачку или дурочку, не знающую того, что все давно уже знают. И с каждым шагом, с каждым вопросом и каждым ответом ей все яснее и неопровержимей открывалось истинное положение вещей: денег больше нет. Да, деньги исчезли как ненужная, потерявшая ценность вещь. Во всей стране нет ни одного крейцера. И все обходятся без них. Живут, работают, но без денег.
– Как же так, как же так? – бормотала Барышня.
– Так вот, – холодно и небрежно бросал из-за прилавка торговец, подобно тому как говорил раньше: «У нас твердые цены».
– А если кто одними деньгами занимался, деньгами торговал?…
Но стоило ей сделать попытку узнать побольше и попросить объяснения этого странного происшествия, похожего на безумный сон, как люди начинали щуриться, усмехаться – и обращались к своим делам. Лишь один купчишка, расставляя товар по полкам, кинул ей через плечо:
– Были да сплыли. Занимайся своим делом. И весь разговор.
– Какое дело может быть без денег? – спрашивала Барышня, стоя на перекрестке и плача, как заблудившийся ребенок.
Вот и она произнесла эти невероятные, немыслимые слова. Да, деньги исчезли с лица земли. Обокрали землю. Хотя нет, не обокрали. Случилось нечто более чудовищное и страшное: исчезло понятие денег. Это слово потеряло смысл. Дукаты стали просто фишками, банкноты нашли свое место на свалке, как те рекламные листовки, которые раздают прохожим и которые они тут же бросают. Акции валяются среди старых иллюстрированных газет. Векселя – все равно что письма никому не ведомых покойников, непонятные, бессмысленные, никчемные. Кассовые книги с записями последних операций лежат мертвые и безгласные, словно каменные плиты, испещренные таинственными иероглифами.
Спотыкаясь, Барышня шла дальше, от угла к углу, от улицы к улице, сквозь этот белый, с металлическим сиянием день. И все убеждало ее: деньги покинули землю, мир стал для нее теперь бездыханным, неподвижным телом без крови и тепла. И что самое невероятное, люди выглядят спокойными и довольными; в своей безграничной подлости они уже примирились с жизнью без денег и каким-то образом изворачиваются и приспосабливаются.
– Что же это? Жизнь стала бессмыслицей, пустыней, а надо жить дальше. «Были да сплыли». Да ведь это всеобщий обман и мошенничество! Или первоапрельская шутка досужих бездельников? Что же это, боже мой! И где же власти, полиция, где суд, церковь?
Барышня закричала в голос. Прохожие озирались на нее с холодным недоумением. Подошел полицейский и призвал ее к порядку, иначе он отведет ее в участок.
Значит, так! Власти тоже отшатнулись, предали! Барышня очумело помчалась дальше. Где по крайней мере священники, ходжи, раввины? Есть ли где правда и закон?
А священнослужители были в церквах и канцеляриях. Все более или менее на своих местах. И все более или менее одинаковым жестом одинаково потирали руки и изрекали одинаковые сентенции: все на этом свете – божье даяние, то, что определено провидением, надо принимать спокойно, и вообще они радеют о вечной жизни, а в делах этого мира приноравливаются к требованиям времени.
Разочарованная, вконец обескураженная, она бежала от одного к другому, пока не оказалась на площади перед церковью. Часы на колокольне пробили девять. Вот и часы продолжают бить. Значит, время еще измеряют и счет ведется! Зачем все это – раз нет денег? Что мерить и что считать? И разве арифметика еще имеет какой-нибудь смысл? Или она тоже, как и все прочее, приспособилась к новому состоянию?
Барышне захотелось стать ростом с колокольню, чтоб плюнуть прямо в эти часы со всеми их цифрами. Это безумное желание дало выход невиданному гневу, который завладел всем ее существом. Она кричала изо всех сил, но ее вопли в сравнении с гневом, который рвался из груди, казались ей шепотом.
– Ах, подлецы! Ах, трусы!
И, бросая это в лицо времени и всему миру, она чувствовала себя покинутой, одинокой, побежденной, но и гордой своей непоколебимой любовью к деньгам, своим отчаянным мужеством, своим презрением к людям. «Да, – думала Барышня, – сейчас никто даже пальцем не шевельнет, чтоб защитить и спасти эту святыню. А как они все любили деньги, как домогались их! Ей это известно лучше, чем кому-либо другому. Ведь сколько раз она видела их в самых невероятных, смешных и жалких положениях и обстоятельствах! Для всех они были святыней из святынь. Ради денег люди все могли сделать, отца родного продать. А вот в одну ночь взяли и предали – отреклись от денег. Таково животное, именуемое человеком: на все пойдет, лишь бы остаться жить здесь, на земле, под солнцем и в своем прежнем обличье».
Взметнувшиеся вихрем черные мысли, взрывы гнева и злобы, ощущение одиночества и полного краха – все столкнулось и смешалось в ее душе. В глазах у нее потемнело, голос сел, ноги подкосились. Она упала на землю. И так и лежала – маленькой грудой тряпья посреди мощенной плитами площади.
В это мгновенье Барышня проснулась – на самом деле проснулась. В слабом свете раннего утра рассеялся и ее безумный, кошмарный сон. Это действительное пробуждение было ничуть не легче, чем то – во сне. Она долго ощупывала онемевшей ладонью теплый тюфяк, все еще чувствуя гневную дрожь в теле и холодную жесткость каменных плит площади у церкви. Минуту перед ней все еще плыло и мельтешило, пока наконец явь не победила и комната не приняла привычный и мирный вид. В тот же миг Барышня была уже на ногах.
Не одеваясь, она подбежала к письменному столу, открыла средний ящик с английским замком, схватила свою кожаную сумку и вытрясла ее над столом. Из сумки выпали шесть ассигнаций по двадцать крон и кое-какая мелочь. Часто дыша, она осмотрела их и положила обратно в сумку.
«Все в порядке! Деньги так же, как и эти шесть ассигнаций, целы и невредимы. Разумеется, как же иначе! Это был лишь сон, безумный и жуткий. Был – и нет его. Но откуда вообще взяться такому сну? И какая связь между сном и явью?» Эти мысли оставляют неприятный осадок. Но она не станет думать о них.
Барышня замерзла и вернулась в еще не остывшую постель. Сердце стучало сильно и неровно, дыхание сбилось. Но теплая постель и надежная основательность яви подействовали умиротворяюще. Она крепко закрыла глаза и, бормоча неясные слова укора, словно обиженный ребенок, заснула снова.
Проснулась она, как обычно, около семи; оделась, позавтракала и отправилась в лавку. Тягостное чувство, оставшееся от ночного сновидения, не покидало ее, нет-нет и проносилось мимолетной тенью в ее голове сомнение в реальности яви.
В дверях лавки Барышня столкнулась с почтальоном, в самом деле доставившим кое-какие переводы. Она взволнованно пересчитала деньги раз, другой – сомнение снова молнией пронеслось в ее голове – и только потом расписалась на квитанции. Прижав к себе деньги, она подняла голову и долго, пристально глядела прямо в глаза почтальону. Лицо было знакомое, красное, изможденное, старое. Оно словно говорило: «Служба нетрудная, да жалованье маленькое, детей куча, концы с концами никак не сведешь». На дерзкую ухмылку и лукавые огоньки в глазах, которые привиделись ей во сне, не было и намека.
Следовательно, все в порядке. Только теперь она успокоилась окончательно. Облокотилась на маленькую старинную конторку, крепко придавила ладонями зеленое, закапанное чернилами сукно и вздохнула с облегчением.
А почтальон, выйдя из темной холодной лавки на утреннее солнце, на мгновенье остановился и весь передернулся, стряхивая с себя вместе с внутренней дрожью впечатление от этих пронзительных, перепуганных и страшных глаз. Потом он пошел дальше. Держась солнечной стороны, он беззвучно шептал себе под нос:
– Ну и страшные, брат, глаза у этой самой Райки! Не впрок ей богатство! Ох, и страшные!
В жутких снах и мучительной бессоннице проводила Барышня теплые ночи. Лето не кончалось. И в октябре еще было тепло и зелено. Дни и недели тянулись бесконечно, события сталкивались, подгоняли и настигали друг друга, как завершающие аккорды симфонии, из которых каждый звучит словно последний и за каждым неуклонно и неожиданно следует новый. Однако прозвучал и последний.
Барышня, как это часто случается с подобного рода людьми, не заметила, когда грянуло то, чего она так страшилась, что несчетное число раз до малейших подробностей представляла и рисовала в своем воображении. (Здесь ее воспоминания обрывались; не то чтоб они исчезли и полностью стерлись – скорее это походило на оборванную киноленту: экран не гаснет, аппарат работает, но звука и изображения нет, одни только причудливо размытые пятна и линии.)
В один из октябрьских дней, который ничем не отличался от прочих, когда ее опасения были не меньше, а надежды не больше, чем обычно, на домах неожиданно появились первые трехцветные флаги[16] и люди на улицах стали обниматься и целоваться, плача от радости. Опять слезы! Весо в тот день в лавку не пришел. Барышня шла по городу изгоем и преступницей. Ее никто не обнимал, никто даже руки не протянул, и тем не менее она дрожала от врожденного отвращения к объятиям и от смятения, в которое ее повергали эти вечные слезы, сильное возбуждение, громогласное излияние чувств, слова и разговоры вообще.
Она сидела как на иголках в холодной лавке и мысленно перебирала свои кредиты и вложения, разбросанные по многим местам. Без значительных убытков на сей раз не обойтись. Теперь это уже совершенно ясно. Она думала лишь о том, как уменьшить неминуемый ущерб. Мысли проносились стремительно, как на пожаре или в бурю, когда надо спасать самое ценное и то, что находится в наибольшей опасности, а в твоем распоряжении две-три минуты. Громкие шаги и взволнованные голоса нарушили течение ее мыслей. В лавку вошел в окружении молодых людей Весо. Кое у кого было оружие. Все говорили разом, размахивая руками. Барышня подумала, что они навеселе. Она хотела поговорить с Весо, но ей не дали и слова сказать. Пришельцы смотрели на нее свысока, морщась и щурясь, словно она уж так мала и незначительна, что ее и не разглядишь. Весо был не лучше других. Никогда, ни до, ни после этого, она не видела его в таком возбуждении. Он лишь отмахивался от нее и несвязно говорил:
– Оставь, Райка! Сейчас не до этого! Дождались ведь, дождались, теперь и умереть не жалко. Ступай домой. Видишь, какая у нас радость? Видишь?
Она ничегошеньки не видела, а его глаза пылали, и безбородое добродушное лицо горело ярким румянцем.
Однако дальше события развивались не столь невинно, как в первый день. И в лавке, и на улице, и даже в собственном доме знакомые и незнакомые, званые и незваные стали осыпать ее ехидными насмешливыми замечаниями, а кое-кто начал открыто и грубо поносить ее за поведение во время войны. Она не вспоминает, не любит вспоминать обо всем том, что ей тогда пришлось перенести. Все было хуже и тяжелей, чем она могла себе представить заранее. По поведению и речам тех, кто зло высмеивал или открыто ругал ее, она понимала, сколь велика была в их глазах ее вина. Но как она ни старалась понять, как ни ломала себе голову, она так и не уразумела, в чем эта ее вина состоит. Она видела лишь непостижимую ненависть людей и стремление оттеснить ее, нанести ей ущерб, помешать в любом деле. Читая в газетах статьи и речи о гонениях и муках военных лет, она спрашивала себя, возможно ли, чтоб все это происходило в той самой стране и в том самом городе, где живет и она. Порой ей казалось, что все люди внезапно сошли с ума, все, кроме нее, – вот почему они смотрят на нее косо и так жестоко ее преследуют.
Людям, подобным Барышне, мир должен часто представляться кромешным адом. Нечувствительная к большей части общественных законов, нравственных устоев и движений человеческой души, неспособная даже заметить их, а не то что понять их закономерность и их медленное, но неотвратимое воздействие на ход событий, она в самом деле не могла уловить причинной связи между тем, что происходило с ней сейчас, и тем, что она делала, видела и слышала в 1914-м и 1915 годах. И это было самым тяжким в ее теперешних муках. Она не понимала, что насилие и несправедливость вызывают мщение, и что месть слепа, и что те, на кого она обрушивается, всегда воспринимают ее как самую черную несправедливость, равно как не понимала и того, что к самому справедливому возмездию присоединяются зависть и неизбывное людское злорадство. Она вообще не имела понятия о насилии, о несправедливости, о каре и мщении, но зато ясно видела, что находится на стороне, которая преследуется и терпит убытки. Она в самом деле терпела убытки, и каждый день угрожал ей новыми и все более крупными. Она не осмеливалась предъявлять иски, а если бы и осмелилась, ничего бы из этого не получилось. Дела не двигались, суды пустовали, банки, по существу, не работали, сроки платежей не соблюдались, ценные бумаги лежали мертвым грузом. Со всех сторон у нее требовали пожертвований, долгов же никто не платил, должники смеялись в глаза кредиторам и делали новые долги, словно завтра – светопреставление. А газеты писали о налогах на военные прибыли, об экспроприации имущества, о больших и малых планах, по которым у имущих предполагалось отнять миллиарды и передать их неимущим. Барышне казалось, что целые страны и народы решили закончить жизнь в неистовом кутеже, решили есть, пить, безумствовать и растратить все, до последнего гроша в кармане последнего человека.
Все оборачивалось против нее.
В тихий октябрьский день ей было суждено собственными глазами увидеть окончательную гибель Рафо. Однажды утром, избегая шумных и радостно возбужденных центральных улиц, она забрела на Ферхадию. Перед бывшей лавкой Рафо толпился народ, раздавались громкие возгласы, взрывы оглушительного хохота. Боязливо осмотревшись, она увидела за прилавком Рафо. Мокрыми и грязными руками он перебирал какие-то гнилые овощи. От него остались кожа да кости, лицо его пожелтело и потемнело, одет он был грязно и неряшливо, без галстука, с непокрытой головой. Рафо испуганно вращал глазами и без умолку говорил, но что – разобрать было невозможно из-за непрестанных выкриков и громкого смеха толпы. Лишь когда он повышал голос, слышались отдельные слова:
– Вот, пожалуйста, совершенно бесплатно!… Должен же народ есть… Я-то знаю, это другие не знают… Должен есть… Вот…
А народ, словно бы забыв о голоде, смеялся над безумцем, глядя на него с тем холодным любопытством, с каким люди, стоит им оказаться в толпе, смотрят на самые грустные сцены.
Одни держались насмешливо и грубо.
– Неси-ка это домой, газда Рафо, и ешь сам.
– Это что, покойница Австрия оставила тебе в наследство?
– Нагреб столько миллионов, а народ кормишь отбросами?
Другие были настроены благодушно и воспринимали все юмористически. Говорили ему, что он тертый калач и что, наверное, он думает и на этом сделать хороший гешефт. А Рафо Конфорти, как, бывало, много лет назад, прижимал руку к сердцу, клялся, нахваливал товар, спешил ответить на каждое замечание и плаксиво уверял, что единственная его забота – чтоб люди не голодали. Только тогда он был здоров, весел и подвижен, как юла, теперь же язык у него беспомощно заплетался, слова путались, а жесты были беспорядочны и неосмысленны.
Барышня отвернулась и поспешила прочь, не желая смотреть на мучения человека, которого можно было бы назвать ее другом, существуй в ее голове такое понятие.
В тот же день Рафо отвели в сумасшедший дом.
Дни и недели проходили, а волнения и радостная суматоха в городе не ослабевали. Напротив, жизнь, казалось, должна была измениться в корне. В Сараево вступили первые части сербской армии. Парады и празднества, банкеты и благодарственные молебны следовали один за другим; прибывали депутации, открывались новые газеты, менялись названия улиц и учреждений. Барышня понимала, что дело приняло серьезный оборот.
С нового года начала выходить газета «Српска застава». Свою главную задачу эта ультранационалистическая газета видела в том, чтоб осудить и заклеймить всех тех, кто во время войны «запятнал честь народа» и предал его интересы. Под специальной рубрикой: «Во имя порядка, справедливости и мира мы требуем…» – газета помещала разгромные статьи об отдельных людях и об учреждениях разного рода. В одной из заметок содержался прозрачный намек на Барышню, хотя имя ее пока названо не было. Один ее родич, близко знакомый с редактором газеты, пошел к нему и добился прекращения дальнейших нападок.
Однако то, чего удалось добиться в одной газете, не вышло в другой. Новая газета «Народни глас» обрушилась в своей местной хронике на всех военных спекулянтов, вроде Рафо Конфорти и ему подобных, помянув мимоходом, но на этот раз открыто, и имя Райки Радакович. К ней присоединилась и социал-демократическая «Слобода», снова начавшая выходить. Она писала о «ростовщических процентах», «делах, которые не выносят света», «бездушных пауках, врагах народа и общества». Авторы статей требовали от правительства создания специальной комиссии, которая проверила бы деятельность и прибыли военных спекулянтов, и высказывали надежду, что общество навсегда изгонит из своей среды этих злостных и недостойных членов, невзирая на их положение и родственные связи.
Подобные угрозы выглядели в то время серьезными и вполне реальными; их читали, пересказывали и обсуждали по всему городу, среди родных и знакомых, везде, кроме дома Райки.
Ни с кем не встречаясь, она не могла толком знать, что думают и говорят о ней люди. Истина открывалась ей лишь изредка и случайно. Однажды осенью она внезапно проснулась с ощущением удушья – сердце, казалось, застряло в горле. (В последнее время такое бывало с ней все чаще.) Она вскочила, распахнула окно, чтоб как можно скорей и как можно глубже вдохнуть влажный ночной воздух. Стоя у открытого окна, задыхающаяся, в холодном поту, она услышала, как на улице под ее окном громко переговариваются пьяные. Они шли по набережной с криками, бранью и смехом. Двое из них отстали и подошли к ее дому. Икая и ругаясь, они поливали стену под самым ее окном. Незамеченная, она прислушивалась к их несвязной пьяной беседе.
– Холодно, – жаловался первый пьяница, – и не удивительно. Башмаки каши просят. Вот уже Михайлов день, а у меня еще нет зимнего пальто, и не знаю, когда будет.
– Все ракия чертова!
– Нет, браток! Вот те крест, нет. Не будь праздника, и сегодня бы не пригубил.
Один из пьяных отошел от стены и, застегиваясь, долго и тупо оглядывался.
– Слушай, ведь это дом Райки Радакович! Другой, все еще стоя у стены, обозвал ее гадким словом и безобразно выругался. Барышня никогда не слыхала подобного ругательства и даже не представляла себе, что такое может существовать. То было одно из новых ругательств, в которых земля и небо соединялись в едином отвратительном помышлении.
– Она, говорят, деньги при швабах огребала, во время войны.
– И до войны тоже. Она уж сколько лет дает деньги в рост. Я слышал, как в трактире люди о ней толковали. Другого такого ростовщика и процентщика, говорят, во всей Боснии не найти. Все делает втайне, незаметно, и все вроде бы честно и по закону. Бестия, говорю тебе, форменная бестия. Ни разу никого не пожалела. Ни о боге, ни о душе не думает. Знай себе денежку к денежке складывает, а никому от них никакой радости. За грош удавится!
– Такую убить – доброе дело сделать.
– Убить мало. Я бы с этой стервой разделался так, как в песне поется: вывел бы ее на перекресток, облил дегтем и поджег. Чтоб как свеча горела. Как свеча!
Продолжая сыпать ругательствами, они пошли, спотыкаясь, догонять свою компанию, звавшую их из темноты.
Барышня быстро закрыла окно и легла. Она примерно знала, что думают о ней родственники и так называемые сливки общества, но сейчас она собственными ушами услышала мнение народа, голытьбы, людей, которые, быть может, ни разу в жизни ее не видели. Она чувствовала вокруг себя плотное и непробиваемое кольцо ненависти, непрестанно сужающееся. Встревоженная, позабыв о сне, она думала, куда бежать, где укрыться от этих людей, у которых нет даже зимнего пальто, и они согреваются ненавистью и ракией, но у которых есть время считать чужие доходы и готовить для других деготь и самые ужасные способы умерщвления.
В эту зиму Барышня впервые перестала ходить по воскресеньям на кладбище. Она сидела дома и думала о могиле отца, но выйти на улицу не решалась. Боязнь людей пересиливала все остальное. Она, которая никогда не считалась с людьми и попросту их не замечала, теперь дрожала от страха при одной мысли о прохожих, об их взглядах и попреках. Она перестала ходить в лавку.
О делах и думать было нечего. Все двери были для нее закрыты. И Весо ей советовал некоторое время не попадаться людям на глаза.
Нескончаемо тянулись тяжелые месяцы зимы, когда даже от самой близкой родни она вынуждена была прятаться в своей комнате, когда возмущение против нее было настолько сильным, что ей становилось стыдно, хотя она и не знала, чего стыдиться, потому что сознание вины ни на мгновение не потревожило ее совесть.
Еще несколько месяцев назад Барышня не верила, что на свете есть вещи сильнее ее воли и что они могут связать ее по рукам и ногам. А теперь Райка видела, что она на самом деле связана по рукам и ногам, что она проиграла, потерпела поражение, неизвестно когда и как, от невидимой силы, которую не выразишь цифрами, не подкупишь деньгами и ничем не проймешь. Напрасно она взывала к своей стальной воле и холодному презрению к людям. Воли не осталось, а на ее презрение ей отвечали еще более глубоким презрением. Сидя, как в заточении, в собственном доме, она поняла, что не выдержит, если не наступит какая-то перемена, если время и пространство не отдалят и не оградят ее от Сараева, места ее поражения. Однако время ползло немилосердно, и никакая мудрость, никакие богатства были не в силах ускорить или замедлить хотя бы на секунду его ход. Оставалось пространство. Уйти отсюда, не быть здесь – значило обрести возможность начать жизнь с новыми надеждами, новыми силами. Уехать – почти то же, что забыть и быть забытым, то есть спасенным. Уехать – тяжело и больно, но все же возможно.
Вся родня сходилась на том, что и для нее, и для всей семьи самое лучшее, чтоб она уехала из Сараева, хотя бы на некоторое время. Одни предлагали ей съездить в Дубровник, другие – переселиться в Белград. И Райка, первый раз в жизни, сдалась – другого выхода она не видела. Может быть, со временем все бы и успокоилось и забылось, просиди она еще полгода или год дома, в полном одиночестве, не делая никаких попыток возобновить свою деятельность. Но при одной мысли, что после всех потрясений и потерь последних месяцев она должна сидеть сложа руки и проживать капитал, не приумножая его и ничего не приобретая, у нее замирало сердце, кровь приливала к голове и дыхание прерывалось. Она заранее представляла себе, как уходят, уплывают деньги и как наконец ее настигают бедность и лишения. И задыхалась от этой мысли. Она поехала бы не только в Белград, но в любые дикие, заброшенные колонии, только бы избежать нищеты.
Посреди лета было решено, что Райка с матерью переедет в Белград, где уже много лет жил ее дядя по матери Джордже Хаджи-Васич. Мать, мигая добрыми, подернутыми влагой глазами, согласилась, как соглашалась со всем, что ей предлагали. Весо взял на себя дела и заботы по лавке и дому, который должны были сдать внаем.
VI
В конце 1919 года Барышня вместе с матерью уехала из Сараева. С собой они взяли несколько ящиков и чемоданов, а самое необходимое из мебели упаковали и велели Весо отправить багажом, как только они сообщат, что нашли в Белграде квартиру.
Дорога была длинной, утомительной и неприятной во всех отношениях. Поезда шли медленно и неаккуратно. Окна в вагонах были без стекол, диваны – с провалившимися сиденьями, из обивки вырезаны клочья кожи или сукна. Места брали с бою, а самые проворные и нахальные влезали в окна. Пассажиры, что давились у дверей, сидели ДРУГ у друга на коленях или стояли в коридорах, в большинстве своем были грязные, плохо одетые, от них несло луком и ракией, держались они и разговаривали грубо, вульгарно. Станции, мимо которых проходил поезд, выглядели как после страшного наводнения: стены обрушены, ограды повалены, палисадники вытоптаны. У служащих в красных фуражках, встречавших поезда, был вид неудачливых преступников. Впервые война предстала перед Барышней в своем настоящем обличье – с опустошениями, которые она вызвала, с глубокими ранами, которые быстро наносятся и нескоро затягиваются. Теперь она поняла, что за эти четыре года, трудясь и приобретая, уклоняясь от всего тяжелого и опасного, почти не разделяя общих несчастий и бед, отсиживаясь дома почти в тех же условиях, что и в мирное время, она по существу и не видела войны. Но когда, разорив семейное гнездо, она двинулась в путь, долгий и тяжкий, исход которого был совершенно неизвестен, все события последних месяцев уже не казались ей такими непереносимыми, и она жалела, что уехала из Сараева. Быстро забылись обстоятельства, изгнавшие ее из родного города, и перед глазами стояли одни убытки, которые принес отъезд. Ее оскорбляла и раздражала толпа, ее метания и крики, но еще сильнее бесила собственная внутренняя слабость и нерешительность. Все выводило ее из себя, и больше всего мать, с ее непоколебимым спокойствием, кроткой улыбкой и безграничным доверием ко всему на свете. У Райки было такое чувство, будто она едет в изгнание или бежит от него, сама не зная куда.
В Славонском Броде в холодную и дождливую ночь они целых пять часов прождали поезд. Несмотря на всю бдительность Барышни у них украли чемодан. Это переполнило чашу ее терпения. На слабо освещенном перроне, возле длинного состава, дышащего белым паром, она верещала, словно ее раздирали на куски. Взывала к богу и людям, требуя покарать вероломного грабителя, но народ проходил мимо, толкая ее и спотыкаясь о ее чемоданы. Ни отзыва, ни сочувствия, ни помощи. Со страшным трудом им удалось втиснуться в белградский поезд, который был так же переполнен, как и боснийский. Пришлось стоять в коридоре, на сквозняке. Барышня на ощупь пересчитывала чемоданы. Ей казалось, что у нее вырвали кусок мяса, что она никогда не доберется до цели, что и сам Белград всего лишь один из обманов этой ночи, в которой невидимые силы крадут и разбойничают безвозбранно и безнаказанно.
Лишь к середине следующего дня, пасмурного и холодного, приехали в Земун. Дальше поезд не шел, потому что мост через Саву был разрушен. Невыспавшиеся, умирающие от жажды, закопченные, они месили вслед за носильщиками густую грязь, пока наконец не добрались до битком набитого катера и не переправились в Белград. А под вечер подошли к дому Хаджи-Васича на Смиляничевой улице.
То, что они увидели, находилось в таком вопиющем противоречии со всем тем, что им довелось пережить в пути, что в первую минуту они растерялись и застыли возле груды своих вещей. Благоустроенный, просторный дом сверкал чистотой и порядком, на всем лежала печать изобилия. Хозяйка дома, госпожа Перса, которую и в семье и в городе звали Секой, и две ее взрослые дочери, Данка и Даринка, встретили гостей тепло и сердечно. Предложили им воды с вареньем, кофе. Отвели небольшую, но теплую комнатку окнами во двор; в ней стояли две кровати с большими, ослепительно белыми подушками и желтыми одеялами на шелку. Пока они мылись и приводили себя в порядок, пришел и сам хозяин. Снова слезы, объятия. Все как бы вырвались на некоторое время из пут будней и зажили другой, более богатой и яркой жизнью. Даже Барышня не устояла перед этим ощущением минутного отдохновения от всех бед и забот.
К ужину все семейство собралось в светлой столовой, и родственники познакомились ближе.
Джордже Хаджи-Васич более сорока лет назад мальчишкой уехал из Сараева и с тех пор ни разу там не был. Вырос он в Белграде в семье дяди – Петара Хаджи-Васича, известного торговца и благотворителя. От него же унаследовал лавку на улице Князя Михаила. Женился поздно. В жены взял молодую вдову Персу, которая всего год пробыла замужем за торговцем Ираклидисом. Она происходила из богатого дома владельца скобяного дела Стаменковича «с Савы». В первые три года у них родилось трое детей: сын и две дочери. В 1915 году газда Джордже эмигрировал во Францию. Миша, их единственный сын, служил в армии; демобилизовавшись, он тоже уехал во Францию, где в Монпелье закончил юридический факультет. Сека осталась в Белграде одна с двумя девочками и с помощью родственных связей, а также собственной энергии и денег сберегла дом и благополучно вырастила детей. Теперь газда Джордже был занят обновлением дела. Миша служил в Народном банке, а Сека подыскивала подходящих женихов для дочерей, которым уже подошло время выходить замуж.
У газды Джордже, здорового, холеного, благообразного господина лет шестидесяти, такие же, как у матери Райки, голубые ясные добрые глаза Хаджи-Васичей. (Целый вечер они не могли насмотреться друг на друга, а как глянут – веки начинают дрожать: он глотает слезы, она плачет.) Голубые глаза удивительно идут к его совершенно седым, аккуратно подстриженным усам и волосам. Он принадлежит к типу старых белградских образованных торговцев, поведение которых и обхождение с людьми отличают достоинство и сдержанность; холодная, но безукоризненная профессиональная учтивость вошла в его кровь и плоть. Поступь у него тихая и плавная, речь скупая, своих мыслей он ничем не выдает (даже по выражению лица их не угадаешь), смотрит прямо в глаза и, как все Хаджи-Васичи, легонько и чуть приметно моргает, да так ласково и весело, что каждый собеседник воспринимает это как знак особого расположения и доверия лично к нему.
Спокойный и в высшей степени счастливый брак связывает газду Джордже с госпожой Персой. Госпожа Перса – крепкая и тучная брюнетка, с быстрым говором и жаркими черными глазами. Ее лицо говорит об уме и предприимчивости, что подтверждают черные усики и густая грива волос. Усилия, затраченные на то, чтобы мудро и честно вести дом и растить детей во время австрийской оккупации, не истощили ее сил и не ослабили ее любви к жизни.
Из дочерей старшая походила на мать, а младшая – на отца. Данка – вылитая мать: пушок над верхней губкой предвещал усики, округлость форм – будущую тучность, а пока еще робкий блеск смеющихся глаз – материнскую жизнерадостность и энергию. Даринка пошла в род Хаджи-Васичей – стройная, со спокойными задумчивыми глазами, в которых не крылось ни печали, ни загадки.
Миша – высокий молодой человек двадцати пяти лет, голубоглазый, как отец, ухоженный и тщательно одетый, пожалуй слишком серьезный и выдержанный для своих лет. Он наверняка не изобретет для государства новой финансовой системы, но столь же несомненно, что он никогда не ошибется в применении существующей. Все на нем аккуратно, все блестит от обилия золотых вещей, которые он носит. Золотой перстень с печаткой на правой руке, золотая табакерка, золотой карандашик на золотой цепочке, золотые часы на золотом браслете на левом запястье. При каждом движении какой-либо из этих предметов скромно и ненавязчиво поблескивает.
Такова была семья, по-родственному радушно принявшая Барышню и ее мать. Госпожа Радойка была совершенно счастлива. В теплой атмосфере семейного уюта она впервые после стольких лет подняла голову и почувствовала себя человеком и с каждым днем становилась все оживленнее и радостней, словно ее из мрачного и душного подземелья вывели на солнце.
И Барышне в первые дни было легко и приятно. Никто не интересовался ее жизнью в Сараеве. Все казалось далеким и забытым. Белград велик, все в нем для нее незнакомо, и она никому не известна. Однако, как только немного отдохнула, она опять стала хмурой и нелюдимой, какой была всегда, и с каждым днем все больше замыкалась в себе. Простой, открытый и веселый дом газды Джордже, где были взрослые девушки, ей очень не нравился. Широта и щедрость во всем – в смехе и речах, деньгах и вещах – оскорбляли и отталкивали ее. Жизнь семьи представлялась ей беспорядочной и хаотичной, необеспеченной и опасной, она приводила ее в смятение, сбивала с толку, путала ее собственные планы. И, видя, что она не в состоянии ни изменить их жизнь, ни навязать им свое мнение, она сгорала от желания как можно скорее оказаться в своем доме, подальше от молодых и веселых родственниц и всего этого шумного и оживленного общества. С нетерпением она ожидала прибытия мебели, которую Весо уже отправил, а пока без устали искала дом на самых отдаленных и тихих улицах, где цены подскочили не так высоко, как в центре города. Газда Джордже, пользуясь своими связями, нашел ей небольшой дом на Стишской улице, а потом предложил еще несколько подобных, и теперь вокруг них велись нескончаемые томительные переговоры.
Особенно тяжело Барышня переносила визиты, которые в доме госпожи Секи, известном своим гостеприимством, были весьма часты, а каждой гостье Сека считала своим долгом представить «сестру Джордже из Боснии» и ее дочку. Вторник же, «jour-fixe»[17] госпожи Секи, был самым ненавистным для Барышни днем недели.
Дом Хаджи-Васича принадлежал к лучшим довоенным зданиям города: одноэтажный и скромный с виду, он был достаточно просторен, отремонтирован и побелен уже после войны, с опрятным двориком и большим садом, где росли фруктовые деревья лучших сортов и низенькие густые сосенки. От соседних домов он отличался и тем, что для кухни за домом, во дворе, было выстроено отдельное помещение. Поэтому в доме только жили, и в комнатах не пахло ни кухней, ни зимними припасами из кладовой. Большая передняя, которая вела в комнаты, была обставлена как гостиная. Мебель была «стильная», то есть сработанная одним из пришлых мастеров, и больше всего напоминала стиль Людовика XV. Кресла обиты темно-красным плюшем, столы и столики на чересчур тонких ножках заставлены вазами, фарфоровыми безделушками и семейными фотографиями. Пол устлан добротным старинным пиротским ковром. По стенам увеличенные фотографии дедушек в фесках и бабушек в тепелуках, а рядом. – репродукция пейзажа Бёклина с кипарисами небывалой величины и мрачным холодным озером.
В этой комнате госпожа Перса каждый вторник устраивала приемы, подобные тем, которые устраивались во многих других богатых и почтенных домах, где имелись дочери на выданье. Для молодежи открывали еще и соседнюю комнату, самую большую в доме, в которой танцевали под граммофон, пока в гостиной сидели и громко беседовали сверстницы госпожи Секи. Они с трудом привыкали к негритянской музыке новых, послевоенных танцев и постоянно спрашивали себя, что еще придумает нынешняя молодежь, прежде чем они успеют повыдавать дочерей и тем переложить заботу на чужие плечи.
В то время многие дома в Белграде в полном смысле слова «открылись» и для хорошего и для дурного, для любого поветрия и любого гостя, а чаще всего для случая – этого самого ненадежного друга. Новое общество, которое складывалось из бел-градцев и все возрастающего числа приезжих и которое гомозилось на узком приподнятом языке земли между Савой и Дунаем с их крутыми берегами, еще не обладало ни одним из обязательных атрибутов настоящего общества – не было ни традиций, ни единых взглядов на жизнь, ни схожих склонностей, ни сложившихся форм общения. Это была своевольная пестрая армия, учинившая набег на город с тем, чтоб в содружестве с так называемым избранным белградским обществом воспользоваться редкой конъюнктурой: крушением политической и общественной системы и одной из величайших в истории военных побед. Несомненно, что за долгие годы существования Белграда на столь стесненном пространстве никогда не собиралось столько людей, объединенных общностью интересов, но так мало между собой связанных и по существу совершенно различных. Четырехлетняя мировая война сняла с места этих людей, по рождению и воспитанию принадлежавших к разным социальным слоям Балкан и Средней Европы, разным верам, расам и родам занятий, а волна великой победы занесла их сюда, и все они теперь стремились вознаградить себя за жертвы и труды, которые им пришлось при различных обстоятельствах возложить на алтарь победы во всех армиях мира, на всех четырех континентах. Поток пришельцев хлынул на однородное и малочисленное старое белградское общество, которое было не в силах их ассимилировать, но и не желало в них растворяться. Подвергнутое тяжкому испытанию, от которого зависела его дальнейшая судьба, после огромных страданий и усилий, превосходящих его возможности, оно находилось сейчас в состоянии лихорадочного возбуждения и полной растерянности перед этой лавиной людей, обычаев и идей. Не в состоянии отличить хорошее и полезное от вредного и ненужного, оно само начало сдавать и терять собственное лицо. Естественно, что в таких условиях ничьи стремления не были ясны и понятны, ничьи заслуги не могли быть оценены по достоинству, ничьи иллюзии – распознаны, домогательства – отвергнуты, а права – утверждены и надежно закреплены. Никогда не было поры лучшей и почвы более подходящей для обмана и самообмана!
Барышня любыми путями старалась уклониться от этих приемов. По вторникам во второй половине дня у нее всегда или оказывались какие-то дела в городе, или она запиралась в своей комнате. Танцующая молодежь, казалось ей, была без царя в голове, а пожилые дамы в гостиной – выжили из ума. Но дело не ограничивалось лишь вторниками. Жажда развлечений, которая несколько позже охватила весь Белград, уже захлестнула богатые дома. Неодолимая тяга к возможно более пестрому и более шумному обществу, к полутемным комнатам, набитым галдящей толпой, распространялась все шире. Почти на все праздники или по любому другому удобному поводу в доме Хаджи-Васичей после ужина собиралось общество. Танцевали под граммофон, шутили, пели, а кроме того, вели беседы о политике, искусстве, о недавнем прошлом, которое представлялось возвышенной драмой со счастливым концом, и о будущем, которое было неисчерпаемой и благодарной темой. Барышня сидела при этом хмурая, в тягость и себе и другим. Она оживлялась, лишь увидев среди гостей кого-нибудь из стариков, отцов этих детей, что танцевали или спорили. С таким гостем она немедленно заводила разговор, тихо и осторожно выспрашивая его об обмене старых банкнот или о ценах на дома и земельные участки. От молодых людей ее отталкивало все: их танцы и развлечения, их разговоры и споры. Все, что ей приходилось видеть и слышать, коробило ее и вызывало у нее какое-то неприятное чувство, в котором были и презрение, и злость, и страх. Однако Барышня заставляла себя вслушиваться хотя бы в их разговоры на серьезные темы.
Однажды Данка и Даринка, взволнованные и торжествующие, объявили, что после ужина вместе с другими молодыми людьми к ним придут и два боснийских поэта, Стикович и Петар Будимирович, снискавшие себе доброе имя в новейшей литературе, у которой еще нет ни писаной истории, ни официального признания, но которая уже пленяет сердца юношей и девушек всех возрастов. Кроме того, оба поэта принимали участие в национально-революционном движении боснийской молодежи, были интернированы австрийскими властями и четыре года войны провели в тюрьме и ссылке. И как поэты, и как мученики и борцы за национальную свободу, они пользовались горячими симпатиями столичного общества. Вместе с новыми гостями к Хаджи-Васичам пришли и завсегдатаи, то есть все друзья Миши. Большинство из них воевало и лишь недавно завершило образование во Франции. Это были молодые, веселые, честолюбивые парни. Кое-кто из них уже получил место на государственной службе, и все были убеждены, что перед ними открываются неограниченные возможности. И единственно, в чем не было согласия, это – как и для чего эти возможности использовать. Сильно отличались они и по темпераменту, склонностям, взглядам, поэтому часто часы и целые ночи проводили в бурных дебатах за кофе, сигаретами и красным вином. Это нисколько не мешало им быть друзьями, ибо если взгляды и мнения их разделяли, то тем крепче связывали споры. Все они еще переживали пору, когда такого рода состязания являются насущной потребностью, и упивались ими, как дети игрой. Жизнь еще не начала всерьез перемалывать их и разобщать.
Среди них уже тогда выделялось несколько человек, которые были далеки от всяких идей, равнодушны к их столкновениям и борьбе и которые видели свое предназначение в практической деятельности на ниве экономики и финансов. Это были не по возрасту серьезные, выдержанные и уравновешенные молодые люди, уже нашедшие свое призвание и путь в жизни и колебавшиеся только между Народным банком и другими учреждениями, которые должны были открыться в скором времени. Помимо этого, они ожидали возвращения из эмиграции белградской знати,[18] надеясь породниться с наиболее влиятельными и богатыми семействами. К подобным молодым людям относился и сам хозяин, Миша. Но тем большее свободомыслие и неукротимость духа проявляли остальные юноши.
В эту группу входили двое молодых учителей – Ранкович и Миленкович. Ранкович преподавал сербскую литературу и был вожаком демократического кружка молодежи левой, республиканской ориентации. Это был опытный оратор, отличный танцор и певец. Миленкович – социалист, волевой и мыслящий человек, превосходно знавший марксистскую литературу. Ярый полемист, он со страстью выискивал тончайшие различия между всевозможными философскими доктринами. Оба они являлись своего рода вождями, каждый имел среди собиравшейся у Хаджи-Васичей молодежи своих единомышленников и приверженцев.
Третью группу – консерваторов, самую немногочисленную, представлял Миле Адамович, в обиходе Адамсон, помощник адвоката. На лацкане пиджака он всегда носил какой-нибудь значок. Сегодня – значок Красного Креста, завтра – хорового общества, потому что он член подкомитета Красного Креста и член множества других хоровых, культурных и спортивных обществ. Это изрядно раздобревший, потасканный господин с насмешливым лицом, выражающийся немногословно, но энергично, статный, сильный, с антично-спокойными правильными чертами лица, твердым взглядом крупных глаз, низким голосом, уверенными и плавными движениями. (У нас, как и повсюду на Балканах, не редкость такой тип людей – внешне выдержанных и сильных, а на самом деле мелких и пустых.) Адамсон мог смутить любого, его же привести в смущение было невозможно, он умел смешить, но сам никогда не смеялся, – даже зубов его никто ни разу не видел. Женщины его обожали, а большинство мужчин побаивались. Речь его изобиловала турцизмами, архаизмами, крепкими народными выражениями. Он всем говорил «ты» и не выносил ни малейшей шутки на свой счет. Его оружием была неиссякаемая ирония, в которой было что-то и от нигилизма, и от патриархальности, и от варварской бесцеремонности и отеческого добродушия. В ответ на пламенные речи своих приятелей-экстремистов он обычно отшучивался без тени улыбки на лице. Ему принадлежало известное изречение: «Хорошо говоришь, браток, да кто это станет финансировать?»
Кроме этой постоянной и знакомой компании, в дом приходили и люди из новых краев: хорваты, словенцы, темпераментные и сметливые далматинцы. Каждый вторник кто-нибудь да приводил нового гостя, которого и сам толком не знал, – робкого или настырного, наделенного неведомыми талантами или сомнительной репутацией.
Но в тот вечер два боснийских поэта забили всех, даже самого Адамсона. Стикович рассказывал об арадской тюрьме, где он сидел. С большим искусством рисовал страшные и грустные картины, но как бы издалека и со стороны, так что у слушателей создавалось впечатление, что он прошел все это, как Данте – ад: ничто его не коснулось. Тяжело, но в то же время и приятно было слушать, наслаждаясь свободной жизнью, которая с каждым днем становилась богаче и ярче, о страданиях, навсегда канувших в прошлое. Молодые хозяйки напрасно просили Стиковича прочесть свои стихи. Он вежливо отказывался, улыбаясь гордой и снисходительной улыбкой, слетавшей с каких-то неведомых высот, куда не достигают никакие стихи и декламации.
Зато другого поэта, Будимировича, долго уговаривать не пришлось. При первой же просьбе он вытащил из кармана сложенный листок бумаги.
Он выглядел незаметнее и скромнее Стиковича. Стекла, прикрывающие усталые глаза, орлиный нос, тонкие бритые губы, острый профиль придавали ему какую-то инквизиторскую суровость, которую горькая улыбка не смягчала, а делала еще более непреклонной. Девушки смотрели на его худые, красивые руки, он же, ни на кого не глядя, читал одно из своих стихотворений в прозе. В ту пору это был любимый поэтический жанр – все бурлило смелыми замыслами и жаркими страстями, но облекать это в правильную и устойчивую форму ни у кого не хватало ни времени, ни знаний, ни терпения. Читал он глухим голосом, тихо и монотонно, но с какой-то скрытой внутренней силой, которая неприметно подчиняла себе слушателей и заставляла всех замолкать. Даже кое-кто из стариков поднялся со своих мест в гостиной и, стоя у распахнутых дверей, слушал этот тихий, молитвенный голос.
Барышня сидела, съежившись в углу, у самых дверей, мало кем замеченная, и слушала молодого поэта так же, как слушала споры молодежи или граммофон, – рассеянно, хмуро и через силу. Вначале она не понимала ни отдельных слов, ни связи их. Ей казалось жалким и непристойным сидеть вот так посреди комнаты и громко и торжественно читать то, что придумалось ночью, в беседе с самим собой. Это представлялось ей непонятным и чуть ли не постыдным. Но всеобщее безмолвное внимание, голос поэта, тихий, но в то же время сильный и грозный, заставили ее сосредоточиться и слушать внимательнее. Лишь теперь она услышала, о чем говорит поэт. Понимала она не все слова, иногда до нее не доходили целые фразы, недослышанные или непонятые, но из того, что она хорошо расслышала и поняла, ей стало ясно, что речь идет о страшном и кровавом покушении на богатство и богачей, на их деньги, на их образ жизни.
«Сколько я ни ходил по свету,[19] где только ни был, везде мой посох натыкался на камни, и взгляд мой – на дом богачей, и мысль моя – на черствое сердце. Ваша надменность и жестокость исполнили душу мою сначала горечью и страхом, а вслед за тем возмущением и ненавистью, ибо я почувствовал, что нет большего позора, чем быть человеком, и увидел, что Земля превратилась в посмешище Вселенной».Барышня смотрела на свои сложенные на коленях руки и, внимательно слушая, непрестанно спрашивала себя, не обманывает ли ее слух, возможно ли, что все это говорит человек, которому полагалось бы быть умнее и проницательнее прочих людей. «Нет, невозможно, – решала она и боязливо, искоса окидывала взглядом лица слушателей, но они выражали лишь напряженное и молитвенное внимание. – Нет, и все же это невозможно; наверное, в конце какой-нибудь остроумный трюк придаст всему другой, подлинный, здоровый смысл или все обернет в шутку». Между тем поэт продолжал читать, и ни в его тоне, ни в словах не было ничего, что укрепило бы ее надежду. Напротив, этот молодой человек, называемый поэтом, призывал бедняков всего мира отринуть все, что их разделяет, вместе подняться на богачей и захватить их богатство. Здесь не могло быть двух мнений: слова были понятны и смысл ясен. Затем он обращался к богачам:
«Прекрасно поделили вы мир: все для вас и для ваших детей, для детей ваших детей и для ваших слуг. Хорошо поделили вы мир: свет и радость взяли себе, а мрак и горести оставили нам, и теперь судьба каждого предопределена от рождения: вам – светлая, нам – черная. Хорошо поделили вы мир! Ваш раздел страшен, но не вечен. Созреет гнев наш, настанет пора урожая, и даст он горькие, терпкие плоды; дети ваши станут стыдиться своего имени и отрекутся от своего богатства, потому что превратится оно для них в непосильный груз и погибель».Поэт читал дальше, но Барышня вдруг перестала его слышать: кровь бросилась ей в голову. Она почувствовала необходимость немедленно встать и уйти, но не могла решиться на это в той абсолютной тишине и неподвижности, которые царили вокруг нее. Все в ней восставало против этого, по ее разумению, богохульства под личиной молитвы, этого открытого призыва к грабежу, этой дерзостной лжи, произносимой с такой торжественностью, с таким смиреньем на лице и в позе. Она судорожно ломала сплетенные пальцы, чувствуя, что еще немного – и она не выдержит, встанет и уйдет, и пусть о ней думают что хотят. Мысли ее прервали горячие рукоплескания. Поэт закончил. Молодежь дружно аплодировала.
Все они, думала Барышня про себя, все без исключения, и мужчины и женщины, или уже богаты, или с помощью женитьбы, политики или службы рассчитывают разбогатеть и тем не менее восторженно принимают эти стихи. Она поднялась, возмущенная. В дверях стоял огромный Адамсон с каким-то еще более дородным седым господином. Их привлекли аплодисменты. Адамсон показал пожилому господину на поэта, который медленно и смущенно складывал свой лист бумаги, сидя в той же позе, в какой читал:
– Вон тот в пенсне, что сидит посередке.
– Этот? – несколько разочарованно переспросил господин.
– Да, да, этот недоносок. Большевик, каких мало. Барышня с решительным видом прошла мимо них и скрылась в свою комнату. Здесь, думалось ей, она придет в себя, успокоится, ляжет, уснет, и мучительный осадок от всего, что она видела и слышала, исчезнет. Но и это оказалось нелегким делом. Мать спала на другой кровати. Спала? Как сказать – частенько она прикидывалась спящей, чтобы своим присутствием не мешать дочери. Впрочем, неизвестно, когда она тише и незаметней – когда спит или когда бодрствует. Барышню раздражало присутствие в спальне второго человека, она привыкла спать одна. Ей представлялось, что именно это мешает ей думать. Она чувствовала себя словно в западне. Нигде ни покоя, ни уединения. А мысли все время возвращаются к тому, что читал поэт. Она легла, погасила свет, но в темноте ее охватил еще более сильный гнев. О сне не могло быть и речи. Что ни день, этот дом впадал во все большее безумие. Чего хотят эти молодые люди? (Неожиданно в ее памяти возникли довоенные сараевские студенты с набережной. Длинноволосые бездельники, они сидели в черных пелеринах на белом каменном парапете Миляцки и шептались об опасных вещах.) Что это за бессмысленная суета, которую она уже месяцами видит в доме? Что это за люди, называющие себя поэтами, журналистами, националистами или коммунистами, зачем они лезут туда, куда их не просят? И неужто нет никого, кто мог бы призвать их к порядку, на худой конец просто прикончить, но только освободить мир от этой страшной угрозы! Чистое ли это фиглярство и молодечество досужих юнцов перед глупенькими девушками, или речь идет, как ей увиделось сегодня вечером, о настоящем заговоре против денег и богатства, против порядка и разума – короче, против всего, что люди ценят, любят, делают и имеют? Кто ответит ей? Но уже сама необходимость задавать себе подобные вопросы приводит ее в смятение, лишает равновесия и не дает спать. А через стены и двери вместо ответа до нее доносится, словно в насмешку, дикая негритянская мелодия, под которую снова танцуют все, невзирая на различие во взглядах, и которая заставляет ее глубже зарываться головой в подушку. Мучаясь и терзаясь, она решает во всяком случае как можно скорее переехать отсюда, хотя бы ей и пришлось заплатить за дом на Стишской улице ту цену, которую просят и вокруг которой ведется торг вот уже три недели.
Однако то, на что легко было решиться во время ночных терзаний и бессонницы, трудно было осуществить днем, когда гнев ослабевал, а вопрос о цене вставал перед ней во всей своей непреклонности и жестокости. Она перебрала несколько домов, но каждый раз сталкивалась с ловкими и бесцеремонными владельцами, в истинные намерения которых проникнуть не удавалось. Барышня сразу поняла, что белградские дельцы совсем не похожи на вялых и ленивых сараевцев. Она прониклась страхом и уважением к этим крутым и суровым людям, которые умеют стоять на страже своих интересов, а чужие интересы уважают настолько, насколько их хорошо защищают. Однако и хозяева домов, и сам газда Джордже, который сводил их с племянницей, чувствовали, как много силы, осмотрительности и лукавства кроется в старой деве. В конце концов сошлись на доме на Стишской улице, с которого и начались переговоры. Барышне удалось сбить цену до минимального уровня и выговорить себе наиболее выгодные сроки платежей. (Домовладелец, разбогатевший македонец, подписывая соглашение, сказал, что такого выжигу и жмота, как Барышня, он еще в жизни не встречал, хотя больше двадцати лет покупает и продает дома и земельные участки.)
Как только из Сараева прибыли вещи, Райка и госпожа Радойка покинули гостеприимный дом на Смиляничевой улице; госпожа Радойка – с сожалением, а Райка – с радостью, довольная, что освободилась от этой нерасчетливой жизни и общения с шумной толпой молодежи.
Дом на Стишской улице, в стороне от центра, запущенный и сыроватый, со старой сараевской мебелью, расставленной в прежнем порядке, был для Барышней идеальным жилищем. Здесь она снова обрела себя и начала жить согласно своим вкусам и взглядам. Здесь у нее снова появилось ощущение, что ей удается что-то урвать у жизни. В доме было всего две жилые комнаты. Третья, полутемная и сырая каморка, в расчет не шла. Теперь у матери и дочери было по комнате. Хозяйство опять повели скромное и скудное, как некогда в Сараеве. Пища готовилась один раз в день, топили, да и то весьма умеренно, лишь одну комнату. Служанка приходила всего на два часа и делала только самую грязную работу. Жизнь возвращалась в прежнюю колею. Барышня опять взяла в свои руки хозяйство и понемногу стала заниматься делами, но потихоньку и осторожно.
Жизнь Белграда в начале двадцатых годов отличалась пестротой, интенсивностью, необычайной сложностью и противоречивостью. Рядом с множеством разнообразных и значительных достижений существовали невообразимые слабости и недостатки; старый уклад жизни, строгие порядки патриархального мира сталкивались с разношерстным клубком новых, еще не устоявшихся обычаев и всевозможных пороков: нерадивость – с бьющей через край энергией, чистота и душевная красота – с уродствами и мерзостью. Дикая и безоглядная погоня за чистоганом спекулянтов и мародеров всех мастей уживалась с игрой воображения и ума мягкотелых мечтателей и смелых мыслителей. По разрытым улицам с ветхими, запущенными домами, на которых можно было видеть явные следы войны, двигался разноликий поток людей, непрерывно возраставший, ибо в него очертя голову ежедневно кидались сотни пришельцев, как кидаются в морские глубины охотники за жемчугом. Сюда приходили и те, кто мечтал выдвинуться, и те, кто хотел спрятаться. Здесь смешались те, кто защищал свое состояние или положение, оказавшееся под угрозой в переменившихся обстоятельствах, и те, кого привело сюда стремление добиться и того и другого. Здесь было много молодежи из всех краев и областей нового государства, которая все свои надежды возлагала на новые условия и на завтрашний день, и немало пожилых людей, которые пытались как-то приспособиться к новым веяниям и искали спасения в самом водовороте, скрывая страх и отвращение, которые он им внушал. Одних вынесла на поверхность и создала война, других та же война потрясла до глубины души и переродила, и они теперь искали равновесия и покоя. Были изголодавшиеся, плохо одетые, недоучившиеся; были морально уничтоженные и навсегда павшие в собственных глазах, были сытые и наглые, с безграничным аппетитом и отвагой дикарей; были энтузиасты и горячие головы, не заботящиеся о себе, и эгоисты, знающие лишь трезвый расчет; были люди всевозможных вер и убеждений, разных рас и национальностей, всех сословий и профессий; были патриоты, жившие старомодной любовью, наивной верой и неопределенными надеждами на лучшее будущее; были смелые и прозорливые пионеры, которые уже теперь смотрели дальше и видели лучше большинства; были международные шпионы, преследовавшие свои, точно определенные цели. Короче, это была та буйная и пестрая глубинная флора, которую порождают войны и потрясения, а установление мира выбрасывает на поверхность, потому что в наше время и величайшие войны, и самые безоговорочные победы редко и лишь частично решают те вопросы, ради которых воевали и побеждали, но зато непременно ставят великое множество новых мучительных проблем. Именно их разрешения и добивались эти люди. Невозможно даже приблизительно перечислить все то, с чем они пришли сюда, однако с уверенностью можно сказать, что привели их сильные страсти и серьезные, неотложные нужды. Подобно косякам морских рыб, ищущих лучших условий существования, этот людской поток устремился под сень новой власти и новых законов, решив либо их приспособить к своим желаниям и интересам, либо самим к ним приспособиться.
В этой толпе, в воздухе, ее окружающем, царила нездоровая и коварная, но возбуждающая и всесильная атмосфера неограниченных возможностей во всех областях жизни и деятельности. На отрезке между Славией и Калемегданом в полдень или под вечер можно было неожиданно встретить друга детства и благодаря этой случайной встрече уже назавтра проснуться обеспеченным или даже богатым человеком, и никто и не подумает спросить, кто вы и что вы. Но точно так же можно было с полной торбой превосходнейших аттестатов и отличнейших рекомендаций (черным по белому!) неделями обивать пороги учреждений и не добиться правды. Что-то от неистовости и хаоса золотоносного Эльдорадо было в жизни и облике столицы этой великой державы, которая еще не имела ни определенных границ, ни внутреннего устройства, ни окончательно установленного имени. Во всем, как в духовной жизни, так и в материальной, властвовал роскошный и приятный беспорядок в той первой его фазе, когда никто еще против него не восстает, ибо каждый находит в нем свою корысть и черпает надежду на еще большую.
Жизнь нового Белграда еще никем не описана, и это нелегко сделать, но жившие там в ту пору могут и сейчас вызвать ее в памяти и даже физически ощутить, как какой-то особый климат или определенное время года.
В этом Белграде, с его стремительным людским водоворотом, обитает и барышня Райка Радакович из Сарае-ва. Ходит она неслышно и настороженно, глядя прямо перед собой и лишь изредка бросая по сторонам косые, недоверчивые взгляды. Она не сумела бы с уверенностью сказать, чего она все время боится. То ее напугает пролом от гранаты, зияющий в стене опустелого дома, то прохожий, какой-нибудь демобилизованный солдат в коричневой шинели грубого сукна, со споротыми знаками различия. Следы войны рождают в ней страх, однако же не меньше она боится и неистовства новой жизни, которая бурлит и безоглядно мчится мимо развалин и жертв войны. На каждом шагу она видела, насколько жизнь здесь богаче и сложнее, но вместе с тем суровее и опаснее, чем в Сараеве; на вид легкая и веселая, будто забава, а на самом деле коварная и неумолимая, как игра на деньги. Она поняла это безошибочной интуицией людей, предавшихся одной страсти.
Почти каждое утро, и в снег, и в слякоть, и в дождь, и в буран, Барышня спускалась по улице Негоша и обходила банки, а также меняльные лавки, которые, как грибы после дождя, что ни день вырастали на пространстве между отелем «Лондон» и кафе «Коларац». Они еще издали манили и волновали Барышню своими большими, броскими вывесками всего из одного слова «Меняла»; перед каждой лавкой была выставлена черная доска, на которой мелом писали курс девиз на сегодняшний день. В каждой такой «конторе», вернее, отремонтированной на скорую руку узкой и почти пустой лавчонке за новым прилавком рядом с кассой и холодной печуркой стоит какой-нибудь испанский еврей, Анаф или Медина, в зимнем пальто, в шляпе, посиневший от холода, хмурый и неприветливый. Барышня этого не замечает. Впрочем, она сама мрачнее, жестче и бесцеремоннее любого из этих менял. Она облокачивается на прилавок и спрашивает:
– Сколько даете за сербские табачные акции?
– Сколько у вас есть?
– Прилично. Смотря сколько дадите.
Еврей не хочет говорить цены, но Барышня тут же предлагает другие бумаги, расспрашивает о курсах и морочит голову меняле до тех пор, пока не узнает или не догадается обо всем, что ей надо. Тогда она уходит, не прощаясь, ничего не купив и не продав. Скоро все менялы уже знали эту хмурую женщину и, увидев, что притворяться равнодушными или нелюбезными бесполезно, стали разговаривать с ней как с равной. Но на сделки Барышня шла редко, по мелочам и с величайшей осторожностью; она все реже испытывала желание и решимость идти хотя бы на малейший риск и все чаще обращалась к воображаемым, нереальным операциям. Она долго и тщательно вынюхивала наиболее высокую цену на какие-либо из своих бумаг, записывала ее и через две или три недели проверяла, сколько бы она потеряла или приобрела, если бы тогда их продала; воображаемый убыток или барыш она вносила в специально заведенную книгу непроизведенных операций, которую ежедневно перелистывала и читала. Эта игра, которая для нее была гораздо больше, чем игра, доставляла ей глубокие, сильные переживания, и приятные и досадные, расширяя в то же время ее познания и опыт. Зарывшись, как крот, в эту мелкую бесконечную работу, она все. реже вспоминала свою былую мечту о Миллионе и испытывала в ней все меньшую потребность; а если, случалось, и вспоминала, ей мнилось, будто это кто-то другой мечтал о миллионе и рассказал ей о своей мечте. И воспоминание о Сараеве тоже быстро бледнело в ее памяти. Ничто не тянуло ее назад, даже могила в Кошеве, которая сейчас существовала для нее словно где-то в воздушном пространстве, поднятая на недосягаемую высоту. Волнения, которые ей пришлось там пережить, улеглись, потери не казались столь непоправимыми. И только в душе жил страх, как бы и здесь, в Белграде, не возобновились газетные нападки. Этот страх преследовал ее даже во сне. Но опасения ее были напрасны. Бурная и стремительная жизнь столицы, словно джунгли или океан, поглощала и покрывала забвением и добро, и зло, и славу, и позор.
К Хаджи-Васичам она ходила редко, знакомства, которые появились у нее в их доме, были немедленно и прочно забыты. И все же ей не удалось окончательно порвать с этим миром и уединиться так, как бы она хотела. С одной молодой особой и одним юношей, с которыми она познакомилась в самые последние дни своего пребывания на Смиляничевой улице, она продолжала поддерживать отношения и дальше, хотя сама не знала, почему и зачем. Молодую особу звали Йованка Танаскович, она была дальней родственницей госпожи Секи. В доме Хаджи-Васичей Барышне часто приходилось слышать о ее причудах. Однажды она пришла, их познакомили, и очень скоро Йованка привязалась к Барышне.
VII
Йованка! Это весьма распространенное простонародное имя, способное навечно похоронить женщину в море сельских и городских Йованок, в тогдашнем белградском обществе произносилось с особой интонацией и значительностью, словно романтическое и всегда приметное имя какой-нибудь Армиды, Клоринды, Оливии или Кассии, произносилось без добавления фамилии или прозвища, ибо подразумевалось, что Йованка одна в Белграде и целом мире.
Ей было уже за тридцать – невысокого роста, плотная, с крепкими ногами, с решительными и порывистыми движениями, сверкающими карими глазами и пронизывающим взглядом. Кожа у нее была тусклая и серая. Какое бы платье или украшение она ни надела, все сразу становилось на ней серым и убогим. Одевалась же она просто и небрежно и производила впечатление неряшливой, чтобы не сказать нечистоплотной, женщины. Черные густые лоснящиеся волосы были стянуты на затылке. Мужское рукопожатие, солдатский шаг, голос низкий и хриплый от непрестанного курения, быстрый и отрывистый говор дополняли облик этой женщины богемного вида и поведения. Она происходила из почтенной и богатой белградской семьи, окончила университет и имела тьму знакомств и разветвленные родственные связи во всех слоях белградского общества. Родители ее рано умерли, оставив ей, единственной дочери, хорошее состояние в домах, земле и ценных бумагах. Жила она одна, скромно и необычно, не думая ни о замужестве, ни вообще о мужчинах и ничего не требуя от жизни лично для себя. Все в ней было неустойчиво, смутно и непонятно. Трудно сказать, какими соображениями и побуждениями руководствовалась в своей бурной и неутомимой деятельности эта неугомонная и любопытная особа, по-мужски решительная и сильная. Единственным ее желанием и стремлением было вмешиваться в чужие судьбы, планы, страсти и замыслы. Она жила только этим и только в этом видела смысл своего существования. Она поддерживала многочисленные знакомства, сложные и запутанные, с мужчинами и женщинами разного положения и возраста. Казалось, она желала помочь всем на свете и, не имея собственных забот, хотела взвалить на себя чужие. Неслышно, незаметно и бескорыстно она вторгалась в судьбу человека, взятого ею под покровительство, разделяла его стремления, успехи или поражения. При этом она превосходила своих подопечных усердием и активностью, убежденная, что понимает их намерения глубже и защищает их интересы лучше, чем они сами.
В жуткую слякоть или лютый буран она обегала весь Белград, заходила в дома, лавки, конторы. Без галош и зонта, с покрасневшими руками и носом, синими губами, в длиннополом, мышиного цвета пальто, смахивающем на солдатскую шинель, – такой ее можно было увидеть в разрытом и немощеном Белграде 1920 года. Если вы остановите и спросите ее, куда она спешит, она на ходу страстным шепотом скажет вам, что у ребенка одной ее приятельницы дифтерия и она с утра бегает сегодня по городу.
– Вы знаете Загорскую. Она теряет голову из-за малейших пустяков. А он, он еще вчера выехал с какой-то комиссией на место, во всяком случае, он так сказал, и в Белграде его нет. В городской больнице в инфекционном отделении нет свободных коек. Мне удалось найти хорошего доктора, но теперь нет сыворотки. Бегу в амбулаторию. Сказали, что там есть.
И мчится дальше в грязь и туман, маленькая, невзрачная, но несгибаемая и крепкая, как стальное перо.
Или вы видите, как она терпеливо расхаживает перед театром, сунув руки в карманы пальто.
– Что вы здесь делаете, Йованка?
– Жду директора. Подумайте только, эти невежды производят какое-то сокращение и уволили Кирьяковича, молодого талантливого актера, в то время как многих, уже отыгравших свое, оставили, дают им роли, устраивают бенефисы. А он только несколько месяцев как женился. Жену взял из провинции. Сейчас они ждут ребенка, а в доме пеленки нет – пеленки! – и денег ни гроша. Жили как два голубка, но – знаете ведь, как оно бывает, – уже начались ссоры, недоразумения. Она дочь богатого торговца, но отец отрекся от нее, когда она убежала с Кирьяковичем.
Теперь она плачет и грозит вернуться к отцу или броситься в Саву, а он хочет кинуть все и уйти с какой-нибудь бродячей труппой. Вот жду директора. Он мне двоюродный брат. Нужно поговорить с ним и как-то все это уладить.
Вообще не было дела, за которое она не взялась бы ради того, кого считала достойным своего покровительства. Ночи напролет она просиживала у постели больных, давала пристанище приятельницам, сбежавшим от мужей, ходила вместо них к адвокату и в консисторию; хлопотала за брошенных девиц и бедных юношей, которым предстояло держать экзамен или искать службу; неусыпно заботилась о несчастных влюбленных, мирила поссорившихся, спасала должников. Словом, по непонятным побуждениям и не преследуя никаких личных целей, исполняла роль провидения. И действительно, она была совершенно бескорыстна, хотя капризна и неуравновешенна, была преданна и добра до самопожертвования, но в то же время назойлива, злопамятна и мстительна. Путаные судьбы неудачников и страдальцев были ее стихией. Только они привлекали ее внимание, им она с неодолимым упорством навязывала свои советы и услуги, ценные и важные, но потом, когда дела их улучшались, вдруг отворачивалась от них и, как разгневанная, оскорбленная фурия, преследовала их молчаливой ненавистью и тихим оговором. (С первого дня знакомства она всем говорила «ты», однако же после первой ссоры снова переходила на «вы».) Благополучные и незаметные судьбы, люди, которые преуспели в жизни или скрывали свои нужды и горести, ее вообще не занимали. Для них она находила лишь колкие замечания и убийственную иронию, принятую в ее кругу. Зайдет, например, речь о Йоване Симиче, известном белградском геологе, который стал почетным профессором Парижского университета и должен на днях выступать в Сорбонне с публичной лекцией, Йованка лишь презрительно отзовется:
– Знаю я его. Жену бьет. Да еще и ест руками.
Для нее и для большинства тех, кто ее слушает, это все, что надо знать и можно сказать о знаменитом геологе.
Такой была и так жила эта самая Йованка.
Никто никогда не представлял себе ее личной жизни, никто никогда не задавался вопросом: нуждается ли она в чем-нибудь, каковы ее желания и привязанности. По существу, она жила постольку, поскольку около нее жили другие и поскольку ей удавалось принять участие в их жизни. А за жертвы и усилия, на которые она шла для других, она получала двоякое вознаграждение: во-первых, у нее не оставалось времени заботиться и думать о себе а во-вторых, совершенно не имея личной жизни, она могла жить жизнью десятков людей и, словно уродливое и злонравное, но могущественное божество, плести и расплетать нити чужих судеб.
Еще при переселении и устройстве в новом доме Йованка, хоть и незваная, предложила Барышне свои услуги. Она нашла самые дешевые телеги, звонила начальнику конторы пошлинного сбора на пристани, мужу своей хорошей приятельницы, который не мог ей ни в чем отказать, сама водила Барышню в окружной суд, чтобы там с помощью своих знакомств покончить с последними формальностями, связанными с покупкой дома. Барышня принимала ее услуги, хотя и тяготилась ее визитами, которые порой становились слишком частыми и затяжными. Но отказаться от этих визитов она не могла: этих странных и во всем несхожих женщин что-то сильно, хотя и неприметно, сближало и связывало.
За два дня до переселения Барышни из дома Хаджи-Васичей там состоялся еще один вечер, на который были приглашены друзья Миши и подруги Данки и Даринки. Барышня еще не опомнилась после раута, который был дней за десять до этого и на котором ей пришлось услышать невероятные стихи поэта и еще более невероятные восторги молодых баричей, однако из уважения к домашним она решила вытерпеть еще и этот вечер, к счастью, последний. Йованка привела на этот раз одного из своих новых подопечных, которого хотела представить госпоже Секе и ее дочерям. Это был некий Ратко Раткович. Еще раньше она с восторгом рассказывала о нем. По ее словам, он сочетал в себе все наиболее ценимые в то время качества. Выходец из Герцеговины, Раткович, мобилизованный в австрийскую армию, во время боев в Карпатах перебежал весьма драматическим способом на русскую сторону и увел с собой целый отряд герцеговинских сербов. Из России он перебрался в Салоники, добровольцем участвовал в боях при прорыве Салоникского фронта.[20] Сейчас демобилизовался и хочет устроиться на службу в белградское представительство американской автомобильной фирмы Форда, и это, безусловно, ему удастся, ибо он в совершенстве владеет английским и еще во время своего пребывания в Салониках установил крепкие связи с тамошними агентами Форда.
Когда за несколько дней до этого Барышня рассеянно прислушивалась к захлебывающемуся рассказу Йованки о молодом герцеговинце с исключительными способностями и прекрасным будущим, ее грызли собственные заботы, и она не думала, что когда-нибудь его встретит. И вечером, увидев издали статного господина, которого Йованка вела как примерного ученика и представляла гостям, она не вспомнила о нем. Обойдя первый ряд, господин повернулся, подошел к Барышне и, смущенно улыбаясь, протянул ей свою сильную холеную руку. Йованка назвала его, и только тогда Барышня взглянула ему в лицо. Он тоже что-то сказал, и Йованка немедленно потащила его дальше.
Барышня почти не видела и не слышала герцеговинца, потому что при первом взгляде на него в ее голове блеснула и застыла лишь одна мысль: дядюшка Владо! Не в ее обычаях было интересоваться наружностью людей, присматриваться к ним внимательно и пристально. Мужчин и женщин она различала не по одежде, не по наружности, даже не по выражению лица, ибо с тем, что с ранней юности занимало ее в людях, это не имело никакой связи и никак не влияло на ее суждения и оценки. Когда она была еще молоденькой девушкой, она никогда не могла ответить на столь частые среди подружек вопросы: «На кого он похож, как по-твоему?» Первоначальное равнодушие к внешнему облику людей со временем перешло в полнейшую слепоту. Она и сейчас не заметила во внешности герцеговинца ничего особенного или необычного, но стремительность, с какой он обернулся к ней, весь его вид, осанка, улыбка вызвали в ее сознании эти два слова: «дядюшка Владо!» Это было не просто сходство, – перед ней действительно прошло ожившее воспоминание. И когда через некоторое время Раткович, посидев понемногу около каждой барышни и дамы, подсел к ней, ей уже даже не надо было на него смотреть. Все было знакомо. Буйная волна светлых волос, голубые глаза, часто моргавшие и тем скрывавшие внутреннее беспокойство, и главное – щедрая, неуемная улыбка. Только этот дядюшка Владо был выше, шире в плечах, во всем сильнее и решительней. Кроме того, он говорил о том единственном, о чем она любила и умела разговаривать и чего ее дядюшка всю свою жизнь избегал: о деньгах, о делах, о деловых перспективах и планах. Словом, вылитый дядюшка Владо, точно он явился ей во сне и сон несколько изменил его, но от этого он стал ей еще ближе.
Ночь и весь следующий день она думала об этом удивительном сходстве. С тех пор как она уехала из Сараева и поселилась в Белграде, с ней все время происходили какие-то поразительные и странные вещи. К подобным невероятным событиям, связанным с переездом и переменой места, Барышня отнесла и эту волнующую встречу с двойником дядюшки Владо. Постепенно она стала думать о нем гораздо меньше, пока собственные дела и устройство в новом доме совсем не вытеснили его из памяти. Она больше бы о нем и не вспомнила, если бы Йованка не продолжала приходить к ней и в новый дом. Барышня, которая всегда тяготилась ненужными визитами, и на этот раз старалась пресечь их или свести к минимуму. Однако тот, на кого в горах обрушивается снежная лавина, имеет больше шансов на спасение, чем тот, на кого сваливается горячее расположение и покровительственный пыл Йованки. Случалось, что, занятая другими своими многочисленными обязательствами и знакомыми, она не появлялась недели по две, зато потом прибегала два раза на день. Приходила и рано утром, и поздно вечером, в любую пору дня, но непременно каждый раз в другую. Озябшая, промокшая, забрызганная грязью по уши, она врывалась в дом со своими бесценными рекомендациями и бесчисленными советами, с уймой восторженных или гневных рассказов о неизвестных мужчинах и женщинах, чьи судьбы она в тот момент тасовала и направляла. Убежать от этих сентиментальных и ожесточенных излияний было невозможно; все, что человек, вынужденный им внимать, в состоянии был делать, это слушать их вполуха и как можно скорей выбрасывать из головы. Но и это удавалось не каждому, потому что Йованка физически забирала собеседника в полон, с неустанным упорством возвращаясь к волнующей ее теме. Так и Барышне она в последнее время постоянно твердила о Ратковиче, о его честности и трудолюбии, о его стараниях добиться места в представительстве Форда, о трудностях, с которыми он при этом сталкивался, и о своем стремлении ему помочь.
– Ты не представляешь себе, Райка, какой это золотой человек! Какая душа! Доброволец, герой Салоникского фронта, но пользоваться этим, просить кого-то не хочет. Сколько шкурников, разных там евреев и австрийцев, получают от государства концессии и поставки, а ему никак не удается. Теперь вот он внес в министерство строительства одно предложение – что-то по части автомобильных дел. Я пошла к Велевичу, министру строительства, я его хорошо знаю. Говорят, нет в Белграде. А потом стороной узнаю, что он уехал в Вену вроде бы по делу, а в действительности к любовнице. И это министр! Но я сказала шефу его кабинета! Я уж ему прочла мораль, ты меня знаешь! После обеда иду к начальнику канцелярии, Караджичу, домой! Мы с его женой детьми жили вместе во Врачаре. А он был старше нас, толстощекий такой верзила, все дергал нас за косички и гонял, словно в упряжке. Не уйду из его дома, пока не подпишет решение.
Слушая Йованку, Барышня вспоминала молодого человека, которого она видела первый и единственный раз зимним вечером у Хаджи-Васичей, и дядюшку Владо. И в ее воспоминаниях Раткович был где-то далеко, гораздо дальше своего покойного двойника. Но однажды в мае Йованка, придя к ней, стала жаловаться на трудности и препятствия, которые создают Ратковичу бесчестные конкуренты и тупоголовые чиновники.
– С ног сбилась, пока проплясала по всем канцеляриям министерства финансов. Это надо видеть, ты не представляешь себе, что это за конюшни!
– Я знаю, – тихо отозвалась Барышня.
– Нет, не знаешь. Не можешь знать. Это сумасшедший дом, а не государство. Я им так прямо в глаза и сказала. А бедняга Ратко слишком мягкий и добрый, душа человек, вот они и водят его за нос сколько хотят. Требуют от него специальных пошлин, гарантий, свидетельств, хотя ни у кого другого не требуют. А он мнется, вместо того чтобы хватить кого-нибудь по голове – вот тебе и будет гарантия. Да, но я хотела с тобой поговорить. Мы должны помочь бедняге. Сейчас все дело упирается в уплату какой-то пошлины. Я ему уже как-то давала, а сейчас опять нужно. Я подумала, что и ты тоже дашь. Ведь это верное дело. Только бы помочь ему стать на ноги, а дальше он сам со всем справится. И разумеется, все вернет. Ты еще не знаешь, какой это человек! Какой ум, какая душа, какое сердце! Он далеко пойдет. Надо лишь сейчас его поддержать.
Едва только Барышня услышала, что речь идет о том, чтобы кому-то что-то дать, как дым улетучились и мысль о Ратковиче, и воспоминания о дядюшке Владо, и раздражение, вызванное шумным потоком слов; она выпрямилась и подобралась, вся – недоверие и готовность к обороне. Вытянув шею, опустив глаза, она начала тихо защищаться со страдальческим выражением лица:
– Честное слово, Йованка, нет у меня денег. Динара нет лишнего. Налог еще не уплатила ни здесь, ни в Сараеве.
– Ну, ну, перестань, пожалуйста, плакаться. Есть или нет, а человеку надо помочь. Впрочем, я на днях приведу его к тебе, и пусть он сам расскажет тебе о своих планах и нуждах.
Будь перед ней кто другой, Барышня заявила бы, что не нуждается в подобных визитах, и указала бы на дверь. Но с напастью, имя которой Йованка, ни о чем подобном нельзя было и думать, а если и подумаешь, то никогда не осуществишь. Барышне казалось, что в Сараеве, в своем доме или лавке, ей легче было бы дать отпор, да и никто бы не осмелился прийти к ней с таким предложением, но здесь она чувствовала себя связанной и беспомощной.
И однажды Йованка действительно пришла с Раткови-чем. При дневном свете он выглядел еще крупнее и крепче. Все на нем было по-спортивному просто, свободно, красиво и ладно: рубашка, костюм, ботинки. И все вызывало доверие, все выдавало бывалого человека, уравновешенного и непритязательного работягу, который слов на ветер не бросает и знает, чего хочет. А лицо, глаза и улыбка – вылитый дядюшка Вла-до. Это не было миражем одного вечера или игрой сна, – все оказалось на самом деле так. С той лишь разницей, что этот дядюшка Владо был таков, каким Барышня всегда хотела его видеть и каким настоящий никогда не мог стать: выдержанный, деловитый, предусмотрительный и расчетливый, о деньгах говорящий мало, с опаской и чуть ли не с набожностью, которая не могла ее не поразить и не тронуть. В отличие от других молодых людей, бывавших в доме Хаджи-Васичей, он говорил только о своем деле, да и о нем лишь самое необходимое. Говорил, как человек, еще не знающий меры своих сил и полный надежд, но в то же время сдержанно, скромно и ненавязчиво, словно отчитываясь перед самим собой. Барышня слушала его спокойно и внимательно, а подняв глаза, встречала улыбку дядюшки Владо, легкую, безмятежную и щедрую. Она опускала взгляд, слушала дальше и на своих руках, сложенных на коленях, видела его улыбку.
Он рассказывал о своих делах, которые, как всегда, вначале продвигались медленно и трудно, рассказывал, ничего не приукрашивая и не бахвалясь. Говорил и о ней, удивляясь в простых и умеренных выражениях ее способностям, о которых он слышал и которые не часто встретишь и у мужчины. Никогда в жизни никому не удавалось подкупить ее словами или задобрить лестью, потому что точно так же, как была равнодушна к наружности, виду и одежде людей, она была нечувствительна к любезности или нелюбезности собеседника. Но на этот раз случай был совершенно особый. На этот раз перед ней стоял дядюшка Владо, да еще такой дядюшка Владо, каким она мечтала его видеть.
Раткович ничего не просил, ни прямо, ни обиняками, но из его слов явствовало, что ему предстоит еще несколько месяцев тяжкого труда и борьбы, примерно до конца года, после чего его ждет верная победа, если только до тех пор у него хватит средств продержаться. Что касается его лично, ему есть на что жить, но его подкосили пошлины и особенно взятки разным чиновникам. Речь идет о том, чтобы не позволить другим захватить представительство фирмы Форда, а это зависит от государственных поставок, которые прежде необходимо получить. Йованка подала мысль о векселе, который подписала бы она сама, Барышня и один приятель Ратковича. Как только будет заключен договор с фирмой Форда, Раткович получит аванс в долларах и немедленно расплатится. Барышня ответила, что ей почти не приходилось иметь дела с векселями, что с деньгами у нее плохо, и попросила дать ей день-два на раздумье.
На следующий день Йованка пришла снова, и Барышня, вопреки своему желанию и своим убеждениям, подписала вексель на двенадцать тысяч динаров. А немного погодя пришел Раткович, чтоб лично ее поблагодарить. Оставшись наедине с ним, Барышня не могла наглядеться на его улыбку, которая сопутствовала ей с ранней юности, наслушаться его спокойных, рассудительных речей. Однако, когда она глядела на него, это мешало ей внимательно слушать и оценивать то, что он говорил, и, наоборот, когда она слушала, это не давало ей досыта насладиться самым своим дорогим воспоминанием, ожившим таким чудесным образом.
После этого Раткович заходил еще несколько раз. Дважды приезжал в собственном автомобиле, дряхлом «форде», плясавшем по белградской мостовой, как кузнечик, и возил Барышню и Йованку в Раковицу.[21] Но Барышня больше любила, когда он приходил просто посидеть и рассказать ей, в каком состоянии находится его главный проект. При этом он никогда не хвастался, ничего не приукрашал. Напротив. На ее вопросы он всегда отвечал с искренней озабоченностью:
– Ей-богу, Барышня, дела идут так себе. Со всех сторон жмут, боюсь, что не устою. Но ничего не поделаешь, надо бороться!
Очарованная музыкой его плавного требиньского выговора, Райка находила вполне естественным и понятным, что и она вовлечена в его борьбу, не задумываясь над тем, когда она решилась на это, и не замечая, насколько данный поступок противоречит ее прежнему поведению и взглядам. А то, что дела шли медленно и туго, внушало ей не опасение за судьбу векселя, а доселе неведомое сочувствие и желание помочь Ратковичу, но помочь самой, независимо от Йованки. Однажды она дала ему четыреста динаров на оплату двух пространных телеграмм за границу. Через две недели он вернул ей четыре сотенные, а в качестве процентов преподнес изящную плетенку со свежими желтыми мандаринами. Барышню рассердило такое транжирство, но тут же вспомнились милые короткие стычки с дядюшкой Владо из-за его непомерных подарков. Правда, сейчас все было умеренно и скромно. В начале августа Ратко продлил вексель на двенадцать тысяч динаров, а через два-три дня получил от Райки пять тысяч наличными. Барышня и сама не понимала, как это произошло, потому что он ничего не просил. Это было само собой разумеющимся завершением разговора о том, что ему необходимо поехать в Париж и Брюссель и вступить там в личный контакт с главными представителями Форда в Европе. Раткович старательно, своим круглым, крупным почерком, ровным, как мелодия, написал расписку. Срок возврата – первое января 1921 года, из восьми процентов. Это была самая маленькая лихва, на какую когда-либо шла Барышня.
До конца сентября Раткович был в отлучке и посылал Барышне и Йованке открытки. Однажды пришла даже телеграмма из Антверпена. Йованка несколько раз за это время появлялась на Стишской улице. Сентябрь выдался сухой и жаркий. В прохладной и сумрачной комнате женщины садились у окна – Барышня сгибалась над работой, а Йованка, взбудораженная и разгоряченная, ерзала на стуле.
– Ах, что-то долго бродяжничает наш Ратко: и Париж тебе, и Брюссель, а говорят еще, будто Ната Дабичева где-то рассказывала, что видела его в Биаррице. Оно. конечно, Ната ужасная лгунья. Патологический случай. Но может быть, в виде исключения, на этот раз она сказала правду? Страшно меня злит, что наш безобразник не едет и не занимается своим делом на месте.
– Ну, видно, не может человек, – тихо говорит Барышня, ей приятно защищать Ратко; нитка, которую она рвет зубами, кажется ей сладкой.
– Как так не может? Почему не может? Должен приехать. Ведь здесь все готовы его сожрать. Лучший друг его и земляк подкапывается под него в министерстве финансов, хочет обойти его и получить и поставки и представительство, а я даже не знаю, где этот простофиля, чтоб хоть сообщить ему об этом.
– Не упустит он этого дела. Он столько трудился, столько вложил в него, и человек он серьезный.
– Хм, – крутит головой Йованка, – серьезный, серьезный! Разве мужчинам можно верить?
Так и сидят они, словно близкий и родной им обеим человек уехал в большой мир, они одинаково волнуются за его судьбу, и эта общая забота связывает и сближает их. Только для Барышни он значит гораздо больше, чем для Йованки. У Йо-ванки, кроме Ратковича, есть еще много других молодых людей и женщин, которых она опекает и которым отдает свои могучие и неистощимые силы. А для Барышни это первый и единственный случай, целое событие в ее жизни и глубокая тайна: о поразительном сходстве Ратковича с дядюшкой Владо она не сказала ни слова ни Ратко, ни Йованке.
Спустя два дня после этого разговора Раткович появился на Стишской улице. Загорелый до черноты, немного похудевший, необычно усталый и задумчивый. Он рассказал, что дело сделано, что американцы пока колеблются, так как им еще не вполне ясна новая ситуация в Белграде, но что, кроме него, они никого не имеют в виду. Надо только ждать. Барышня глядела на него и слушала, осчастливленная тем, что он вернулся живой и здоровый, и озабоченная его заботой.
Через несколько дней Ратко попросил подписать ему еще один вексель, на этот раз на девять тысяч динаров. Эта сумма необходима ему до конца года, к тому времени все уже решится, и он сможет из аванса расплатиться со своими долгами. И Барышня согласилась. Врожденное и привычное чувство протеста против всякого риска и трат давало себя знать и сейчас, но как-то глухо и слабо, словно под анестезией: она помнила об этом чувстве, знала, что оно сидит в ней, но видела – оно помалкивает и не больно шевелится. Если бы на векселе стояла и Йованкина подпись, она, быть может, и нашла бы что возразить, а так не могла. Она была сверх меры счастлива, что он обратился лично к ней, и только к ней, и что она может одна, без чьего-либо участия оказать ему поддержку и, как мать ребенку, помочь «встать на ноги».
Таким образом Ратковичу без лишних слов и уговоров удалось получить то, что в те дни было ему так необходимо. Он и сам удивлялся этому, когда, все еще улыбаясь, будто продолжал беседовать с Барышней, радостно захлопывал за собой железную калитку. А Барышня осталась сидеть неподвижно, охваченная странным и неизвестным ей прежде чувством богатства, наполненности и широты жизни. Стук калитки подтверждал, что это не иллюзия, что она действительно помогает милому и слабому созданию. В этот миг она сама не знала, кого она поднимает своими заботами и жертвами, некоего ребенка или дядюшку Владо, но только какого-то нового, который согласен работать и слушаться и которого еще можно спасти и вылечить.
С этим новым и смутным ощущением она в те дни и ложилась и вставала. Спроси она себя, что с ней и почему она оказывает почти незнакомому юноше, который ей никто и ничто, такие услуги, каких она никогда никому и не подумала оказывать, она бы не нашла, что ответить. Но подобный вопрос даже не приходил ей в голову.
Вот уже пятнадцать лет, как она самоотверженно трудится и приобретает, ни с чем не считаясь. За это время она никому и гроша не дала без крайней нужды. Отвернулась от общества и людей, со всеми рассорилась, совсем стыд потеряла, сирых и убогих обижала, родичей ни во что не ставила. Обкрадывала и обманывала (то есть совершала поступки, которые по своему существу и конечным результатам были не чем иным, как кражей и обманом), готова была и на худшее, только бы не уменьшить, а увеличить свое состояние. Матери своей отмеряла хлеб порциями, и при этом руки ее дрожали, а брови гневно хмурились оттого, что силы у стариков слабеют, а аппетит остается прежним или даже растет. Себя лишала не только малейших удобств, но и самого необходимого, подчас даже лекарств. И все это делала непоколебимо и последовательно и, вероятно, осталась бы верна себе до конца жизни. Но вот появился человек, не родня ей и не приятель, не брат и не любовник, от которого она сама ничего не требует и не ждет, и она с готовностью, с радостью отдает ему столько, сколько никому и никогда в жизни не давала и не поверила бы, что может дать. И ни раскаяния, ни сожаления. Правда, внезапно проснувшись среди ночи, она испытывала легкое головокружение и страх при мысли, что вчера она подписала вексель на девять тысяч динаров, однако это было лишь рецидивом укоренившейся привычки, в полусне еще имевшей над нею власть. Но, мало-мальски придя в себя, она ощущала новое и неведомое раньше наслаждение оттого, что помогает кому-то «встать на ноги». Она закрывала глаза, и ей казалось, что тот, кому она помогает встать на ноги и сделать первые самостоятельные шаги, не взрослый двадцатишестилетний мужчина, а и на самом деле крошечный румяный карапуз, который, делая свои первые шаги по земле, смеется и заставляет смеяться всех вокруг. Даже и днем, когда иллюзии имеют меньшую власть над человеком и когда она глядела на мир трезво и зорко, она не испытывала ни раскаяния, ни страха, потому что в том, что она дала Ратко деньги, она находила такое же удовлетворение, какое всегда находила в том, что урывала и отнимала у других.
Несколько недель Барышня жила во власти нового сна, не представляя себе ни всей мощи его, ни истинной его природы. Она, как и прежде, занималась своими делами Ничто в ее образе жизни не переменилось. И все же перемены были, хотя замечала их одна Барышня.
Обычно по вечерам она возвращалась домой изнуренная, обескураженная ходом дел (в Белграде всегда кажется, что дела идут хорошо, а на поверку получается не совсем так), измученная булыжной мостовой – настоящей пыткой для ее непривычных ног и тонких суставов. Теперь же по вечерам, оставаясь одна, она с волнением, которое у других людей мы назвали бы нежностью, думала о том, что в этом самом Белграде живет новый дядюшка Владо, лучше и разумнее прежнего, что он ходит по этому большому разрытому городу, стараясь завести собственное дело, чтоб самому начать зарабатывать и приобретать.
Той осенью Йованка уехала на три недели к родным в Смедеревскую Паланку. Ратко в эти дни тоже не появлялся. Барышня почти не ощущала их отсутствия, не замечала, как проходит время. Она жила своей жизнью, бегала по городу, как всегда, деловито, но спокойно, почти беззаботно, словно вдохновленная чем-то, что могло бы быть счастьем, если б только она знала в жизни хоть что-то, похожее на счастье, с чем она могла бы сравнить свое теперешнее состояние.
В середине октября Йованка приехала и, мрачная и сердитая, пришла на Стишскую улицу.
– Ну, как наш авантюрист?
– Не знаю. Больше трех недель не приходил.
– А ты знаешь, что он вовсе и не в Белграде, а в Будапеште?
– Как в Будапеште?
– Так, поехал поразвлечься!
– Да, может, он по делу поехал?
– Не знаю, очень уж мне не по душе эти его дела. И маленькая женщина, вскинув голову, спросила строгим, полицейским тоном:
– Уж не одолжила ли ты ему еще денег?
Барышня, которая могла вынести любой взгляд и хладнокровно отразить натиск самого изворотливого менялы, покраснела и смешалась непонятным для нее самой образом, худшим из всех возможных – так конфузятся добрые, наивные и слабые люди, у которых не хватает смелости, чтоб сказать правду, самообладания, чтоб промолчать, и ловкости, чтоб соврать.
– Нет… То есть да. Я подписала ему вексель. Он попросил, понимаешь. Только до конца года.
– Это было до или после моего отъезда? Барышня взяла себя в руки и соврала:
– После, кажется. Да, конечно, после.
– На сколько ты. подписала вексель?
– На девять тысяч.
– Эх! Ну и дала же ты маху!
– Почему? Ты же сама говорила, что ему нужно помочь.
– Дала ты маху, моя милая. И не делай больше этого. Ни одного динара ему не давай, пока я кое-что не проверю. Мне все кажется, этот герцеговинец что-то крутит, не такой уж он невинный младенец и святой, каким прикидывается. Я разузнаю, в чем дело. А придет он, сделай вид, что ничего не знаешь, прими его хорошо, но денег – ни-ни! Боюсь, как бы нам с тобой в дурах не остаться.
Барышня была скорее оскорблена, чем обеспокоена, скорее разозлилась на Йованку, чем усомнилась в молодом человеке. В таком настроении она встретила Ратко, когда он через несколько дней после визита Йованки появился в дверях ее дома, с улыбкой дядюшки Владо на лице.
спокойный и ничуть не изменившийся. Как всегда, серьезно и озабоченно, он рассказал, что должен был поехать в Будапешт, куда собрались на конференцию все представители Форда на Балканах и в Средней Европе, и что он съездил не зря, ибо его присутствие оказалось полезным и им и ему. Они спрашивали его совета по многим вопросам, касающимся нового государства сербов, хорватов и словенцев, словно он уже был для них своим человеком, и у него создалось впечатление, что дело в принципе решено. Конечно, еще потребуются усилия и расходы, но самое позднее к Новому году все разрешится благополучно.
Когда он помянул расходы, Барышня, неприметно вздрогнув, увидела перед собой вскинутую голову Йованки. Быстро пронеслась мысль: дать или отказать и как? Однако Ратко ничего не просил. Так разговор и окончился – щедрой улыбкой и рассудительными словами, исполненными надежд. Барышня проводила его, немного пристыженная, недовольная собой и пуще прежнего сердясь на Йованку.
Это было в пятницу. А в понедельник у Барышни случилось дело в управе. Покончив с ним, она шла домой под холодным проливным осенним дождем, судорожно сжимая в руке зонтик. Перед университетом она столкнулась с женщиной, которая вылетела из ворот, словно ее оттуда вышвырнули, и запуталась в ее низко опущенном зонте. Прежде чем дело дошло до брани или извинений, Барышня увидела, что стоит лицом к лицу с Йованкой, которая с места в карьер пустилась в разговор, да так живо и непринужденно, словно они его и не прерывали:
– Тебя-то мне как раз и нужно. Нам надо с тобой поговорить. Завтра во что бы то ни стало зайду. Твой распрекрасный Ратко негодяй, аферист и бродяга. Только что я говорила с одним человеком. Теперь мне все ясно.
– Что ясно?
– Все. Тебе тоже станет ясно, когда услышишь. Но сейчас мне некогда. Бегу к одному своему школьному приятелю, чтоб проверить еще кое-какие подробности. Мы его поймаем с поличным. А деньги – пиши пропало! Я одна дура – приняла самого отъявленного негодяя и мошенника на земле за величайшего патриота, борца и человека с будущим и помогала ему, а ты – вторая. Знай хотя бы это. А если этот красавчик переступит твой порог, гони мерзавца метлой. До свиданья!
И Йованка исчезла в толпе, которая, невзирая на непогоду, толклась у дощатых домишек и прилавков на базарной площади перед университетом.
В смятении Барышня медленно и с трудом шагала навстречу ветру, который бил в лицо мелким ледяным дождем.
Йованка не пришла ни завтра, ни послезавтра – ведь это было бы исключением из ее правил, имя которым: неразбериха и внезапность. Она пришла ранним утром на третий день и продолжила свой рассказ, начатый перед университетом, так, будто и не прерывала его.
– Я все узнала. Все улики у меня в руках, – восклицала она чуть ли не с радостью.
И, колотя по столу маленьким, сильным кулачком, который и по силе и по опрятности мог бы принадлежать подмастерью, рассказала, кто такой Ратко Раткович и каков действительный образ его жизни.
Из по-воровски живописного и выразительного рассказа Йованки стало ясно, что она сделала то, что ей следовало бы сделать в самом начале знакомства. Она отыскала двух земляков Ратко, молодого ученого и фабриканта. Они были сверстниками Ратко, знали его с детства, встречались с ним во время войны и поддерживали знакомство и здесь, в Белграде. Сведения, полученные от них, полностью совпадали и были для Йованки настоящим открытием.
Знакомясь с новым человеком или сталкиваясь с каким-либо фактом, Йованка в силу своего нрава должна была немедленно определить свое отношение к ним, которое она тут же переносила на весь мир, а отношение это всегда сводилось либо к безоговорочному восхищению, либо к крайнему негодованию. Точно так же она была не в состоянии передавать чей-то рассказ, не имитируя манеры речи и поведения говорящего, не описывая картинно и утомительно его личность и среду, в которой он живет.
Однако на этот раз она была настолько взволнована, что прежде всего выложила голые факты. Правда, их она узнала в основном от фабриканта, сухого и черствого человека, ничем другим ее не заинтересовавшего. А узнала она вот что.
Ратко был единственный сын в бедной семье и с самого раннего детства проявлял удивительную склонность к изысканности, мотовству и безделью. Друзья прозвали его за это «Графом». В сущности, он был добрый малый, и товарищи его любили. Он всегда готов был похлопотать, помочь любому, не требовал возврата долгов, но и сам не имел привычки их отдавать. Из шестого класса Мостарской гимназии его выгнали за слабую успеваемость, беспорядочный образ жизни и недозволенные махинации с чужими деньгами. Тогда он уехал с одним венгром в Будапешт и через год вернулся в Мостар агентом велосипедной фабрики. Когда в 1914 году разразилась война, он вместе со своими сверстниками был мобилизован и направлен на русский фронт. В 1915 году ему в самом деле удалось перебежать к русским и привести с собой роту сербских солдат. Это был рискованный и смелый подвиг. Из России он перебрался в Салоники, однако там он уже не воевал: его прикомандировали к интендантству. Там же он связался с английским интендантством. Несколько раз ездил со всевозможными комиссиями в Англию. Но перед самым концом войны в интендантстве выплыли наружу кое-какие неполадки. Арестовали одного офицера и двух унтер-офицеров; одним из унтер-офицеров был Ратко. После прорыва Салоникского фронта их без суда освободили. Никто по-настоящему не знал, ни за что они арестованы, ни на каком основании освобождены. Но говорить об этом перестали. Здесь, в Белграде, Раткович действительно оказывал мелкие услуги английским предприятиям, поскольку он разбирался в автомобилях и знал английский. Платили ему сдельно, то есть за каждое выполненное поручение, но о том, чтоб он стал представителем мало-мальски значительной фирмы, не было и не могло быть речи. А предложения, с которыми он обращался в министерство финансов и министерство строительства, исходили, несомненно, от третьих лиц, которые были заинтересованы в фиктивных конкурентах для того, чтоб успешнее продвигались их собственные дела, и которые платили ему за это. В сущности, у него нет настоящего и определенного занятия и никогда его не будет, во-первых, потому, что никто и никогда не доверит ему товар и кредит, и, во-вторых, потому, что ему не хватает упорства и серьезности. Собственно, Ратко неплохой человек, напротив, у него доброе сердце, он воспитан и вылощен, словно аристократ, но в то же время легкомыслен до наглости и больше всего на свете любит красивых женщин, развлечения и забавы всякого рода. Он из тех людей, которые никогда не угомонятся и не возьмутся за ум, а всю свою жизнь будут играть собой и целым миром. И сейчас, если не говорить об этой почти бесполезной беготне по министерствам, его главным занятием являются ночные бдения в веселой компании. В последнее время он проводит все ночи с одной и той же компанией в отдельном кабинете «Казино».
Эта пестрая и разношерстная компания состоит из дельцов и политиков, пионеров коррупции, коренных жителей Белграда и пришельцев, адвокатов, журналистов, маклеров, а также случайных лиц, которые пока лишь ожидают включения в одну из этих общественных категорий. Сборище людей, не связанных ничем, кроме непрочного приятельства на почве пьяного разгула, захватывающего постепенно всю столицу, словно худая трава – дорогу. Столпом этого общества, своего рода его председателем является один адвокат, приехавший в Белград с той стороны Дуная,[22] уже открывший здесь свою контору и успешно наладивший дело.
Недели за две до описываемых событий в Белграде открылось первое после войны кабаре. Звездой его стала некая парижская diseuse[23] по имени Карменсита, безголосая и немолодая, но очаровательная и артистичная. Она выходит на эстраду в испанском костюме violetera[24] и поет песенку о фиалках, которую уже насвистывают на улицах белградские подмастерья. С той же песенкой она спускается с эстрады и предлагает посетителям живые фиалки, получая от веселящихся господ за каждый стебелек крупные банкноты. Во всех белградских газетах была помещена фотография Карменситы в сопровождении искусной и яркой рекламы. Но и без этого мест в кабаре никогда не хватает и деньги швыряются напропалую. Карменситу привез в Белград Ратко Раткович. Он познакомился и сошелся с ней в Биаррице, где был этой осенью. Возвратившись в Белград, он выхлопотал ей ангажемент у владельца «Казино», венгерского еврея, который как раз открыл свое кабаре. Ратко поехал в Будапешт, чтобы встретить там Карменситу и уговорить ее переехать в Белград. Одни говорят, что он получает свою долю с ее высоких заработков, другие – что он из-за нее влез в долги. Во всяком случае, они по-прежнему близки.
Таковы были сухие и неопровержимые факты, которые сообщил Йованке фабрикант. Все это в основном подтвердил и молодой ученый-этнограф, будущий доцент университета. Йованка познакомилась с ним несколько дней назад специально для того, чтоб получить сведения о Ратковиче, что называется, из первых рук. Герцегови-нец произвел на Йованку весьма благоприятное впечатление. Взбешенная Ратко и его обманом, Йованка, слушая тихий рассказ молодого человека, уже решила взять его под свое покровительство и с помощью своих связей пробить ему дорогу в университет и в общество. Поэтому сейчас она чувствовала потребность повторить рассказ герцеговинца и описать как его самого, так и весь ход разговора до мельчайших подробностей.
Герцеговинец – законченный тип бессребреника и честного ученого. Живет он скромно и уединенно, целиком отдавшись науке. (Занимается он изучением психологии человека динарской расы.[25]) Он худ и бледен, словно отшельник. Рот скрыт густыми короткими усами, а лохматые щетинистые брови точно стрехой затеняют добрые, близорукие глаза, утомленн ые чтением. Подобно всем людям, отдавшимся одному делу, но не имеющим возможности высказываться с кафедры или в печати, он любит говорить и говорит живо и увлеченно, как по-писаному. Не зная, для чего Йованка расспрашивает его о бывшем школьном товарище, он анализировал жизнь Ратковича совершенно объективно и доброжелательно, рассматривая ее то как пример типичной аберрации средиземноморско-динарского типа, то как общее явление, характерное для военных и послевоенных условий существования в отсталой и неустоявшейся среде.
– Существует такой тип человека – динарский, – закончил герцеговинец свой анализ Ратковича, – сложный и до сих пор мало изученный, в котором рядом, в неразрывной связи живут два человека: один храбрый и честный, другой – боязливый и морально ущербный.
– Подлец и трус, – сухо перебила его Йованка, будто переводя язык научного труда на общедоступный.
– Нет, нет, пожалуйста, не поймите меня превратно. Здесь множество нюансов и отклонений, без учета которых всякий вывод будет преувеличенным и в основе своей неточным и несправедливым. Эти два характера в одном человеке сталкиваются, переплетаются и могут ввести в заблуждение не только окружающих, но и самого их носителя, и он живет в полном неведении относительно себя, своих нравственных качеств, подлинного значения своих поступков. Молодость – критическая пора в жизни таких людей. В это время характеры сгибаются и ломаются в ту или другую сторону, и жизнь их может пойти как по пути постоянного созидания, так и по необратимому пути порока и безделья.
Говорить Йованке о нюансах и различиях в мнениях и оценках было все равно что говорить слепому о цвете и его оттенках.
– Это просто-напросто подлость, вот что я вам скажу, профессор, – ответила Йованка на все ученые и утонченные рассуждения молодого этнографа.
Та же судьба постигла и прочие толкования общего характера, какими тот старался объяснить исключительность условий, в которых живет нынешняя молодежь.
– В периоды, непосредственно следующие за долгими и тяжелыми годами кровопролития и страданий, – объяснял он Йованке, – молодые люди воспринимают свою молодость не такой, как она есть, то есть не как короткий отрезок времени в жизни каждого поколения, а как особый дар божий, который лишь однажды, в виде исключения, свалился на них с неба, словно чудесный сгусток силы и красоты. Все, что они испытывают и видят вокруг себя, представляется им нежданным подарком, уцелевшим благодаря слепому случаю среди всемирного потопа, чтоб дать им возможность победоносно и упрямо шагать по безмерной и безграничной жизни.
– Знаю, в чем дело. Это не государство, а сумасшедший дом. Одни жулики и дармоеды.
Этими словами Йованка закончила разговор с герцеговинцем, уже твердо решив взять его под свое попечение и «протолкнуть» в университет, вопреки желанию старых профессоров, которые, «словно мумии», стоят на пути молодых сил, но прежде разоблачить Ратко Ратковича, заставить его выплатить долги и, самое главное, ославить на весь мир.
Поэтому она сразу пришла на Стишскую улицу, чтоб выработать план действий.
Слушая пространный Йованкин рассказ, Барышня в смятении глядела в сторону. Холодная, тревожная дрожь пробегала то по шее, то по спине, проникая все глубже внутрь. Барышня страстно хотела, чтоб оказалось, будто Йованка ее обманывает, – обманывается сама или лжет – все равно, лишь бы то, что она говорила, было неправдой, и в то же время вся она коченела от напряженного усилия ничем не выдать и не показать это свое желание. И чем резче звучали слова осуждения и неприязни, тем глубже пробирался в нее страх и тем сильнее поднималась откуда-то со дна ее души потребность защитить Ратко от этой страшной Йованки, выступить против всех и вся, против самой очевидности. Но легче было бы защитить его от целой армии государственных обвинителей, чем от этой женщины – невыносимой, когда она любит, и теряющей рассудок, когда ненавидит. Единственное, что удалось Барышне, это время от времени цедить туманные слова сомнения в греховности Ратко:
– Посмотрим. Я думаю, лучше всего с ним поговорить.
С ним говорить? – обрывала ее хриплым голосом Йованка. – Я с аферистами не разговариваю. В своем ли ты уме? Какая наивность! Ты, кажется, еще веришь этому негодяю? Так я и знала. Вот я тебя сегодня вечером отведу в одно место, чтоб ты своими глазами увидела и своими ушами услышала, что за фрукт этот твой распрекрасный Ратко, чтобы ты сама увидела и услышала, чтоб сама во всем убедилась, коли не хочешь верить тому, что люди говорят.
Волна горечи захлестывала Барышню, на язык просился логичный и естественный ответ – Ратко совсем не «ее», а, наоборот, Йованкин; Йованка привела его к ней и так горячо рекомендовала и расхваливала, что наконец заставила ее подписать ему первый вексель. Она хотела сказать и могла доказать ей это, но у нее не было сил, она чувствовала себя странно беспомощной и чуть ли не парализованной перед этим упрямо разверстым ртом, который еще ни разу не признал ни малейшей своей ошибки и который был способен оглушить весь мир дерзкими словами. Такие слова не имеют никакого отношения к лжи и к правде, они вне всякой реальности, они сами по себе неоспоримая реальность. Потом, оставшись наедине с собой и лишь на мгновенье задумавшись, понимаешь, что нет ничего проще, чем доказать полнейшую несостоятельность каждого из этих слов, но, сталкиваясь с ними непосредственно, ощущаешь свою полную беспомощность и желание укрыться от них, как от стремительного потока горячей лавы. И Барышня молчала, хотя молчание стоило ей дорого. И чем сильнее раздирали ее противоречивые чувства возмущения, постыдной слабости и необъяснимой растерянности, тем меньшее сопротивление она могла оказать разъяренной Йованке. Сама поражаясь своей слабости, она не находила ни слов, ни решимости, чтоб выйти из-под ее власти.
А Йованка излагала задуманный ею проект показать Барышне Ратко в его собственной стихии, чтоб она, Барышня, наконец убедилась и увидела своими глазами, что у него за «дела» и куда уходят деньги, которые они ему дают. О подробностях своего проекта она говорила с незатихающей яростью, словно теперь главное этот проект, а не постигшее их разочарование и пропавшие деньги. Она уже все устроила. В «Казино» электромехаником и «начальником по технической части» работает по ночам некий Йошка, который днем служит у одного ее родственника, владельца мельницы на Сеняке. С этим Йошкой она обо всем договорилась. Вечером, в начале двенадцатого, они вдвоем пойдут в «Казино». Во дворе их встретит Йошка и проведет через боковой вход в маленькую пустующую галерею, откуда они смогут, никем не замеченные, видеть сверху кабинет, где Ратко каждый вечер в сомнительной компании кутит и проматывает деньги. Увидят они и Карменситу – она в это время обходит кабинеты и собирает чаевые. А потом они смогут незамеченные и неузнанные уйти тем же путем, что и пришли.
Барышня слушала все это так, словно Йованка излагала какой-то свой путаный сон, а не реальный план, который должен быть осуществлен уже сегодня вечером, да еще с ее участием. Спроси у нее кто-нибудь, вправду ли она собирается рыскать по темным галереям ночных кабаков, в которых царят расточительство и разврат и о которых она даже в книгах не любила читать, она решительно отреклась бы от этого, как от безумной, оскорбительной и невероятной затеи. Она и отказывалась, только ей это нисколько не помогало. Йованка вошла в раж. Слова сыпались, воспламеняясь друг от друга наподобие фейерверка, и сливались в залпы, от которых воля Райки слабела и всякая мысль о сопротивлении угасала. Не соглашаясь на предложения беснующейся Йованки и в душе не веря, что вообще может на них согласиться, она в конце концов сдалась и с холодней яростью подчинилась ее воле. Но перед этим сделала последнюю отчаянную попытку воспротивиться этому бессмысленному походу:
– Знаешь что, Йованка? Я не пойду.
– Ну вот. Как так не пойдешь?
– Не пойду. Ты иди, если хочешь.
Как так: «Иди, если хочешь?» – взвизгнула Йованка. – Я из-за тебя целую неделю бегала, с ног сбилась, а теперь, когда я вывела его на чистую воду, – «Я не пойду», «Иди, если хочешь»? Ты обязана пойти вместе со мной, обязана! Что это за ломанье? Негодяй украл столько денег, обвел нас, как маленьких, а мы и пальцем не пошевельнем? Ему это даром не пройдет, но прежде я хочу, чтоб ты сама во всем убедилась. Ты должна увидеть все собственными глазами!
Когда Йованка помянула деньги, у Барышни где-то в глубине души болезненно затрепетало полуотмершее чувство сожаления и утраты. Она не могла поверить, что обманута, что пустила на ветер столько денег, точно так же как не могла поверить, что отправится в ночную пору по сомнительным заведениям. Но она уже чувствовала, как отступает и сдается, бессильная, словно во сне, перед возгласом Йованки, бичом резанувшим воздух: «Обязана!»
Около десяти часов Йованка пришла на Стишскую улицу и постучала в слабо освещенное окно подле калитки. Барышня открыла ей дверь. Некоторое время женщины сидели при тусклом свете электрической лампочки, принужденно и вяло беседуя. В комнате было прохладно, и они сидели в зимних пальто, напоминая двух несчастных путниц, тщетно ожидающих поезда на глухом полустанке. Йованка не переставая курила дешевые и крепкие французские сигареты и рассказывала кое-какие детали из жизни тех, кто в настоящее время находился под ее покровительством и защитой. Барышня, то и дело покашливая, слушала. О Ратко не было сказано ни слова. Через полчаса Йованка встала и предложила двигаться. На дворе стояла сырая и холодная октябрьская ночь. Дул сильный ветер. Тщательно запирая калитку и озабоченно оглядывая окна дома, который она впервые оставляла в такое неурочное время, Барышня дрожала от холода и скрытого возбуждения. Она тяжело и неуверенно ступала по неровной мостовой Александровской улицы – плохо освещенной и грязной. Спотыкаясь, хваталась за Йованку, вышагивавшую на своих коротких крепких ногах, как рекрут. Почти в полночь подошли к Теразиям. Здесь было светлее и оживленней. Из «Тополы» и других маленьких кофеен, расположенных в первых этажах домов по обе стороны Александровской улицы у выхода ее на Теразии, доносились приглушенные звуки пения, музыки и людской гомон. По вздрагивающим и запотевшим окнам можно было догадаться, что кофейни битком набиты веселящимися людьми, которые едят, пьют, танцуют и поют. Согнувшись от ветра, женщины завернули за угол и вошли во двор «Казино».
Темный двор освещали лишь окна кухни. Одно было открыто, и из него валил густой пар. Пахло жирной едой и конюшней. Слышались возгласы кельнеров, заказывающих блюда, разговоры и перебранка поварих и слуг, звон тарелок и кастрюль. Барышня держалась за руку Йованки. Из стремительно распахнувшихся дверей выбежала ядреная раскрасневшаяся женщина с огромным баком в руках и чуть было не окатила их помоями, которые, подавшись всем телом вперед, она выплеснула во двор. Они вошли в узкий коридор и стали подниматься по слабо освещенной лестнице. Барышня оторопело глядела прямо перед собой. Наконец она услышала, как Йованка кого-то спросила:
– Где Йошка?
– Наверху, в ложах, – ответил мальчишеский голос. Йованка устремилась вперед, стиснув зубы, суровая и мрачная, словно богиня правды и возмездия. Барышня изо всех сил семенила за ней через какие-то полутемные узкие помещения, заваленные ящиками, бочками, ширмами, занавесями, непрестанно ударяясь локтями и коленями о невидимые предметы. В застоявшемся воздухе пахло пылью и карбидом. Поднявшись на второй этаж, в длинном и более светлом коридоре они столкнулись с рыжеволосым и рыжеусым человеком в замасленной робе с засученными до локтя рукавами. Йованка поздоровалась с ним, и он тут же повел их в конец коридора. Барышне показалось, что на лице его видна легкая усмешка, какая бывает у взрослых, когда им случается играть с детьми. Парень учтиво отворил узенькую дверь и пропустил их вперед. Они снова очутились в почти полной темноте. Лишь где-то в глубине, словно через плотные занавеси, пробивался слабый свет и откуда-то снизу доносились веселые возгласы и звон бокалов. Женщины на цыпочках приблизились к свету. Здесь и в самом деле были тяжелые занавеси из сукна. Йованка слегка раздвинула их и посмотрела вниз, потом быстро отпрянула и, ни слова не говоря, толкнула на свое место Барышню.
В узкую щель Барышня в первое мгновение увидела лишь яркий свет и белую стену напротив. Пахнуло теплым спертым воздухом, смесью табачного дыма и всевозможных испарений. Опустив взгляд ниже, она увидела прямо под собой узкую комнату, которую почти целиком занимал длинный стол, сплошь уставленный тарелками, бокалами и разнообразной снедью. Вокруг стола сидело пять-шесть мужчин. Барышня поняла, что они с Йованкой находятся на галерее, а внизу – тот самый кабинет, о котором Йованка ей говорила. Она была настолько возбуждена, что в первую минуту в глазах у нее все дрожало и расплывалось, но потом, когда она немного пришла в себя, картина, открывшаяся ей, приобрела устойчивость и четкость, и теперь она могла следить за выражениями лиц, движениями и голосами, словно на киноэкране. Прежде всего ей бросился в глаза Ратко – светловолосый, с почти мальчишеской физиономией, он резко выделялся среди других мужчин, в большинстве своем отяжелевших и грузных. Он вел себя сдержаннее других, но то и дело закидывал голову и громко, весело смеялся. Это придавало ему блаженный и дурашливый вид, какого она у него никогда не замечала. И остальные его приятели кричали, беспорядочно махали руками, хохотали, хлопали в ладоши. Все беспрестанно что-то ели и запивали вином из тонких бокалов.
Вся эта сцена, увиденная в таком необычном ракурсе, выглядела безумной и призрачной. Сдерживая дыхание, забыв, где она и что с ней, Барышня продолжала смотреть, как кутит уже сильно подвыпившая компания. Во главе стола сидел толстый желтолицый мужчина, с черными волосами, с густыми черными подстриженными усами. Он держался степеннее всех и лишь время от времени большим платком утирал пот с толстой шеи. «Адвокат тот самый», – определила Барышня. Она уже следила и за их разговором, если можно назвать разговором оглушительную и веселую мешанину слов, смеха и возгласов. Она понимала каждое слово, но собутыльники перебивали друг друга, заглушая смехом и гамом любую попытку довести фразу до конца.
– Да дайте же наконец человеку прочесть стихи, – говорил адвокат ленивым и небрежным тоном и добродушно махал рукой полному и бледному господину в больших очках, уже поднявшемуся на противоположном конце стола с листком бумаги в руках и тщетно ожидавшему тишины.
– Да, да, да, давайте-ка послушаем.
– Сядь ты, на самом деле, зачем это надо! Я не выносил стихов, даже когда в школу ходил! – кричал низенький прыткий толстячок с покрасневшим от вина лицом. – Дайте ему прочесть!
– Давай, поэт, смелей!
Поэт, совершенно трезвый, готовый к действию, как заряженная винтовка, воспользовался мгновеньем относительного затишья и, хотя кое-кто еще продолжал переговариваться, жевать и чокаться, сладким баритоном начал читать стихи:
БЕЛГРАД Мой город стоит меж двух рек. Устремленные ввысь, темные силуэты Режут звездный узор, А лунный серп, серебряный рыцарь, Уходит в сады созвездий Дыханье моего города, причудливое, вихревое, свободное, Поднимаясь над всем, летит высоко-высоко И в кружение самых далеких планет Несет с неодолимой отвагой смелые арки Прекрасной архитектуры будущего…– Ох, помереть впору от твоих стихов, – прервал поэта низенький толстяк, с детства не выносивший поэзии.
Поднялись голоса возмущения:
– Замолчите, пожалуйста!
– Заткнись, пьяный болван, раз ничего не смыслишь, дай бедняге заработать малость.
– Пардон, пардон, господа, – кричал тощий, длинноволосый, с примерной тщательностью одетый господин, – пардон, это недоразумение. Дело вовсе не в заработке. Наш друг преследует совершенно иные цели. От нас ему ничего не надо, напротив, он хочет нам доставить редкое удовольствие. Это наш первый космический поэт.[26] Теперь, когда и мы вступаем в сферу культуры…
– Хватит, хватит, браток! Ты аптекарь, с тебя и того довольно!
– Дайте поэту слово!
– Однако кто привел эту поэтическую напасть портить нам настроение? – проговорил кто-то спокойным и низким басом, словно только что проснувшись.
Замечание вызвало общий смех. Но длинноволосый тощий щеголь, о котором стало известно, что он аптекарь, упорствовал. Встав с места, он кричал во все горло:
– Господа, умоляю вас, дайте слово поэзии! Поэты – высшие создания, их надо уважать.
– Что, что? – визжал низенький господин, бегая, растопырив руки, вокруг стола. – С чего это я стану его уважать? Да будет тебе известно, я никого не уважаю! Я из Палилулы.[27] Мне на всех наплевать. Даже на господа бога! Понятно? А эту твою бестолочь я и слушать не желаю! Понимаешь? Не желаю, и все тут!
Адвокат во главе стола только отмахивался, трясясь от смеха и вытирая с затылка пот. Поэт, по-прежнему торжественный и невозмутимо серьезный, после некоторого колебания сел на место и свернул листок. Между аптекарем и палилулцем, который не выносил стихов и служил, как выяснилось из разговора, таможенным арбитром, завязался громкий спор о культуре и поэзии. Они так кричали, что невозможно было разобрать голоса других. Но неожиданно шум прекратился и разговоры стихли. Все разом повернулись к невидимой двери, находившейся где-то под галереей, на которой стояла Барышня; лица у всех посветлели и расплылись в улыбке.
С высокой испанской наколкой из черных кружев на голове и большим букетом фиалок на груди, шурша роскошным широким платьем из негнущегося шелка цвета ореховой скорлупы, в комнату вплыла Карменсита.» Левой рукой она придерживала на кринолине плоскую корзинку с крупными, совершенно темными пармскими фиалками, связанными в маленькие букетики. За ней вошла девочка с такой же корзинкой, в которой лежала груда крупных банкнот.
Барышня судорожно сжала кулаки, впившись ногтями в занавесь.
Лишь теперь, когда пьяная компания наконец умолкла, можно было услышать, что Карменсита тихо поет песенку с механически затверженными сербскими словами:
О сеньоры, сеньориты, Купите вы у Карменситы Фиалки голубые эти, Что счастливей всех на свете Сделают вас в эту ночь.Голос у нее был высокий и приятный, произношение небрежное и неясное, движения в ритме песни грациозные и уверенные. Она не успела еще подойти к столу, как орава беснующихся мужчин была укрощена. Напевая песенку, она брала из корзинки букетики фиалок и вдевала их каждому в петлицу сюртука, и каждый бросал в корзинку, которую подставляла девочка, по банкноте. Воплощение музыки, радости и пленительной беззаботности, Карменсита, казалось, и не подозревала о существовании девочки с корзинкой. Низенький толстяк, не выносивший стихов, сразу присмирел, притих и смотрел прямо перед собой; чтобы скрыть замешательство, он выхватил из своего толстого бумажника пачку банкнот и широким жестом бросил девочке. С фарфорового лица Карменситы не сходила улыбка, открывавшая белоснежные зубы и игравшая в затененных длинными ресницами глазах. Она с трудом пробиралась между стульями и стеной – мешал широкий кринолин из шуршащего шелка. Все давали ей дорогу и смотрели на нее с восхищением и робостью. Только Ратко держался свободно и непринужденно. Бросив свою банкноту, он нагнулся, чтоб ей было удобней воткнуть букетик в петлицу, взял ее руку и осыпал ее поцелуями до локтя. Карменсита прервала свою тихую песенку: «Laisse-moi tranquille, Ratko! Voyons, laisse-moi passer, mechant gars»,[28] – сказала она звонко и ясно.
Лицо ее ослепляло кремом, яркой помадой и привычной, уверенной улыбкой опытной укротительницы. Ловким, изящным движением она высвободила руку и в мгновенье ока оказалась на противоположном конце стола, продолжая напевать песенку и оделять гостей фиалками. Обойдя всех, она театрально раскланялась и исчезла вместе со своей песенкой и девочкой, которая несла корзинку, полную банкнот. Ратко, смеясь, сыпал ей вслед французские слова, глаза у него горели.
Барышня почувствовала, что комната с пьяной компанией застилается туманом. Сукно занавесей, которое она держала в руках и прижимала к щекам, жгло огнем, но она не решалась его выпустить, потому что ей казалось, что пол под ней провалился и она висит над бездной, судорожно уцепившись за одни эти занавеси.
Летящие в корзинку деньги, бесстыжие поцелуи, широкая улыбка, которая представлялась ей и мерзкой, и глупой, и подлой и которая выглядела невероятной на лице Ратко, – все, все было непристойно и гадко до боли. И этот неизвестный ей странный язык, живой и свободный, с обилием полнозвучных гласных и острых фраз, которые взлетают в воздух, словно ожерелья искр или рой молний, язык, совершенно противоположный ее глухому и тяжелому боснийскому выговору, и он казался ей живым выражением разврата, не сознающего своей греховности, воплощением падения и измены Ратко.
Ей захотелось выпустить из рук занавеси и упасть на пол, в бездну, куда угодно, лишь бы не видеть того, что было у нее перед глазами. Но за своей спиной она слышала теплое дыхание Йованки, возвращавшее ее к действительности.
Когда кровавый туман гнева и стыда, застилавший ей глаза, чуть разошелся, пьяная компания уже расселась по своим местам. Лишь фиалки в лацканах сюртуков говорили о том, что по комнате призраком прошла Карменсита. Правда, за столом теперь сидели две девицы из варьете, обе блондинки, обе хорошенькие, похожие друг на друга, как родные сестры, в одинаковых вечерних платьях из бледно-зеленого шелка. Деревянными палочками они мешали шампанское в низких бокалах. Все смеялись шуткам, которые отпускал писклявым голосом, сопровождая их резкими жестами, таможенный арбитр, не выносивший стихов. Только поэт сидел неподвижно, как сова, в своих больших круглых очках с толстыми стеклами. Между Ратко и таможенным арбитром шла пьяная дружеская перебранка, вызывавшая взрывы общего смеха.
– Платить за шампанское должен ты, – говорил Ратко. – Тебе легко. Стакнешься разок-другой с таможенником, оценишь шелк, как хлопок, глядь – утром под подушкой тысячная лежит.
– Молчи, дьявол, тебе еще легче. Сходить только да приласкать свою бабку, что на Стишской улице или где там еще, – и деньги в кармане.
Все прямо зашлись от смеха и с минуту казались онемевшими и расслабленными и лишь потом принялись хлопать себя по ляжкам и грозить Ратко, который и сам смеялся до слез.
Тут Барышня выпустила занавесь и упала на сильные руки Йованки.
Лишь оказавшись снова в темном дворе, Барышня окончательно пришла в себя и обнаружила, что всем телом повисла на Йованке, которая ведет ее, обняв, словно раненую. Ей стало стыдно, и болезненным усилием воли она вырвалась из этих объятий. Но Йованка опять взяла ее под руку.
– Потихонечку, потихонечку, – еле слышно шептала она.
У ворот Барышня снова отпрянула от Йованки и, быстро высвободив руку, проговорила глухо и резко:
– Спасибо, я сама. Я могу.
– Как? Оставить тебя сейчас, когда я тебе нужнее всего? Нет, нет, я провожу тебя домой. Пошли потихоньку! На воздухе тебе станет легче.
Барышня остановилась. Совершенно уничтоженная, она вдруг почувствовала, как в ней стремительно поднимается какая-то новая неодолимая сила, которая заставляет ее отталкивать от себя всякую, даже малейшую помощь, отталкивать все, что хоть сколько-нибудь напоминает утешение и участие. Необыкновенная, упрямая, разрушительная и спасительная сила, видящая спасение в том, чтоб довести всякое страдание человека до предела, всякое падение – до дна и тут или убить его до конца, или поставить на ноги и вернуть к жизни.
– Спасибо, не надо, – грубо оттолкнула от себя Барышня щуплую Йованку.
– Как же так? – лепетала та, не веря своим глазам, явно оскорбленная в своих лучших чувствах. Она была смущена – а это случалось с ней крайне редко – и стояла, маленькая, жалкая, совершенно лишняя, перед этой худощавой женщиной, которой вдруг ничего не стало нужно.
– Так. Иди, оставь меня. Мне никто не нужен. Я все могу сама.
Йованка, словно ее хлестнули кнутом, резко повернулась и, не сказав ни слова, зашагала решительным шагом к улице Князя Михаила. Барышня двинулась в противоположную сторону.
Она шла навстречу ветру, медленно и тяжело, как ходят во сне; выйдя на Александровскую улицу, она поняла, что переоценила свои силы, что ноги не держат ее и сознание мутится. Чтобы не упасть, она прислонилась к железному столбу, на верхушке которого ветер раскачивал большую электрическую лампу с матовым стеклом. Нижняя часть столба была полая, из литого железа, местами пробитая осколками гранат во время войны. В пробоинах свистел и гудел яростный ветер, и к его вою она присоединила свой слабый плач и стон. Это словно бы приносило облегчение, а прикосновение холодного железа было приятно. Ей хотелось так и остаться здесь, прижавшись к столбу, но позади она все яснее различала громкий смех, непонятные возгласы, и они снова привели ее в смятение. Со страхом она подумала: может быть, она все еще в той комнате, с пьяной компанией? Вздрогнув и отделившись от столба, она увидела, что это извозчики, собравшись у своих фиакров с зажженными фонарями, смеются и издеваются над ней, полагая, что она пьяна:
– Подвезти, что ли? За три десятки.
– Поедем, сударыня!
– Перепила, перепила! – лаконично заключил третий. Барышня собралась с силами и пошла дальше.
Медленно, тяжело плелась она длинной Александровской улицей. Ветер раскачивал редкие электрические фонари, висящие над серединой улицы. Одновременно с взмахами тусклых фонарей по грязной разбитой мостовой бегали большие беспокойные тени. От этого Барышне казалось, что земля колышется и уходит из-под ног. Временами она начинала дрожать от страха, что сейчас споткнется и упадет, но она не останавливалась, – грубый смех и непонятные насмешки извозчиков, все еще звучавшие в ушах, гнали ее вперед. Долог был этот ночной путь. Ей казалось, будто здесь она идет впервые, а ночь полна подвохов и засад. (На улице часто можно встретить таких несчастных; с виду они как все прохожие – не говорят, не плачут, не размахивают руками, но приглядишься внимательнее и видишь, что человек весь дрожит от свежей раны и движется как слепой, управляемый лишь ритмом внутреннего диалога, которому в эту минуту подчинено все его существо.) Так и Барышня брела по бесконечной Александровской улице, а душу ей раздирала мысль, в которой она сама себе не хотела признаться. Как случилось, спрашивала она себя, что в ее-то годы она позволила себе увлечься улыбкой, которая напоминала дядюшку Владо, по-матерински пожалеть бездельника и проходимца, осыпать его, словно шутя и играя, крупными суммами денег, своих денег, которые дороже крови и милее глаз? Где были ее глаза, опыт, разум? Как она могла послушаться эту невменяемую интриганку, как она – ведь она никогда даже в кофейную на заходила! – могла пойти под старость по грязным, подозрительным дырам выслеживать молодого человека, который ей никто и ничто и до которого ей, в сущности, столько же дела, сколько до какой-нибудь фотографии в иллюстрированной газете, напомнившей ей дядюшку Владо?
Словно очнувшись, она увидела перед собой эти вопросы и в них – всю свою непостижимую глупость, страшную утрату и великий позор, о котором лучше всего молчать и скрыть хотя бы на время даже от себя, если она хочет не потерять рассудок, продолжить этот проклятый путь и живой дойти до дому. От горя и стыда она плакала без слез и говорила сама с собой без слов, немым, но выразительным языком, который мог быть понятен только ей, ибо только в связи с ее необычной жизнью он имел какой-то смысл и значение, а сам по себе не обладал ни логикой, ни видимой связью с реальностью, как детский плач или причитания отчаявшегося. Этот сухой плач и поток невыговоренных бессвязных слов были обращены к могиле в Сараеве, она умоляла отца простить ей то, что сама себе она никогда не простит, войти в ее положение, понять, как тяжко жить на свете одной-одинешеньке, как невозможно справиться с людьми. «Столько в мире препятствий, папа, столько непредвиденных неожиданностей, такие глубокие и невероятные перемены, что все усилия как-то вывернуться и удержаться выглядят безумными. Я знаю и помню все, что ты мне приказал и завещал, но что толку, когда мир таков и ложь и обман в нем сильнее всего. Я все, все делала, чтоб защититься от людей. Но что пользы, когда к тебе подбираются с той стороны, с какой ты меньше всего ожидаешь. И если тебя не обманут, так сама обманешься. Прости, что после стольких лет и стольких усилий я так растерянна и беспомощна, но не я предала свой обет, а меня предал мир. Ты знаешь, как я трудилась, потом и кровью каждый грош добывала. Думала, что твое слово, соединенное с моей волей и трудом, будет достаточной защитой от людей. Но, увы! В этом мире нет ни защиты, ни верной охраны. Все еще хуже и горше, папа, чем казалось тебе. Лишь тот, кто поживет в этом мире, может понять, что это такое и что за люди в нем живут. Неимущего топчут, у имущего отнимают».
Так примерно говорила Барышня, по-детски бессмысленно жалуясь на все и вся далекой могиле, но и оттуда не было ни отклика, ни утешения. Поэтому она снова обращалась к живым – Ратко, Йованке, к тому, что произошло с ней. Спрашивала себя: неужели эта скотина не может быть честной и порядочной хоть миг, хоть в виде исключения? По всей вероятности, нет. И неужели никто ни к кому не может подойти без тайных помыслов и желаний? И как распознать замаскированную ложь, как защититься от гадких, опасных и непостижимых инстинктов, которые свойственны людям и которые никому не подвластны, ибо сами люди как следует их не знают и тем более не владеют ими?
Вопросы все быстрей и стремительней наскакивали один на другой, подгоняли друг друга и оседали в ее душе. Она сгибалась под их тяжестью, непрестанно возраставшей, но ответа не находила. Да и не могла найти, потому что люди ее склада, попав в подобный переплет, не в силах понять, увидеть и услышать в жизни что-либо другое, кроме ее теневых сторон и своих жалоб на них.
Подойдя к углу своей улицы, она машинально остановилась, потом свернула на нее. Калитку отпирала медленно и неумело, словно чужую. Войдя в дом, она успела только зажечь свет. Хотела снять свое длиннополое черное пальто, но при первом же движении силы изменили ей. Мучительное напряжение, поддерживавшее ее все это время, иссякло. Словно судорога прошла по ее телу, она повалилась на колени, так что голова и руки оказались на кровати. Она не могла уже больше ни стоять, ни смотреть, ни сдерживаться. Земля неодолимо тянула к себе. Но сильнее всего была потребность стонать над своими потерянными деньгами, над своим непостижимым минутным ослеплением, выть, как от глубокой раны. Горе, поглотившее ее целиком, лежало в груди темной глыбой, валило с ног. Когда она стонала, горе хоть чуточку отпускало ее, делалось как бы меньше и терпимей. Теперь она не оправдывалась и ни с кем не разговаривала. Она не сознавала, где она, что с ней, вся превратившись в клубок горя, от которого отматывалась тонкая нить стенаний.
Когда Райка пришла в себя и снова увидела свет лампы и знакомую комнату, она обнаружила, что находится в необычной позе. Она долго не верила собственным глазам, но чем больше приходила в сознание, тем яснее для нее становилось, что мать сидит на полу, а она, Райка, лежит у нее на коленях. Даже во сне такое невозможно было себе представить. Казалось невероятным, чтоб тщедушная старушка могла удержать на руках свою рослую дочь; и все же это было так. У матерей есть врожденные навыки и непредвидимые силы. Держа на коленях худое, беспомощное тело дочери, как богородица мертвого Христа на старых иконах, старушка одной рукой поддерживала поникшую голову Райки, а другой смачивала ее лоб и приоткрытые губы. Стоны дочери постепенно переходили в монотонное всхлипывание. И будто перестук часов, идущих вразлад, в комнате раздавались рыдания Райки и тихий ласковый голос матери:
– Не надо, Райка, дитятко мое! Не надо, радость моя! Не надо так убиваться! Видишь, мама с тобой. Все будет хорошо.
И старушка, словно бесконечную песню, повторяла эти простые и древние слова, которые только в материнских устах приобретают смысл и подлинное значение, и легко и ловко качала на коленях свою взрослую дочь, точно всю жизнь, до самого вчерашнего дня только это и делала и точно не прожила больше тридцати лет рядом с ней, лишенная всего, а главное – теплого слова и ласкового взгляда.
VIII
Барышня тяжело, хотя недолго и молча, переживала понесенный ею великий урон и горькое разочарование. Мать выхаживала ее без тени упрека, без единого вопроса, с той любовью, которая не нуждается ни в обосновании, ни в объяснении. На следующий день она позвала доктора, тихого человека, ходившего в бесшумной обуви и вообще мягкого и неслышного, будто резинового. Райка вспылила при мысли о гонораре доктору, но была еще слишком слаба и измучена, чтоб воспротивиться осмотру. Уходя, доктор сказал старой госпоже, что все пройдет, но что у барышни, по всей видимости, органический порок сердца, который может точно определить лишь специалист после клинического обследования. И это необходимо сделать без проволочки. А до тех пор избегать всякого рода волнений. Но на четвертый день Барышня неожиданно поднялась, выздоровев словно чудом. Оттолкнув мать, она холодно заявила, что не больна и не нуждается ни в лечении, ни в уходе. Показаться врачу она отказалась наотрез. Снова встав на ноги, она посмотрела на себя, на свою комнату, на осеннее небо в переплете голых сучьев и, собираясь с силами, как после тяжелого удара, начала с того, что сказала про себя: «Ладно! Даже когда все погибнет и все изменит, останется бережливость. Уж это ни от кого не зависит. Буду экономить, и это вернет мне хоть часть того, что у меня отняли люди, а может быть, в конце концов даст то, чего не могли дать никакие усилия. Кто знает? А хоть и не даст, все равно стану экономить изо всех сил, наперекор всему и всем. Еще больше и жестче, чем прежде». От этой мысли по телу ее прошла дрожь, словно она стряхнула с себя то, что угнетало и мучило ее в последние дни. И, все еще дрожа этой холодной дрожью, мрачная и бледная, вернулась к своей обыденной жизни.
А на следующий день на Стишскую улицу прибежал Ратко. Барышня приняла его спокойно, не возмущаясь и не удивляясь. Она сразу поняла, что он узнал от Йованки об их ночном посещении «Казино». Молодой человек вел себя как нашкодивший кот. Он пытался объясниться, оправдаться, но Барышня смотрела на него, будто на куклу с на малеванной улыбкой, а слова его воспринимала как звуки пустой погремушки. Она переболела им, перестрадала, пережила раз и навсегда и его, и его улыбку, и свои деньги. Сейчас она не видела ничего общего между этим досадливым молодым человеком и образом дядюшки Владо, который оставался в ее памяти нетронутым, живым и дорогим, каким был всегда.
Ратко приходил еще несколько раз, пускался в расспросы, лебезил, каялся, предлагал свои услуги, готов был на все, кроме возвращения занятых денег. Правда, он клялся, что скоро откроет дело, заработает и вернет долг, но Барышня знала цену клятвам слабых и порочных людей. Она поставила на нем крест, даже мысль о возможности спасти хотя бы часть денег не могла ее заставить относиться к нему серьезно и прислушиваться к его словам. В конце концов он перестал приходить.
Хуже обстояло дело с Йованкой; она не могла простить ни Ратко, ни Барышню, как никогда не прощала тех, кто срывал ей какую-нибудь из ее опекунских ролей, которые она с таким трудом и увлечением, так долго, преданно и самоотверженно готовила.
Такие настырные и зловредные маньяки непременно наглы и упрямы. (А наглость и упрямство – родные сестры.) Нанеся вам ущерб или оскорбление, они непременно убедят сначала себя, а потом и большинство людей, что вы сами повинны в своем несчастье. Таким образом, вы проигрываете дважды, а их тщеславие дважды оказывается удовлетворенным. Первый раз, когда они толкают вас на ошибочный шаг. И второй, – когда им удается снять ответственность с себя и переложить ее на вас. Вот почему наглые и упрямые люди неисправимы в своих слабостях и пороках, ибо, никогда не испытав дурных последствий своих пороков на себе, они вообще отказываются их замечать. Поэтому от подобных людей следует бежать как можно дальше, какими бы хорошими и привлекательными на первый взгляд ни казались многие черты их характера.
После той кошмарной ночи, которая вместо триумфа принесла ей чувствительное поражение, Йованка неожиданно и резко отвернулась не только от своего негодного подопечного, но и от своей подруги. И с той же страстью, с какой раньше она оказывала им большие и малые услуги, окружала вниманием, заботилась об их делах, она начала преследовать их своей ненавистью и наговорами.
– Ну и сброд, ну и подонки съезжаются в Белград, вы и представить себе не можете, – говорила Йованка другим своим подопечным, которые еще были у нее в чести.
И Йованка рассказывала, как она разочаровалась в Ратко и Барышне, при этом глаза ее блестели и вся она дрожала от возмущения и гнева. Она уверяла, что Барышня «путалась» с Ратко, что в Сараеве она была австрийской шпионкой и из-за этого должна была уехать из Боснии, что Ратко торговал в Салониках белыми невольниками. Каждый день Йованка добавляла к своему рассказу новые детали. Из Сараева она выписала номера газет с нападками на Барышню и торжествующе показывала их общим знакомым, которые, впрочем, не удосуживались их прочесть. Ратко она называла не иначе, как «лжедобровольцем» и бандитом, а Барышню – «черно-желтым ростовщиком», шпионкой и скрягой.
Лишь спустя пять-шесть недель она навсегда убрала газеты и оставила Барышню и Ратко в покое, обратив энергию на других своих избранников.
Однако все это ни в коей мере не трогало и не волновало Барышню, – еще в ту ночь и во время болезни она поняла, что так будет, и без колебаний раз и навсегда перестала этим интересоваться. Ее жизнь опять потекла мирно, пустая и унылая на чужой взгляд, но в ее глазах богатая и наполненная, вся отданная мелким операциям и великой бережливости. Она по-прежнему обходила меняльные лавки от «Лондона» до «Колараца», осведомлялась о положении девиз и выясняла состояние курсов как официальных, вывешенных на досках перед лавками, так и тайных, о которых сообщают шепотом. Кое-что покупала и продавала, но понемножку и со все большими предосторожностями. Ходила в два-три банка, с которыми поддерживала связь. Перекладывала капитал с одного счета на другой или брала деньги из одного банка и на тех же условиях клала в другой. Как кошка котят, она переносила деньги из одного места, которое казалось ей подозрительным, в другое, которое тотчас после этого тоже становилось ненадежным.
При этом она не замечала ни досады и удивления на лицах делопроизводителей и чиновников, ни соболезнующе-насмешливой ухмылки, с какой ее встречали и провожали служители. С Весо она вела переписку. Он остался прежним. Подобно тому как его не изменила прошедшая мировая война, так и неслыханная конъюнктура первых лет после освобождения не смогла выбить его из привычной спокойной колеи, отвратить от розничной торговли, малых, но верных прибылей и лишить глубокого удовлетворения, которое ему давали такая работа и такой образ жизни.
На эти дела, на постоянное стремление к возможно большей и полной экономии, на борьбу со всевозможными тратами уходила Райкина жизнь; эпизод с Йованкой и Ратко не оставил в ней заметного рубца, не принес перемены, ибо ничто, по-видимому, не могло уже ее изменить или помешать ее течению. Лишь порок сердца, который обнаружил тихий доктор даже при поверхностном осмотре, доставлял Барышне много хлопот и огорчений. Все чаще она просыпалась по ночам с ощущением, что ей не хватает воздуха и она задыхается. Да и днем стоило ей чуть испугаться или столкнуться с чем-нибудь неожиданным, как сердце подскакивало и вырывалось из груди, так что в глазах темнело и земля уходила из-под ног. Мать, замечавшая эти приступы, как ни скрывала и ни отрицала их Барышня, тщетно уговаривала ее пойти к врачу. Когда никаким другим способом отделаться от матери не удавалось, Райка принималась отшучиваться:
– Это пустяки, мама. Ты ведь знаешь, мне всегда говорили, что у меня нет сердца!
Скряги обычно не любят шуток – как всякую забаву, они считают их роскошью и пустой тратой времени, однако прибегают и к ним, когда не находят другого способа защититься.
По существу, она злилась на мать, на самое себя и на это самое сердце, которое требует докторов и лекарств. (Что это еще за сердце, на которое надо тратиться?) Она приняла твердое решение не считаться со своей слабостью, если нужно – умереть, но не болеть и не лечиться. Мать ходила вокруг нее, глядя на нее испуганным, испытующим взглядом, каким смотрят матери на капризных больных детей. Однако первой заболела не дочь, а мать. Весной, на третий год их пребывания в Белграде, старая госпожа неожиданно слегла.
Даже после той осенней ночи, когда мать нашла Райку лежащей без чувств на полу и так по-матерински приголубила ее и приласкала, отношения между ними остались прежними – сухими, натянутыми, без намека на теплоту и близость. Как будто они одновременно увидели один и тот же странный сон, который дочь сразу и начисто забыла и о котором мать не смела напомнить. И поэтому этот эпизод оказался стертым, вычеркнутым, словно его и не было. Болезнь старушки ничего в этом смысле не изменила. Болела она недолго, стыдясь своей хвори и стараясь ничего не просить у дочери. Временами она громко стонала, но, лишь только слышала шаги дочери, сдерживала стоны и замолкала, хотя это и увеличивало ее страдания. На все вопросы она отвечала, что сегодня ей лучше, чем вчера, и что все пройдет. Они долго обсуждали, звать ли доктора, а когда наконец позвали, обнаружилось, что воспаление легких зашло уже слишком далеко. Тогда и Барышня всполошилась. Взяла женщину помогать по дому, а сама принялась ухаживать за матерью, усердно и преданно, хотя и теперь не исчезли удивительная холодность и непонятная скованность, которые всегда отличали их отношения. Но болела мать недолго. На девятый день сердце сдало, и больная умерла.
Барышня была больше потрясена стремительностью и простотой, с какими живой человек превращается в маленький беспомощный труп, чем чувством жалости и утраты. Сколько она ни заглядывала в свою душу, сколько ни думала, она не могла найти в себе ничего, что походило бы на настоящее, глубокое горе. От этого ей самой было неловко. Лежа в постели, в темноте, она говорила себе те самые слова, которые днем повторяла перед другими: «Бедная мама! Прости ее бог!» Но и ночью, так же как днем, ей не удавалось выдавить ни слезинки.
На похороны пришли две-три соседки и все семейство Хаджи-Васичей. Газда Джордже выглядел очень удрученным. Бледность говорила о глубокой душевной печали, которую так неверно передавали скупые слезы и профессиональная учтивость торговца. После похорон Барышня даже на кофе никого не пригласила. И когда родственники, смущенные таким оборотом дела, нарушавшим все обычаи и порядки, позвали ее прийти хотя бы к ним, чтоб вместе провести эти тягчайшие в жизни минуты, она прямо сказала, что в этом не нуждается и предпочитает остаться одна. И она осталась одна.
Вот тут только и началась для Райки настоящая жизнь, такая, к какой она всегда бессознательно стремилась, но от которой ее вечно что-то отвлекало. Даже мать, несмотря на всю свою рабскую покорность, до последних дней хранила в доме кое-какие мелочи, следовала некоторым старым привычкам, которые Райке не удалось искоренить до конца. Теперь и с этим было покончено.
Барышня тут же избавилась от огромного кота Гагана, неисправимого обжоры и бездельника, из-за которого у нее было столько стычек с матерью, вплоть до последних дней ее жизни. Продала она и все материны книги. (Сама она давно не покупала книг и ничего не читала, даже немецкие путешествия, как в былые времена: не было ни времени, ни желания.) Выбросила горшки с цветами – роскошь, право на которую годами упорно защищала старая госпожа. Цветы и землю Райка зло и мстительно выбросила на помойку, а горшки оставила, чтоб при случае продать. Остановила большие стенные часы, которые также были объектом постоянных и нескончаемых споров с матерью. Барышня считала старинные часы дорогой и совершенно излишней вещью, поскольку в доме было еще двое карманных часов, а мать твердила, что часы она принесла из отцовского дома, что под их тиканье прошло ее счастливое детство и еще более счастливые годы замужества и что она хочет слышать их до конца жизни, а там Райка пусть что хочет, то с ними и делает. Барышня никогда не могла взять в толк, какая связь между тем, что мать называет счастьем, и тиканьем старинных часов, и сейчас торопливо и злорадно остановила часы навеки, чтобы больше не нужно было ни чинить их, ни заводить, ни смазывать. Убрала она последние бархатные скатерти и покрывала, которые мать еще стелила в своей комнате, а вещи покрыла газетами. Поснимала со стен все фотографии, кроме отцовской. Во всем доме теперь не было ни одной бесполезной мелочи, которые обычно требуют и поглощают много внимания и без которых большинство людей не представляют себе жизни. Ни яркого пятна, ни звука, ни малейшего признака убыточной сентиментальности или дорогостоящей забавы. Так наконец, после стольких лет мелких уступок и попущений, Барышня стала действительно полновластной хозяйкой дома, наилучшим образом отвечающего ее глубочайшим желаниям и потребностям. Свободной и одинокой. Истинно великая страсть всегда стремится к одиночеству и анонимности. Человек, который служит своей страсти, хочет остаться незамеченным и неизвестным, наедине с предметом своей страсти, и на людях предпочитает говорить о чем угодно, только не о том, что составляет главный предмет его помыслов и желаний. Даже у порока есть своя стыдливость и свои принципы, пусть необычные и превратные. А Белград тех лет был прекрасным местом для человека, ищущего в толпе одиночества и в неуемной толкотне – неприметности. В этой всеобщей сумятице, в постоянных приливах новых разнообразных людей, новых форм жизни, новых навыков, в быстрой и неожиданной смене и развитии событий, в стремительности жизни, не дающей ни передышки, ни отдохновения, можно было укрыться и жить в полном уединении, жить как заблагорассудится, незаметно для постороннего глаза, словно в густом лесу или в миллионном городе. Здесь Барышня и нашла свое место.
Со временем жизнь в стране и столице начала налаживаться, в денежных делах устанавливался порядок и постоянство – без бурных подъемов, при которых пышным цветом цвела спекуляция, без внезапных спадов и скачков. Одна за другой исчезали с Теразий меняльные лавчонки. А с ними исчезали и условия для переменчивой и тайной игры, которую можно было вести неприметно и анонимно, терять и выигрывать в зависимости от собственного ума, силы и удачливости, никому не отдавая отчета в потерях и прибылях, в головокружительных подъемах и падениях, сопровождающих эту игру. Мощная волна всеобщей спекуляции, продолжавшейся несколько лет, схлынула и скрылась в банках и ведомствах; для мелких операций и заработков не было больше ни условий, ни возможностей. Но и без того Барышня становилась все осторожнее, все реже шла на риск, пусть даже минимальный, пока совершенно и исключительно не посвятила себя бережливости. О том, чтоб в этой новой, незнакомой и опасной обстановке давать деньги в рост, не могло быть и речи. На кое-какие дела она все-таки отваживалась, если можно назвать делами мелочное и робкое пощипывание по краешку широкого поля финансовой игры, и то это было в сущности почти то же, что и экономия, то есть давало минимальный, но верный, быстрый и прямой выигрыш. Она примирилась с тем, что ее годовой доход, состоявший из арендной платы за дом в Сараево, процентов с акций и с положенных в банк наличных денег, стал более или менее постоянен, а если и менялся, то скорее проявлял склонность к падению, чем к повышению, зато она с еще большей страстью экономила, непрестанно урезывая свои потребности и расходы, чтоб как можно больше сберечь и присоединить к основному капиталу, который лежит себе и плодоносит, скромно и незаметно, но постоянно и верно. И, вся отдаваясь этому делу, она вгрызалась в него безмолвно, глухо, инстинктивно, как червь в дерево.
Так прошло около десяти лет, заполненных событиями и переменами, которые потрясали тогдашний Белград особенно бурно и глубоко. Барышня не следила за этими переменами, почти не замечала их. А когда по большим праздникам приходила к Хаджи-Васичам и выслушивала там семейные новости, ей казалось, что все это происходит в другом мире.
Госпожа Сека еще сильнее располнела и отяжелела, глаза ее по-прежнему пламенели, но кожа пожелтела, а черные усики уже превращались в щетинку. Она выдала замуж обеих дочерей, и очень удачно. Девушки вышли не за своих юных партнеров по танцам, не за передовых поэтов, которыми они так увлекались в 1920 году. Данка замужем за известным банкиром Страгарацем; она унаследовала материнские усики, но более успешно борется с полнотой; у нее уже двое детей. Даринка вышла за архитектора средних лет, профессора университета. Миша взял жену из той же банкирской семьи, – таким образом, родство с домом Страгарацев стало двойным. Он уже известный эксперт по финансовым вопросам и часто входит в различные международные комиссии. Джордже постарел; хотя внешне не очень изменился, внутренне он явно сдал. Однажды на славе у Хаджи-Васичей Барышня услышала о смерти Йованки. Умерла та где-то в провинции, куда поехала по чужим делам, заразилась там тифом и, не имея хорошего лечения и ухода, поддалась болезни. А в следующем, 1928 году, тоже на славе, она узнала из случайного разговора, что Ратко Раткович получил место управляющего крупным государственным имением в Славонии, что его посещают важные персоны и что он устраивает торжественные встречи и приемы, о которых пишут в газетах и говорят в обществе.
Все это Барышня узнавала случайно, выслушивала без малейшего волнения и забывала немедленно и прочно, как только возвращалась в свой мир, в котором не женятся, не выходят замуж, не болеют и не умирают. (Правда, это справедливо лишь в той части, которая касается женитьб, замужеств и смерти, ибо сказать, что Барышня не болела, нельзя. Порок сердца не проходил, а, судя по всему, продолжал развиваться. Но Барышня признавала эту беду только те несколько секунд, пока продолжался приступ, а стоило ему пройти, как она отбрасывала всякую мысль о болезни, не позволяя ей нарушать равновесия и покоя, которые она создала в себе и вокруг себя.)
Сильный экономический и финансовый кризис, разразившийся в конце 1929 года, заставил Барышню выйти из своего мира, но не для того, чтоб приобретать, а для того, чтоб защитить приобретенное. Лишь только наметились колебания в банковских курсах, она была среди первых, кто забрал свои вклады и помешал упорядочению курсов. Она даже сочла необходимым запереть дом и поехать в Загреб, так как часть денег держала там в Сербском банке.
Это были трудные и волнующие дни. Еще раз пробудились в ней старые силы и предприимчивость, питаемые вечным желанием не оказаться на стороне, которая теряет, – никогда, ни за что, ни на одну секунду. Вот когда она ясно почувствовала, что она совершенно одна на свете, что она более одинока, чем могла себе представить, что нет у нее ни одного близкого и верного человека, с кем можно было бы посоветоваться хотя бы по финансовым вопросам, как некогда с Конфорти, Пайером или Весо.
Экономить можно в одиночку, ничья помощь здесь не нужна, а вот работать и защищаться в одиночку при таких обстоятельствах очень трудно и с годами становится все трудней.
Напуганная и озабоченная, она ходила по банкам, умоляла, упрямо и довольно прозрачно врала, что деньги ей необходимы для оплаты неотложных долгов. С кипами тысячных и сотенных, привязанными в виде кольчуги к тощей груди или вшитыми в платье, она, дрожа от страха, шла по улицам, все время оглядываясь, – не идут ли за ней. Намеренно не таясь, она отказалась от сейфа в Подунай-ском банке, в котором держала дукаты и ценные бумаги, уверяя, что в сейфе больше нет надобности, так как держать ей в нем нечего. А дома она испытывала муки мученические, не зная, куда спрятать пачки банкнот и мешочек с золотом. Она купила английские замки на наружную и внутреннюю двери, – причем купила их в Загребе, чтоб здешний слесарь, который будет их ставить, не смог подобрать ключи. Тогда же она заказала на окна железные поперечины. Долго она мучилась, отыскивая в доме такие места, куда можно было бы спрятать деньги, разбив их на возможно более мелкие пачки, но так, чтоб все эти места были достаточно надежными. Она купила жестяные коробки, разложила по ним банкноты, золото и бумаги и спрятала их в печи, которые не топятся, или в тайники, которые заколотила досками. Но и после этого она то и дело просыпалась по ночам от подозрительного шума, похожего на шаги, или от страха при мысли о пожаре. Сердце отчаянно билось, отдаваясь в горле и ушах. Барышня вскакивала с постели и, не одеваясь, отдирала доски, вытаскивала жестяные коробки и потом носила их из комнаты в комнату, вся в сомнениях и колебаниях, дрожа от холода и всяческих подозрений, не отваживаясь вернуть их на старое место и не в силах найти новое убежище, за которое она была бы спокойна. Наконец в полном изнеможении, не найдя никакого выхода, она снова ложилась в кровать вместе с холодными жестяными коробками и неразрешенными проблемами. Но и тогда она засыпала с трудом и спала плохо. Даже уверившись, что ей не грозят ни грабители, ни пожар, она не находила покоя и не могла его найти, потому что и во сне и наяву она, казалось, физически ощущала, как этот несчастный динар скользит и падает, как бумаги теряют цену, а страх растет и ширится, словно проклятие.
В подобных мучениях проходили месяцы. Однако сильная воля и завидное усердие все побороли. В часы бессонницы и разнообразных страхов Барышня пришла к определенным решениям. Скрепя сердце она стала понемногу покупать на черной бирже швейцарские франки по пятнадцать и семнадцать динаров. Таким образом громоздкие кипы банкнот превратились в несколько десятков синих швейцарских тысячных билетов и красных полутысячных. Франки не занимали много места, а через два месяца она могла их продать по двадцать – двадцать четыре динара. Но об этом она и не думала. Деньги хранились в новом тайнике, который пока представлялся ей надежным. Здесь, в одной куче с другими иностранными деньгами и прочими драгоценностями, они являли собой хорошо ей знакомое, милое и все же всегда новое зрелище, которое Барышня часто посещала и которым она долго любовалась в разное время дня и ночи, при электричестве, дневном свете или спокойном пламени свечи.
Дорогие швейцарские франки лежали в живописном беспорядке рядом с растрепанными банкнотами в пять и десять фунтов, белыми, как любовные письма. Среди разноцветных горок драгоценных бумажек поблескивало золото, всевозможные украшения, наследственные, купленные или оставшиеся как залог от неудачливых клиентов. А поверху, как бы случайно, выстроились в затылок друг другу четыреста одиннадцать американских золотых по двадцать долларов каждый. Все один к одному – широкие, тяжелые и словно бы мясистые; казалось, в них циркулируют жизненные соки, казалось, они растут и дышат. Лишь четкий рельеф надписи и рисунка выдавал, что это деньги, мертвый металл. На одной стороне – большая богиня Свободы, на лбу ее написано Liberty,[29] а на другой стороне – американский герб с мелкой, но ясной надписью Ex pluribus unum.[30] Картина эта всегда неизменна, но ею можно наслаждаться часами, днями, годами, как чудесной книгой, которая никогда не кончается и не стареет. Рослые американцы растянулись длинной извилистой цепочкой – золотое войско на марше, шагающее через розовые, белые, голубые горки и равнины драгоценностей и банкнот. Параллельно ему движутся нестройной и беспорядочной вереницей (но беспорядочность эта обманчива) турецкие рушпы и маджарии. Они потемнели от времени и так легки и тонки, что на мраморной доске шуршат, как сухие листья, а не звенят, как металл, края у них неровные и истонченные. Долгие годы грызла и глодала их ненасытная прожорливость еврейских и прочих крещеных и некрещеных менял Балкан и всей Оттоманской империи.
Все эти турецкие золотые (Барышня прекрасно помнит) куплены в критические годы – 1908-й, 1912-й и 1913-й, куплены невероятно дешево у разных мусульманских баричей и мотов или у беговых вдов, которые легко льют перед вами слезы, но так же легко могут повернуться к вам спиной, хлопнуть дверью и испортить все дело. Нет ничего благодарней, чем иметь дело с такого рода людьми. Они полагают ниже своего достоинства считать и торговаться, а их презрение к деньгам равно их потребности в них. Гонимые этой потребностью и связанные непонятным, но сильным чувством стыда и множеством предрассудков, они представляют легкую и богатую добычу для делового человека, умеющего их раскусить, понять и ловко использовать. И при взгляде на турецкие золотые Барышня смутно припоминала своих спесивых, но бездарных клиентов, дававших ей легкий и обильный заработок. В такие минуты в ней нередко снова просыпалось и начинало биться ее необыкновенное «второе сердце», но не бурно и победоносно, как некогда, в мгновенья великих триумфов, а тихо, еле слышно, лишь отзвуком былого биения.
Обе вереницы золотых сопровождала сотня наполеондоров – щуплых и шустрых французских петушков ясной и четкой чеканки. Это конные отряды разведки и охранения. У них красивое имя и сладкий звон, его никогда нельзя наслушаться досыта.
Таково обычное зрелище, которым Барышня наслаждалась каждый день, ее «окно в мир», ее общество и чтение, ее вера и семья, ее пища и развлечение. После каждого осмотра и пересчета картина менялась, и Барышня и сама не знала, что прекраснее, богаче и величественнее – то, что она дает, или то, что обещает. В этой картине – основа, смысл и цель ее жизни.
Рядом с этим богатством и живет Барышня. Она спокойна, но всегда настороже, чуткая, как змея. В дом она никого не пускает и запирается еще засветло. Она двукратно и трехкратно застраховала себя от всех случайностей, предусмотрела все. Осталась, разумеется, всегдашняя морока с акциями. На проценты с них она и живет. Доходы с купонов все скуднее, но бережливость возмещает все, помогая и там, где все предает. Она всегда с ней, ею пронизана вся жизнь, с ней можно прожить до последнего вздоха, да еще и от него урвать и сэкономить толику.
Так течет жизнь Барышни и теперь, в зимнюю стужу 1935 года, когда судьба всех бумаг под вопросом и предвидеть что-либо заранее совершенно немыслимо. В сущности, это и не жизнь, а сплошная экономия. Величественная, дивная и смертоносная пустыня, которая поглощает человека, словно песчинку, и в которой нет и не может быть ничего от жизни.
Давно уже ей не снятся сны о Миллионе, которые и на следующий день заставляли ее дрожать от возбуждения. (Правда, однажды, в самый разгар ее деятельности, у нее был миллион, но миллион малокровных, обанкротившихся австрийских крон, а не тот настоящий золотой, столько раз виденный во сне первый Миллион, который ведет за собой вереницу других.) И могила в Сараеве не светит ей, как прежде. Она давно уже нема и холодна, особенно в таком отдалении. Барышня ничего не забыла, но теперь ничто не имеет над ней власти. Она помнит клятву, данную отцу на смертном одре, но сейчас эта клятва кажется ей давнишней, непонятной и бессмысленной детской игрой. С ней или без нее жизнь Райки была бы такой, какая она есть и какой была с самого начала. Действительность давно оттеснила и оставила эту клятву позади. Все в мире тяжелей, сложней и противоречивей, чем полагал отец и чем думала она, охваченная энтузиазмом молодости. Связи ее и с мертвыми и с живыми становятся все слабее. На могилу матери она ходит раз в год, в день поминовения. Со знакомыми не видится. Люди ей не нужны; они проходят мимо нее – рождаются, растут и умирают, но в ее глазах все это лишь прибыльный или убыточный, полезный или опасный фактор ее экономии; по-другому она их не воспринимает и ничего общего с ними не имеет. Не существует для нее и времени; есть только сроки платежей и расчетов. Будущего нет, прошлое закопано. Изредка она вспоминает дядюшку Владо, отца и детство. Клубок воспоминаний разматывается дальше, и тогда воскресают и оживают, словно это было вчера, другие лица и события, о которых она годами даже не думала. Но все это продолжается лишь несколько минут – столько, сколько надо, чтобы сумерки превратили день в ночь; к тому же ни на что более разумное эти минуты употребить и нельзя, потому что уже не видно ни иглы, ни нитки, а свет зажигать жалко. Сегодня эти минуты несколько затянулись, и перед ней пролетела вся ее жизнь с былыми событиями, людьми, делами. Но это все равно ничего уже не значит и, в сущности, больше для нее не существует, словно никогда и не было. Да, все это… Барышня очнулась, вздрогнула. Громкий резкий стук деревянных ставен в одном из соседних домов прервал ее вечерние грезы. Она положила чулок, потерла озябшие руки и быстро поднялась со стула. В комнате было совершенно темно. Должно быть, час поздний. Окоченев от холода, она никак не могла решить, что сделать сначала – зажечь свет, а потом разворошить огонь в печке или наоборот. Так, в нерешительности, она стояла некоторое время в темноте, посреди комнаты. И наконец с довольной улыбкой решила отложить хоть на минутку оба эти неприятные занятия и вместо этого пойти еще раз проверить, хорошо ли заперты все двери.
Она шла чуть неуверенно, все еще во власти воспоминаний, которые навалились на нее сегодня, как никогда. В совершенной темноте, в сладостной темноте, которая все равно что экономия, а значит, все равно что деньги, она вышла в переднюю, привычным движением нащупывая знакомые предметы. Но прежде чем она дошла до наружной двери, протянутая в темноте рука натолкнулась – на человека. Из груди ее вырвался короткий глухой вскрик – он напугал ее еще больше. Вздрогнув, она нашла в себе силы только на то, чтоб отпрянуть назад. Неожиданно коснувшись влажного грубого сукна, еще смятенная и разбитая нахлынувшими воспоминаниями, она тотчас уверилась в том, что человек вошел с улицы. Она хотела кричать, позвать на помощь, но голоса не было. Сердце вдруг выросло и заполнило всю ее. Потом она почувствовала внутри полную пустоту, и холодные мурашки пробежали по коже. Осталась только страшная мысль, что она не одна, что рядом, в темноте стоит кто-то неизвестный и невидимый, кто всю жизнь подстерегает таких, как она, кто рано или поздно приходит за деньгами. Тысячу раз она вздрагивала в темноте при мысли о нем, тысячу раз ее страх оказывался напрасным. На этот раз, кажется, он действительно пришел и стоит тут, посреди передней, в мокром пальто, готовый каждое мгновенье начать свое черное дело. Но именно сейчас она и не знала, что делать, как сохранить и защитить свое богатство. Одно мгновенье, короче молнии, она попыталась вспомнить, что надо сделать, но не сумела. А ведь она хорошо помнила, что всегда боялась воров и грабителей, без конца вздрагивала по ночам от подозрительного шороха или непонятной тени и после долго размышляла о том, как надо было бы поступить, если бы, вопреки всем предосторожностям, в дом все-таки забрался бы грабитель. С тех пор как она себя помнит, она делала все, чтоб держать деньги в надежном месте, спрятать, обезопасить их и замести следы. Всю свою жизнь она не думала и не заботилась ни о чем другом, так что вся жизнь ее под конец состояла из одних мер предосторожности. Это она помнит. Однако то, что происходит сейчас, так неожиданно, страшно и ново, словно она никогда этого не боялась и об этом не думала, никогда ничего не предпринимала, чтоб обезопасить и защитить себя. Ей кажется, что весь свой век она провела в непростительном и непостижимом легкомыслии и беззаботности, ничего не предвидя и не предпринимая, и вот теперь она теряет и деньги и жизнь, теряет глупо, жалко и никчемно, только из-за своего слабоумия и халатности. Теперь, думается ей, она бы знала, как беречь и хранить, прятать и защищать свое добро, но поздно. Перед ней стоит подлый грабитель, в темноте, по эту сторону двери. Все кончено. Она ждала только чужого голоса: «Давай деньги!» – и движения рук убийцы в мокром пальто. Но она ничего не услышала и не успела почувствовать. С неодолимой силой ее душило собственное сердце. Уши заложило, вылезшие из орбит глаза ослепли, раскрытый рот онемел. Ноги не держали ее.
Падая вперед, она еще раз взмахнула руками, словно загребая воду, и повалила вешалку, на которой висело ее насквозь промокшее зимнее пальто из грубого сукна.
Лежа на полу, последними судорожными движениями она рвала на груди вязаную кофту в отчаянном усилии помочь остановившемуся дыханию. Ах, хоть чуточку воздуха, один только вздох, и все бы еще можно было спасти – жизнь, богатство, деньги. Золотом заплатила бы за глоток воздуха! Но воздуха нет. Колени сводит судорога, голова лопается от напряжения. Кровь застыла и превратилась в свинец. Воздуха нет. Движения слабеют и наконец совсем стихают. Лишь глухой хрип еще несколько мгновений говорит о последних усилиях задержать жизнь. Потом смолкает и он. Тело поникает, успокаивается и остается лежать во мраке и тишине.
Белград. Декабрь 1943 – октябрь 1944 г.
О романе
Впервые – Сараево, ноябрь 1945 г. По-русски – М., Гослитиздат, 1962. Роман переведен на латышский язык (1981).
Над этой книгой Андрич работал, видимо, одновременно с романом «Мост на Дрине», с декабря 1943 по октябрь 1944 года, завершив ее окончательную редакцию в канун освобождения югославской столицы.
Одним из первых на появление «Барышни» откликнулся известный критик В. Глигорич («Политика». Б., 1946, 4. III), довольно, впрочем, сдержанно оценивший ее сравнительно с двумя другими романами Андрича. Однако в дальнейшем этот роман нашел более глубоких интерпретаторов в Югославии и за рубежом, хотя, по сложившейся традиции, ему уделялось меньше внимания, чем двум другим романам Андрича.
«Более, чем какой-либо другой роман Иво Андрича, – отмечал профессор М. Бегич, – „Барышню“ можно назвать произведением современного классицизма, отмеченным единственной в своем роде гармонией между сутью человека и формой его бытия… Среди всех созданных Андричем произведений „Барышня“ – одно из самых современных его творений. С классической и трезвой простотой… в нем воссоздана судьба незаурядного и по-своему яркого человека, открывающая скорее изнанку, а не лицо человеческой жизни…»
Изданный в одиннадцати странах на четырнадцати языках, роман «Барышня» продолжает привлекать к себе внимание деятелей искусства: его неоднократно инсценировали для театра, в 1977 году на экранах Европы с успехом прошел телевизионный фильм, поставленный Баварской студией в Мюнхене.
Книге предпосланы эпиграфы из сочинений классиков сербской литературы Янко Веселиновича (1862–1905) и Симы Милутиновича-Сарайлии (1791–1848).
Александр Романенко
Пояснительный словарь
Ага – господин, уважительное обращение к состоятельным людям.
Бег – землевладелец, господин.
Газда – уважительное обращение к людям торгового или ремесленного сословия, букв, хозяин.
Кавазбаша – командир отряда стражников или телохранителей.
Мушир – военачальник.
Окна – старинная мера веса, равная 1283 г.
Опанки – крестьянская обувь из сыромятной кожи.
Райя – презрительная кличка христианских подданных Оттоманской империи, букв, стадо.
Ракия – сливовая водка.
Сераскир – главнокомандующий.
Тепелук – старинный головной убор замужних женщин.
Тюрбе – мусульманская усыпальница.
Фирман – указ султана.
Чесма – естественный родник, облицованный камнем или взятый в желоб, фонтан.
Примечание
1
Родом он… из пограничного края. – Границей между Сербией и Боснией является р. Дрина. Вдоль нее шли пограничные районы Турции, затем Австро-Венгрии. Детство Андрича, связанное с Вышеградом, таким образом, проходило в «пограничном крае», откуда родом и отец его героини.
(обратно)2
Большой (и Малый) Чурчилук – улицы в центральной части Сараева, где находились лавки и мастерские меховщиков.
(обратно)3
Варош – отдаленный квартал в Сараево.
(обратно)4
Бенбаша – предместье Сараева на берегу р. Миляцка, где в свое время существовала плотина и было создано искусственное озеро. Популярное место гуляний.
(обратно)5
Врело Босне – ближайший к Сараеву лесной массив у подножья хребта Игман, где из нескольких родников берет начало р. Босна, излюбленное место прогулок горожан.
(обратно)6
Алипашин Мост – населенный пункт под Сараевом.
(обратно)7
Частичная мобилизация (нем.).
(обратно)8
Ах, какой-то сербский школяр. – Имеется в виду Таврило Принцип, близкий товарищ Андрича в годы юности. Их сближала, в частности, любовь к литературе и страсть к чтению, они одновременно начинали пробовать свои силы в поэзии и оба стали членами национально-патриотической организации «Молодая Босния». В гимназические годы Андрич был одним из основателей и руководителей, как писал он в своей автобиографии, «тайной молодежной группы, которая поддерживала связи с подобными студенческими организациями в Белграде и видела свою задачу в расширении и укреплении идеи освобождения среда сербской и хорватской молодежи». Вспоминая о годах своей молодости, Андрич писал: «В моей памяти эти времена светлые и далекие. Словно какая-то всепоглощающая страсть, словно лучшая часть жизни» (1934).
(обратно)9
Престолонаследник (нем.)
(обратно)10
Осенью 1914 года… власти отдали приказ об эвакуации жителей из укрепленного города. – Осенью и зимой 1914 г. сербская армия после продолжительного отступления сумела нанести подряд два сильнейших поражения австро-венгерским войскам (на горном массиве Цер и в бассейне р. Колубара) и, освободив территорию своей страны, создать угрозу вторжения в Боснию через Дрину. Однако летом и осенью 1915 г. положение на фронте резко изменилось не в пользу Сербии.
(обратно)11
Необходимый (нем.).
(обратно)12
Арад, Зеница. – В городах Арад (ныне Зап. Румыния) и Зеница (Босния) находились тюрьмы и мобилизационные (а по существу концентрационные) лагеря Австро-Венгрии, где перебывало множество революционно настроенных выходцев из югославянских земель. И сам Андрич в качестве «государственного преступника» провел в ссылке и в заключении в Зенице почти два года – с июля 1915 по март 1917 г.
(обратно)13
Славония – область на востоке Хорватии в междуречье Дуная и Дравы.
(обратно)14
Расквартирование (нем.).
(обратно)15
…о деятельности сербского правительства на Корфу, о Югославянском комитете. – На о. Корфу находились правительство и остатки сербской армии, сумевшие зимой 1915 г. совершить тяжелейший переход через Албанию на побережье и перевезенные сюда кораблями союзников. Югославянский комитет – политическая организация, созданная 30 апреля 1915 г. в Париже эмигрировавшими представителями буржуазных партий Хорватии, Словении, Истрии, Далмации, Боснии и Герцеговины для решения национального вопроса в послевоенном объединенном югославском государстве.
(обратно)16
…на домах… появились первые трехцветные флаги… – т. е. национальные флаги нового самостоятельного государства – Королевства сербов, хорватов и словенцев, провозглашенного в Белграде 1 декабря 1918 г. Босния и Герцеговина, как и входившие прежде в состав Австро-Венгрии Хорватия, Словения («новые края»), стали его частью.
(обратно)17
Приемный день (фр.).
(обратно)18
…ожидали возвращения из эмиграции белградской знати… – Имеются ввиду политические деятели, промышленники, торговцы, составлявшие перед войной буржуазную белградскую элиту и в 1915 г. покинувшие страну.
(обратно)19
«Сколько я ни ходил по свету…» – Поэту Петару Будимировичу Андрич вкладывает в уста собственное стихотворение в прозе «Красные странички», написанное в 1918 г. и опубликованное загребским журналом «Книжевни юг» (1919, т. III, № 1). Сходство этого персонажа с молодым Андричем улавливается и в описании его внешности.
(обратно)20
Салоникский фронт – один из участков ожесточенных сражений войск Антанты с германо-болгарскими армиями с октября 1915 по сентябрь 1918 г., закончившихся капитуляцией Болгарии. Помимо англо-французского экспедиционного корпуса в боях участвовали сербские, итальянские и греческие войска, а также две русские бригады.
(обратно)21
Раковица – живописное предместье Белграда, где сохранился старый монастырь и куда любили совершать выезды горожане.
(обратно)22
…приехавший в Белград с той стороны Дуная… – т. е. из бывших австро-венгерских земель.
(обратно)23
певица (фр.).
(обратно)24
продавщицы фиалок (исп.).
(обратно)25
Занимается он изучением психологии человека динарской расы. – Динарская раса – антропологический тип, распространенный, в частности, на восточном побережье Адриатического моря и севере Балканского полуострова. Термин введен французским антропологом Ж. Деникером (1852–1918) в предложенной им классификации человеческих рас (1900). Изучением динарской расы многие годы занимался выдающийся сербский географ и этнограф Йован Цвиич (1865–1927). В «молодом ученом-этнографе» Андрич, видимо, изобразил И. Цвиича.
(обратно)26
Это наш первый космический поэт… – «Космическая» тема, прежде всего как одна из возможностей для проявления игры фантазии, встречалась довольно часто в творчестве сербских и хорватских поэтов, с которыми в начале 20-х годов был близок Андрич. Здесь, по всей вероятности, имеется в виду хорватский поэт Сибе (Йосип) Миличич (1886 – пропал без вести в 1944 – 1945 гг.), в ту пору поборник «космической поэзии будущего».
(обратно)27
Палилула – в описываемое время отдаленный от буржуазного центра район Белграда.
(обратно)28
Оставь меня в покое, Ратко! Дай мне пройти, скверный мальчишка (фр.).
(обратно)29
Свобода (англ.).
(обратно)30
Из множества один (лат.).
(обратно)


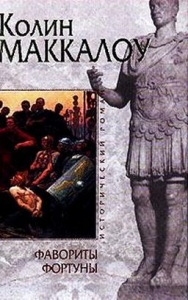
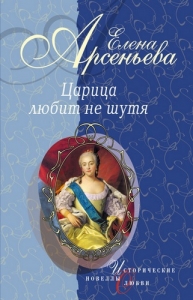
Комментарии к книге «Барышня», Иво Андрич
Всего 0 комментариев