Георг Эберс Иисус Навин
I
— Сойди вниз, дедушка, а я останусь на страже.
Старик, к которому были обращены эти слова, отрицательно покачал остриженной головой.
— Но ведь там ты не уснешь.
— А звезды? А внизу? Отдых в такую ужасную ночь!…
— Тебе холодно. Как дрожат твоя рука и твой инструмент!
— Так поддержи мою руку.
Юноша, к которому относилось это приказание, охотно повиновался, но через несколько минут вскричал:
— Все это напрасно: звезды исчезают одна за другой в темных облаках. А эти скорбные вопли, долетающие из города… Они доносятся и из нашего дома. Мне так страшно, дедушка, пощупай, как пылает моя голова! Сойди вниз, может быть, там нуждаются в помощи.
— Помощь в руках богов, а мое место здесь. Но там, там… Вечные боги! Посмотри к северу, на море. Нет, западнее, что-то движется от некрополя…
— О дед, отец там! — вскричал его собеседник, молодой жрец, помогавший своему деду, гороскопу [1] Аммона-Ра [2] на обсерватории храма этого бога в Танисе, резиденции фараона на севере провинции Гесем [3], и убрал свое плечо из-под руки опиравшегося старца. — Там, там! Не море ли врывается в сушу. Не тучи ли низверглись на землю? О дедушка, там!… Да умилосердятся над нами небесные силы! Открылась преисподняя! Гигантская змея Апоп [4]ползет из города мертвых! Вот она извивается возле храмов, я вижу, я слышу ее… Угроза великого еврея исполняется: наше племя будет сметено с лица земли. Змея! Ее голова обращена к юго-востоку. Наверное, она проглотит юный утренний свет, едва солнце поднимется…
Глаза старика следили за указательным пальцем юноши, и он тоже увидел какую-то громадную черную, двигавшуюся во тьме массу, очертания которой терялись во мраке, и с содроганием услыхал ее рев.
Напрягая зрение и слух, оба они всматривались в ночную тьму; но, вместо того чтобы смотреть вверх, глаза звездочетов были обращены вниз, на город, на дальнее море и на плоский ландшафт.
Вверху царствовало глубокое, но тревожное молчание; ветер то свертывал тучи в какие-то бесформенные массы, то разрывал их серый покров и стремительно разгонял их в разные стороны. Месяца не было видно, но облака играли с яркими звездами юга, то заслоняя их, то открывая свободный путь их лучам. И как наверху, на небе, так и внизу, на земле, происходила беспрестанная смена бледного света черной тьмой. Порою море, воды реки, гладкая поверхность гранитных обелисков вокруг храма и медная позолоченная кровля увеселительного царского дворца блестели от звездного сияния; порой и море, и река, и суда в гавани, храмы и улицы города, вместе с окружавшею его покрытой пальмами равниной, исчезали во мраке. То, на чем жаждали остановиться глаза, тотчас отнималось у них снова. Такие же перемены представлялись и для слуха. Порою тишина была до того глубока, точно далеко кругом исчезли и замерли всякие звуки жизни; порой резкий жалобный вопль нарушал безмолвие ночи. Тогда, после более или менее продолжительного затишья, снова слышался тот рев, который молодой жрец принял за голос змеи подземного мира, и оба они — и дед и внук — прислушивались к нему с возрастающим напряжением.
Темная масса, поступательное движение которой заметно было каждый раз, как только звездный свет пробивался сквозь тучи, шла от города мертвых и квартала чужеземцев.
Старика, точно так же как и юношу, охватил внезапный ужас; но первому удалось скорее прийти в себя, чем последнему, и его проницательный взгляд астронома скоро заметил, что эта масса представляет собою не одно какое-то гигантское тело, выходящее с кладбища на равнину, а множество тел, которые, подобно волнам, вздымались и разливались по городскому выгону. Рев и блеяние доносились не из одного какого-нибудь места, они слышались то в меньшем, то в большем отдалении. Порой старик думал, что эти звуки выходят из недр земли, порой ему казалось, что они доносятся сверху, с небесных высей.
И вновь им овладел ужас. Правой рукой он схватил руку внука, а левой указал ему на город мертвых и дрожащим голосом вскричал:
— Мертвецов слишком много. Преисподняя изливается, точно Нил, когда его ложе слишком тесно для воды, хлынувшей с юга. Как стонет, вздымается и волнуется эта масса, как она разрывается то ближе, то дальше! Это — тысячи душ, похищенных смертью! Обремененные проклятием еврея, бесприютные, беззащитные от гибели, они вступили на ступени лестницы, ведущей в вечность.
— Да, это они, — проговорил с убеждением его собеседник. Он вырвал руку из руки старика, стукнул ладонью по своему лихорадочно горевшему лбу и, едва владея словами от ужаса, воскликнул: — Да, это они, осужденные! Буря загнала их в море, его волны выбросили их на землю, но и священная земля не желает принять их и изгоняет в воздушное пространство. Чистый эфир бога Шу [5] низвергает их обратно на землю, и вот посмотри, прислушайся: теперь они с воем отыскивают путь в пустыню.
— В огонь! — вскричал старик. — Очисти их, пламя, омой их, вода!
Юноша повторил эту формулу заклинания, произнесенную старцем; и затем оба они возвысили голос, чтобы произнести ее вместе, в это время опускная дверь обсерватории, находившейся на вершине самых высоких ворот храма, поднялась, и какой-то жрец низшего разряда крикнул старцу:
— Оставь свою работу! Время ли теперь заниматься небесными светилами, когда на земле угасает все, имеющее жизнь!
Старик безмолвно выслушал эти слова и, когда жрец, дрожа, сказал, что его прислала сюда жена гороскопа, спросил:
— Гора? Неужели и моего сына взяла смерть.
Жрец утвердительно кивнул, и оба — и дед и внук — горько заплакали: первый потерял своего первенца, а второй — дорогого отца.
Но когда юноша, дрожа, в лихорадке и совсем растерявшись, кинулся на грудь старика, тот торопливо высвободился из его объятий и поспешил к двери. Хотя жрец и сказал, что он явился в качестве вестника смерти, но для отеческого сердца старика недостаточно было чужих слов, для того чтобы отказаться от надежды, что сын его еще жив.
Старик быстро сходил вниз по каменным лестницам, высоким галереям и обширным дворам храма, а юноша следовал за ним, хотя дрожавшие ноги едва были в состоянии нести его тело, изнемогавшее от лихорадки. Удар, разразившийся над семьей старца, заставил его забыть страшный призрак, который, быть может, всему миру грозил погибелью; но этот призрак преследовал юношу, и когда он оставил за собою передний двор и приблизился к передовым пилонам, то его душе, взволнованной страхом и горем, показалось, что тени обелисков пляшут и две каменные статуи Рамзеса по обеим сторонам высоких ворот выбивают такт этой пляски.
Наконец лихорадка свалила испуганного юношу на землю. Спазмы исказили его лицо, молодое тело сотрясали конвульсивные порывистые судороги. Старик опустился на колени и, не давая красивой кудрявой голове внука биться о твердые каменные плиты, тихим жалобным голосом проговорил:
— Вот, схватило и его!
Затем он встрепенулся и стал звать людей на помощь, но напрасно. Он понизил голос, ища утешения в молитве. Вдруг услышал он шум по другую сторону пилонов, в аллее сфинксов, и в его сердце возродилась надежда.
Что же происходило в такой поздний час?
К жалобному вою примешивались пение жрецов, звон металлического систрума [6], сотрясаемого служительницами божества, и мерные шаги богомольцев, шедших в процессии.
К храму приближалось праздничное шествие. Старик поднял глаза, и его взгляд, скользнув по двойным рядам гранитных столбов, громадных статуй и обелисков на переднем дворе, устремился по привычке, приобретенной долгою жизнью, к звездному небу. Горькая улыбка мелькнула на его ввалившихся губах: неужели даже богам было отказано в принадлежащем им чествовании? В другие годы в эту ночь, первую после новолуния, месяца фермути (марта), храм бога обыкновенно покрывался великолепными украшениями из цветов. Когда исчезала тьма этой безлунной ночи, начинался великий праздник весеннего равноденствия и с ним вместе праздник жатвы. Затем, в честь богини Нейт [7] или Рененут [8], посылающей благословение нивам, и юного Гора [9], по мановению которого семена пускают ростки, двигалась, согласно указанию книг о божественном рождении солнца, большая процессия в город, к реке и гавани. Но сегодня спокойствие смерти царствовало в святилище, двор которого некогда наполнялся в этот час мужчинами, женщинами и детьми: они приносили жертвенные дары и складывали их на том самом месте, где теперь смерть коснулась сердца его внука.
Неожиданно яркий свет хлынул в открытое пространство, до тех пор скудно освещенное немногими лампами. Когда могла прийти в голову этим безумцам мысль начать торжество такого радостного праздника, несмотря на невыразимый ужас этой ночи?
Ведь вчера вечером, ввиду беспощадно свирепствующей моровой язвы, совет жрецов решил оставить храм без украшений и отменить процессию. Должно быть, и в храм вторглось это чудовище, в то время как он, гороскоп, следил за движением звезд; иначе почему оставили святилище стражи и другие звездочеты, которые вошли туда вместе с ним при закате солнца и которым обязанность предписывала оставаться здесь ночью?
Затем он с нежной заботливостью снова обратился к страждущему. Но скоро вскочил, потому что ворота отворились, и в передний двор проник яркий свет фонарей и факелов. Бросив быстрый взгляд на небо, старец сообразил, что время перешло еще не далеко за полночь, и, по-видимому, его страх имел основание: жрецы шли в храм, чтобы сделать приготовления к завтрашнему празднику жатвы.
Но нет; разве бывало когда-нибудь, чтобы они для подобной цели вступали в святилище с пением и в стройной процессии? Притом сюда шли не одни служители божества: к ним присоединился народ; с торжественными гимнами смешивались такие жалобные вопли женщин и крики отчаяния, каких он еще никогда не слыхал в этом священном месте за всю свою долгую жизнь.
Не обманывают ли его чувства? Не вторгается ли в святилище бога сонм беспокойных духов, на который указывал ему внук с высоты обсерватории?
Им овладел ужас, и, высоко подняв руки, старик некоторое время бормотал заклинание против козней духов тьмы. Но скоро он снова опустил руки, потому что заметил друзей, которых видел еще накануне: во-первых, высокую фигуру второго пророка своего бога, затем женщин, посвященных Аммону-Ра, певцов и жрецов; когда же позади гороскопов и пастофоров [10] он увидал и своего зятя, то ободрился и позвал его. Но его голос был заглушён пением и криками надвигавшейся толпы.
На переднем дворе сделалось светло, но каждый был до того занят своим собственным горем, что никто не заметил старого звездочета. Тогда он сбросил плащ со своих озябших плеч, чтобы подложить его под вздрагивавшую голову юноши, и, делая это с отеческой заботливостью, услыхал среди пения и криков приливающей толпы злобные проклятия евреям, навлекшим бедствие на фараона и на его народ, затем снова и снова повторяемое имя наследника престола, царевича Рамсеса. Тон, которым выкрикивалось это имя, показывал, что смерть закрыла глаза и царскому первенцу.
С возрастающим страхом смотрел теперь старик на бледные черты внука; но так как плач о наследнике престола раздавался все громче и громче, то в душу старца проникло чувство некоторой отрады при мысли о нелицеприятии смерти, которая и к сидящим на троне столь же беспощадна, как к нищему, лежащему на пути. Теперь он понял, что привело в храм эту шумную толпу.
С быстротою, на какую только были способны его старые ноги, он поспешил к рядам плачущих; но, не дойдя еще до них, увидел выходивших из сторожки привратника и его жену, которые выносили оттуда на циновке труп мальчика. Муж держал один конец циновки, а его маленькая, худенькая жена — другой, и сторож, обладавший гигантским ростом, должен был низко наклоняться, чтобы окоченевшее тело сохранило горизонтальное положение и не соскользнуло на грудь жены. Трое детей замыкали печальное шествие, впереди которого маленькая девочка несла фонарь.
Может быть, никто не заметил бы этого шествия, но жалобные вопли маленькой жены привратника были так громки и пронзительны, что их не мог заглушить никакой крик. Поэтому сперва второй пророк Аммона, а потом его спутник повернулись к печальной группе. Процессия остановилась, и, когда несколько жрецов приблизилось к трупу, привратник вскричал:
— Прочь от пути заразы! Она поразила нашего первенца!
Жена привратника вырвала фонарь из рук своей дочери, осветила им мальчика и простонала:
— И бог потерпел это?! Он допускает такой ужас под своею собственной кровлей! Не его воля, нет, а проклятие чужеземца властвует над нами и над нашей жизнью. Посмотрите сюда! Это был наш первенец. Моровая язва свалила также двух служителей храма. Один уже умер. Он лежит там, в нашей комнате; а вон там, там лежит еще один, молодой Камус, внук гороскопа Рамери. Мы слышали зов старика и видели, что произошло; но кто заботится о поддержании чужого дома, когда обваливается свой собственный? Защищайте себя сами, так как боги отворили свой храм для чудовища, и если погибнет весь мир, это не удивит меня и, конечно, не опечалит! Высокопоставленные господа жрецы, я не более как бедная, ничтожная женщина, но не вправе ли я спросить: не спят ли наши боги, не изувечены ли они каким-нибудь волшебством или что они делают, где они, что позволяют еврейскому племени властвовать над ними и над нашими детьми?
— Идем на них! Долой чужеземцев! В воду чародея Мезу [11], смерть ему! — точно эхо в ответ на зов, прозвучали крики за проклятием женщины.
Зять старого гороскопа, начальник лучников Горнехт, горячая кровь которого закипела при виде милого умирающего племянника, размахивая своим коротким мечом, вскричал вне себя:
— Так пусть идут за мною те, у кого есть сердце! На них! Жизнь за жизнь! Десять евреев за каждого египтянина, умерщвленного волшебником!
Подобно тому как стадо бросается в огонь вслед за предшествующим ему бараном, толпа была увлечена криком знатного воина. Женщины впереди мужчин кинулись к воротам, и так как жрецы оставались в нерешительности, желая узнать сперва мнение пророка, то его величественная фигура выпрямилась, и он спокойно произнес:
— Со мною на молитву все, носящие жреческое одеяние! Народ есть орудие небесных сил. Возмездие в их руках. Мы же остаемся здесь, чтобы молиться об успехе отмщения.
II
Бай, второй пророк Аммона, исполнявший обязанности вместо первого пророка и верховного жреца Руи, одряхлевшего от старости, направился обратно в святая святых; прочие служители божества приступили к исполнению других обязанностей, а яростная толпа ринулась по улицам города к отдаленному кварталу, населенному евреями.
Подобно тому как бурный поток в половодье, с шумом низвергаясь в долину, уносит с собой все, что попадается ему на пути, так толпы людей, стремившихся к мести, увлекали за собою всех встречных. Ни один египтянин, у которого смерть отняла то, что ему было дорого, не отказался присоединиться к этой массе народа, и, таким образом, она росла и росла, и сотни людей превратились в тысячи. Мужчины, женщины и дети, свободные и рабы, охваченные бешеным желанием принести гибель и смерть ненавистным евреям, спешили в отдаленный еврейский квартал.
Едва ли сами они знали, каким образом заступ очутился в руке вот этого ремесленника или топор у той хозяйки. Они стремились вперед для смерти и разрушения и не искали того, что им нужно было для этой цели: оно само попадалось им под руки.
Первым, на кого должна была обрушиться их ярость, был еврей Нун, уважаемый и многими любимый старик, богатый стадовладелец. Он делал добро даже египтянам, но там, где господствуют ненависть и мщение, робкая благодарность молча отходит в сторону.
Его большой дом, как и другие дома и хижины его соплеменников, находился в западной части Таниса, в квартале чужеземцев, и ближе всех примыкал к улицам, населенным египтянами.
Обыкновенно в этот час коровы и овцы Нуна выгонялись на водопой и пастьбу, и тогда большой двор перед его домом был полон скота, работников и работниц, телег и земледельческих орудий. Владелец дома имел обыкновение наблюдать за выходом стада, и его-то вместе с его домочадцами яростная толпа избрала первой жертвой.
Самые проворные из египтян вскоре достигли его обширного двора, в том числе зять старого гороскопа, начальник лучников Горнехт. Дом и двор были ярко освещены утренним солнцем. Какой-то сильный кузнец ударил ногою в крепкие ворота, но незапертые створы подались так легко, что он вынужден был схватиться за столб, чтобы не упасть. Другие прежде него ворвались во двор, и между ними начальник лучников.
Но что это? Не новое ли какое-нибудь волшебство еще раз доказало силу еврейского вождя Мезу, наславшего на страну такие страшные бедствия, и могущество его Бога? Двор был пуст, совершенно пуст. Только в хлевах лежало несколько забитых больных коров и овец, и один маленький хромой ягненок заковылял прочь, когда увидел ворвавшуюся толпу.
Даже повозки и телеги исчезли. Ревущая и блеющая движущаяся масса, которую жрец принял за души осужденных, была не чем иным, как шествием выселявшихся евреев, которые ночью со своими стадами покидали старую родину под предводительством Моисея.
Начальник лучников опустил меч, и можно было подумать, что его приятно изумило найденное им здесь; но его сосед, писец из казнохранилища фараона, разочарованный, осматривал пустой двор с видом обманутого человека.
Гнев и злоба в душе человека подобны морю, вздымающему ночью высокие волны и понижающему свой уровень при ярком дневном свете: так и в душе воина легко поддававшаяся возбуждению страсть давно уже уступила место большему спокойствию. Других евреев он хотел бы подвергнуть самым тяжким карам, но не Нуна, сын которого Иосия был его товарищем по оружию, одним из самых уважаемых военачальников и притом другом его дома. Если бы он вспомнил об Иосии и сообразил, что первому нападению подвергнется двор его отца, то, наверное, не стал бы во главе этого движения мести; он раскаивался в том, что забыл спокойную рассудительность, которую предписывал ему его возраст.
Однако же пока многие грабили и начали разрушать дом бежавшего Нуна, явились несколько мужчин и женщин, которые объявили, что в соседних домах не обнаружено ни одного живого существа. Другие рассказывали о брошенных кошках, притаившихся в опустевших хлевах, об убитой старой скотине и о поломанной утвари. Но наконец разъяренная толпа приволокла какого-то еврея с его домочадцами и какую-то слабоумную седую женщину, которую стащили с соломы. Лукаво хихикая, старуха уверяла, что ее соплеменники охрипли, звавши ее, но Мегена умна и бежать, все время бежать, как они желали, она не согласна: ведь ее ноги так слабы и у нее совсем нет башмаков.
Мужчина, безобразный еврей, которого даже из его соотечественников немногие признали бы достойным сострадания, уверял — то с приниженностью пресмыкающегося, то со свойственною его натуре дерзкой наглостью, — что ему нет никакого дела до ложного бога, во имя которого соблазнитель Моисей заманил свой народ в погибель, и что он вместе с женою и ребенком всегда стоял за египтян. В самом деле его знали многие: он был ростовщик, и пока его соплеменники приготовлялись к странствованию, он скрывался, чтобы продолжать свое нечестное ремесло и не потерпеть никакого убытка.
Среди разъяренной толпы находились и некоторые из его должников; но и без них его участь была бы решена, так как он был первым евреем, на котором возбужденная толпа могла показать, что она не шутит со своей местью. Она бросилась на него с дикими криками, и скоро несчастный ростовщик и члены его семьи превратились в валяющиеся на земле трупы. Никто не знал, кто был зачинщиком этой кровавой расправы, так как слишком много людей накинулось на убитых.
Другие оставшиеся евреи, схваченные в домах и хижинах — а таких оказалось немало, хотя некоторым удалось убежать, — с неменьшею быстротой пали жертвой мести народа; и между тем как в одном месте лилась кровь, в другом работали топоры, обрушивая балки, столбы, стены, ворота, чтобы снести с лица земли жилища ненавистного племени.
Пылающие уголья, принесенные разъяренными женщинами, были потушены и затоптаны, так как более рассудительные из толпы указали на опасность, которою пожар в квартале чужеземцев [12] угрожал соседним с ним домам египтян и всему Танису.
Таким образом, еврейский квартал был спасен от пламени; но, когда солнце поднялось выше, места, где находились прежде жилища переселенцев, были окутаны непроницаемыми облаками беловатой пыли, и там, где еще вчера тысячи людей обладали уютным домашним очагом и где большие стада утоляли свежей водою жажду, раскаленная почва была покрыта только мусором, камнями, расщепленными балками и поломанными вещами из дерева. Собаки и кошки, брошенные на произвол судьбы, бродили между этими обломками; к ним присоединились женщины и дети из нищенских хижин, лепившихся на окраине соседнего с еврейским кварталом некрополя. Защищая рот от удушающей пыли, они искали, не найдется ли какой-нибудь посуды или съестных припасов, оставленных беглецами и не унесенных грабителями.
В полдень второй пророк Бай, которого несли на носилках, приблизился к уничтоженному кварталу. Он явился сюда не за тем, чтобы насладиться зрелищем разрушения, а потому что это был ближайший путь от некрополя к его дому. Однако же на его сомкнутых губах мелькнула улыбка удовольствия, когда он увидел, как основательно народ выполнил свою работу. Правда, то, чего желал сам Бай, не было сделано: вожди беглецов избегли его мщения, но все же ненависть, хотя она и ненасытна, порой удовлетворяется и немногим: ее радует даже и менее значительный вред, нанесенный врагу. Жрец возвращался от скорбящего фараона: ему еще не удалось освободить царя от оков, в которые заковал его еврейский чародей, но он расшатал их.
Когда этот волевой, честолюбивый человек одиноко размышлял в святилище о случившемся и обдумывал предстоявший ему доклад, то он, не имевший в других случаях обыкновения говорить сам с собою вслух, беспрестанно бормотал про себя одну фразу: «Так благослови и меня!»
С этою просьбою сам фараон обратился к одному человеку, и этим человеком был не Руи, главный судья и верховный жрец, и не он сам, второй пророк, — единственные лица, которым приличествовало благословлять царя, — а нечестивейший из нечестивых, иноземец, еврей Мезу, которого он ненавидел больше, чем кого бы то ни было на земле.
«Так благослови и меня!» Эта благочестивая, исполненная доверия просьба, вырвавшаяся из устрашенной человеческой души, точно кинжал, вонзилась в душу жреца. Ему казалось, что подобным желанием, которое такие уста извергли на благоволение такого человека, был сломан жезл и сорвана барсова шкура с плеч жреческого сословия, что эти слова позорят весь его народ, который он любит.
Он знал Моисея как одного из мудрейших людей, вышедших из египетских школ; ему хорошо было известно, что фараон находится под обаянием этого человека, выросшего в его царском доме и бывшего другом его отца, великого Рамсеса. Он был свидетелем, как его повелитель прощал Моисею преступления, которые другим, будь это хоть самые высокопоставленные лица, стоили бы жизни. И какое значение должен был иметь этот еврей для фараона, бога солнца на всемирном троне, если тот у смертного одра своего собственного сына мог поддаться порыву, поднять к нему руки и вскричать:
— Так благослови и меня!
Все пророк сказал себе самому и зрело обдумал и все-таки желал и решился не отступать перед могущественным чужеземцем.
Приготовить гибель ему и его народу он считал самой священной и самой настоятельной из своих обязанностей. Чтобы привести ее в исполнение, он не колебался наложить свою руку на трон. В самом деле, фараон Марнепта [13] своей нечестивой просьбой: «Так благослови и меня!» — лишился в его глазах права царствовать.
Мезу был убийцей первородного сына фараона, но он, Бай, и старый верховный жрец Аммона имели в своей власти и благоденствие, и погибель души умершего мальчика. Это оружие было сильно и остро, и он знал слабое, изменчивое сердце царя. Если бы верховный жрец Аммона, единственный человек, поставленный выше его, — не противился ему из-за своих старческих ни на чем не основанных капризов, то ему ничего бы не стоило принудить фараона к уступчивости; но то, на что этот непостоянный человек соглашался сегодня, он отменял завтра, когда еврею снова удавалось стать между ним и его египетским советом. Еще сегодня этот недостойный сын великого Рамсеса, услыхав только имя чародея, изменился в лице и задрожал, как испуганная антилопа; каким же образом завтра он будет его проклинать и изречет над ним смертный приговор? Может быть, он согласится на это, но послезавтра он, наверное, призовет его опять и снова будет у него просить благословения. Прочь этого фараона, эту колеблющуюся тростинку на троне! Притом он нашел уже надлежащего наследника между князьями царской крови. Как только наступит время, как только закроет глаза верховный жрец Аммона, верховный судья Руи, который давно уже перешел за пределы времени, даруемого божеством для человеческой жизни, на его место вступит он, Бай, и для египтян начнется новая жизнь, а с Мезу и его племенем будет покончено.
Во время этих размышлений над головою пророка пролетела пара воронов и, каркая, опустилась на пыльные развалины одного из разрушенных домов. Он невольно посмотрел им вслед и заметил, что целью их полета был труп убитого еврея, наполовину покрытый мусором. Тогда по его умным, суровым чертам снова пробежала улыбка, которой не умели объяснить жрецы низшего разряда, окружавшие его носилки.
III
В числе людей, сопровождавших пророка, находился и начальник лучников Горнехт. Они были друг с другом в очень коротких отношениях, так как этот воин стоял во главе знатных людей, составивших заговор для низвержения Марнепта.
Когда они приблизились к разрушенному дому Нуна, жрец указал военачальнику на развалины и проговорил:
— Тот, кто некогда владел этим, есть единственный еврей, которому я даровал бы пощаду. Это был хороший человек, а его сын Иосия…
— Он на нашей стороне, — прервал его Горнехт. — В войске фараона мало людей лучше его, и, — прибавил он тихо, — я надеюсь на него в решительный день.
— Об этом — при немногих свидетелях, — прервал его жрец. — Впрочем, именно я обязан ему особой благодарностью. Во время ливийской войны, ты ведь знаешь это, я попал в руки неприятеля, и Иосия со своим маленьким отрядом вырвал меня из вражеских рук. — Затем пророк, понизив голос и как бы извиняясь в случившемся здесь, продолжал своим поучительным тоном: — Так происходит на земле. Там, где большой круг людей делается достойным наказания, принадлежность к нему вредит даже и невинным. В подобном случае даже боги не отмечают одиноких от толпы; мало того, даже невинных животных постигает несчастье. Посмотри только на эти стаи голубей на мусоре: они напрасно ищут приюта. А кошка вон там, с котятами! Беки, поди и возьми ее с собой, это наша обязанность избавлять священных животных от голодной смерти.
Эта добрая забота о неразумном создании была так близка сердцу человека, который только что, сейчас, с диким наслаждением думал о погибели многих людей, что он велел остановить носилки и наблюдал, как его слуги ловили кошек. Но дело шло не так скоро, как он ожидал. Одна из кошек скрылась в ближайшее отверстие погреба, а оно было так узко, что, по-видимому, совершенно ограждало животное от преследования слуг. Однако же младший из них, тонкий нубиец, схватил ее; но едва он приблизил лицо к отверстию, как снова отступил и закричал своему господину:
— Там лежит человеческое существо и, кажется, еще живое! Да, вот оно поднимает руку… Это мальчик или юноша и, наверное, не раб, потому что его голова вся в кудрях и, — тут солнечный луч проник в погреб, — и на руке выше локтя широкий золотой обруч!
— Может быть, это кто-нибудь из родственников Нуна, о котором они забыли, — сказал воин, а пророк Бай прибавил с жаром:
— Воля богов! Их священные животные указывают мне способ оказать услугу человеку, которому я обязан великой благодарностью. Постарайся пролезть в погреб, Беки, и принеси ко мне мальчика.
Нубиец отвалил камень, падение которого сузило отверстие, и вскоре затем передал своему товарищу неподвижного молодого человека, которого слуга отнес к колодцу, где с помощью воды привел в чувство.
Очнувшись, юноша протер глаза, посмотрел на себя и — как бы не сознавая, где он находится, — вокруг себя и, точно охваченный горем и ужасом, поник головой, кудри на которой на затылке слиплись от черных натеков запекшейся крови.
Пророк позаботился о том, чтобы обмыли рану, нанесенную мальчику упавшим камнем, и, когда ему сделана была перевязка, подозвал его к своим носилкам, прикрытым зонтиком.
Молодой еврей после долгого ночного странствования пришел перед восходом солнца в дом своего деда Нуна из Питома [14], который евреи называли Суккот, в качестве посланца. Найдя дом пустым, он лег в оставленном жилище, чтобы немного отдохнуть. Его разбудил шум разъяренной толпы, и когда он услыхал проклятия против своего народа, раздававшиеся по всему дому, то убежал в погреб, и крыша, о которую он ударился при входе туда, послужила ему спасением, так как густые слои пыли, которые при ее падении засыпали все, скрыли его от глаз грабителей.
Пророк внимательно посмотрел на него, и хотя раненый стоял перед ним запачканный, бледный и с окровавленною повязкой на голове, но он заметил, что это был красивый, великолепно сложенный мальчик, приближавшийся к юношескому возрасту. Почувствовав живое участие к нему, пророк смягчил строгую серьезность своего взгляда и ласково спросил, откуда он пришел и что привело его в Танис, так как по лицу спасенного нельзя было вывести заключения о том, к какому народу он принадлежал.
Юноша спокойно мог бы выдать себя за египтянина, но откровенно признался, что он внук Нуна. Ему только что исполнилось семнадцать лет, зовется он Эфраим, как его предок, сын Иосифа, и пришел он повидаться со своим дедом.
Эти слова были произнесены с чувством собственного достоинства и гордостью по поводу своего незаурядного происхождения.
На вопрос, не послан ли он сюда с каким-нибудь поручением, он несколько помедлил с ответом, но скоро оправился, смело посмотрев пророку в лицо, и сказал:
— Кто бы ты ни был, но меня учили всегда говорить правду, — и потому знай, что в Танисе живет еще другой мой друг по крови: Иосия, сын Нуна; он служит в войске фараона в качестве военачальника, и я имею кое-что сообщить ему.
— Знай, — пояснил жрец, — что это тот самый Иосия, из любви к которому я нахожусь здесь и велел моим слугам вытащить тебя из разрушенного дома. Я обязан ему благодарностью, и хотя большая часть твоих соплеменников сделала себя достойною самого тяжкого наказания, ты, ради его превосходных качеств, имеешь право жить свободным и невредимым между нами.
Мальчик гордым и огненным взглядом посмотрел на жреца, но прежде чем мог ответить что-нибудь, тот с ободряющею лаской продолжал:
— По твоим глазам, мальчик, я, кажется, могу заключить, что ты пришел сюда с целью добиться при содействии своего дяди Иосии приема в войско фараона. Твоя фигура делает тебя способным к военной службе, и у тебя, наверное, нет недостатка в смелости.
Улыбка польщенного тщеславия пробежала по губам Эфраима, и, может быть, бессознательно поправляя широкий золотой обруч на верхней части своей руки, он ответил с жаром:
— Что я мужествен — это я довольно часто доказывал на охоте; но дома у нас множество коров и овец, которые теперь составляют уже мою собственность, и быть свободным и повелевать пастухам мне кажется более желательным, чем делать то, что мне прикажут другие.
— Так, так, — кивнул жрец. — Может быть, Иосия научит тебя чему-нибудь другому, лучшему. Повелевать — это заманчивая цель для юности! Жаль только, что мы, которые достигли ее, становимся слугами, обремененными тем тяжелее, чем больше круг повинующихся нам людей. Ты понимаешь меня, Горнехт, а ты, мальчик, поймешь позднее, когда сделаешься тем пальмовым деревом, в которое обещает превратиться со временем дикое деревцо. Но время не терпит. Кто послал тебя к Иосии?
Юноша снова нерешительно опустил глаза, но когда пророк прервал молчание вопросом: «Где же правдивость, которой учили тебя?» — он ответил решительно:
— Я предпринял это путешествие по желанию одной женщины, которой ты не знаешь.
— Женщины? — повторил пророк и испытующим взглядом посмотрел в лицо начальника лучников. — Храброму воину и прекрасной женщине, ищущим друг друга, охотно помогает Гатор [15] и связывает их сердца прочными узами; но служителю божества неприлично быть зрителем подобной сцены, и потому я не допытываюсь ничего больше. Позволь, вождь, представить тебе этого мальчика, и помоги ему передать его поручение Иосии; вопрос только в том, вернулся ли он.
— Нет, — ответил воин, — но сегодня ждут в казармах возвращения его тысяч.
— Значит, Гатор, благосклонная к посланцам любви, соединит этих двоих не дальше как завтра, — сказал пророк мальчику; но тот возразил ему с негодованием:
— Никакого любовного приветствия я не несу никому.
Жрец, которого позабавило это резкое возражение, весело сказал:
— Я и забыл, что говорю с молодым князем стад. — Затем он продолжал более серьезным тоном: — Когда ты увидишь Иосию, то передай ему мой привет и скажи, что Бай, второй пророк Аммона, которого он освободил из плена ливийцев, считает уплатившим часть своего долга ему, приняв под свое покровительство тебя, его племянника. Тебе, смелый мальчик, может быть, неизвестно, что ты точно каким-то чудом избежал двойной опасности. Разъяренная толпа не пощадила бы тебя так же, как и удушающая пыль разрушенных домов. Помни это и скажи Иосии от меня, Бая, что я заранее уверен в его решимости отречься от своих соплеменников с отвращением, когда он узнает о бедствии, в которое чародейство одного из ваших ввергнуло дом фараона и вместе с тем этот город и всю страну. Они бежали, как трусы, после того как нанесли тягчайшие раны египтянам, и похитили лучшие вещи у людей, среди которых они жили спокойно, пользуясь их покровительством, получая от них работу и хлеб в изобилии! Вот что случилось, и если я не ошибаюсь в Иосии, то он отвернется от тех, которые совершили такое гнусное дело. Передай ему также, что подобным образом поступили уже, по собственному побуждению, низшие еврейские начальники и наемники, состоящие под начальством сирийца Аарсу. Сегодня утром — Иосия знает это и от других — они принесли жертву не только своему Ваалу [16] и Сету [17], которому охотно служили столь многие из ваших, пока нечестивый чародей Мезу не соблазнил вас, но и отцу Аммону и священному сонму девяти наших вечных богов [18]. Если он сделает то же, то мы, идя с ним рука в руку, поднимемся высоко; в этом он может быть уверен, и он заслуживает этого. Другую часть моего долга благодарности к нему, все еще остающуюся за мною, я сумею уплатить другими способами, которые до времени должны оставаться втайне. Но уже и сегодня ты можешь уверить своего дядю, что я сумею защитить его честного отца, старого Нуна, когда наказание богов и царя постигнет других людей вашего народа. Уже отточен — скажи ему это — меч, и готовится беспощадный приговор. Пусть он спросит себя: что могут сделать бегущие пастухи против войска, к способным вождям которого принадлежит и он сам. Твой отец еще жив, сын мой?
— Нет, его унесли на кладбище уже давно, — отвечал Эфраим дрожащим голосом.
Не овладела ли им моровая язва, не охватил ли его молодую душу стыд, что он принадлежит к народу, совершившему столь позорные деяния, или же мальчик был на стороне своих соплеменников и то бледнел, то краснел от гнева и негодования, слыша, как горько поносят их, и его душа была возмущена до того, что он едва мог говорить? Все равно! Он не был подходящим вестником для того, что пророк намеревался сообщить его дяде. Поэтому жрец сделал начальнику лучников знак — следовать за ним под тень сикоморы, широко раскинувшей свои ветви. Было важно удержать во что бы то ни стало Иосию в войске. Поэтому пророк положил руку на плечи Горнехта и сказал:
— Ты знаешь, что тебя и других убедила присоединиться к нам моя жена. Она служит нам лучше и ревностнее, чем многие мужчины; а твоя дочь, насколько она внушает мне удивление своею красотой, настолько же обладает очарованием невинности, привлекающим сердца.
— Ты хочешь, чтобы Казана участвовала в заговоре? — спросил военачальник, вздрогнув.
— Разумеется, не в качестве столь деятельной помощницы, как моя жена, — отвечал жрец.
— Да она и не годится для этого, — произнес Горнехт более спокойным тоном, — потому что она все равно что дитя.
— И все-таки с ее помощью можно привлечь к нашему делу человека, содействие которого мне кажется неоценимым.
— Ты разумеешь Иосию? — спросил Горнехт и снова нахмурился.
Но пророк продолжал:
— Если бы и так? Разве он настоящий еврей? Можешь ли ты считать недостойным дочери уважаемого воина протянуть руку человеку, которого, в случае успеха нашего предприятия, мы поставим главнокомандующим над всеми наемными войсками.
— Нет! — вскричал воин. — Но в число причин, побудивших меня восстать против фараона и обратиться к Сиптаху, входит также и та, что мать первого была чужеземка, а в жилах последнего течет наша кровь. Мать определяет происхождение человека, а матерью Иосии была еврейка. Я называю его моим другом, я умею ценить его достоинства, Казана расположена к нему…
— И все-таки ты желаешь иметь более знатного зятя? — прервал его жрец. — Каким образом может удасться наше предприятие, если отдельным людям, рискующим для него своею жизнью, уже первая жертва кажется слишком великой? Твоя дочь, говоришь ты, расположена к Иосии?
— Была расположена, это верно, — уточнил Горнехт, — ее сердце принадлежало ему, но я сумел принудить дочь к послушанию; неужели теперь, когда она овдовела, я должен отдать ее тому самому человеку, от которого заставил отказаться после тяжкой борьбы. Слыхано ли, возможно ли это в Египте?
— Это будет возможно, — заверил жрец, — когда мужчины и женщины на Ниле будут иметь над собою столько власти, чтобы ради великого дела подчиниться требованиям, несогласным с их желаниями. Обдумай все это и, кроме того, вспомни, что прародительницею Иосии — он хвалился этим в твоем присутствии — была египтянка, дочь одного из людей моего сословия.
— Но сколько поколений сошло с тех пор в могилу!
— Все равно. Это обстоятельство делает его более близким к нам, чем и должны мы удовольствоваться. До свидания сегодня вечером! Окажи покамест гостеприимство племяннику Иосии, и пусть дружески позаботится о нем твоя прекрасная дочь, так как он, по-видимому, очень нуждается в этом.
IV
Как во всем городе, так и в доме начальника лучников Горнехта господствует глубокая печаль. Мужчины остригли волосы, женщины покрыли лоб свой пылью. Жена военачальника умерла уже давно, но его дочь и ее прислужницы встретили его в траурных покрывалах и с громким плачем, потому что у зятя хозяина дома умерли перворожденный сын и внук… И как много было других близко знакомых, где моровая язва потребовала жертвы.
Но скоро женщины целиком отдались заботе о раненом мальчике, и после того, как его выкупали и снова перевязали ему глубокую рану на голове, помазав ее целительною мазью, ему были поданы вино и кушанья. Освеженный и подкрепленный, он пошел на зов дочери своего хозяина.
Запыленный и изнеможденный мальчик превратился в красивого юношу. Умащенные волосы волнистыми кудрями выбивались из-под свежей белой повязки, окружавшей его голову, окаймленная золотым шитьем египетская одежда, оставшаяся после умершего мужа дочери Горнехта, покрывала его упругое смугловатое тело. Он, по-видимому, чувствовал удовольствие, облачившись в это нарядное платье, от которого веяло новым для него запахом нарда [19]; его черные глаза блестели на прекрасно очерченном лице.
Дочь военачальника давно уже не видела более красивого юноши; сама она тоже обладала весьма привлекательною наружностью. После кратковременного брака с нелюбимым человеком Казана, едва прожив вне родительского дома один год, вернулась туда, так как этот дом нуждался в хозяйке, а большое имущество, оставшееся ей в наследство после смерти мужа, давало ей возможность ввести в простую домашнюю жизнь воина уют и великолепие, сделавшиеся для нее потребностью.
Ее отец, человек строгий и зачастую безмерно вспыльчивый, предоставил ей теперь полную свободу действий. В прежнее время он беспощадно противопоставлял свою волю ее желаниям, заставив ее, пятнадцатилетнюю девушку, выйти замуж за человека гораздо старше ее. Он сделал это, заметив, что Казана полюбила Иосию, а ему казалось позорным иметь зятем своим еврея, который тогда еще не занимал выдающегося положения в войске. Египетская девушка должна была беспрекословно повиноваться отцу, когда он ей выбрал мужа; поэтому покорилась и Казана, но при этом она проливала такие горячие слезы, что Горнехт был сам не рад, когда она подчинилась его воле и отдала руку нелюбимому супругу.
Однако его дочь, овдовев, продолжала любить еврея. Когда войско было в походе, она не переставала страшиться за него и целые дни и ночи проводила в тягостном беспокойстве. Когда приходили известия о войсках, она спрашивала только об Иосии, и ее склонности к нему глубоко огорченный отец приписывал то обстоятельство, что она отказывала женихам одному за другим. В качестве вдовы она имела право располагать своею рукою, и эта нежная, мягкосердечная молодая женщина изумляла своего отца упрямой решительностью, которую она выказывала не только относительно искателей ее руки, принадлежавших к ее сословию, но и относительно принца Сиптаха, к делу которого примкнул ее отец.
Свою радость по случаю возвращения Иосии Казана высказала сегодня в присутствии отца так открыто и свободно, что этот бешеный человек поспешил уйти из дому, чтобы не допустить себя до каких-нибудь безрассудных поступков и слов. Своего юного гостя он предоставил попечениям дочери и ее кормилицы.
Какое впечатление производил на восприимчивую душу мальчика дом военачальника с его обширными комнатами и открытыми верандами, с яркою цветною окраской, с художественными украшениями и мебелью, мягкими подушками и сладким благоуханием повсюду! Все это было ново и чуждо сыну владельца стад, привыкшему жить среди голых серых стен большого, но лишенного украшений сельского дома, проводившего досуг во все времена года в шатрах между пастухами и стадами, больше на открытом воздухе, чем под кровлей. Ему казалось, что он каким-то волшебством перенесен в некий высший, особенный мир и что в роскошной одежде, с умащенными волосами и омытым телом он как раз подходит к этому миру. Правда, везде мир был прекрасен, даже и на вольном воздухе — на пастбище среди стад и в вечерней прохладе перед шатром, когда пастухи поют, а охотники рассказывают о своих приключениях, и когда над ним так чудно сияют звезды. Но всему этому предшествовала тяжелая, утомительная работа; здесь же наслаждение было даже в том, чтобы смотреть и дышать. И когда занавеска открылась и молодая вдова заставила его сесть против себя, то задавая ему вопросы, то с участием выслушивая его ответы, ему чудилось, что так же как тогда, среди развалин разрушенного дома, он потерял сознание и видит самый приятный из всех снов; ему казалось, что он задыхается от блаженства, изливаемого на него великою Ашерой [20], подругой Ваала. О ней рассказывали ему многие финикийские купцы, снабжавшие пастухов разными хорошими вещами, но дома ему запретила говорить о ней строгая Мариам.
Его соплеменники вселили в его юную душу ненависть к египтянам, угнетателям его народа; но разве могли быть дурными людьми и внушать ему отвращение те, среди которых было такое существо, как эта прекрасная ласковая женщина, с такою кротостью и теплотою смотревшая ему в глаза, при виде которой его кровь волновалась до того, что он не мог успокоиться и прижимал руку к сердцу, чтобы сдержать его порывистое биение?
Казана сидела напротив него на стуле, покрытом барсовой шкурой, занимаясь пряжей тонких шерстяных ниток. Он ей нравился, и она приняла его так ласково потому, что он был родственником человека, которого она любила с детских лет. Ей казалось также, что он имеет сходство с Иосией; но мальчику недоставало серьезности мужчины, которому она, сама не зная, как и когда, отдала свое юное сердце, хотя он никогда не добивался ее любви.
На ее черных, великолепно уложенных волнистых волосах красовался цветок лотоса, стебель которого грациозным изгибом ниспадал на склоненный затылок, окаймленный перепутанной массой красивых локончиков. Когда она поднимала глаза на Эфраима, ему казалось, что открываются два источника, чтобы пролить в его юную грудь потоки блаженства, а прелестной руки ее, занятой пряжею шерсти, он уже коснулся при приветствии и держал в своей.
Теперь она начала расспрашивать его об Иосии и о женщине, приславшей мальчика к нему с поручением: молода ли, красива ли она и не связывает ли ее любовь с его дядей.
Эфраим весело засмеялся: пославшая его женщина была так серьезна и сурова, что мысль о возможности допустить в ней способность к нежным чувствам рассмешила его. А красива ли она — об этом он никогда не задумывался.
Молодая вдова приняла этот смех за ответ, какого в особенности желала; вздохнув, она оставила веретено и пригласила Эфраима идти с нею в сад.
Как там все цвело и благоухало, в каком порядке содержались гряды, дорожки, беседки и пруды! К его простому родительскому дому примыкал пустой двор без всяких украшений, с хлевами для крупного и мелкого рогатого скота, и, однако же, ему было известно, что со временем он будет обладать большим имуществом, так как он был единственным сыном и наследником зажиточного отца, а его мать — дочерью богатого Нуна. Его слуги не раз говорили ему это, и теперь ему было досадно, что его родной дом был немногим красивее жилища рабов Горнехта, которое показала ему Казана.
Во время прогулки по саду Эфраим должен был помогать ей рвать цветы, и, когда корзина, которую он нес за нею, наполнилась, она пригласила его сесть с нею в беседке, чтобы помочь сплетать венки. Они были предназначены для умерших. В прошлую ночь ее дядю и похожего на него милого двоюродного брата унесла моровая язва, которую его соплеменники наслали на Танис.
С прилегавшей к стене сада улицы слышались непрестанные жалобные вопли женщин, оплакивавших какого-нибудь покойника или сопровождавших его к могиле, — и когда эти вопли сделались особенно громки и горестны, она дружески попрекнула Эфраима тем, что все это танитяне потерпели из-за евреев, и спросила его, может ли он отрицать, что египтяне имеют основание ненавидеть людей, которые причинили им такие бедствия.
Ему было трудно найти надлежащий ответ. Он слышал, что египтян карает Бог его народа ради освобождения евреев от позора и рабства, и он не осмеливался отречься с презрением от тех, к которым он принадлежал по крови. Поэтому он молчал, чтобы не солгать или же не согрешить. Но она не отставала от него, и наконец он отвечал, что ему прискорбно все, причиняющее ей горе, но его народ не имеет никакой власти над здоровьем и жизнью, потому что заболевающие евреи довольно часто обращаются к египетским врачам. То, что здесь случилось, совершено великим Богом его отцов, Который своим могуществом превосходит других богов. Он, Эфраим, еврей, но она может ему поверить, что он невиновен в моровой язве и охотно возвратил бы ее дядю и двоюродного брата к жизни, если бы мог. Для нее он готов сделать все, даже самое трудное.
Она ласково улыбнулась ему и сказала:
— Бедный мальчик, если я признаю за тобою какую-нибудь вину, то разве ту, что ты принадлежишь к народу, не знающему никакой пощады, никакого сострадания! Наши милые несчастные покойники принуждены лишиться даже оплакивания своих близких, потому что дом, где они лежат, зачумлен и никто не смеет войти в него!
Она молча осушила свои глаза и затем вновь принялась за плетение венков, но при этом слезы одна за другой текли по ее щекам. Он не знал — что еще сказать, и только подавал ей цветы и листья, и когда при этом касался ее руки, жар пробегал у него по жилам. Его раненая голова начала сильно болеть, и по временам он вздрагивал от легкого озноба. Он чувствовал, что его лихорадит, как тогда, когда он чуть не умер от скарлатины; но ему стыдно было признаться в этом, и он крепился.
Когда солнце склонилось к закату, в сад вошел Горнехт. Он уже виделся с Иосией и хотя искренне радовался благополучному возвращению своего друга, но его все-таки беспокоило и раздражало то, что Иосия прежде всего с участием осведомился о его дочери. Он не скрыл этого от нее, и выражение его глаз свидетельствовало о неудовольствии, которое внушали ему приветствия еврея. Наконец, он обратился к Эфраиму и сообщил ему, что Иосия стоит со своими войсками перед городом. По причине моровой язвы они принуждены расположить свой лагерь вне Таниса, между городом и морем. Они скоро должны будут проходить мимо, и дядя велел передать Эфраиму, чтобы он пришел попозже в его палатку.
Увидев, что юноша помогает его дочери плести венки, он улыбнулся и сказал:
— Сегодня утром этот задорный мальчуган желал всю жизнь оставаться свободным и повелевать, и вот теперь он отдал себя в твое распоряжение, Казана! Но чего тебе краснеть, мой юный друг! И если твоя госпожа или твой дядя убедят тебя сделаться одним из наших и посвятить себя благороднейшему ремеслу воина, то это послужит к твоему благу. Посмотри на меня: я владею луком более сорока лет, но до сих пор доволен своим призванием. Мне приходится повиноваться, но также и повелевать, и те тысячи, которые слушаются меня, не овцы или коровы, а храбрые люди. Обдумай это сам с собою еще раз. Из него выйдет превосходный предводитель лучников, как ты думаешь, Казана?
— Конечно, — ответила молодая женщина и хотела сказать еще что-то, но за стеной сада послышался мерный топот приближавшегося военного отряда. Яркая краска разлилась по лицу Казаны, в ее глазах появился блеск, испугавший Эфраима, и, не обращая внимания ни на отца, ни на гостя, она побежала мимо пруда, по аллеям и грядам, вскочила на дерновую скамью, стоявшую вдоль стены, и напряженным взглядом смотрела на улицу и на вооруженный отряд, который вскоре прошел мимо нее.
Иосия шел во главе в полном вооружении. Подходя к саду Горнехта, он бросил свой серьезный взгляд на его жилище и, увидав Казану, опустил боевую секиру, дружески кланяясь.
Эфраим последовал за Горнехтом, который указал ему на дядю со словами:
— И тебе превосходно подошел бы военный наряд; человек идет, точно окрыленный, когда гремит барабан, раздается звук трубы и вокруг развеваются знамена. Сегодня военная музыка молчит по причине страшного бедствия, навлеченного на нас еврейским злодеем. Иосия тоже еврей, и хотя я не могу смотреть на это сквозь пальцы, но все-таки должен признаться, что он настоящий солдат, образец для молодого поколения. Сообщи ему, что я думаю о нем на этот счет. Теперь простись с Казаной и иди за войском, вот там калитка в стене отворена.
Говоря это, он повернул к дому, и Эфраим протянул на прощание руку молодой женщине. Она подала ему свою, но тотчас же отняла ее и сказала озабоченным тоном:
— Как горяча твоя рука! У тебя лихорадка!
— Нет, нет, — пробормотал юноша; но, говоря это, он опустился на колени, и какой-то туман распространился над измученною волнениями дня душою страждущего мальчика. Казана испугалась, но быстро нашлась и освежила ему темя и лоб водой из пруда. При этом она озабоченно посмотрела на его лицо, и теперь более, чем когда-нибудь, он показался ей похожим на Иосию. Да, человек, которого она любила, должен был походить на этого мальчика, когда сам был еще мальчиком. Сердце ее забилось быстрее, и, держа голову Эфраима в руках, она нежно поцеловала ее.
Она считала его лишившимся сознания, но действие освежающей влаги уже прогнало легкий обморок, и он со сладким трепетом почувствовал ее поцелуй. Он не раскрывал глаз и желал бы покоиться всю жизнь, прислонясь головой к ее груди, в надежде, что ее губы еще раз коснутся его. Но, вместо того чтобы поцеловать его снова, она громко позвала на помощь. Тогда он вскочил, диким, пылающим взором посмотрел ей в лицо и, прежде чем она успела его остановить, побежал, точно здоровый, к воротам сада, отворил их и последовал за военным отрядом. Он быстро добежал до замыкающих воинский строй отделений, поспешно обогнал много других, и когда наконец очутился возле их начальника, то окликнул своего дядю и назвал свое имя. Обрадованный Иосия простер к нему объятия, но прежде чем Эфраим мог упасть к нему на грудь, он снова лишился чувств, и сильные воины понесли мальчика в шатер, уже поставленный квартирьером у моря на песчаном холме.
V
Наступила полночь. Перед шатром Иосии пылал костер, возле которого сидел он один, сумрачно и задумчиво глядя то на пламя, то вдаль. В холщовом шатре лежал молодой Эфраим на походном ложе своего дяди.
Врач, сопровождавший отряд Иосии, перевязал рану юноши, дал подкрепляющего питья и велел лежать спокойно; врача встревожила жестокая лихорадка, овладевшая мальчиком.
Но Эфраим не подчинился предписанию врача. То перед его мысленным взором вставал образ Казаны, причем усиливался жар его и без того чрезмерно разгоряченной крови, то он вспоминал о данном ему совете сделаться воином, подобно дяде, и этот совет казался юноше разумным, потому что, как он хотел уверить себя, обещал ему почет и славу; но на самом деле Эфраим хотел последовать ему потому, что это приблизило бы его к женщине, к которой стремилась его душа. Затем его гордость возмущалась снова, когда он вспоминал о том, как она и ее отец клеймили тех, к кому он принадлежал по крови и симпатиям. Его кулаки сжимались при одном воспоминании о разрушенном доме его деда, которого он всегда считал достойнейшим из людей. Он не забыл также и о данном ему поручении. Оно было повторено ему Мариам много раз, и его цепкая память сохранила его дословно, тем более что во время своего одинокого путешествия в Танис он не уставал повторять его про себя. Теперь он тоже попробовал это сделать, но, прежде чем дошел до конца, почувствовал непреодолимое желание — думать о Казане.
Врач посоветовал Иосии не позволять племяннику говорить, и, когда больной хотел передать свое поручение дяде, тот принужден был остановить его. Затем воин заботливо, точно мать, поправил ему подушки, дал лекарства и поцеловал в лоб. Наконец, он сел перед палаткой у костра и вставал только затем, чтобы дать больному лекарство, когда увидел по звездам, что пришло время.
Пламя освещало лицо Иосии, покрытое легким загаром; это было лицо человека, который не один раз смотрел в глаза опасностям и с суровой настойчивостью и умелой рассудительностью преодолевал их. Черные глаза его глядели повелительно, а полные, плотно сжатые губы свидетельствовали о горячей крови, но еще более о железной воле этого гордого человека. Широкоплечий, статный, он сидел, опираясь на несколько копий, крестообразно воткнутых в землю, и когда мускулистой рукой поглаживал свои жесткие черные кудри или темную бороду, причем его глаза вспыхивали гневным огнем, можно было подумать, что в его душе происходит какое-то брожение и что он стоит на пороге какого-то важнейшего решения. Лев еще отдыхает, но пусть берегутся его враги, когда он вскочит на ноги! Воины довольно часто сравнивали своего кудрявого неустрашимого, твердого как железо вождя с царем зверей, и теперь, когда он потрясал кулаком, причем на верхней части его смуглой руки мускулы вздымались, точно желая разорвать окружавший ее золотой обруч, когда в глазах его сверкало горячее пламя, вся его мощная фигура внушала невольный трепет.
Там, на западе, куда Иосия обратил взгляд, лежали некрополь и разрушенный квартал чужеземцев. За несколько часов перед тем он вел свой отряд через развалины, над которыми кружились вороны, и проходил как раз возле разрушенного отчего дома.
Иосия прошел мимо спокойно, как того требовала служба, и только тогда, когда нужно было остановиться и подумать о месте расположения своих тысяч, начальник лучников Горнехт сообщил ему о событиях этой ночи. Он выслушал его молча, не дрогнув ни одним мускулом и не спрашивая о подробностях, пока его войска разбивали шатры; но едва он успокоился, одна еврейская девушка, несмотря на запрещение часовых, ворвалась к нему и от имени своего деда Элиава, старейшего из рабов его дома, стала умолять Иосию идти с нею к старику. Тот был оставлен ушедшими евреями, так как из-за болезни и дряхлости не мог отправиться в путь, тотчас после исхода его и жену посадили на осла и перевезли в домик близ гавани, подаренный верному слуге Нуном.
Внучку оставили при дряхлой чете в качестве попечительницы, и теперь сердце старого слуги томилось желанием видеть первенца его господина, Иосию, которого он когда-то носил на руках. Старик поручил девушке сказать военачальнику, что его отец обещал евреям, что Иосия оставит египтян и последует за своими. Племя Эфраимово и весь народ с восторгом приняли это известие. Дед расскажет ему все подробности, так как сама она почти помешалась от горя и слез. Воин заслужит великую благодарность, если пойдет с нею.
Иосия решил, что он должен исполнить просьбу девушки, однако был принужден отложить посещение старика до завтра. И все-таки посланница успела рассказать ему некоторые подробности, которые видела сама или о которых слышала от других.
Наконец она ушла. Иосия подложил сучьев в костер и, пока огонь ярко горел, мрачным и задумчивым взором смотрел на запад. Только тогда, когда пламя истощилось и от него остался тусклый, бледный огонек, игравший на обуглившихся головнях, он стал смотреть на этот огонек и на вылетавшие порою искры. И чем больше он смотрел, тем глубже и непреодолимее казался ему разлад в его душе, еще вчера устремленной нераздельно к одной великой цели.
Война с взбунтовавшимися ливийцами полтора года удерживала его вдали от родины, и в течение целых десяти месяцев он не имел никаких известий о своих близких. Несколько недель назад он получил приказание вернуться в отечество, и когда сегодня приближался к городу Рамсеса, Танису, богатому обелисками, его сердце билось так радостно и было так полно надежды, как будто он, зрелый мужчина, снова превратился в юношу.
Через несколько часов ему предстояло снова увидеть своего достойного, дорогого отца, который весьма неохотно и только по убеждению матери, скончавшейся уже давно, позволил ему последовать своей склонности и посвятить себя военному поприщу в войске фараона. Иосия надеялся порадовать его сегодня известием, что он поставлен выше многих начальников из египтян, гораздо старших по возрасту, чем он. Пренебрежение в отношении его, которого так опасался Нун, в виду личных достоинств, способностей и, как скромно прибавлял Иосия, счастья, превратилось в предпочтение, хотя он все-таки остался евреем. Когда при жертвоприношениях и молитвах Иосия был вынужден исповедывать какого-нибудь бога, он молился тому самому Сету, в храм которого водил его, когда он был ребенком, сам отец и которому тогда молились в Гозене все, принадлежащие к семитской крови. Для него самого существовал еще другой Бог, и это не был Бог его отцов, а тот Бог, которого признавали все египтяне, получившие посвящение. Он был тайною для народа, который не мог Его понять; но Его знали не только адепты, но и большинство лиц, и жрецов, и непосвященных, достигших высокого положения на государственной или на военной службе, в том числе и Иосия, чужеземец и профан [21]. Каждому было известно, что разумеется под словами: «Бог», «Сумма всего», «Творец себя самого», «Великий Единый». Он прославлялся в священных гимнах; надгробные надписи говорили о нем, едином Боге, Который открывает себя в мире, проникает Все и равен Всему. Он не только наполняет мироздание как жизненная сила, человеческий организм, но сам есть сумма всего созданного, всемирное Все, с его вечным возникновением, дуновением и возрождением, следующее законам, которые оно предписало себе самому. Существо этого Бога живет в человеческой плоти так же, как и в каждой части Всего, и куда бы ни взглянул смертный, он везде может заметить господство этого «Единого». Вне его немыслимо ничто, и, следовательно, этот Бог един, как и Бог отцов Иосии. Без него ничто не возникает и не происходит на Земле, следовательно, он всемогущ так же, как и Бог Израилев. Иосия издавна считал их обоих равными по существу и различными только по имени. Кто поклоняется одному, тот служит и другому, и потому Иосия мог бы спокойно явиться перед отцом и сказать, что он, будучи воином и служа царю, остался верным Богу своего народа.
Но было также и нечто другое, что заставляло сердце Иосии биться быстрее и радостнее, когда он увидел высокие пилоны и обелиски Таниса. Во время бесчисленных переходов по пустыне и в одиноких шатрах перед его мысленным взором возникал образ девушки из израильского народа, которую он знал сперва как своеобразного, волнуемого странными мыслями ребенка, а затем, незадолго перед своим последним походом в Ливию, встретил снова уже взрослой девушкой строгой красоты и исполненной необыкновенного достоинства. Она прибыла для погребения своей матери из Суккота в Танис, и там ее образ глубоко запечатлелся в его сердце. Иосия имел основание надеяться, что и он, со своей стороны, произвел на нее такое же впечатление. Она сделалась пророчицей и слышала голос своего Бога. Между тем как других девушек его народа держали в строгом затворничестве, она свободно вращалась даже в обществе мужчин и, несмотря на свою ненависть к египтянам и на службу Иосии в их войсках, не скрывала того, что ей прискорбно расставаться с ним и что она не перестанет вспоминать о нем. Его будущая жена должна быть тверда и серьезна, как и он сам, и Мариам обладала этими качествами и заслоняла собою другой сияющий образ, о котором некогда он думал с глубокой сердечной радостью. Он любил детей и никогда, ни в Египте, ни на чужбине, не встречал ребенка очаровательнее Казаны. Участие, с каким прелестная дочь его товарища по оружию следила за его судьбою, скромное добросердечное расположение, какое она оказывала ему впоследствии, будучи уже молодой вдовой, окруженной множеством соискателей ее руки, которых она умела отстранять от себя довольно сурово, — все это составляло его радость во времена мира. Когда она росла, он смотрел на нее, как на свою будущую жену; но ее брак с другим и неоднократное уверение ее отца, что никогда он не выдаст свою дочь замуж за чужеземца, задели его гордость и отрезвили его. Затем он встретился с Мариам, и его сердце наполнилось горячим желанием обладать ею. Тем не менее ему была приятна мысль, что, возвратясь домой, он увидит Казану. Было хорошо и то, что он не желал уже иметь ее своею женой, иначе он испытал бы только горькое разочарование, потому что как евреи, так и египтяне считали чем-то недостойным заключать между собою брачные союзы, быть вместе, пользоваться одним и тем же стулом или ножом. Хотя в кругу своих товарищей по оружию Иосия считался своим, хотя и отец молодой вдовы часто вспоминал о нем с любовью, но все-таки «чужеземцы» были чем-то ненавистным для Горнехта и для всех свободных египтян.
В Мариам он видел благороднейшую спутницу жизни. Пусть Казана осчастливит кого-нибудь другого! Во всяком случае, она могла остаться для него прелестным ребенком, от которого не требуется ничего, кроме радости любоваться им.
Иосия явился, чтобы в качестве друга, готового на любые услуги, ждать от нее веселого взгляда, а от Мариам — ее самой во всем ее величии и красоте. Он достаточно долго переносил одиночество лагерной жизни; с тех пор как при возвращении его домой перед ним не раскрывались более материнские объятия, он в первый раз почувствовал вполне всю тяжесть своего безбрачного существования. Снимая оружие после опасностей и лишений всякого рода, он снова желал насладиться миром; его обязанностью было — ввести под кровлю своего отца хозяйку дома и позаботиться о том, чтобы благородное дерево, которого он был последним отпрыском, не засохло, так как Эфраим был только сыном его сестры.
С этими веселыми, радующими сердце мыслями Иосия приближался к Танису и теперь был у цели. И вот то, на что он надеялся, чего желал, лежало теперь перед ним, как нива зреющей пшеницы, побитой градом или пожранной саранчой.
Судьба, точно в насмешку, привела его прежде всего к еврейскому кварталу. Там, где некогда стоял родительский дом, в котором Иосия вырос и к которому стремилось его сердце, теперь находились пыльные развалины; там, где его кровные смотрели на него с гордостью, он нашел нищих, которые рылись в мусоре, ища скудной поживы.
Первым, кто протянул Иосии руку в Танисе, был отец Казаны. После дружеского приветствия он получил от Горнехта известия, поразившие его в самое сердце. Он намеревался привести в свой дом жену, но тот дом, где она должна была распоряжаться в качестве госпожи, был разрушен до основания. Отец, чьего благословения он желал и которому его высокое положение должно было принести радость, ушел на чужбину и сделался врагом царя, которому он, Иосия, был обязан своим возвышением.
Иосия гордился тем, что, несмотря на свое происхождение, достиг власти и почестей, и тем, что он в состоянии был сделать в будущем в качестве вождя многих тысяч воинов. У него не было недостатка в планах, которые всегда имели успех, когда бывали приняты его начальниками; теперь он мог осуществлять свои планы самостоятельно и из орудия сделаться руководящей силой.
Это пробуждало у Иосии приятный подъем духа и окрыляло его при возвращении; и вот теперь, когда он достиг так долго желанной цели, он должен был повернуть назад и присоединиться к пастухам и работникам, к которым он — каким тяжким бедствием казалось ему это в настоящий час! — принадлежал по своему рождению и происхождению и которым он, бесспорно, сделался так же чужд, как он был чужд ливийцам, своим недавним противникам. В большинстве вещей, имеющих цену для человека, он не имел уже ничего общего с ними. Он воображал, что на вопрос отца, евреем ли он возвращается на родину, он мог бы ответить утвердительно; но теперь чувствовал, что он остается евреем против воли, и притом менее чем наполовину.
Иосия всей душой привязался к знаменам, под которыми он выступил в поход и под которыми теперь он сам мог бы вести к победам. Возможно ли было теперь расстаться с ними и отказаться от всего, что он приобрел своими заслугами? И, однако же, от внучки старого раба Элиава он слышал, что его соплеменники ждут оставления им службы и присоединения к ним. Скоро должно было прийти к нему письмо отца, а у евреев сын не имел никакого права возражать против приказаний родителя.
Но и другому лицу Иосия был обязан строгим повиновением — непосредственно фараону. Он принес торжественную присягу царю: верно служить ему и спешить на его призыв без промедления и колебания, сквозь огонь и воду, и днем, и ночью.
Как часто он называл бездельниками и подлецами воинов, перебегавших к неприятелю или не выполнявших приказов начальников; по приказанию командующего на его глазах несколько дезертиров умерли позорной смертью на виселице. Неужели же теперь ему самому приходилось сделать то же, за что он презирал и лишал жизни других? Иосия в войске был известен своей быстрой реакцией и умением тотчас найти самое подходящее решение и немедленно выполнить его; но в этот ночной час одиночества он казался себе самому колеблющейся тростинкой, чувствовал себя беспомощным, точно сирота, брошенный всеми. Им овладела злость на самого себя, и если теперь он ткнул копьем в костер с такой силой, что головни, треща, обрушились и посыпавшиеся искры ярко вспыхнули в ночной тьме, то при этом его рукою управлял гнев против своих собственных сомнений.
Если бы случившееся налагало на Иосию обязанность мщения, то он скоро бы покончил со своею нерешительностью, призыв отца стал бы для него обязательным. Но кто здесь претерпел больше несправедливостей? Конечно, египтяне, у которых проклятие похитило тысячи дорогих жизней, между тем как его соплеменники спаслись от возмездия бегством. То обстоятельство, что египтяне уничтожили дома евреев, воспламенило его гнев, но он не видел никакого основания прибегать к кровавому мщению за это, вспомнив, какие невыразимые страдания обрушились через евреев на фараона и на его подданных.
Нет, Иосии не за что было мстить, и он чувствовал себя в положении человека, который видит отца и мать в смертельной опасности и не может помочь обоим, так как, жертвуя своей жизнью для спасения одной, он будет принужден допустить погибель другого. Если он последует призыву своих соплеменников, то утратит честь, которую сохранял такой же чистой, как медь своего шлема, и вместе с нею высшее, чего он ожидал от жизни; если он останется верным фараону и своей присяге, то изменит своей собственной крови, проклятие отца омрачит свет его дней, и он будет вынужден отказаться от самого прекрасного, на что надеялся в будущем; Мариам — истинное дитя его народа, и благо ему, если ее великая душа умеет так же горячо любить, как умеет горько ненавидеть.
Между тем как он, сидя у угасавшего костра, всматривался в ночную тьму, мысленному взору его представлялся образ великий и прекрасный, но с мрачным взглядом и строгим предостерегающим жестом. И его мужественная гордость возмутилась: ему казалось позорным из страха перед гневом и порицанием женщины пренебречь всем, что дорого воину.
«Нет, нет!» — говорил он себе, и чаша весов, на которой лежали долг, любовь и послушание сына вместе с обязанностью, налагаемой кровью, высоко поднялась. Он был тем, чем был, начальником десятитысячного отряда в войске фараона. Он присягал в верности ему, а не кому другому. Пусть его соплеменники бегут от ига египтян, он, Иосия, ненавидит бегство. Их тяжело угнетало рабство, к нему же самые могущественные лица Египта относились как к равному, они считали его достойным высоких почестей. Отплатить им изменой и переходом в чужой лагерь — это противоречило его характеру. Глубоко вздохнув, он встал, и ему казалось, что он остановился на правильном решении дилеммы. Женщина и малодушное томление сердца, наполненного любовью, не должны отвращать его от серьезных обязанностей и высоких целей существования.
«Я остаюсь! — вскричал громкий голос в его груди. — Отец благоразумен и добр, и когда он ознакомится с моими взглядами, то одобрит их; он благословит меня, вместо того чтобы проклясть. Я напишу к нему, и моим посланцем будет мальчик, присланный ко мне Мариам».
Долетевший из шатра зов прервал размышления Иосии, вздрогнув, он посмотрел на звезды и, увидев, что забыл свои обязанности по отношению к больному, поспешил к его постели.
Эфраим, поднявшись на своем ложе, сказал:
— Я давно уже с нетерпением ожидаю тебя. В моих мыслях скопилось так много всего, и прежде всего поручение Мариам. Я успокоюсь только тогда, когда исполню его, выслушай же меня.
Иосия кивнул, и юноша, приняв лекарство, поданное ему дядей, начал:
«Мариам, дочь Амрама и Иохаведы, приветствует сына Нуна. Ты называешься Иосией — «помощью», и Господь Бог наш избрал тебя помощником своего народа. Но, по его повелению, ты отныне должен называться Иисусом, то есть человеком, которому помогает Иегова [22]. Через Мариам, свою служительницу, Бог ее отцов, а также и твоих, повелевает тебе стать мечом и щитом твоего народа. Все могущество находится в Его обладании, и Он обещает укрепить твою руку для уничтожения врагов».
Эфраим начал тихо, но сила его голоса постепенно росла, и последние слова прозвучали громко и торжественно в тишине ночи.
Так произнесла их перед ним Мариам, причем положила руки на его голову и глубокими черными как ночь глазами серьезно смотрела ему в лицо. И когда Эфраим повторял эти слова, ему казалось, что какая-то таинственная сила заставляет его произнести их перед Иосией точно таким тоном, как он слышал их из уст пророчицы. Затем он вздохнул с облегчением, повернулся к холщовой стене палатки и сказал:
— Теперь я засну.
Но Иосия положил ему свою правую руку на плечо и приказал повелительно:
— Повтори!
Мальчик повиновался; но на этот раз он произносил слова тихо и бессознательно, затем попросил:
— Дай же мне поспать.
Он подложил руку под щеку и закрыл глаза.
Иосия не возражал. Он заботливо обложил его горячую голову влажной повязкой, потушил светильник и подбросил поленьев в потухавший костер; но все это он, бодрый и сильный волей человек, делал точно во сне. Наконец он сел, подпер локоть коленом, опустил голову на руку и стал смотреть то на огонь, то в пространство.
Кто этот Бог, Который посредством Мариам призывает его быть при Его помощи мечом и щитом его народа.
Иосии хотят изменить имя, а имя для египтянина значит весь человек: честь имени фараона, а не честь фараона, вот как говорят и пишут в Египте, и если теперь ему следует называться Иисусом, то вместе с этим ему предъявляется требование сбросить с себя прежнее обличье и сделаться совершенно иным человеком.
То, что Мариам возвещает ему, как волю Бога его отцов, заключает в себе приказание — из египтянина, каким его сделала жизнь, снова превратиться в еврея, каким он был в первые годы своего детства. Ему предстоит научиться поступать и чувствовать как еврею.
Итак, послание Мариам призывает его, Иосию, обратно к своим. То, чего ожидал его отец, теперь повелевает через нее Бог его народа. Вместо своих тысяч воинов, которых приходится оставить, ему предстоит предводительствовать людьми своего племени, когда дело дойдет до битвы. Таков смысл ее приказания, и если эта возвышенная девушка-пророчица, обращая к нему слово, возвещает при этом, что сам Бог говорит ее устами, то это вовсе не пустое хвастовство, а она в самом деле исполняет повеление Всевышнего. И вот образ этой женщины, на обладание которой он посягал, поднялся перед ним до недосягаемой высоты. Многое, что он в детстве слыхал о Боге Авраама и о его обещаниях, возродилось в его уме, и чаша весов, которая прежде перевешивала другую, стала подниматься все выше и выше. То, что недавно созрело как окончательное решение, оказалось неустойчивым, и он опять увидел себя лицом к лицу с тем глубоким, страшным разладом, который сам только что счел преодоленным…
Каким могуществом и какою силою звучал услышанный им призыв! Звон в ушах нарушал спокойствие и ясность его ума, и, вместо хладнокровного обдумывания вопроса, в его душе пробудились воспоминания о временах детства, которые он давно уже считал похороненными навсегда: в его мозгу пробегали и сталкивались голоса и бессвязные проблески разных мыслей.
По временам Иосия порывался обратиться с молитвой к призывавшему его Богу, но едва вознамерился он сосредоточиться и вознести к Нему сердце и взгляд, как невольно вспоминал о присяге, которую предстояло нарушить, о своих войсках, которые приходилось покинуть, чтобы вместо этих хорошо обученных, мужественных и дисциплинированных воинов предводительствовать жалким сбродом, привыкшими к тяжкому гнету трусливыми работниками и толпами своенравных, грубых пастухов.
Наступил третий час пополуночи, часовые были сменены, и он собрался теперь отдохнуть несколько часов. Все это он решил обдумать еще раз при дневном свете, со свойственною ему в другое время спокойной ясностью, которой он теперь никаким образом не мог достигнуть. Но когда он вошел в свой шатер и услыхал дыхание Эфраима, ему показалось, что он вновь слышит торжественные слова пророчицы, переданные мальчиком. Иосия вздрогнул и только начал повторять их про себя, как внезапно послышался какой-то шум, и оживленный спор часовых нарушил спокойствие ночи.
Он обрадовался этому случаю и быстрыми шагами подошел к часовым.
VI
Хогла, внучка старого раба, опять пришла умолять Иосию идти с нею к деду, который вдруг занемог, почувствовал приближение смерти и не желал умереть, не повидав и не благословив его.
Воин велел ей подождать и, убедясь, что Эфраим спокойно спит, поручил надежному человеку оберегать его сон, затем последовал за Хоглой.
Она шла впереди с маленьким фонарем; при свете его, падавшем на фигуру и лицо девушки, Иосия заметил, что она некрасива и что тяжкая подневольная работа преждевременно сгорбила ее спину. В голосе Хоглы слышался хриплый звук, свойственный женщинам, силы которых эксплуатируются без всякой пощады; но то, что она говорила, было исполнено любви и добрых чувств, и Иосия забыл об ее наружности, когда она призналась, что имела жениха между вышедшими из Таниса евреями и что, несмотря на это, она осталась при деде и бабке: она не решилась оставить стариков на произвол судьбы. Так как она некрасива, то ее никто не брал в жены, пока не явился Ассер. Он не посмотрел на ее наружность, потому что он так же трудолюбив, как и она, и полагал, что она будет держать в порядке его хозяйство. Он охотно остался бы с нею, но отец приказал ему отправиться вместе с ним, и они должны были повиноваться и разлучиться друг с другом, наверное, навсегда. Безыскусно и просто звучали эти слова, но они брали за сердце Иосию, который намеревался вопреки воле своего отца идти своею собственной дорогой.
Когда они подошли к гавани, и Иосия увидел дамбы и большие укрепленные запасные магазины, выстроенные людьми его племени, ему вспомнились оборванные толпы работников, которых он часто видал пресмыкающимися перед египетскими надсмотрщиками, а иногда вступавшими в жестокие драки друг с другом. Он слыхал также, что они не гнушались никакой ложью, никаким обманом, чтобы уклониться от работы, и как трудно было принудить их к послушанию и исполнению своих обязанностей.
Перед его мысленным взором явственно восставали отвратительнейшие фигуры из числа этих несчастных, и возможность сделаться вождем этой испорченной толпы представлялась ему позором, перед которым отступил бы самый последний из подчиненных ему начальников над какими-нибудь пятью десятками. Правда, между наемными солдатами войска фараона было много евреев, отличившихся храбростью и стойкостью, но это были сыновья владельцев стад или бывшие пастухи. Но чернорабочие, глиняные мазанки которых можно было разрушить толчком ноги, составляли большинство тех, к которым ему предстояло вернуться.
Решив остаться верным присяге, призывавшей его к знаменам египетского войска, хотя встревоженный в сокровенной глубине своего сердца, вошел Иосия в домик раба, и его дурное расположение духа усилилось, когда он увидел, что старик сидит здоровый и собственною рукою вливает воду в стоящее перед ним вино. Значит, его с помощью обмана отвлекли от постели больного племянника и помешали освежиться ночным сном из-за прихоти раба, который даже и в его глазах не являлся полноценным человеком. Теперь ему самому довелось увидеть образчик того хитрого своекорыстия, в котором египтяне упрекали его соплеменников и которое вовсе не располагало и его в их пользу. Но гнев этого проницательного и правдивого человека скоро улегся из-за непритворной радости девушки по случаю быстрого выздоровления деда. Иосия узнал также от престарелой жены старика, что тотчас по уходе внучки она вспомнила об имеющемся у них вине, и после первого же стакана Элиаву, которого она считала уже стоящим одной ногой в могиле, сделалось лучше и он стал поправляться все скорее. Теперь он примешивает к этому божьему дару воду, чтобы время от времени подкреплять себя глотком…
Тут вмешался в разговор старик и сказал, что этим вином, а также и многим другим, гораздо более значительным, они обязаны доброте отца Иосии, Нуна. Кроме домика, вина и муки, он подарил им дойную корову и, наконец, осла, чтобы старик мог по временам прогуливаться на свежем воздухе. Мало того, Нун оставил им внучку и несколько серебряных монет. Таким образом, они могут беззаботно ожидать кончины, тем более что за домом у них есть еще кусочек земли, которую Хогла думает засеять редькой, луком и чесноком. Но самое лучшее — это письменная отпускная, освобождающая девушку от рабства навсегда. Да, Нун настоящий господин и отец своих слуг, и к его дарам присоединилось уже благословение Всевышнего, так как поскольку после исхода народа он и его жена с помощью Ассера, жениха Хоглы, перевезены сюда беспрепятственно…
— Мы старики, — прибавила жена Элиава, — и умрем здесь. А Хогле Ассер обещал, что возьмет ее к себе, когда она выполнит до конца свою обязанность по отношению к деду и бабке. — Затем она обратилась к девушке ободряющим тоном: — С нами ведь это не так долго будет длиться.
При этих словах Хогла приложила свое синее покрывало к глазам и произнесла:
— Пусть это продлится как можно дольше: я молода и могу подождать.
Иосия услыхал эти слова и ему показалось, будто бедная, некрасивая, обездоленная девушка дает ему урок смирения.
Он предоставил вольноотпущенной спокойно говорить; но времени у него было немного, и потому он спросил, не было ли какого-нибудь определенного дела, по которому Элиав призвал его к себе.
— Я должен был это сделать, — ответил тот, — не только для того, чтобы успокоить томление своего старого сердца, но и с тем, чтобы исполнить приказания моего господина. Велико и прекрасно твое мужество, и ты сделался надеждою Израиля. Твой отец обещал рабам и свободным людям своего дома, что ты будешь их господином и вождем, когда он сойдет в могилу. Его речь была исполнена похвал тебе, и велика была наша радость, когда он объявил нам, что ты последуешь за ушедшими. После этого мой господин удостоил меня приказания: в случае, если ты возвратишься прежде, чем дойдут до тебя его посланцы, сообщить тебе, что Нун, твой отец, ожидает сына. Куда бы ни направился твой народ, ты обязан следовать за ним. Он направляется к востоку, но сперва пошел больше к югу и остановится для отдыха у Суккота. В дупле сикоморы, стоящей у дома Аминадава, Нун намерен спрятать письмо, из которого ты узнаешь, куда твой народ направил свой путь оттуда. Благословение его и Бога нашего да сопровождает каждый твой шаг!
При последних словах старика Иосия поник головой, точно какие-то невидимые руки опустились на нее. Затем он поблагодарил Элиава и глухим голосом спросил, все ли охотно покорились приказанию оставить свои дома.
Старуха всплеснула руками и вскрикнула:
— О нет, господин, конечно, нет! Какой плач, какой вой поднялся при выступлении! Некоторые желали идти, другие хотели ускользнуть и искали какой-нибудь уголок, где бы спрятаться. Но все было напрасно. В доме нашего соседа Дегуэля — ты знаешь его — молодая жена родила мальчика, первенца. Каково было путешествовать этой несчастной! Ах, как она горько плакала, а муж ее так яростно ругался, но ничто не помогло! Ее вместе с грудным ребенком уложили в телегу… Но потом на нее и ее мужа нашло это, как и на других, даже на Пинехаса, который со своею женой и пятью детьми забрался на голубятню. А старая Кузайя-могильщица тоже — ты помнишь ее? — она потеряла отца, мать, мужа и трех взрослых молодцов-сыновей, все, что послал ей Господь дорогого на земле, и на нашем кладбище они лежат вместе, один возле другого. Но она каждое утро и каждый вечер ходила к месту их успокоения, и когда она сидела там на обрубке дерева, который притащила к поставленному на могиле камню, то ее губы постоянно шевелились. Они шептали не только молитвы, — нет, я довольно часто подслушивала, и, когда она не замечала меня, она говорила с умершими, точно они слышали ее в могиле и могли ей отвечать, как живущие под солнцем. Ей скоро исполнится семьдесят лет, и уже более двадцати лет ее зовут могильщицей Кузайей. Конечно, такое поведение безумно с ее стороны, и именно по причине его ей было вдвое тяжелее расставаться со своими покойниками и она не желала уходить и спряталась в кусты. Но ее вытащили оттуда. Больно было слышать ее стенания… Однако же, когда дело дошло уже до отправления в путь, то и ею овладело это, и она сопротивлялась так же мало, как и другие.
— Что же овладело этой несчастной и другими? — прервал Иосия речь старухи, и снова в своих мыслях он увидел во всем ничтожестве народ, который ему предлагали, нет, который он должен был вести, так как он не знал ничего выше благословения отца.
Старуха вздрогнула и, боясь, что она рассердила первенца своего господина, великого и знатного воина, ответила, запинаясь:
— Что овладело ею, господин? Да… это… я не более как бедная, простая раба, но если бы ты позволил…
— Что, что? — снова прервал ее резко и нетерпеливо Иосия, который впервые принуждал себя поступить против своей склонности и своего убеждения.
Старик поспешил на помощь своей испуганной жене и робко сказал:
— Ах, господин, этого не могут изобразить никакие уста, не может понять никакой человеческий разум. Это пришло от Господа Бога, и если бы я смел рассказать, как это сильно действовало на души народа…
— Расскажи, — прервал его Иосия, — но у меня мало времени. Значит, их принудили к выселению, и они против своей воли взяли в руки страннический посох. Что они с некоторого времени следуют за Моисеем и Аароном, как стадо за пастухом, это известно даже египтянам. Те, которые наслали здесь моровую язву на многих невинных, не совершили ли чуда, помрачившего рассудок твой и твоей жены?
Элиав протянул к воину руки, как бы для ограждения себя от его гнева, и сказал тоном униженной просьбы:
— О господин, ты первенец моего повелителя, один из самых важных и знатных людей и можешь раздавить меня, как жука в песке, и все-таки я возвещаю голосом и взываю к тебе: ты получил неверные известия! Ты воевал целый год на чужбине, и в это время произошло нечто великое для всех нас. Во время выступления евреев ты был далеко от Цоана [23], я слышал это. У каждого сына нашего народа, который только присутствовал при этом, скорее отсох бы язык, чем он позволил бы себе шутить над великою минутой, которую Господь даровал ему пережить. О, если бы только ты имел терпение и позволил мне рассказать тебе…
— Так рассказывай же! — крикнул Иосия, изумленный торжественным воодушевлением старца. Элиав поблагодарил его взглядом и воскликнул:
— Ах, если бы здесь были Аарон или Элеазар, или мой господин, твой отец, или если бы Всевышний благоволил одарить меня их красноречием! Но теперь… Правда, мне кажется, что я еще вижу и слышу, как происходит это, но как я могу описать? Как можно изобразить подобные вещи скудными словами? Но, с Божьею помощью, попытаюсь!
Элиав остановился, и Иосия заметил, что его руки и губы дрожат. Он сам подал ему стакан, и старик с благодарностью осушил его до дна. Затем он начал свой рассказ, с полураскрытыми глазами, и его морщинистые черты напрягались все резче и резче, по мере того как он продолжал.
— Как шло дело после того, как сделалось известным — чего требуют от народа, — это тебе рассказала уже моя жена. К числу малодушных и ропщущих принадлежали и мы. Но вчера вечером все мы, принадлежащие к дому Нуна, даже пастухи, рабы и бедняки, были приглашены на пир. Там было вдоволь жареных ягнят, свежего пресного хлеба и вина, больше, чем бывает обыкновенно на празднике жатвы, который начался в ту ночь и на котором ты присутствовал несколько раз, будучи мальчиком. Там сидели мы и веселились; твой отец, наш господин, поощрял нас и рассказывал нам о Боге наших отцов и о Его великих благодеяниях, которые Он оказал им. «Теперь, — говорил он, — Бог повелевает нам выйти из этой страны, где мы претерпели презрение и рабство. Это вовсе не та жертва, ради которой Авраам отточил свой нож, чтобы, по повелению Всевышнего, пролить кровь своего сына Исаака, хотя многим будет тяжело расстаться со своим милым домашним кровом и со старыми привычками. Напротив, это великое счастье для всех нас, потому что — мы идем не к неизвестному, а к прекрасной цели, которую указал нам сам Бог. Вместо этой земли рабства Господь обещал нам новое, прекрасное отечество, где мы, свободные люди, найдем на плодоносных нивах и богатых пастбищах все, что питает человека и его семью и радует сердца. Как для того, чтобы заслужить хорошую плату, нужно работать без устали, так и нам придется переносить некоторое время лишения и заботы, чтобы приобрести для себя и для своих детей новое, прекрасное отечество, обетованное нам Господом. Оно будет страною Бога, так как оно есть собственный дар Всевышнего». Так говорил твой отец и благословил всех нас, и обещал, что и ты тоже отряхнешь прах от ног твоих и присоединишься к нам, чтобы своею сильной рукою сражаться за нас, как опытный военачальник и послушный сын. Тогда раздались громкие клики ликования, и когда мы собрались затем на рыночной площади и увидели, что и рабочим удалось уйти от надсмотрщиков, то многие воспрянули духом. Затем среди нас, взобравшись на скамью глашатая публичных торгов, стал Аарон, и мы из его уст услыхали повторение того, что говорил нам Нун, мой господин, на пире. Слова Аарона раздавались то подобно грохоту грома, то как приятные звуки лютни, и каждый чувствовал, что сам Господь Бог говорит его устами, потому что эта речь глубоко проникала в душу даже недовольных, так что и они нисколько не роптали и не жаловались. Когда же он в заключение заявил собравшимся тысячам народа, что не какой-нибудь заблуждающийся человек, а сам Бог будет нашим вождем, когда он описал великолепие обетованной страны, врата которой Всевышний отворил для нас, и где мы, избавленные от всякого рабства, будем господствовать как свободные и счастливые люди, не обязанные послушанием никому, кроме Бога наших отцов и тех, которых мы сами выберем для себя вождями, то казалось, что все люди до одного точно опьянели от сладкого вина и собираются не в безвестный трудный путь по пустыне, а на великий пир, для которого сам Всевышний накрыл стол. Даже те, которые не слышали ни одного слова из речи Аарона, были увлечены; и мужчины, и женщины прыгали и кричали на этом празднике жатвы веселее и громче, чем когда-нибудь, и все сердца были переполнены благодарностью. Это чувство охватило даже стариков! Столетний Элисам, отец твоего отца, который, как тебе известно, всегда безмолвно и согнувшись сидит на своем месте, встал и со сверкающими глазами сказал несколько горячих слов. Дух Господень сошел на твоего деда, а также и на всех нас. Я чувствовал себя точно помолодевшим и телом, и душою. Подойдя к толпам, приготовившимся к путешествию, я увидел Элизебу, родильницу, в ее носилках. Она смотрела точно в день свадьбы и прижимала своего ребенка к груди, прославляя его судьбу, потому что он вырастет свободным в обетованной земле. А ее муж, Дегуэль, ругавшийся громче всех, теперь размахивал палкой, целовал жену и ребенка с ясными радостными слезами в глазах и громко и весело вскрикивал, как виноградарь при сборе винограда, когда меха и кувшины оказываются для вина слишком малы. Старая Кузайя-могильщица, которую оторвали от могилы ее сродников, сидела вместе с другими слабосильными на возу, махала своим покрывалом и присоединилась к хвалебному гимну, который начали петь Элкана и Авиасаф, сыновья Кораха. Так они отправились в путь; мы же, оставшиеся, кинулись обнимать друг друга и не знали, отчего слезы льются из наших глаз: от горести или же от искренней радости, что мы видим эти тысячи людей, которых мы любили, столь счастливыми и полными радостной надежды.
Вот что произошло, и мы отправились только тогда, когда исчезли из наших глаз смоляные факелы, двигавшиеся впереди шествия. Эти факелы, как мне казалось, светили ярче, чем большие огни, зажигаемые здесь, у ворот храма богини Нейт. Мы должны были спешить, чтобы не долго задерживать Ассера, и, идя темной ночью по улицам, оглашаемым жалобными воплями жителей, мы пели хвалебную песнь сынов Кораха, и на нас снизошло великое и радостное успокоение. Мы теперь знали, что Господь, наш Бог, защищает и ведет свой народ.
Старик замолчал, но жена и внучка, слушавшие его с сияющими глазами, крепко прижались друг к другу и по собственному побуждению запели хвалебный гимн сынов Кораха. Слабый, негромкий голос старухи, полный трогательной задушевности, слился с хриплым, но облагороженным силою великого одухотворения пением девушки.
Иосия чувствовал, что было бы преступлением препятствовать излиянию этих переполненных сердец; но Элиав велел женщинам замолчать и с робкой тревогой посмотрел на серьезное лицо сурового первенца своего господина.
Понял ли его Иосия? Ясно ли сделалось теперь для служащего фараону воина, каким образом сам Господь Бог при выступлении евреев овладел душами их? Неужели он отпал от своего народа и от своего Бога и среди египтян выродился до того, что противится желанию и повелению своего родного отца? Неужели тот, на которого отец возлагал величайшие надежды, сделался перебежчиком и потерян для своего народа?
На эти вопросы он не получил ответа на словах; но когда Иосия обеими руками схватил его старую мозолистую правую руку и пожал ее, как руку друга, когда он со слезами на глазах простился с ним и пробормотал: «Ты услышишь обо мне», тогда Элиав подумал, что он знает довольно, и, охваченный радостью, несколько раз поцеловал плечи и одежду воина.
VII
С поникшей головой вернулся Иосия в лагерь. Разлад в его душе прекратился. Теперь он знал, что ему надлежит делать: отец звал его, и он должен был повиноваться.
Его звал также и Бог его народа!
При рассказе старика пробудилось к новой жизни все, что Иосия слыхал об этом Боге в детстве, и теперь он знал, что это не Сет народов Нижнего Египта, но тот «Единый» и «Сумма Всего», Которого чтят посвященные.
Молитвы, которые Иосия произносил перед сном, история сотворения мира, которой он никогда не мог наслаждаться вдоволь, так как она с такой отчетливой ясностью изображала, каким образом постепенно возникало все, что есть на Земле и на небе, пока не явился человек, чтобы завладеть и пользоваться их дарами, — рассказы об Аврааме, Исааке, Иакове, Исаве и о предке Иосии Иосифе, — все эти повествования он слушал так охотно, когда их рассказывала ему кроткая женщина, даровавшая ему жизнь, или нянька, или дед его Элисам. И, однако же, ему казалось, что он давно позабыл их.
Но в хижине старого раба он мог бы повторить их слово в слово, и теперь он снова знал о существовании невидимого всемогущего Бога, Который предпочел его племя всем другим и обещал сделать его великим народом.
То, что у египтян скрывалось как величайшая тайна, было общим достоянием его соплеменников. У евреев каждый нищий и раб мог поднимать в молитве руки к единому невидимому Богу, Который открыл себя Аврааму.
В среде египтян мудрствующие головы, которые подозревали Его бытие и искажали Его существо выдумками своего собственного воображения и мышления, окутывали Его непроницаемым покровом и скрывали Его от толпы; только в среде народа Иосии этот Бог был поистине живым и деятельно являл Себя в Своем могучем, потрясающем сердца величии.
Он не был природой, с которой отождествляли Его посвященные в храмах; нет, Бог его отцов возносится высоко над всем сотворенным и над всем миром явлений, в том числе и над человеком, Его последним и совершеннейшим созданием, и вся тварь подчинена Его воле. Как всесильный царь над царями, Он с правдивой строгостью управляет всем живущим; и хотя Он скрыл Себя от взоров и воображения людей, созданных по Его образу и подобию, но тем не менее Он есть живущее, мыслящее, движущееся существо, как они, только срок Его существования — вечность, Его дух — всеведение, круг Его владычества — бесконечность.
И этот Бог сделался вождем его народа! Нет ни одного военачальника, который дерзнул бы померяться с ним. Если пророческий дух не обманул Мариам, если Бог действительно призвал его быть Его оруженосцем, то каким образом смеет он противиться Его воле, и какой более высокий пост существует на земле?
А его народ, та чернь, о которой Иосия так недавно думал с презрением, как преобразился он, судя по рассказу Элиава по воле Всевышнего! Теперь он горел желанием вести его, и на половине пути к лагерю он остановился на песчаном холме, внизу которого безграничная равнина моря мерцала сиянием потухавших звезд, и в первый раз после долгих-долгих лет Иосия поднял руки и глаза к Богу, обретенному им снова.
Он начал короткою молитвой, которой научила его мать; но затем воззвал к Всевышнему как могущественному помощнику, и с пламенным рвением просил Его указать ему путь, на котором он, оставаясь послушным Ему и своему отцу, не был бы принужден нарушить присягу, данную фараону, и сделаться бесчестным в глазах людей, которым он так много обязан.
«Твои слуги прославляют Тебя, как праведного Бога, карающего за клятвопреступление! — мысленно взмолился Иосия. — Как можешь Ты требовать, чтобы я оказался вероломным и нарушил данную мною клятву. Все мое существо, все, чем я обладаю, принадлежит Тебе, великий, и я готов посвятить мою кровь и жизнь моему народу. Но прежде, чем ввергнуть в клятвопреступление, возьми меня отсюда и возложи на кого-нибудь другого, не связанного никакою священной клятвой, дело, для которого Ты избрал меня!»
Так молился Иосия, и ему казалось, будто он держит в своих объятиях друга, которого считал потерянным. Затем он пошел дальше в тишине постепенно истаивающей ночи, и, когда появился первый проблеск утра, волнение переполнявших его чувств улеглось, и рассудительный военачальник начал размышлять с прежним спокойствием.
Он дал себе обет ничего не делать против воли своего отца и своего Бога, но тем не менее твердо решил не быть бесчестным и нарушителем присяги. Он явственно видел то, что ему следовало сделать. Он должен был расстаться со службой фараону и прежде всего объявить Горнехту, что, как послушный сын, он намерен повиноваться приказанию своего отца и разделить судьбу своего народа.
При этом он нисколько не скрывал от себя, что ему откажут в его требовании, что его удержат насильно и, может быть, за непоколебимую настойчивость в исполнении своей воли будут угрожать ему смертью и наконец, когда дело дойдет до крайности, отдадут в руки палача. Если это действительно угрожает ему, если его поведение будет стоить ему жизни, то он все-таки поступит как следует, и его сослуживцы, уважение которых ему дорого, должны будут признать его честным товарищем. Отец и Мариам не будут иметь права сердиться на него; им придется только оплакивать того, кто предпочел смерть клятвопреступлению.
Ободренный и успокоенный, он с гордым видом назвал часовым пароль и вошел в свою палатку.
Эфраим еще лежал спокойно на постели и улыбался, как бы под влиянием какого-нибудь приятного сна. Иосия лег возле на циновке, чтобы подкрепиться коротким сном для наступающего трудного дня. Глаза его тотчас сомкнулись, и, проспав один час, он проснулся и велел надеть на себя лучшее парадное одеяние: шлем и позолоченный чешуйчатый панцирь, которые он обыкновенно носил в торжественные дни в присутствии фараона.
Между тем проснулся и Эфраим. Он окинул любопытным и радостным взглядом фигуру дяди, стоявшего перед ним во всем блеске мужественной силы и воинского великолепия, поднялся на постели и воскликнул:
— Человек должен чувствовать гордость, когда в таком наряде он предводительствует тысячами!
Иосия пожал плечами и ответил:
— Будь послушен твоему Богу, не давай ни самым великим, ни самым малым повода смотреть на тебя иначе как с уважением, и ты будешь иметь право держать голову так же высоко, как самый гордый военный герой в пурпурном одеянии и золотом панцире.
— Но ты достиг великой должности среди египтян, — продолжал юноша. — Они ставят тебя очень высоко, в том числе и начальник лучников Горнехт, и его дочь Казана.
— Да? — спросил воин, улыбаясь, и велел своему племяннику сохранять спокойствие, потому что лоб юноши горел, хотя и не так сильно, как накануне. — Не выходи на воздух, — прибавил Иосия, — пока тебя не навестит врач, и жди моего возвращения.
— А ты уходишь надолго? — спросил Эфраим.
Иосия в задумчивости остановился, ласково посмотрел ему в лицо и затем ответил серьезно:
— Кто находится на службе у какого-нибудь повелителя, тот никогда не знает, как долго его могут задержать… — Затем переменил тон и продолжал более спокойно: — Сегодня, в это утро, может быть, все будет сделано скоро, и я вернусь через несколько часов. Если же нет, то я вернусь к тебе не раньше как вечером или завтра утром. Если же этого не случится, тогда, — при этих словах он положил руку на плечо мальчика, — тогда как можно скорее возвращайся домой. Если, придя в Суккот, ты узнаешь, что народ ушел уже оттуда до твоего прибытия, то в дупле сикоморы, растущей перед домом Аминадава, ты найдешь письмо, из которого узнаешь, куда он направился. Когда догонишь наших, поклонись моему отцу, деду Элисаму и Мариам. Скажи ей и другим, что Иосия не забудет повеления своего Бога и своего отца. Впоследствии он будет называться Иисусом, слышишь? Иисусом! Сообщи это прежде всех Мариам. Наконец, ты скажешь им, что если я задержусь и мне не будет позволено следовать за ними, как бы я желал, то, значит, Всевышний иначе решил относительно меня, и меч, который он избрал себе, сломался, прежде чем Он употребил его в дело. Понимаешь ты меня, мальчик?
Эфраим кивнул и проговорил:
— Ты хочешь сказать, что только смерть может помешать тебе последовать призыву Бога и приказанию твоего отца?
— Да, таков смысл моих слов, — ответил Иосия. — Но если они спросят тебя, почему я не могу уйти от фараона и его власти, то отвечай им, что Иосия желает вступить в свою новую должность как честный человек, не опозоренный никаким клятвопреступлением, или же умереть таковым, если это будет угодно Богу. Теперь повтори мои слова.
Эфраим повиновался, и, должно быть, фраза дяди глубоко запечатлелась в его сердце, потому что он не забыл и не переставил в ней ни одного слова. Он повторил ее и, исполнив эту обязанность посланца, тотчас же с порывистой горячностью схватил руку Иосии и умолял его сказать откровенно, не имеет ли он основания опасаться за свою жизнь. Воин обнял его и высказал надежду, что он дает это поручение только затем, чтобы забыть его.
— Может быть, — прибавил он, — меня постараются удержать насильно, но с Божьей помощью я скоро вернусь к тебе, и мы поедем в Суккот.
Сказав это, Иосия вышел из шатра, не обращая внимания на дальнейшие вопросы племянника, так как услыхал стук колес. Две колесницы с великолепными лошадьми быстро подкатили к палатке и остановились у входа.
VIII
Иосия хорошо знал людей, вышедших из экипажа. Это были первый царедворец в покоях фараона и один из главных придворных ученых; они приехали затем, чтобы отвезти Иосию к Высоким Воротам [24].
Невозможно было ни уклониться, ни медлить, и, более изумленный, чем встревоженный, он сел во вторую колесницу, вместе с ученым. Оба сановника были в траурном платье и вместо белого страусоваго пера, знака их звания, имели черное у висков. Лошади, а также скороходы, предшествовавшие двухколесным экипажам, были покрыты всеми эмблемами глубочайшего траура. Но, тем не менее посланцы царя были скорее веселы, чем печальны, потому что орел, которого надлежало привезти к фараону, добровольно последовал за ними, тогда как они опасались, что уже не найдут его в гнезде.
Рослые гнедые кони из царской конюшни с быстротою ветра несли легкие колесницы по неровному песчаному берегу и по гладкой дороге к дворцу.
Эфраим с любопытством юности вышел из палатки, чтобы присутствовать при редком зрелище. Столпившимся воинам было приятно, что фараон прислал за их вождем свою собственную колесницу; это льстило также и тщеславию Эфраима. Но ему недолго пришлось смотреть вслед удалявшемуся Иосии: густые облака пыли скоро скрыли колесницы от его глаз.
Знойный ветер пустыни, который в весенние месяцы так часто налетает на нильскую долину, поднялся, и небо, освещавшееся ночью и утром светлою синевою, было теперь как бы завешено покровом беловатой пыли. Ядро солнца, подобно глазу слепого, неподвижно смотрело вниз, на головы людей. Изливавшийся из него зной, казалось, поглотил его лучи, которых сегодня не было видно. Глаза, защищенные испарениями, могли смотреть на солнце, не боясь ослепнуть, и, однако же, его опаляющий зной никогда не был сильнее. Легкий ветерок, который утром обыкновенно освежал голову, веял на нее теперь подобно горячему дыханию разъяренного хищного зверя. Соединившись с тонкими знойными песчинками, занесенными из пустыни, он превращал отраду дыхания в тягостную муку. Воздух египетского мартовского утра, обыкновенно столь ароматный, стеснял грудь людей и животных, казалось, он тяготил всякую тварь и останавливал веселое течение ее жизни.
Чем выше поднимался бледный, лишенный сияющего ореола солнечный диск, тем более серыми становились пары, тем гуще и подвижнее делались облака принесенной из пустыни песчаной пыли.
Эфраим стоял перед шатром и смотрел на то место, где колесницы фараона исчезли в пыли. Колени его дрожали, но он приписывал это ветру Сета, при котором даже у самых сильных людей ноги отягощаются какими-то невидимыми гирями.
Иосия уехал, но через несколько часов может вернуться, и тогда Эфраиму придется отправиться с ним в Суккот; и прекрасные мечты и надежды, возбужденные в его душе вчерашним днем, чарующая прелесть которых еще более усиливала его лихорадку, должны будут исчезнуть для него навсегда.
Еще в прошлую ночь он решил поступить в войска фараона, чтобы остаться в Танисе, около Казаны; но если он хоть наполовину понял поручение, данное ему Иосией, то должен заключить из него, что его дядя намерен отказаться от своей высокой должности и оставить Египет; и если ему удастся выбраться благополучно, то он возьмет с собою и племянника. В таком случае Эфраиму придется отказаться от страстного желания еще раз увидеть Казану. Эта мысль казалась юноше невыносимой, и какой-то тихий голос нашептывал ему, что у него нет ни отца, ни матери и что он может поступить согласно своему желанию. Опекун Эфраима, брат умершего отца, недавно заболел, и ему не назначали нового опекуна, так как несовершеннолетие его кончилось. Впоследствии предстояло сделаться главою гордого рода, и до вчерашнего дня он не желал ничего лучшего.
Когда вчера юноша с гордостью свободного стадовладельца отклонил предложение жреца сделаться воином фараона, он поступил согласно побуждению своего сердца. Теперь он говорил себе самому, что было бы ребячеством и глупостью отказаться от того, чего он не знал, что ему многое было с умыслом представлено в ложном и отталкивающем виде с целью крепче привязать его к своим. Эфраиму описывали египтян как врагов и угнетателей, достойных ненависти, а между тем каким привлекательным казалось ему все, что встретило его в первом же доме, в который он вступил, в доме одного из военачальников фараона!
А Казана! Что она может подумать об Эфраиме, если он оставит Танис, не простившись с нею? Может ли не огорчать его, не возбуждать его досаду мысль, что в ее воспоминании он будет являться неотесанным, грубым пастухом? Кроме того, было бы нечестно не возвратить ей дорогого одеяния, которым она ссудила его. Благодарность и у евреев считалась важнейшей обязанностью благородного сердца. Жизнь ему долго будет казаться ненавистной, если он еще раз не повидается с Казаной.
Но нужно спешить, потому что Иосия, вернувшись, должен найти племянника готовым к отъезду. Он уже завязал свои сандалии, но ходил медленно и не понимал, почему так трудно ему это сегодня дается…
Эфраим без всякой помехи прошел через лагерь. Пилоны и обелиски перед храмами, которые казались слегка дрожащими в разгоряченном пыльном воздухе, указывали направление, и вскоре юноша вышел на широкую дорогу, которая вела к рынку, ему показал ее торговец, ослы которого везли несколько мехов с вином в лагерь.
Густая пыль покрывала изъезженный путь и окружала Эфраима, а сверху светило дня изливало потоки зноя на его обнаженную голову. Рана начала снова болеть; воздух, наполненный тонкой пылью, проникал в глаза и рот и веял обжигающим и колющим жаром на его лицо и открытые части тела. Им овладела мучительная жажда, и он был принужден останавливаться несколько раз, так как чувствовал в ногах большую тяжесть. Наконец он добрался до колодца, вырытого каким-то благочестивым египтянином для путников, и хотя этот колодец был украшен одним из тех изображений богов, которые Мариам учила его обходить, он пил с жадностью, и ему казалось, что никогда еще вода не действовала на него так освежающе.
Опасение лишиться чувств, как вчера, у него прошло, и хотя ноги все еще были тяжелы, однако он все-таки быстро шел к намеченной цели. Но скоро от напряжения силы его истощились, лоб покрылся потом, в ране он чувствовал биение крови и какую-то точно разрывающую боль, и казалось, что железный обруч сжимает череп. Его глаза, обыкновенно столь зоркие, отказывались служить; то, что хотели они уловить, было замутнено дорожной пылью, горизонт качался перед его взором вверх и вниз, и юноше казалось, что будто вместо твердого камня улицы он идет по мягкой, болотистой почве.
Но все это мало тревожило Эфраима, потому что никогда еще его внутренняя жизнь не была так богата и так обильна пестрыми красками. О чем бы он ни начинал думать, все представлялось ему с изумительной яркостью. Образ за образом возникали перед его широко раскрытым мысленным взором не по его собственному вызову, а как будто их накопляла какая-то сокровенная, вне его лежавшая сила. То ему казалось, что он лежит у ног Казаны, припадает головой к ее груди и смотрит на ее прекрасное лицо; то он видел перед собою Иосию в блестящем воинском снаряжении, как недавно, только еще в более великолепном, и окруженного вместо тусклого света палатки красным огненным сиянием. Затем перед ним проходили самые отборные быки и бараны его стад, и в промежутках припоминались запечатлевшиеся в его уме фразы из речей, которые поручено ему было передать, по временам ему казалось даже, что кто-то громко повторяет их. Однако же, прежде чем он мог уловить смысл этих фраз, перед его зрением и слухом являлось что-нибудь новое, с удивительным блеском или с громким, шумным звуком.
Так шел Эфраим вперед, шатаясь, точно пьяный, с лицом, покрытым каплями пота, и с пересохшим нёбом; время от времени он поднимал руку, чтобы стереть пыль с горящих глаз; но его мало беспокоило то, что они неясно показывали окружавшие его предметы, так как ничто не могло быть прекраснее образов, которые он видел мысленно.
Правда, не один раз к нему возвращалось ощущение того, что он жестоко страдает, и тогда юноша порывался кинуться на землю в изнеможении; но его снова затем удерживало на ногах чувство какого-то благополучия. Наконец им овладел бред. Ему представлялось, что голова его постепенно увеличивается и растет, принимая сначала размеры головы колоссов, которых он видел вчера у ворот храма, затем достигает высоты пальм и наконец доходит до облаков и поднимается все выше и выше. И затем вдруг ему показалось, что эта голова, его собственная голова, обнимает собою весь мир, и он прижал руки к вискам и подпер ими лоб, так как шея и плечи будто сделались слишком слабыми для того, чтобы выносить тяжесть такого гигантского черепа. Охваченный этим бредом, Эфраим громко вскрикнул, ноги его подкосились, и он без чувств упал на пыльную дорогу.
IX
В это самое время один из придворных ввел Иосию в приемный зал. Хотя лицам, которым назначалась аудиенция, обыкновенно приходилось ждать по целым часам, но терпение еврея недолго подвергалось испытанию. В эти дни глубокой печали обширные покои дворца, где обыкновенно кипела пестрая и шумная жизнь, точно вымерли. Не только рабы и стражи, но и многие знатные мужчины и женщины из ближайшей свиты царской четы в ужасе бежали от моровой язвы и без позволения оставили дворец. Только изредка попадался какой-нибудь жрец, чиновник или придворный, стоявший, прислонясь к колонне, или сидевший на полу, закрыв лицо руками, ожидая приказаний. Часовые ходили взад и вперед, опустив оружие, с видом тупой апатии. По временам несколько молодых жрецов в траурной одежде тихо проходили через посещенные моровой язвой комнаты и молча размахивали серебряными сковородками, из которых изливался острый запах горящей смолы и можжевельника.
Казалось, ужас овладел дворцом и его обитателями, потому что к печали о любимом сыне царя, удручавшей сердца многих, присоединились страх смерти и ветер пустыни, лишавший энергии и тело, и душу.
Здесь, вблизи трона, где в другое время под влиянием надежды и честолюбия, благодарности и страха, волнения и ненависти глаза людей загорались более ярким блеском, Иосия видел теперь лишь поникшие взоры и головы.
Только на Бая, второго пророка Аммона, по-видимому, не действовали ни печаль, ни страх, ни расслабляющий воздух этого дня. Он приветствовал Иосию в передней зале, такой же свежий и бодрый, как всегда, и затем стал уверять его, конечно, тихим шепотом, что никто не думает вымещать на нем бедствия, которыми египтяне обязаны его соплеменникам. Но когда еврей откровенно признался, что в ту самую минуту, когда его потребовали во дворец, он был готов отправиться к главнокомандующему с целью просить у него увольнения от военной службы, жрец прервал его, напомнив о благодарности, которой он, Бай, обязан ему, спасителю его жизни. Затем он стал уверять Иосию, что употребит все средства, для того чтобы удержать его в войске и доказать ему, что в Египте, даже и вопреки воле фараона, о котором ему необходимо поговорить с Иосией наедине, умеют ценить заслуги независимо от знатности и происхождения.
Но еврею осталось мало времени настаивать на своем желании, потому что главный царедворец при покоях царя пришел, чтобы проводить Иосию и поставить перед лицом «доброго бога» [25].
Фараон ожидал в малой приемной зале, прилегавшей к жилым покоям царского семейства. Это была великолепная комната, казавшаяся теперь еще обширнее, чем в другое время, когда ее заполняли толпы народа, поскольку теперь возле трона стояли группами только небольшое число придворных и жрецов и несколько женщин из свиты царицы, в глубоком трауре; напротив трона сидели на полу полукругом ученые и советники царя, украшенные страусовыми перьями.
Все носило печать скорби, и однообразное жалобное завывание плакальщиц, по временам переходящее в резкий вибрирующий вопль, свидетельствовало, что и в этом дворце смерть нашла себе жертвы. Надрывный вопль доносился из внутренней части царского жилища через безмолвные комнаты.
Царская чета сидела на троне из золота и слоновой кости, обтянутом черным покрывалом. Вместо блестящего наряда, фараон и его жена были одеты в темные одежды, и царственная жена и мать, оплакивавшая своего перворожденного сына, с поникшею головой, неподвижная, опиралась на плечо своего супруга.
Фараон тоже остановившимся взором смотрел в землю, как бы скованный грезами. Царский жезл выскользнул у него из рук на колени.
Царицу оторвали от тела умершего сына, которое нужно было бальзамировать, и она только на пороге залы с трудом уняла слезы. Она и не помышляла о сопротивлении, потому что неумолимый церемониал двора требовал ее присутствия при сколько-нибудь важных аудиенциях. Из этого правила, конечно, можно было бы сделать исключение для подобного дня, но фараон потребовал ее присутствия, и она знала и одобрила цель настоящей аудиенции. Страх перед могуществом еврея Мезу, которого его соплеменники называли Моисеем, и перед его Богом, наславшим на нее такое ужасное бедствие, овладел ею всецело. У нее были еще и другие дети, которых она могла потерять; она знала Моисея с детства, и ей было известно, как высоко великий Рамсес, отец и предшественник ее супруга, ценил этого чужеземца, который был воспитан вместе с его сыновьями.
О, если бы удалось умиротворить этого человека! Но Мезу ушел вместе со своим народом, она знала его железный характер, а равно и то, что он защищен крепкою бронею не только против угроз фараона, но и против ее собственной пламенной мольбы.
Теперь царица ожидала Иосию, и если это находится в пределах человеческих сил, так именно он, сын Нуна, первого человека между евреями Таниса, мог сделать то, что признавали наилучшим для всех сторон ее супруг и Руи, престарелый первый пророк и верховный жрец Аммона, глава всего жреческого сословия страны, который в то же время носил звание верховного судьи, главного казначея и наместника, и последовал за двором из Фив в Танис.
Перед тем как царицу повели в приемный зал, она плела венки для своего дорогого покойника, и цветы лотоса, колокольчики, мальвы и ивовые листья, из которых она сплетала их, по ее желанию были принесены вслед за нею. Теперь лежали они на маленьком столике и на ее коленях; но она чувствовала себя как бы парализованной, и рука, которую она протягивала к ним, отказывалась повиноваться.
На циновке, по левую сторону от фараона, сидел Руи, первый пророк, давно уже переступивший за пределы девяностолетнего возраста. Из-подо лба, изборожденного морщинами до того, что кожа его казалась похожей на кору узловатого дуба, сверкали умные глаза, прикрытые пучками белых густых бровей, подобно прекрасным цветам среди сухих листьев, и как-то странно выделялись на общем фоне изможденной, скорченной и согбенной фигуры дряхлого пророка.
С некоторого времени старик предоставил ведение дел второму пророку Баю, но за свой сан, за свое место возле фараона и за свой стул в совете держался цепко, и, как ни мало он говорил, его мнение все-таки имело решающий перевес чаще, чем мнение многоречивого, пылкого и далеко не такого старого, как он, второго пророка.
С тех пор как моровая язва проникла во дворец, старик не отходил от фараона; однако же в этот день он чувствовал себя более бодрым, чем обыкновенно. Жаркий ветер пустыни, обессиливавший других, был для него благодетелен, так как Руи постоянно зяб, несмотря на шкуру пантеры, покрывавшую его плечи и спину, а зной этого дня согревал его старую, цепеневшую кровь.
Еврей Моисей был когда-то его учеником, и ему никогда не приходилось руководить более могучей натурой, никогда не случалось обучать юношу, богаче одаренного всеми талантами духа. Этот еврей был посвященным в высшие тайны египетского культа. Пророк ожидал от него величайших дел на благо египтян и всего жреческого сословия, и когда Моисей убил надсмотрщика, жестоко стегавшего хлыстом одного из его соплеменников, и затем убежал в пустыню, Руи так искренно оплакивал этот прискорбный поступок, точно провинился и должен был понести кару его собственный сын. Пророку удалось исходатайствовать прощение для Мезу; но когда последний вернулся в Египет и с ним произошло то, что собратья по сословию называли «отпадением», то он причинил жрецу еще более глубокое горе, чем своим бегством. Если бы он, Руи, был моложе, он возненавидел бы человека, обманувшего самые прекрасные его надежды, но старик, для которого человеческое сердце было открытой книгой и который умел заглядывать в душу своих ближних с трезвым беспристрастием светлого ума, признавался себе самому, что он сам виноват, если не предугадал перемены, происшедшей в его ученике.
Воспитанием и обучением Моисей был приготовлен к тому чтобы сделаться египетским жрецом, угодным сердцу Руи и божества; но после того, как этот еврей поднял руку на человека, с которым соединяли его человеческий ум и человеческая воля, он был потерян для египтян и сделался истинным сыном своего племени; и там, где он с твердой волей и высоким умом шел впереди, другие должны были следовать за ним.
Притом Руи знал — что именно отщепенец намерен дать своему народу, так как он сам признался в этом верховному жрецу. Моисей хотел дать веру в единого Бога. Он тогда отклонял от себя упрек в клятвопреступлении и уверял, что он нисколько не думает открывать евреям «Единого», о котором говорят египетские мистерии, а намерен возвратить их к Богу, Которому они уже служили до прихода Иосифа и его семейства в Египет. Правда, «Единый», которого признавали посвященные, во многом походил на единого Бога евреев, но именно это и успокаивало старого мудреца. Опыт говорил ему, что народная масса никогда не довольствуется единым невидимым Богом, Которого только с трудом могли понять даже некоторые из наиболее способных учеников. Мужчины и женщины из народа нуждаются в осязательных образах для всего великого, действие которого они чувствовали бы в себе и вокруг себя, и такие образы представляла им религия египтян. Какое значение могла иметь для влюбленной девушки созидающая и управляющая движением миров невидимая сила? Ее влекло к ласковой Гатор, имеющей в своих благодатных руках шнурки, связующие сердца, к могущественной богине одного с нею пола, перед нею она могла с полным доверием излить то, что удручает ее душу. Горе матери, у которой смерть хотела похитить милого ребенка, — что значило это маленькое горе для необъятно великого, управляющего всем миром Всемогущества? Но Исида, которая сама плакала в глубокой печали [26], могла ее понять. И как часто в Египте жена определяла отношение мужа к богам!
Верховный жрец довольно часто видал евреев и евреек, набожно молящихся в храмах его страны. Если Моисей и приведет их к исповеданию своего Бога, то он, Руи, опытный старик, предвидел с уверенностью, что они довольно скоро отвратятся от невидимого Духа, Который для них останется далеким и непонятным, и веселыми толпами поспешат к богам, которых они понимают.
— Там, где достаточно прибегнуть к добрым словам, нужно оставить меч и лук в покое, — возражал Руи второму пророку, настаивавшему на том, чтобы преследовать и уничтожить беглецов. — Наша страна изобилует трупами, но мы терпим недостаток в рабочих руках. Будем крепко держаться за то, что может быть потерянным для нас…
И эти кроткие слова пришлись вполне по сердцу фараону, который претерпел довольно горя и считал более благоразумным без оружия войти в клетку льва, чем еще раз идти наперекор гневу грозного еврея. Поэтому царь не внял подстрекающим словам второго пророка, уверенная, энергичная манера которого в другое время оказывала на него тем большее влияние, чем нерешительнее был он сам; успокоенный и как бы оживленный новою надеждой, фараон согласился с предложением старого Руи — послать военачальника Иосию к его соплеменникам для переговоров с ними от имени фараона.
Второй пророк в конце концов тоже одобрил этот план, так как у него появилась новая задача — подкопаться под трон, который он намеревался низвергнуть. Как только евреи снова прочно засядут в стране, вместо нерешительного царя Марнепта скипетр может быть передан в руки Сиптаха, в глазах которого никакая кара не покажется слишком тяжелой для предводителей ненавистных ему евреев.
Но прежде надлежало задержать беглецов, и Иосия был как раз подходящим для этого человеком. С другой стороны, никто не казался Баю более способным приобрести доверие простосердечного воина, чем сам фараон и его супруга. Это мнение разделял и верховный жрец Руи, хотя он стоял далеко от заговора, и, таким образом, было решено, что царственная чета прекратит на время свое сетование об умершем и лично примет еврея.
Иосия распростерся перед троном, и когда поднял голову, то увидел лицо фараона, смотревшего на него грустными, но милостивыми глазами.
Согласно требованиям обычая, волосы на голове и в бороде фараона, у которого умер сын первенец, были острижены. Некогда они окаймляли его лицо глянцевитой черной рамкой, но за десять лет правления, исполненного забот, поседели; фигура царя утратила свою стройность, казалась немощной и старчески согбенной, хотя повелитель Египта едва переступил за порог пятидесятилетия. Правильно очерченное лицо Марнепта было все еще красиво, что-то внушавшее сострадание было в его грустной мягкости, не способной к энергичным порывам, тем более что какая-то черта, похожая на улыбку, придавала его губам привлекавшее сердца выражение. Ленивая медлительность, с какою он привык двигаться, почти не вредила царственному величию его особы, — но в голосе его слышалось утомление и как бы мольба о помощи. Ему не было по рождению предназначено сделаться властителем: тринадцать старших его братьев умерли, прежде чем на его долю выпало право занять престол фараонов; как самый красивый юноша в стране, любимец женщин и веселый баловень счастья, он до самого перехода к мужественному возрасту беззаботно наслаждался жизнью. Затем он сделался наследником своего отца, великого Рамсеса, и едва взял скипетр в руки, как ливийцы с помощью нескольких союзников восстали против Египта. Войска и их вожди, испытанные в войнах его предшественников, доставили ему победу, но за годы, истекшие после смерти Рамсеса, войска его редко оставались в покое, так как приходилось подавлять восстания то на востоке, то на западе. Вместо Фив, где прожил он много счастливых лет в одном из великолепнейших дворцов, где, согласно своим склонностям, наслаждался всеми благами мира и обществом выдающихся людей, которые занимались научными исследованиями и предавались творчеству, — он был принужден следовать за войском в поход и жить в главном городе Нижнего Египта Танисе, чтобы водворить порядок и спокойствие в этой пограничной области. Так посоветовал ему старый Руи, и царь покорно последовал этим указаниям.
В последние годы жизни Рамсеса II государственный храм в Фивах и с ним его верховный жрец сделались богаче и могущественнее царского дома: для слабохарактерного Марнепта более соответствовало быть орудием, чем управляющею рукою, лишь бы только ему воздавались почести, подобающие фараону. Он наблюдал за ними с таким вниманием, какого ему никогда не хватало, когда дело шло о более серьезных вещах.
Милостивая снисходительность, с которой фараон принял Иосию, радовала последнего и вместе с тем беспокоила его. Однако же он собрался с духом и откровенно высказал, что желает быть освобожденным от своей должности и от присяги, которую он дал верховному военачальнику.
Царь слушал его спокойно, и только после того, как Иосия сообщил ему, что к этому шагу побудило его приказание отца, фараон сделал знак верховному жрецу, и тот начал говорить тихим, едва слышным голосом:
— Сын, который жертвует великим для того, чтобы оставаться послушным отцу, становится самым дорогим из слуг «благого бога». Итак, исполни приказание Нуна. Сын солнца, властитель Верхнего и Нижнего Египта освобождает тебя, но при этом он ставит тебе одно условие.
— Какое? — спросил Иосия.
Тогда фараон снова подал знак верховному жрецу и опустился на трон, а Руи, устремив свои ясные глаза на Иосию, ответил:
— То, чего властитель двух миров требует от тебя устами своего слуги, исполнить легко: ты должен снова принадлежать ему, быть нашим, как только твой народ и его вожди, причинившие нам столь великое страдание, припадут к божественной руке Сына солнца и возвратятся под благодатную тень его трона. «Добрый бог» желает знаками своей милости снова привязать беглецов к себе и к своему царству, как скоро они вернутся домой из пустыни, где они намерены приносить жертвы своему Богу. Пойми меня хорошенько! То, что угнетает народ, среди которого ты родился, будет устранено. «Добрый бог» намеревается посредством нового закона обеспечить ему широкие вольности и льготы, и то, что мы обещаем ему, будет записано и засвидетельствовано с нашей и с вашей стороны как новый договор, обязательный для детей и внуков. Если это будет сделано с честным намерением с нашей стороны исполнить договор до конца дней и если твои соплеменники согласятся принять его, пожелаешь ли ты в таком случае снова сделаться нашим сторонником?
— Прими на себя обязанность посредника, Иосия, — вмешалась в речь старого жреца царица тихим голосом, просительно глядя печальными глазами в лицо военачальнику. — Меня страшит гнев Мезу, и, со своей стороны, мы желаем этого договора, чтобы снова приобрести его прежнюю дружбу. Назови ему мое имя, напомни ему о днях, когда он мне, маленькой Изиснеферт, называл растения, которые я приносила ему, и объяснял мне и моей сестре — что нам полезно и что вредно, когда навещал царицу, свою вторую мать, в доме женщин. Раны, нанесенные им нашим сердцам, будут прощены и забыты. Будь нашим послом, Иосия, не откажи нам в этом!
— Такие слова из таких уст, — ответил воин, — все равно что строгие приказания, и, однако же, они приносят сердцу отраду. Я принимаю на себя обязанность посредника.
Верховный жрец одобрительно кивнул ему и сказал:
— В таком случае я надеюсь, что из этого короткого часа произрастет продолжительное время благоденствия. Вы же заметьте: где помогает лекарство, там следует избегать ножа и огня, где через поток перекинут мост, там следует остерегаться переплывать через водоворот!
— Да, конечно, следует избегать водоворота, — повторил фараон; за ним то же произнесла царица и взглянула на цветы, лежавшие у нее на коленях.
Началось совещание.
Три тайных писца поместились на полу как можно ближе к верховному жрецу, чтобы слышать его тихий голос; сидевшие полукругом ученые и советники схватились за письменные принадлежности и, с папирусом в левой руке, стали водить по нему тростниковым пером или кистью, так как ничто, происходившее в присутствии фараона, не должно было оставаться незаписанным.
Во время последовавших совещаний слышались только сдержанные голоса; стражи и придворные были неподвижны на своих местах, а царская чета смотрела безмолвно и оцепенелым взглядом, точно погруженная в грезы.
Ни для фараона, ни для его супруги не было бы возможно понять тихий разговор мужчин; но совещавшиеся египтяне не заканчивали ни одной фразы, не подняв при этом глаз на царя, как бы желая заручиться его одобрением. Иосия, следуя примеру других, тоже говорил тихо; но когда по временам голос второго пророка или главного из ученых раздавался громче, то фараон поднимал голову и повторял фразу верховного жреца: «Где через поток перекинут мост, там не следует переплывать через водоворот», так как эти слова в точности выражали желание царя и царицы. Желание это заключалось в следующем: мир с евреями и успокоение гнева их страшного вождя и его Бога, на условиях, чтобы тысячи прилежных рук беглецов не были потеряны для Египта.
Совещание подвигалось, таким образом, вперед; тихий говор совещавшихся и скрипение тростниковых перьев продолжались уже целый час, а царица все еще сохраняла свое прежнее положение; но фараон сделал движение и возвысил голос, так как стал опасаться, чтобы второй пророк, ненавидевший человека, у которого он просил благословения, не поставил посреднику невыполнимых условий.
Но то, что сказал повелитель, оказалось только новым повторением совета подумать о мосте, и вопросительный взгляд его на начальника ученых побудил того успокоить его уверением, что все идет наилучшим образом. Иосия желал только, чтобы надсмотрщиками, надзирающими за рабочим людом, впредь были не полицейские из ливийцев, а евреи, избрание которых на эту должность производилось бы старейшинами его народа и утверждалось египетским правительством.
Фараон бросил боязливо-просящий взгляд на Бая, второго пророка, и на других советников; но первый с видом сожаления пожал плечами и согласился и на это условие Иосии, как бы говоря, что он подчиняет свое личное мнение божественной мудрости фараона.
Такую уступчивость со стороны человека, который уже много раз оказывал сопротивление желаниям царя, последний приветствовал благодарным наклоном головы, и после прочтения вслух «повторителем» — глашатаем отдельных пунктов договора, Иосии было предложено дать торжественную клятву — во всяком случае вернуться в Танис и доложить «высоким вратам», каким образом приняли его соплеменники предложения фараона.
Осторожный военачальник, зная, что Египет слишком богат западнями и ловушками, согласился на требуемую клятву неохотно и только после того, как ему дали письменное ручательство, что, к каким бы результатам ни привели переговоры, его свобода никоим образом не будет нарушена, если он будет в состоянии доказать, что со своей стороны сделал все для побуждения вождей его народа к принятию договора.
Наконец фараон протянул руку воину для поцелуя, и, после того как Иосия прикоснулся губами к краю одежды царицы, верховный жрец Руи подал первому царедворцу, а тот — фараону знак; властитель понял, что он может удалиться. И Марнепта сделал это охотно и с облегченным сердцем, считая, что он наилучшим образом позаботился о своем собственном благополучии и о благе своего народа.
По его усталым красивым чертам пробежало как бы солнечное сияние; царица тоже встала и, увидав, что царь улыбается с довольным видом, сделала то же самое. На пороге приемной залы повелитель глубоко вздохнул и обратился к своей супруге:
— Если Иосия выполнит свою миссию успешно, то мы, конечно, перейдем через мост.
— И нам не придется переплывать через водоворот, — закончила царица тем же тоном.
— И если ему удастся успокоить Мезу, — прибавил фараон, — и он уговорит свой народ остаться в стране…
— То ты примешь его — он честен и имеет такой величавый вид, — ты примешь его в число царских родственников, — прервала его царица.
При этих словах фараон выпрямился и с горячностью возразил:
— Как это возможно, еврея! Самой высшей для него наградой было бы то, если бы мы приняли его в число «друзей» или сделали его веероносцем! В подобном случае нелегкая задача — уберечься от слишком многого или от слишком малого.
Чем дальше шла царская чета во внутренние покои дворца, тем громче раздавались вопли плакальщиц. Это вызвало новые слезы на глазах царицы; но фараон продолжал размышлять о том, какое место в придворном штате он мог бы назначить Иосии в случае успешного выполнения данного тому поручения.
X
Иосии следовало спешить, чтобы вовремя догнать евреев, так как чем дальше они подвинулись бы на своем пути, тем труднее было бы ему побудить Моисея и вождей еврейских племен к возвращению и принятию договора.
События этого утра казались ему столь чудесными, что он приписывал их промыслу вновь обретенного им Бога. Они напоминали ему также об имени «Иисус», то есть «вспомоществуемый Иеговой», которое он получил вследствие переданных ему слов Мариам. Он охотно соглашался носить его, так как хотя ему было и нелегко отказаться от того имени, под которым он достиг почестей, но многие из его товарищей делали то же самое. Его имя тоже было доблестно; однако же помощь Божия никогда не проявлялась ему с большею ясностью, чем в это утро. Он вошел во дворец фараона с опасением лишиться свободы или быть преданным в руки палача, если он будет настаивать на своем желании последовать за своими соплеменниками, и как быстро там исчезли узы, которыми он был прикован к военной службе! Но затем ему дана была задача, казавшаяся столь великой и прекрасной, что он готов был верить, что сам Бог его отцов призвал его для ее разрешения.
Иосия любил Египет. Это была в его глазах великолепная страна. Где мог его народ найти более прекрасное место для жительства? Только условия, в которых он жил, сделались для него невыносимыми. Но теперь у него было в перспективе лучшее будущее. Евреям предоставлялось на выбор: или возвратиться в провинцию Гесем, или же поселиться в приморской стране, на западном берегу Нила, плодородие и обилие вод которой было ему известно. Никто не будет иметь права принуждать его соплеменников к тяжким работам, и если какой-нибудь еврей отдаст свой ручной труд государству в качестве работника, то над ним будут надзирать только евреи, а не жестокие и свирепые иноплеменники.
Что евреи должны будут остаться подданными фараона, это и по его мнению разумелось само собою; Иосиф, Эфраим и его сыновья, его предки, ведь тоже были включены в число подданных царя и чувствовали себя совсем неплохо в качестве египтян.
Если договор состоится, то старейшины племен будут управлять самостоятельно внутренними делами народа. Наместником в новом месте жительства евреев, несмотря на возражения второго пророка Аммона, назначался Моисей; сам же Иосия должен был предводительствовать там войском, защищать границы этой страны и сформировать новые тысячи из еврейских солдат, успевших уже доказать свою храбрость в разных войнах. Между тем перед выходом из дворца второй пророк Бай сделал военачальнику какие-то намеки. Хотя его намеки в целом остались для него неясными, но из них вытекало, что жрец вынашивает какие-то чрезвычайные планы и намеревается, как только управление государством перейдет от Руи к нему, Баю, доверить Иосии большие дела, может быть, даже главное командование над всеми наемными войсками, находящимися теперь под начальством сирийца Аарсу. Это больше встревожило, чем обрадовало Иосию; но зато он был очень доволен тем, что ему удалось ввести в договор статью, по которой евреи через каждые два года могли переходить восточную границу, чтобы приносить жертвы в пустыне. По-видимому, Моисей должен придать такому позволению наибольшее значение, а по существовавшему закону никому не позволялось без разрешения властей переходить узкую пограничную полосу земли, замкнутую к востоку крепостными верками. Может быть, исполнение этого желания Моисея расположит великого вождя в пользу договора, выгодного для народа.
Во время этих совещаний Иосия вновь почувствовал, до какой степени он сделался чужд своим: он не мог даже объяснить, какую цель имели эти жертвоприношения в пустыне. Поэтому он откровенно признался советникам фараона, что ему неизвестны ни предмет жалоб, ни требования народа. Он сделал это для того, чтобы предоставить своим право изменить и дополнить передаваемые евреям предложения.
Чего же лучшего могли желать его соплеменники и их вождь?
Будущее представлялось Иосии исполненным новой надежды на счастье для его народа и для него самого. Если бы договор осуществился, то для него наступило бы время основать свой собственный домашний очаг, — и образ Мариам возник перед ним снова во всем своем величии и во всей красоте. Мысль об обладании этой необыкновенной женщиной казалась ему упоительной, и он спрашивал себя, достоин ли он ее и не слишком ли смело с его стороны посягать на обладание боговдохновенной прекрасною девой-пророчицей.
Иосия знал жизнь, и ему было очень хорошо известно, насколько можно полагаться на обещание слабохарактерного человека, для утомленной руки которого скипетр зачастую оказывался слишком тяжелым. Но он был предусмотрителен и выговорил условие, что когда старейшины его народа согласятся принять договор, то этот последний, подобно всякому другому обязательному соглашению Египта с другими народами, будет, статья за статьей, вырезан на металлических досках, подписан фараоном и уполномоченными от евреев и повешен в государственном храме Фив. Подобные документы — в этом он сам убедился на мирном договоре, заключенном с Хеттским царством, — обеспечивали и упрочивали короткое существование государственных договоров. Конечно, Иосия не упустил ничего, чтобы предохранить свой народ от обмана и вероломства. Он никогда не чувствовал себя более сильным, уверенным и жизнерадостным, чем тогда, когда снова сел в колесницу фараона, чтобы проститься со своими подчиненными. Таинственные намеки и предложения Бая тоже не слишком его беспокоили, поскольку он привык будущие заботы предоставлять будущему. Но в лагере ожидало его непредвиденное: там с изумлением, досадой и тревогой узнал он, что Эфраим тайно, не предупредив никого, исчез из палатки неизвестно куда. Из быстро произведенных расспросов выяснилось, что юношу видели на дороге к Танису, и Иосия тотчас послал своего верного щитоносца в город — искать юношу и, если он будет найден, велеть ему следовать за дядей в Суккот.
Простившись со своими воинами, Иосия отправился в путь в сопровождении одного только старого конюха.
Ему было приятно, что его адоны [27] и ближайшие к нему подчиненные начальники и суровые бойцы, с которыми он делил все и в войне и в мире, и в радости и в лишениях, так открыто показывали, до какой степени им прискорбна разлука с ним. У некоторых воинов, поседевших в войнах, бежали слезы по смуглым щекам, когда он протягивал им руку в последний раз; не один обросший бородою рот прижимался к краю его одежды, или к его ногам, или к лоснящемуся боку благородного ливийского вороного коня, который, выгнув шею и нетерпеливо порываясь вперед, носил его по рядам, сдерживаемый рукой всадника. И глаза Иосии тоже увлажнились слезами — в первый раз со времени смерти матери, — когда из груди тысяч воинов раздался вслед ему громкий прощальный клик, вырвавшийся от души.
Никогда еще так глубоко не чувствовал Иосия, до какой степени сроднился он с этими людьми и как высоко ценил свое благородное поприще.
Однако же долг, которому Иосия следовал теперь, был тоже велик и возвышен; и он надеялся, что Бог, освободивший его от присяги и давший ему возможность повиноваться приказанию отца — как это следует честному человеку, — приведет его обратно к товарищам по оружию, сердечные приветствия которых еще слышались военачальнику и тогда, когда он уже потерял их из виду.
Но все величие порученного ему дела и возвышенное настроение человека, который с добросовестной серьезностью работает над разрешением трудной задачи, все блаженство любящего, который с основательной надеждой стремится к исполнению чистейших и прекраснейших желаний своего сердца, он почувствовал вполне только тогда, когда оставил город позади и поехал быстрой рысью по плоской равнине, изобиловавшей пальмами и водой.
Проезжая по городским улицам и близ гавани, Иосия принужден был замедлять шаг своего коня. Он был слишком полон мыслями о только что пережитых минутах и о пропавшем мальчике, так что мало обращал внимания на многочисленные корабли, стоявшие на якоре, на пеструю смешанную толпу сновавших здесь судохозяев, купцов, матросов и носильщиков, жителей Африки и передней Азии, искавших здесь заработок, и должностных лиц, воинов и просителей, последовавших за фараоном из Фив в город Рамсеса. Он не заметил также двух людей высокого звания, хотя один из них, начальник лучников Горнехт, кивнул ему.
Они вошли в глубокие ворота пилонов храма Сета, чтобы стряхнуть с себя пыль, которую ветер пустыни продолжал наносить на дорогу.
Когда Горнехт напрасно старался привлечь к себе внимание проезжавшего мимо Иосии, Бай, второй пророк Аммона, тихо сказал:
— Оставь его! Он в свое время узнает, где очутился его племянник.
— Как тебе угодно, — ответил воин. Затем с жаром стал продолжать начатый им прежде рассказ: — Мальчик был похож на кусок глины в мастерской горшечника, когда его принесли.
— Ничего нет в этом удивительного, — прервал его жрец, — ведь он долго лежал в пыли Тифона на улице. Но чего искал твой домоправитель у солдат?
— От моего адона, которого я посылал вчера вечером, мы узнали, что бедный мальчик заболел жестокой лихорадкой, и потому Казана уложила вино вместе с бальзамом своей кормилицы и послала с ними старика в лагерь.
— К мальчику или к военачальнику? — спросил пророк с лукавой улыбкой.
— К больному, — резко ответил воин, и его лоб грозно нахмурился. Он сдержался и затем продолжал, как бы извиняясь: — Ее сердце — мягкий воск, а еврейский мальчик… ты ведь видел его вчера…
— Прелестный мальчуган, как раз по сердцу женщинам! — засмеялся жрец. — А кто гладит племянника, тот не причиняет боли дяде.
— Это тоже едва ли было в мыслях Казаны, — возразил Горнехт с неудовольствием. — Впрочем, небесный еврейский Бог, по-видимому, также заботится о своих, как и бессмертные, которым ты служишь, потому что он привел Хотепу к мальчику, когда он был уже почти мертв. Мечтатель, наверное, проехал бы мимо него, потому что пыль уже…
— Превратила его в кусок глины. Но затем…
— Затем старик увидел, что из серой кучи вдруг что-то сверкнуло…
— И его жесткий затылок изогнулся.
— Именно, мой Хотепу наклонился, и широкий золотой обруч, который носит мальчик на руке, блеснул на солнце и спас его жизнь во второй раз.
— И самое лучшее то, что теперь мальчик у нас.
— Да, я тоже обрадовался, увидев, что у него снова открылись глаза. Затем ему становилось все лучше и лучше, и врач говорит, что он похож на молодых кошек и что все это не будет стоить ему жизни. Но у него сильная лихорадка, и он говорит в бреду разные глупости на своем языке, которых не понимает даже старая кормилица моей дочери, аскалонская уроженка. Она разобрала из всех его слов только имя Казаны.
— Значит, опять приносит несчастье женщина.
— Оставь эти шутки, святой отец, — сказал Горнехт и закусил губы. — Скромная вдова — и этот молокосос!
— В такие юные годы, — возразил жрец, — расцветшие розы больше привлекают молодых жучков, чем почки; и в настоящем случае, — прибавил он более серьезным тоном, — это превосходно. Мы имеем племянника Иосии в сетях, и твое дело — не выпускать его из них.
— Ты хочешь сказать, что мы должны ограничить его свободу? — вскричал воин.
— Но ведь ты высоко ценишь его дядю.
— Конечно! Но еще более я ценю благо государства.
— Этот мальчик…
— Мы имеем в его лице превосходного заложника. Меч Иосии был для нас в высшей степени полезным орудием, но если владевшая им рука будет управляема тем, могущество которого, как нам известно, действует и на более великих людей…
— Ты разумеешь еврея Мезу?
— Тогда Иосия нанесет нам самим такие же глубокие раны, как прежде наносил нашим врагам.
— Однако я слышал много раз из твоих собственных уст, что он не способен на клятвопреступление…
— Я и остаюсь при этом мнении; еще сегодня он удивительным образом доказал справедливость его: единственно затем, чтобы получить освобождение от клятвы, он всунул голову в пасть крокодила. Но если сын Нуна — лев, то он найдет в Моисее укротителя. Этот человек отъявленный враг Египта, и при одной мысли о нем во мне поднимается желчь.
— Жалобные вопли сетующих за этими воротами довольно громко напоминают нам, что мы должны его ненавидеть.
— И при всем этом бесхарактерный человек, сидящий на троне, забывает о мести и посылает теперь к нему Иосию.
— С твоего согласия, насколько я знаю.
— Совершенно верно, — кивнул жрец с насмешливой улыбкой. — Ведь мы посылаем его построить мост! Уж этот мне мост! Высохший мозг старика предлагает навести его, и как это по сердцу жалкому сыну отца, который никогда не боялся переплывать самый бурный водоворот, в особенности когда дело шло о мщении! Пусть Иосия попробует строить! Если этот мост приведет его к нам через поток обратно, то я приму его тепло и сердечно; но как только этот один человек станет на нашем берегу, у нас в Египте найдется довольно мужественных людей для того, чтобы позаботиться о низвержении столпов из вождей его народа.
— Прекрасно! Только боюсь, что мы потеряем военачальника, если его соплеменники получат заслуженную ими кару.
— Пожалуй, что так.
— Ты умнее меня.
— Однако в данный момент ты уверен, что я ошибаюсь.
— Как я могу осмелиться…
— В качестве члена военного совета ты обязан высказать свое собственное мнение, и я считаю теперь своим долгом показать тебе, куда ведет путь, по которому ты до сих пор следовал за нами с завязанными глазами. Слушай же и руководись этим, когда дойдет до тебя очередь в совете. Верховный жрец Руи стар…
— А ты уже и теперь исправляешь половину его должностей.
— Пусть снимется с него и последняя часть его бремени! Не ради меня — я люблю борьбу, — но ради благоденствия нашей страны! У нас глубоко укоренился обычай — считать мудростью все, что изрекает или что повелевает старость, и потому между членами нашего совета не много таких, которые бы не последовали беспрекословно за старым Руи; а между тем его способность к деятельности, как и он сам, ходит на костылях. Все хорошее вязнет в болоте при его слабом и вялом управлении.
— Именно поэтому ты можешь располагать моим голосом, — заметил воин. — Я отдаю тебе обе руки для низвержения сидящего на троне сонливца и поддакивающих ему тупоумных советников.
Пророк приложил палец к губам, предостерегая, подвинулся к нему ближе, показал на свои носилки и затем торопливо прошептал:
— Мне скоро следует быть у «высоких ворот», поэтому выслушай только вот что: если Иосии удастся дело примирения, то его соплеменники, невинные и виновные, вернутся назад, и последние будут наказаны. К первым мы можем отнести весь род Иосии, который сам себя называет сынами Эфраима, начиная от старого Нуна до мальчика, находящегося в твоем доме.
— Мы можем их пощадить; но и Мезу — еврей, и то, что мы сделаем с ним…
— Произойдет не на улице. Притом ничего не стоит посеять раздор между двумя людьми, которым приходится властвовать в одинаковом кругу. Я позабочусь о том, чтобы Иосия посмотрел сквозь пальцы на гибель другого; а затем фараон — все равно, будет ли он называться Марнептом или, — здесь он понизил голос, — уже Сиптахом — возведет его на такую высоту — да он и заслуживает этого, — что глаза его закружившейся головы потеряют способность видеть, что мы желаем у него отнять. Существует одно блюдо, от которого не может оторваться ни один человек, отведавший его хоть один раз.
— Блюдо?
— Я разумею власть, Горнехт, великую, могущественную власть! В качестве наместника целой провинции, начальника всех наемных войск, вместо Аарсу, он, конечно, остережется от раздора с нами. Я знаю его. Если нам удастся уверить Иосию, что Мезу что-нибудь сделал против него — а этот своевольный человек непременно подаст к этому повод, — и если мы приведем его к убеждению, что наказания, которым мы подвергаем чародея и худших из его соплеменников, предписываются законом, то он не только не будет спорить против наших действий, но и одобрит их.
— А если посольство не возымеет успеха?
— Тогда Иосия непременно явится к нам опять, потому что он никогда не нарушает никакой клятвы. Только в том случае, если Мезу, от которого можно ожидать всего, удержит его насильно, мы воспользуемся пребыванием у нас мальчика. Иосия любит его, евреи очень дорожат его жизнью, и он принадлежит к числу их знатнейших родов. Фараон должен будет угрожать мальчику при всяких обстоятельствах, а мы будем его защищать, и это снова привяжет Иосию к нам и побудит его присоединиться к числу лиц, недовольных царем.
— Превосходно!
— А вернее всего мы достигнем цели в том случае, если нам удастся устроить еще другой союз. Скажу коротко и прошу тебя на этот раз не горячиться, ты слишком вспыльчив для своих лет: еврей, твой и мой товарищ по оружию, спаситель моей жизни, способнейший воин, а потому имеющий право на высшее место в войске, должен стать мужем твоей дочери. Казана любит его, я знаю это от моей жены.
Лоб Горнехта снова нахмурился, и он с большим трудом сдерживал себя. Он почувствовал, что ему придется поступить вопреки своему нежеланию назвать зятем человека, происхождение которого претило ему, и которому он, однако же, был предан так же горячо, как и ценил его. В глубине души он не мог удержаться от проклятия, но ответ, данный им жрецу, был высказан в более разумном и спокойном тоне, чем можно было ожидать: если Казана до сих пор одержима демонами, которые влекут ее к чужеземцу, то пусть она делает, что хочет! Но Иосия покуда вовсе не заявлял еще желания обладать ей.
— Впрочем, нет, — воскликнул Горнехт запальчиво, — клянусь красным Сетом и его семью товарищами! Ни ты и никто другой не убедят меня отдать мою дочь, к которой сватаются двадцать женихов, человеку, называющему себя нашим другом, а между тем не улучившему еще минуты, чтобы посетить нас в нашем доме! Удержать мальчика — это другое дело, и я принимаю это на себя.
XI
Чистое темно-синее небо, усеянное бесчисленными звездами, раскинулось над плоским ландшафтом восточной дельты и над городом Суккотом, который египтяне называли также Питомом, по его храму, местом бога Тума, или Атума [28].
Мартовская ночь приближалась к концу, и беловатые испарения окутывали канал, произведение еврейских подневольных работников, орошавший поля и пастбища, которым не видно было конца, в какую бы сторону ни смотреть.
На востоке и юге небо было подернуто густым туманом, поднимавшимся с открытого моря и с узкого морского пролива, врезывавшегося в перешеек. Ветер пустыни, который, дыша зноем и поднимая пыль, вчера проносился и здесь над травою, томившеюся жаждой, над домами и шатрами Суккота, стих еще перед наступлением ночи, и в воздухе чувствовалась прохлада, которая в марте предшествует восходу солнца даже в Египте.
Кому случалось уже прежде в промежуток времени между полночью и утром входить в это пограничное местечко с его пастушескими шатрами, жалкими хижинами из нильского ила и немногими красивыми фермами и домами, тот едва ли узнал бы его сегодня. Даже единственное (за исключением величественного храма бога солнца Тума) здание, укрепленный запасный склад, представляло в этот час необыкновенное зрелище. Правда, его длинные стены, выкрашенные белою краской, мерцали, как всегда, во тьме ночи; однако же обыкновенно в эту пору оно высилось над спящим местечком, погруженное в безмолвие и как бы вымершее, теперь же в нем и в его окрестностях было заметно какое-то довольно сильное оживление, это здание служило, между прочим, для отражения шаек шазу [29], обходивших укрепление на перешейке, и за его несокрушимыми стенами помещался гарнизон, который легко мог защищаться против превосходящих сил неприятеля.
Сегодня оно имело такой вид, как будто его взяли приступом сыны пустыни; но мужчины и женщины, суетившиеся внизу и наверху стен гигантского строения, были не шазу, а евреи. С громкими криками, весело и энергично расхищали они громадные запасы пшеницы, ячменя, ржи, дурры, фиников, овощей и лука из наполненных этими припасами амбаров. Они еще до захода солнца начали опустошать склады и спускали их запасы на веревках в мешках, ведрах, бурдюках, кувшинах и передниках или же сносили вниз по лестнице.
Знатнейшие из евреев устранились от личного участия в этой работе; но, несмотря на ночной час, в числе расхитителей были и дети всякого возраста, которые тащили, что могли, из горшков и блюд своих матерей.
Вверху, возле отверстий амбаров, и внизу, у лестниц, женщины с факелами и фонарями в руках светили работавшим.
Перед тяжелыми запертыми воротами крепости поставлены были горшки с ярко горевшей смолой, и при свете их ходили взад и вперед вооруженные пастухи. Когда изнутри слышались удары камней, брошенных в окованную медью дверь, или шаги и раздавались угрозы египтян, то это вызывало насмешливые и презрительные ответы со стороны стоявших за воротами евреев.
В день праздника жатвы, ко времени первой вечерней стражи, появились в Суккоте гонцы и возвестили жившим там сынам Израиля, число которых в двадцать раз превосходило численность суккотских египтян, что еврейский народ оставляет Танис и ночью намерен двинуться оттуда и что его единоплеменники в Суккоте должны быть готовы следовать за ним. Эта весть вызвала бурное ликование среди евреев, которые в ночь новолуния после весеннего равноденствия, с которым начинался праздник жатвы, собрались в каждом доме, подобно своим соплеменникам в городе Рамсеса, к торжественному пиршеству. При этом вождями колен Израилевых было сообщено народу, что час освобождения наступил и что Господь намерен вести их в обетованную землю.
Как в Танисе, так и здесь было много малодушных и сопротивлявшихся; некоторые пытались отделиться от остальных и остаться в Египте; но и здесь они были увлечены большинством. Как в городе Рамсеса Аарон и Нун, так здесь Элеазар, сын Аарона, и знатные вожди колена Иуды [30] Гур и Наасон обратились с речью к народу. Мариам, девственная сестра Моисея, ходила по домам и везде разжигала и поддерживала в сердцах мужчин пламя воодушевления, а женщинам говорила, что вместе с солнцем наступающего утра взойдет для них и детей их день счастья, благоденствия и свободы.
Только немногих пророчица нашла глухими к ее словам, и было что-то величественное, что-то принуждавшее к повиновению в фигуре этой девы, черные глаза которой под густыми темными сросшимися бровями, казалось, заглядывали в самое сердце людей и угрожали сопротивлявшимся своим мрачным блеском.
После праздничного пира члены каждого дома отправились на покой в прекрасном настроении и с сердцем, исполненным радостной надежды. Но до чего изменили их следующий день, сменившая его ночь и затем ближайшее утро! Казалось, ветер пустыни похоронил их мужество и уверенность в пыли, которую он гнал перед собою. Страх перед этим странствованием в неизвестную землю закрался в сердца, и не одного из тех, которые так недавно с уверенностью и жаждой приключений размахивали странническим жезлом, теперь снова, точно цепями, приковывал к дому отцов, к хорошо обработанному садику и к жатве на полях, собранной только наполовину.
От египетских воинов в укрепленном городе-складе не укрылось, что евреями овладело какое-то необычайное волнение, но они приписывали его празднику жатвы. Начальник крепости получил сведения, что Моисей намеревается вести всех в пустыню, чтобы там принести жертву своему Богу и просить подкрепления. Но он не знал дальнейших планов пророка, потому что до самого того утра, как поднялся ветер, ни один еврей не выдал замыслов своего народа. Но чем томительнее угнетал евреев зной этого дня, тем сильнее овладевал боязливыми сердцами ужас перед скитальчеством по горячей песчаной и безводной пустыне. Муки этого ужасного дня казались им предвкушением того, что им предстояло перенести, и, когда к полудню пыль начала сгущаться все больше и больше, а воздух становился все более подавляющим, один еврейский торговец, продававший свои товары и египетским воинам, пробрался в крепость и просил начальника ее помешать его соплеменникам идти на явную погибель.
Но и между знатнейшими евреями были люди, громко высказывавшие свое неудовольствие. Азария и Михаил, вместе с сыновьями, завидовавшие могуществу Моисея и Аарона, ходили от одного из евреев к другому и пытались их убедить, что нужно прежде, чем дело дойдет до выступления в путь, еще раз созвать старейшин и поручить им вступить в новые переговоры с египтянами.
Между тем как эти недовольные с успехом собирали приверженцев, а упомянутый выше изменник находился у начальника египетского гарнизона, явились два новых гонца с известием, что переселенцы из Таниса прибудут между полуночью и утром в Суккот.
Лишившись от усталости дыхания и речи, обливаясь потом и с окровавленными губами, старший из гонцов упал на пороге дома, принадлежавшего Аминадаву, где в это время находилась и Мариам. Пришлось подкрепить этих истощенных людей вином и яствами, прежде чем менее уставший гонец оказался в состоянии говорить как следует. Хриплым голосом, но полный благодарности, он рассказал о том, что происходило при выступлении евреев из Таниса, и каким образом Бог отцов наполнил своим духом каждое сердце и влил уверенность в души даже наиболее робких людей.
Мариам слушала сообщение гонца с сияющими глазами; но по окончании его набросила на голову покрывало и приказала слугам дома, собравшимся вокруг гонца, созвать весь народ у сикоморы, тысячелетний венец которой защищал от горячих лучей солнца обширную площадь.
Ветер пустыни не переставал дуть, но радостная весть, казалось, нейтрализовала его могущество над людьми, и когда теперь сотни евреев столпились под тенью сикоморы, Мариам, опираясь на руку Элеазара, сына ее брата Аарона, вскочила на скамью, прислоненную к пустому стволу громадного дерева, восторженно подняла глаза и руки к небу, точно ее взору было дозволено проникнуть туда, и обратилась с громкою молитвой к Господу.
После того она предоставила слово гонцу, и когда он еще раз описал, что произошло в городе Рамсеса, и сообщил затем, что выходцы из Таниса через несколько часов будут здесь, в толпе раздались громкие радостные клики. Элеазар, сын Аарона, восторженно возвещал, что сделал Господь для своего народа и что обещал он евреям, их детям и внукам.
Подобно свежей утренней росе, падающей на завядшую траву, каждое слово этого вдохновенного человека западало в сердца людей. Верующие, торжествуя, приветствовали слова их возгласами одобрения, и даже люди трусливые и упавшие духом почувствовали, что у них как бы выросли новые крылья. Азария, Михаил и их единомышленники уже не роптали; напротив, большинство их было охвачено всеобщим воодушевлением, и когда какой-то наемный солдат из гарнизона укрепленного склада, еврей, явился в толпе и сообщил, что его начальник извещен о происходящем, то Элеазар, Наасон, Гур и другие собрались на совет, созвали к себе всех присутствовавших пастухов и пламенными речами убеждали их доказать теперь, что они мужественны и не боятся, при могущественной помощи своего Бога, сражаться за свой народ и за его освобождение. В топорах, дубинах, серпах и медных копьях, в тяжелых кольях и пращах, служивших оружием пастухов против зверей пустыни, а также в луках и стрелах не было недостатка; и как только вокруг Гура собралось довольно внушительное число сильных людей, он кинулся с ними на египетских надсмотрщиков, наблюдавших за земляными работами нескольких сотен евреев, с криками: «Они идут!», «Долой притеснителей!», «Наш Господь Бог — наш предводитель!» они напали на ливийскую стражу, опрокинули ее и освободили подневольных землекопов и каменщиков своего племени. Когда уважаемый Наасон прижал, как брата, к своему сердцу самого старшего из этих несчастных, то и другие освобожденные работники кинулись на грудь пастухам. Таким образом, евреи все с теми же кликами: «Они идут!», «Господь Бог наших отцов ведет нас!» — шли далее, все более и более возраставшей толпою. Когда из небольшой кучки пастухов образовалось несколько тысяч, Гур повел их против египетских воинов, которых они далеко превосходили числом.
Уже египетские лучники осыпали нападавших дождем стрел, и смертоносные камни из пращей сильных пастухов попали в передовые отряды неприятеля, как раздался звук трубы, призывая гарнизон укрыться за стенами и крепкими воротами. Численное превосходство евреев показалось начальнику гарнизона слишком большим, но долг повелевал ему отстаивать крепость, пока не придет запрошенное им подкрепление.
Однако же Гур не удовольствовался первой победой. Подобно тому как сильный порыв ветра раздувает пламя, успех разжег мужество его бойцов, и где только ни показывался у зубцов здания египтянин, в него попадал круглый камень из пращи какого-нибудь пастуха. По приказанию Наасона были принесены лестницы. В одну минуту сотни нападающих со всех сторон взобрались к строению, и после короткой бескровной борьбы склады попали в руки евреев. Египтяне пока удерживали только укрепление.
Между тем ветер утих. Разъяренные парни из числа освобожденных работников натаскали соломы, дров и хвороста к воротам двора, куда были оттеснены египтяне, и нападавшим ничего не стоило бы уничтожить врагов до последнего человека посредством огня; но Гур, Наасон и другие благоразумные вожди не допустили этого, желая предотвратить истребление пожаром съестных припасов, которые все еще оставались в кладовых.
Более молодых из этих озлобленных дурным обращением работников было нелегко удержать от мести; но каждый из них принадлежал к какой-нибудь семье, и так как увещания Гура были поддержаны и отцами, и матерями этих людей, то они не только успокоились, но и помогали старшим распределять между главами семейств хранившиеся в кладовых запасы и нагружать их на вьючных животных и на телеги, которые должны были следовать за переселенцами. Эта работа продолжалась затем при свете факелов и превратилась в новый праздник, так как ни Гур, ни Наасон, ни Элеазар не могли помешать мужчинам и женщинам открывать кувшины и бурдюки с вином. Однако же удалось сохранить львиную долю богатой добычи на времена нужды, и, таким образом, не было слишком много пьяных, но действие виноградного вина и радость по случаю подобной добычи усилили возбуждение толпы. И когда Элеазар вторично стал среди народа, чтобы рассказать им об обетованной земле, то и мужчины, и женщины слушали его с полными радости сердцами и присоединились хором к хвалебной песне, которую запела Мариам.
Как и в Танисе перед выступлением, так теперь в Суккоте сердцами народа овладело набожное настроение, и около семидесяти мужчин и женщин, скрывшихся в храме Тума, услыхав этот гимн ликования, вышли оттуда, присоединились к другим и с такою надеждою, с таким горячим доверием начали складывать свои пожитки, как будто никогда не испытывали страха при мысли отправиться в далекий путь.
По мере того как звезды исчезали одна за другой, веселое оживление возрастало. Мужчины и женщины отдельными группами пошли по дороге к Танису, навстречу приближавшимся соплеменникам. Отцы вели более взрослых мальчиков, матери несли детей на руках. Среди ожидаемых ими людей было много родственников, а наступавшее утро должно было принести с собою часы радости, которой нельзя было не поделиться с любимыми существами и воспоминание о которой должно было сохраниться в душах малюток до тех пор, когда сами они будут иметь детей и внуков.
Ни в шатрах, ни в хижинах, ни в домах никто не ложился спать, так как надо было окончательно уложить вещи в дорогу. У складов толпа работавших поредела: большинство их уже запаслось таким количеством съестных припасов, какое только можно было увезти с собою.
У многих шатров и хижин мужчины и женщины, готовые отправиться в путь, расположились вокруг быстро зажженных костров, а на более обширных подворьях пастухи сгоняли скот и забивали тех коров и овец, которые не годились для путешествия. У некоторых домов слышались удары топоров и молотков и визг пил: это изготовлялись носилки для больных и слабых. Здесь происходила еще нагрузка возов и телег, и хозяевам домов трудно было сладить с женщинами. Всегда бывает тяжело расставаться с имуществом, будь оно малое или большое, и женское сердце часто гораздо больше привязывается к негодным, по-видимому, вещам, чем к самым ценным. Можно ли осуждать ткачиху Ревекку за то, что она больше желала положить в телегу деревянную, грубой работы колыбель, в которой умер ее ребенок, чем прекрасный, инкрустированный слоновой костью ящик, заложенный ее мужу каким-то египтянином?
Изо всех окон, из двери каждого шатра выбивался свет; на крышах более высоких домов горели факелы или фонари, светя навстречу приближавшимся. При пиршестве, происходившем уже в ночь праздника жатвы, на каждом столе был жареный ягненок, но в этот час ожидания хозяйки снова предлагали своим семьям что могли.
В узких улицах скромного пограничного местечка кипела деятельная жизнь, и никогда заходящие звезды не видали здесь таких радостных лиц, так ярко блестящих и веселых глаз и физиономий, так прекрасно просветленных надеждой и благочестивою верой.
XII
На кровле одного из самых больших домов Суккота на рассвете собрались все, кому не нужно было оставаться внизу, чтобы приветствовать танисских выходцев, которым здесь предстоял первый более продолжительный отдых.
Опережая остальных путников, то какой-нибудь быстроногий мужчина, то мальчик один за другим приходили в Суккот. Целью для большинства из них был дом Аминадава. Он состоял из двух строений, в одном из которых жил Наасон, сын владельца, со своей семьей, а в другом, более обширном, помещались, кроме престарелого домохозяина и его жены, зять его Аарон с женою, детьми и внуками, а также Мариам. Старик, знатный начальник колена, передавший обязанности своего звания своему сыну Наасону, протягивал дрожащую руку каждому вестнику и выслушивал его с сияющими глазами, которые, однако же, часто затуманивали слезы. Аминадав велел своей старой жене сесть в кресло, на котором ее понесут во время путешествия, чтобы она привыкла к нему, между тем как сам он уже уселся в своем с той же целью.
Слыша восторженные речи гонцов по поводу исполнения того, что обещает народу блестящую будущность, жена Аминадава часто обращала глаза на хозяина дома и при этом восклицала: «Да, Моисей!» Она очень высоко ценила брата своего зятя и радовалась, видя исполняющимся то, что он предсказывал ей. На своего зятя Аарона старики тоже смотрели с гордостью, но вся их любовь принадлежала Элеазару, их внуку, в котором они видели будущего второго Моисея. В Мариам они нашли с некоторого времени новую приятную сожительницу. Правда, расположение добросердечных стариков к ней не доходило до старческой нежности, и дочь их Элизеба, деятельная жена Аарона, также мало была расположена разделять с пророчицей работы по хозяйству большого дома, как и жена их сына Наасона, которая жила с ближайшими членами своей семьи под собственной кровлей. Но старики были благодарны Мариам за ее попечение об их внучке Мильке, дочери Аарона и Элизебы, которую тяжкое несчастье из веселого ребенка превратило в задумчивую, отрешившуюся от всякой радости женщину.
Через несколько дней после выхода Мильки замуж за любимого человека ее доведенный до отчаяния муж поднял руку на египетского сборщика податей, который, ввиду проезда фараона через Суккот на восток, хотел увести большое стадо самых лучших быков для стола «повелителя двух миров». За такую дерзость несчастный в качестве государственного преступника был уведен на рудники, а каждому было известно, что там арестанты погибают и телом, и душою от непомерно изнурительной работы. По ходатайству влиятельного старика Нуна жена виновного и его семейство были освобождены от такого же наказания, которому они должны были тоже подвергнуться по существовавшему закону; но Милька изнемогала под бременем постигшего ее горя, и только одна Мариам умела пробудить эту бледную безмолвную женщину от ее тихой грусти. Несчастная привязалась к ней всем своим израненным сердцем и сопровождала ее, когда пророчица занималась врачеванием или носила в хижины бедных лекарства и милостыню.
Последние вестники, которых Аминадав и его жена принимали на кровле, мрачными красками описывали трудности путешествия и бедствия, свидетелями которых они стали во время пути. Но когда какой-нибудь малодушный начинал жаловаться на тяжкие страдания, перенесенные женщинами и детьми в пустыне, и, припоминая самое ужасное, что особенно запечатлелось в его памяти, выказывал уныние и страх за будущее, старик утешал его, указывая на всемогущество Бога и на силу привычки, действие которых обнаружится и на них. Морщинистое лицо Аминадава выражало твердую уверенность, между тем как на прекрасном, но суровом лице Мариам можно было прочесть мало бодрой надежды, хотя юность обыкновенно бывает богаче ею, чем старость.
В то время как вестники приходили и уходили, Мариам не оставляла старика и предоставила Элизебе и ее служанкам подавать закуски утомленным путникам. Сама она с напряженным вниманием слушала их рассказы, и то, что слышала, казалось ей внушающим опасение. Она знала, что в дом, где жил Аарон, приходили только приверженцы вождей народа, ее братьев. Если радостное воодушевление покидало даже таких людей, то что должно происходить с равнодушными и строптивыми?
Только изредка Мариам присоединяла какой-нибудь вопрос к вопросам старца, и, когда она делала это, вестники, слышавшие ее голос в первый раз, смотрели на нее с изумлением, так как он был не только благозвучен, но отличался необыкновенной глубиной.
После того как многие вестники на расспросы пророчицы отвечали уверенно, что Иосии, сына Нуна, нет в числе выходцев, она опустила голову и не спрашивала более до тех пор, пока Милька, всюду следовавшая за нею, с мольбою не подняла на нее свои черные глаза и не шепнула ей имя Рувима, своего мужа. Девушка поцеловала несчастную и затем спросила гонцов с настойчивой горячностью, не знают ли они чего-нибудь о Рувиме, сосланном в рудники. Но только один из них слышал от какого-то освобожденного арестанта, что муж Мильки находится на медных рудниках страны Бех, в области Синайской горы, и Мариам, воспользовавшись этим известием, с большой теплотой постаралась внушить Мильке надежду, что когда народ двинется на восток, то, конечно, он не минует рудников и освободит заключенных там евреев.
Это были добрые слова, и Мильке, припавшей к груди своей утешительницы, хотелось бы слушать их дольше, но людьми, которые смотрели вдаль с кровли дома Аминадава, овладело сильное волнение: с севера приближалось густое облако, и вслед за тем в первый раз послышался какой-то странный, глухой шум, потом грохот и наконец крики и восклицания многотысячной толпы, рев, ржание, блеяние, каких никому из присутствовавших еще не случалось слышать. Затем появилась волнующаяся многочисленная, многоголосая масса — необозримый поток людей и стад, принятый внуком гороскопа на обсерватории храма в Танисе за змея преисподней Апопа.
Да и теперь, при слабом свете раннего утра, этот поток легко можно было принять за сонм бесплотных духов, изгнанный из обиталища мертвых, так как ему предшествовал подымавшийся до голубого небесного свода беловато-серый столб пыли, и в громадном многочленном, многогласном и прикрытом облаками песка целом нельзя было различить ни одной отдельной фигуры. Только по временам сверкал металл пики или медного котла, тронутый солнечными лучами, и можно было различить в общем гуле отдельные более громкие выкрики.
Но вот передовые волны потока достигли усадьбы Аминадава, перед которой лежало необозримое пастбище.
Раздались повелительные крики. Шествие остановилось и начало разливаться в разные стороны подобно горному озеру, которое весною, переполняясь, изливает из себя во все стороны ручьи и ручейки; но скоро эти отдельные узкие струи заняли сообща обширную площадь пастбища, покрытого утреннею росою. Там, где такие части потока людей и стад останавливались для отдыха, исчезала и пыль, скрывавшая их от глаз.
Дорога еще долго оставалась занавешенной пыльным облаком, но на лугах видны были теперь, в блеске утреннего солнца, мужчины, женщины и дети, коровы, ослы, овцы и козы, и вскоре на лужайках перед домами Аминадава и Наасона пришедшие стали разбивать одну за другою палатки, делать загородки для стад, вбивать в твердую почву столбы и колья, устраивать навесы, привязывать дойных коров, водить крупный и мелкий рогатый скот на водопой, зажигать костры. Длинные ряды женщин с кувшинами на голове, поддерживаемыми в равновесии грациозно согнутой рукой, двигались к колодцу за старой сикоморой или к находившемуся вблизи каналу.
Там сегодня, как и в каждый рабочий день, колесо, посредством которого подавалась вода, тянул пестрый бык с высоким горбом. Водяное колесо должно было орошать землю владельца скота, намеревавшегося оставить свои владения завтра; но управлявший им раб думал только о настоящем дне и в тупом безмолвии поливал траву для врага, которому она должна была достаться, так как к этому он привык, и никто не запрещал ему этого.
Целые часы прошли, прежде чем странствующая толпа устроила свой лагерь, и Мариам, рассказывавшая Аминадаву (глаза которого уже не могли хорошо видеть вдаль), что там происходило, сделалась свидетельницей многих вещей, на которые желала бы лучше не смотреть. Она не хотела откровенно рассказать старцу, что видела, так как это смутило бы его радостную надежду.
Пророчица, которая со всею силою восторженной души уповала на Бога своих отцов и на Его всемогущество, еще вчера разделяла уверенность старца; но Господь одарил ее несчастной способностью видеть вещи и слышать слова, скрытые и непонятные ни для кого другого. Обыкновенно Мариам слышала эти слова во сне, но часто и наяву, в часы уединения, когда она с глубокой сосредоточенностью размышляла о минувших или будущих днях.
То, что Эфраим сообщил Иосии от имени Мариам как веление Всевышнего, было провозглашено ей невидимыми устами, когда она под тенью сикоморы думала о переселении и о человеке, которого она любила с детских лет. И когда она сегодня в промежуток времени между полуночью и утром снова села под многовековым деревом и заснула от усталости, ей почудилось, что она слышит тот же самый голос. Слова, которые прокричал ей этот голос, исчезли из памяти, когда она проснулась, но она знала, что они были исполнены печали и предостережения.
Как ни было неопределенно это предостережение, оно все же встревожило ее, и крики, которые донеслись с пастбища, несомненно, происходили не от радости по случаю свидания с друзьями и благополучного достижения первоначальной цели путешествия, как думал находившийся возле нее старик; нет, это были крики ссоры между взбешенными, необузданными людьми, которые с ожесточенной злобой спорили и даже дрались из-за какого-нибудь удобного места для палатки на лугу или для водопоя скота у колодца и канавы.
В этих криках слышались гнев, разочарование, отчаяние; и, отыскивая глазами место, где они раздавались громче всего, Мариам увидела труп какой-то женщины на куске холста от палатки, который несли ругавшиеся работники, и мертвого грудного ребенка, которого полунагой, дикого вида человека, его отец, держал на правой руке, между тем как левым кулаком грозил в ту сторону, где она заметила своих братьев.
В следующее мгновение она увидела, как согбенный от тяжелой работы седобородый мужчина поднял руку на Моисея и сбил бы его с ног, если бы другие не свалили его самого на землю.
Тогда Мариам оставила кровлю и, бледная, задыхающаяся, побежала в лагерь. Милька последовала за нею, и попадавшиеся женщинам навстречу жители Суккота почтительно кланялись им.
Жители Цоана, как евреи называли Танис, и присоединившиеся к ним по пути жители Факоса и Бубастиса не знали Мариам, но высокая фигура и величавая осанка пророчицы заставляли и их почтительно сторониться или отвечать на ее вопросы.
Она узнала дурные, надрывающие сердце вещи: насколько радостно было настроение народа в первый день путешествия, настолько печально и уныло он тащился в следующий день. Ветер пустыни сломил выносливость и энергию многих здоровых людей. Как жену работника и грудного ребенка, лихорадка унесла и других родильниц во время путешествия в пыли, при гнетущем зное, и Мариам указали на шествие, приближавшееся к кладбищу евреев в Суккоте. Среди тех, кого теперь несли к месту, откуда нет возврата, были не только женщины и дети и не только такие, которых унесли больными, не желая их бросить, но и несколько мужчин, которые еще вчера утром были сильны, но изнемогли под непомерно тяжелою ношей или, едва тащась, слишком беззаботно подвергали себя действию лучей полуденного солнца.
В палатку, где лежала в горячке какая-то молодая женщина, Мариам попросила Мильку принести ящик с лекарствами. Та охотно и скоро исполнила поручение. По пути она застенчиво расспрашивала то того, то другого о своем сосланном муже, но никто не мог сообщить ей никаких сведений о нем.
Мариам узнала от Нуна, что его вольноотпущенник Элиав, оставленный им в Танисе, прислал ему известие, что Иосия готов следовать за своим народом. Она узнала также, что заболевший Эфраим нашел приют в шатре своего дяди.
Болезнь мальчика или что-нибудь другое удерживает Иосию в Танисе? Этот вопрос наполнил сердце Мариам новым беспокойством; тем не менее она с редкостной энергией продолжала оказывать помощь и утешение там, где в них нуждались.
Сердечное приветствие старого Нуна порадовало пророчицу, да и нельзя было представить себе более бодрого и достойного любви старца. Уже один вид его почтенной головы с белоснежными густыми кудрями и бородой и юношески ясными глазами, сверкавшими на его красиво очерченном лице, производил на Мариам благотворное впечатление. И когда Нун со своей полной жизни, покоряющей сердце манерой выказал свою радость, что снова увиделся с нею, когда он обнял ее и поцеловал в лоб, после того как она сообщила ему, что от имени Всевышнего назвала Иосию Иисусом и призвала к своим для начальствования над их военными силами, то ей казалось, что она нашла в нем второго отца, взамен умершего. И Мариам с новой энергией посвятила себя тяжелым обязанностям, которые призывали ее со всех сторон.
И для гордой девушки было немалой заслугой то, что она с ласковою преданностью посвятила себя людям, грубость и дикость которых оскорбляли ее чувства. Правда, женщины охотно принимали ее помощь, но мужчины, выросшие под палкою надсмотрщиков, не знали никакого стыда, никакой сдержанности.
Как их внешний вид, так и их душа страшно одичали, и когда, узнав, кто она, они грубыми словами попрекали ее в том, что ее брат соблазнил их из кое-как сносного положения кинуться очертя голову в самое ужасное, когда Мариам слышала проклятия и ругательства и видела при этом, как злобно сверкают черные глаза этих людей на их смуглых лицах, обрамленных курчавыми спутанными волосами и бородами, то сердце ее сжималось. Однако же ей удалось преодолеть страх и отвращение. С сильно бьющимся сердцем и ожидая самого худшего, тем, которые были противны ей и от которых женская слабость заставляла ее бежать, напоминала она о Боге их отцов и о Его обещании.
Пророчица подумала, что ей известно теперь, в чем состояло предсказание печального предостерегавшего голоса под сикоморой; и у одра молодой матери, обреченной на смерть, она подняла руки и сердце к небу и дала Всевышнему обет: отдать все, что есть в ней и при ней, чтоб побороть малодушное неверие и грубую строптивость, грозившие ввергнуть народ в большие опасности. Всевышний обещал им прекраснейшую цель, и указанная Им цель не должна быть потеряна из-за близорукости и упрямства нескольких заблуждающихся; да и сам Бог едва ли мог прогневаться на людей, которые, точно скот, без сопротивления переносили ругательства и побои, будучи довольны, когда их телу давалось то, что ему было нужно. Теперь толпа еще не чувствовала, что она должна пережить окружавшую ее ночь, чтобы сделаться достойной ожидавшего ее светлого дня.
Лекарства Мариам, по-видимому, приносили пользу больной, и, исполненная новой уверенности, девушка оставила палатку, чтобы навестить братьев.
В лагере она нашла мало перемен, и ей пришлось снова увидеть вещи, внушавшие ей страх и заставившие ее пожалеть, что она взяла с собою слишком впечатлительную Мильку.
Негодяи из рабочих, грабившие чужие вещи и чужой скот, были схвачены и привязаны к пальмовому дереву. Вороны, следовавшие за евреями и еще на пути поживившиеся богатой добычей, с жадным карканьем летали вокруг наскоро устроенного лобного места.
Никому не было известно, кто был здесь судьею или исполнителем приговора; но ограбленные владельцы, принимавшие участие в этой скоропалительной расправе, находили ее законной и оправданной.
Идя быстрыми шагами и отвернув голову в другую сторону, Мариам увлекла за собою трепещущую молодую женщину и передала ее своему дяде Наасону, чтобы он отвел ее домой. Наасон только что попрощался с человеком, который вместе с ним стоял во главе сыновей Иуды в качестве вождя колена. Это был тот самый Гур, который, предводительствуя пастухами, одержал первую победу над египтянами, и он представил молодой девушке своего сына и своего внука. Оба они состояли на службе у египтян и были в Мемфисе золотых дел мастерами и меднолитейщиками фараона. Первому за его искусство дали имя Ури, что по-египетски значит «великий», а о сыне этого мастера, внуке Гура, Везалииле, говорили, что он высокими дарованиями превосходит даже отца, хотя едва переступил за предел отроческого возраста.
Гур смотрел на сына и внука с нескрываемой гордостью, так как хотя оба они вышли в люди, живя между египтянами, но без возражений повиновались приказанию и присоединились к странствующему народу, чтобы разделить его неясную судьбу, оставив многое, к чему привязалось их сердце и чего они достигли в Мемфисе.
Мариам приветствовала прибывших с сердечною теплотою; на этих представителей трех поколений каждый благомыслящий человек должен был смотреть с уважением.
Деду было около шестидесяти лет, и его черные как смоль волосы были слегка посеребрены сединою; но он держался прямо, подобно юноше, и резкие черты его худощавого лица выражали непреклонную решительность, которая делала понятным столь безусловное повиновение его воле со стороны сына и внука.
Ури был тоже видный мужчина, а Везалиил — юноша, который, как мы уже упомянули, с прилежанием воспользовался своими девятнадцатью годами и стоял уже твердо на своих собственных ногах. Его взгляд художника сиял каким-то совершенно особенным блеском, и, когда он и его отец стали прощаться с Мариам, чтобы приветствовать Каллеба, своего деда и прадеда, она от души пожелала счастья человеку, принадлежавшему к числу самых верных друзей ее братьев, достойной опоре своего благородного племени.
Тогда Гур схватил ее руку и с теплотою, вылившейся из благодарного сердца, которая в другое время была чужда натуре этого сурового и властолюбивого главы неукротимого пастушеского племени, проговорил:
— Да, они остались добрыми, честными и послушными. Бог сохранил их и приготовил мне этот радостный день. От тебя зависит теперь сделать его прекраснейшим праздником. Уже давно ты должна была заметить, что мои глаза следят за тобою и что ты дорога моему сердцу. Самая высшая для нас цель — это трудиться для народа и его блага: мне как мужчине, тебе как женщине, — и это крепкие узы. Но я желал бы, чтобы нас соединял еще более крепкий союз, а так как твои родители скончались и я не могу уже явиться к Амраму с брачным подарком, чтобы купить тебя у него, то я теперь сватаю тебя у тебя самой. Но прежде чем ты ответишь мне «да» или «нет», ты должна знать, что мой сын и мой внук готовы почитать тебя как главу нашего дома, как меня самого, а твои братья охотно позволили мне явиться перед тобою в качестве жениха.
Мариам выслушала его с безмолвным изумлением. Она очень высоко ценила этого человека, который так горячо желал сделаться ее мужем, и чувствовала к нему симпатию. Несмотря на его зрелые годы, он стоял перед нею полный мужественных сил и величавого достоинства, и умоляющий взгляд его глаз, обыкновенно столь повелительных, гордых и проницательных, трогал ее душу.
Но она с трепетным желанием ждала другого и потому ответила ему только тем, что печально покачала головой. Однако же зрелый мужчина, глава колена, человек, привыкший упорно стремиться к поставленной цели, не отступил, услышав отказ, и еще с большею горячностью, чем прежде, продолжал:
— Не разрушай в один короткий миг надежды на исполнение желания, которое я сдерживал с трудом в течение многих лет! Тебя останавливает мой возраст?
Мариам снова отрицательно покачала головой. Гур продолжал:
— Именно этого я боялся, хотя в мужественной силе я могу еще померяться со многими юношами. Но если ты можешь не обращать внимания на седые волосы жениха, то не решишься ли ты подумать о моем предложении? О верности и преданности моей души говорить не буду: в мои годы не сватается ни один человек, если его сердце не побуждает его к тому с неодолимой силой. Но мне кажется столько же важным и нечто другое. Я сказал, что мне было бы желательно ввести тебя в мой дом. Вон он стоит там, и он крепок и довольно обширен; но с завтрашнего дня нашим домом будет шатер, местом нашего жительства — лагерь, а там происходят довольно дикие вещи. Взгляни только на несчастных, которые там привязаны к пальмам! Никакой судья не рассматривал дела обвиненных: быстрые порывы толпы — вот наш закон. Там никто не уверен даже в своей жизни, и меньше всего женщина, принимающая сторону тех, против кого ропщут тысячи людей, какою бы сильною она ни считала себя. Твои родители умерли, твои братья могли бы тебя защищать; но если народ поднимет на них руку, то тебя увлекут в глубину те же самые камни, по которым ты желала перейти через поток.
— А если я стану твоей женою, то и тебя со мною вместе! — возразила Мариам, и ее густые брови мрачно сдвинулись.
— Эту опасность я беру на себя. Вся наша судьба в руках Бога; моя вера так же тверда, как и твоя, а за мною стоит племя Иудово, которое следует за мною и за Наасоном, как стадо за пастухами. Старый Нун и эфраимиты стоят за нас, и если бы дело дошло до крайности, то нам осталось бы или погибнуть по воле Божией, или в верном союзе, в силе и благосостоянии ожидать кончины в обетованной земле.
Мариам прямо и бесстрашно посмотрела в его строгие глаза, положила руку ему на плечо и сказала:
— Это слова, достойные мужчины, которого я высоко ценю с моего детства и который воспитал таких сыновей; но я не могу сделаться твоей женой!
— Не можешь?
— Нет, не могу!
— Это суровый приговор; но я должен удовольствоваться им. — И Гур печально опустил голову.
Мариам же продолжала:
— Гур, ты имеешь полное право спросить о причине моего отказа; так как я почитаю тебя, то обязана сказать тебе чистую правду. Я думаю о другом человеке из нашего народа. Я встретила его в первый раз, когда была еще ребенком. Он, также как и твой сын и твой внук, жил между египтянами. Но призыв нашего Бога и его отца дошел до него, как и до твоих чад, и он оказался послушным, как Ури и Везалиил. И я сделаюсь его женой, если он еще желает обладать мною и если позволит мне это Бог, Которому я служу и Который по своей милости позволяет мне слышать Его голос. О тебе же я буду вспоминать с благодарностью.
Большие глаза девушки засветились при этих словах влажным блеском, и голос седеющего жениха дрожал, когда он робко и нерешительно спросил:
— А если человек, которого ты ждешь — я не спрашиваю его имени, — если он закроет слух свой для призыва, который дошел до него, если он откажется разделить судьбу своего народа? Что тогда…
— Этого никогда не будет! — прервала его Мариам, и холодная дрожь пробежала по ее жилам.
А Гур сказал убежденно:
— Не существует никакого «никогда» и никакого «наверное», кроме как у Бога. И если, вопреки твоей доброй вере, выйдет иначе, чем ты ожидаешь, то не откажет ли тебе Господь в желании, которое родилось в тебе тогда, когда ты была еще несмышленым ребенком?
— В таком случае Он укажет мне надлежащий путь, по которому я шла до сих пор.
— Хорошо, уповай на Него, и если избранный тобою человек достоин тебя и сделается твоим мужем, то моя душа будет радоваться этому без зависти, когда Всевышний благословит ваш союз. Но если Бог решит иначе, и ты будешь нуждаться в сильной руке для своей защиты, тогда явлюсь я! Шатер и сердце Гура открыты для тебя во всякое время.
С этими словами он повернулся и ушел, а девушка задумчиво смотрела ему вслед. Гордая, властная фигура старика еще долго не скрывалась из ее глаз.
Наконец Мариам задумчиво пошла в дом исполнять долг гостеприимства, но остановилась у дороги, ведущей из Таниса, и стала смотреть по направлению к северу. Пыль улеглась, и дорогу можно было видеть на большое расстояние; но тот, кого эта дорога должна была привести обратно к его народу, не появлялся. С грустным вздохом пошла Мариам дальше, поникнув головой, и вздрогнула, когда у старой сикоморы ее окликнул густой голос ее брата Моисея.
XIII
В пламенных речах Моисей и Аарон указывали ропщущему и упавшему духом народу на могущество и обещания их Бога. К тем, которые могли без помехи лечь и спокойно отдохнуть, к тем, кто подкрепился пищей и питьем, снова вернулась утраченная было уверенность. Освобожденные работники вспомнили о тяжелых работах и унижающих человеческое достоинство побоях, от которых они избавились, и должны были вместе с другими признать действие Божьего промысла в том, что фараон их не преследовал. Этому подъему их духа немало способствовала богатая добыча, которую продолжал доставлять завоеванный запасный склад. Работники и прокаженные — последних было много в числе выступивших из Таниса евреев — отдыхали вне лагеря, — словом, все кормившиеся на счет фараона, видели себя надолго избавленными от нужды и лишений. Однако же и теперь отнюдь не было недостатка в недовольных: то здесь то там, благодаря тайным подстрекателям, стали раздаваться вопросы: не благоразумнее ли было бы вернуться и положиться на милость фараона? Этот вопрос поднимался тайком и часто вызывал резкие и даже угрожающие ответы.
Мариам свиделась с братьями и разделяла их тяжкие заботы. Как скоро пал духом народ во время даже столь недальнего путешествия по пустыне! Каким нетерпеливым, слабым в вере, непокорным оказался он при первых неблагоприятных обстоятельствах, как необузданно предавался он своим диким порывам! Когда на пути, незадолго перед восходом солнца, его созвали для молитвы, то одни обратились к дневному светилу, поднимавшемуся на востоке, другие достали маленьких идолов, которых захватили с собою, иные повернулись лицом к придорожной акации, считавшейся священным деревом в некоторых округах Египта. Да и что знали они о Боге, Который повелел им бросить столь многое и взять на себя такое тяжелое бремя!… Многие впали в уныние уже и теперь, хотя еще не успели встретиться лицом к лицу с какой-либо серьезной опасностью. Моисей намеревался вести евреев из Суккота в обетованную землю, Палестину, прямым путем, по дороге в Филистею, однако настроение и поведение народа заставило его оставить этот план и подумать о другом.
Чтобы дойти до большой дороги, соединявшей Африку с Азией, необходимо было перейти перешеек, который более разделял, чем соединял эти две части света, так как он наилучшим образом был защищен против вторжения и преграждал путь каждому беглецу частью естественными, частью искусственными препятствиями. Его пересекал ряд глубоких озер, там же, где природные преграды не мешали путнику, возвышались крепостные сооружения с гарнизонами из египетских отрядов, хорошо обученных военному делу. Эта цепь фортов называлась Хетам, или — как ее называли евреи — Эфам, и, выйдя из Суккота, можно было дойти до ближайшего и вместе с тем сильнейшего из них за несколько часов.
Когда народ, полный веры в своего Бога, воодушевленный и готовый к самым трудным подвигам, сбросил рабские цепи и с ликованием устремился навстречу свободе, в обетованную страну, Моисей, а с ним и большинство старейшин придерживались того мнения, что он, подобно горному потоку, разрушающему плотины и шлюзы, уничтожит и опрокинет все, что осмелится преградить ему путь. С этими воодушевленными массами, которым мужественное стремление вперед обеспечивало величайшие успехи, а трусливое колебание не могло принести ничего, кроме рабства и погибели, они надеялись разнести укрепления эфамской линии, точно груды хвороста. Но теперь, в самом начале, когда сравнительно ничтожные невзгоды и неудачи едва не потушили огонь в душах евреев, когда везде, куда ни обратишь взоры, на одного бодрого и радостного человека приходилось двое равнодушных и пятеро недовольных или боязливых, нападение на эфамскую линию стоило бы потоков крови и, кроме того, сделало бы сомнительными все до сих пор достигнутые успехи.
Победа над маленьким гарнизоном Питома была одержана при таких благоприятных обстоятельствах, подобных которым нельзя уже было ожидать впоследствии, и поэтому первоначальный план пришлось изменить и сделать попытку обойти крепостные сооружения.
Но, прежде чем приступить к выполнению этого нового плана, Моисей пожелал лично осмотреть, с надежными людьми, новый путь и решить, доступен ли он для прохождения многочисленного переселяющегося народа.
Эти вопросы обсуждались под тенью сикоморы перед домом Аминадава, и Мариам следила за совещаниями в качестве безмолвной свидетельницы.
В совете мужчин женщины, в том числе и она, обязаны были молчать; но ей было трудно сохранить спокойствие, когда приняли решение уклониться от нападения на форты даже и в том случае, если бы к евреям присоединился опытный в военном деле Иосия, которого сам Бог избрал своим мечом. «Какую пользу может принести наилучший военачальник там, где нет войска, которое повиновалось бы ему?» — воскликнул Наасон, сын Аминадава. Другие разделяли его мнение.
Когда собрание наконец стало расходиться, Моисей с братской сердечностью простился с сестрой. Она знала, что он намеревается ринуться в новые большие опасности, и с той скромной манерой, которая была ей свойственна каждый раз, когда она осмеливалась говорить с братом, превосходившим всех других и телом, и духом, высказала ему свои опасения. Он с ласковым упреком посмотрел сестре в глаза и правой рукой указал ей на небо. Она поняла его, горячо поцеловала его руку и сказала:
— Ты находишься всегда под покровительством Всевышнего, и теперь я не боюсь уже больше!
Тогда он прижал губы к ее лбу, велел подать ему табличку, написал несколько слов, бросил ее в дупло сикоморы, пояснив:
— Это для Иосии, — нет, для Иисуса, сына Нуна, если он явится в то время, когда меня уже не будет здесь. Господь предназначает его для великих дел, наставляя нас полагаться на него больше, чем на сильных мира сего.
С этими словами он ушел, но Аарон, который — как старший — был главою рода, остался при Мариам и сообщил ей, что за нее сватается достойный человек. Мариам ответила, бледнея:
— Я знаю это.
Брат с удивлением посмотрел ей в лицо и продолжал с наставительною серьезностью:
— Выбор зависит от тебя, но будет хорошо, если ты подумаешь об одном: твое сердце принадлежит твоему Богу и твоему народу, и человек, за которым ты пойдешь, должен быть готов, как и ты сама, служить им обоим. В браке двое должны составлять одно, и если высшая цель одного не является высшей целью и для другого, то они так и останутся двоими до конца. Голос чувств, призвавший их друг к другу, скоро умолкает, а им остается один лишь разлад.
С этими словами Аарон удалился; Мариам тоже собиралась уйти, так как в ожидании скорого выступления она могла понадобиться в доме, где пользовалась гостеприимством; но новое обстоятельство удержало ее под сикоморой, точно прикованную цепями.
Что было пророчице до укладывания утвари и до забот о телесных вещах, когда дело шло о вопросах, наполнявших ее душу? Для всего прочего были пригодны и Элизеба, и жена Наасона, и каждая ключница, и верная раба. Здесь дело шло о решении самого высшего — о благе и бедствии ее народа.
К старейшинам под сикоморой присоединились и другие почетнейшие люди из народа; но Гур ушел вместе с Моисеем.
Теперь под старое дерево явился Ури, сын Гура. Он, литейщик и золотых дел мастер, только что вернувшийся из Египта, говорил в Мемфисе с людьми, близко стоящими к «высоким воротам» и слышавшими, что царь готов снять с евреев великие тягости и даровать им новые льготы, если Моисей расположит в его пользу Бога, Которому служит, и побудит свой народ к возвращению, после того как сам народ принесет жертву в пустыне. Поэтому было бы благоразумно отправить послов в Танис и еще раз вступить в переговоры с царем.
Эти предложения, которых он еще не осмелился высказать отцу, поставили его высоко во мнении собравшихся старейшин: он надеялся, что принятие их избавит народ от великого бедствия. Но едва он кончил свою ясную и убедительную речь, как заговорил старый Нун, с трудом сдерживавшийся до сих пор.
Лицо старика, имевшее обыкновенно умиротворенное выражение, пылало от гнева, и огненный румянец странным образом выделялся в обрамлении густых белых волос. За несколько часов перед тем Нун был свидетелем, как Моисей с резкой решительностью и неопровержимыми доводами отверг подобные предложения, а теперь он слышал их снова, замечал жесты одобрения среди присутствовавших и видел, что грозит опасность всему великому предприятию, для успеха которого он рискнул и пожертвовал почти всем.
Этого было слишком много для впечатлительного старика. Сверкая глазами и подняв кулак с угрожающим видом, он закричал:
— Что это за речи? Снова отыскивать концы веревки, которую разрубил сам Господь Бог наш? Ты советуешь снова связать их ненадежным узлом, который продержится до тех пор, пока будет длиться каприз непостоянного и слабого человека, двадцать раз нарушавшего слово, данное нам и Моисею? Ты желаешь снова привести нас в тюрьму, из которой освободил нас Всемогущий посредством чуда? Неужели мы должны явиться перед Господом Богом нашим как несостоятельные должники и предпочесть предлагаемое нам кольцо из фальшивого золота царскому сокровищу, которое Он обещает нам? О ты, пришедший из Египта, я желал бы…
Здесь горячий старик гневно поднял кулак; но прежде чем он успел высказать угрозу, которая была у него на губах, он опустил руку, так как Гавриил, старейший из племени Завулона, крикнул ему:
— Вспомни о своем собственном сыне, который еще и теперь находится среди врагов нашего народа!
Эти слова попали в цель; но они только на одно мгновение смутили пылкого старца. Заглушая голоса тех, которые выразили свое неодобрение злобному Гавриилу, и тех немногих, которые поддакивали завулониту, он вскричал:
— Именно потому, что, кроме десяти тысяч акров земли, брошенных мною, мне, может быть, предстоит пожертвовать превосходным сыном, чтобы исполнить волю Всевышнего, я имею право говорить здесь!
Его широкая грудь поднималась от учащенного дыхания; он обратил глаза, осененные белыми густыми бровями, с более мягким выражением к сыну Гура, сильно побледневшему во время его речи, и продолжал:
— Этот человек — добрый сын, послушный своему отцу. Он тоже должен был пожертвовать многим, так как оставил в Мемфисе прибыльные мастерские и собственный дом, и благословение Всевышнего не оставит его. Но именно потому, что он до сих пор повиновался Его повелению, ему не следует посягать на уничтожение того, что мы начали с помощью Всевышнего. А тебе, Гавриил, я скажу, что мой сын не останется между врагами: послушный моему призыву, он явится к нам, как и Ури, первенец Гура. Несомненно, его удерживает покамест какая-нибудь серьезная причина, которой Иосия может стыдиться так же мало, как и я, его отец. Я знаю Иосию и поэтому доверяю ему, а того, кто смотрит на него иначе, назовут рано или поздно лжецом!
Нун прервался, чтобы откинуть свои седые волосы с пылавшего лба, и так как никто не возражал ему, то он снова обратился к мастеру и продолжал с сердечной ласковостью:
— То, что меня вывело из себя, Ури, была, конечно, не твоя воля. Ты имеешь добрые намерения, но ты измерил величие Бога наших отцов по мерке египетских ложных богов, которые умирают и воскресают и, как говорил недавно Аарон, представляют собою только часть того, Кто живет и действует во всем и превосходит все. Я тоже воображал, что служу Богу, пока Моисей не научил меня лучшему. Я убивал на жертвеннике быка, ягненка, гуся, подобно египтянам; но как только у тебя, так же, как и у меня, через Моисея открылись глаза, чтобы видеть Того, Кто управляет миром и сделал нас своим народом, — для тебя, так же, как для меня, и для всех нас, и для моего сына, обязательно следует зажечь в своей собственной груди жертвенный огонь, который никогда не угасает и сжигает все, что не соответствует ему в любви и верности, в вере и богопослушании. Через Моисея, своего слугу, Бог обещает нам великое освобождение от рабства, обещает, что мы будем как свободные господа распоряжаться на собственной земле в прекрасной стране собственным имуществом и имуществом наших детей. Мы идем за получением Его дара, и кто желает задержать нас на этом пути, кто побуждает нас вернуться и снова попасть в сеть, медные звенья которой мы разорвали, тот советует своему народу вновь, подобно овцам, кинуться в огонь, из которого они вырвались! Я не сержусь на тебя, так как твое лицо показывает, что ты сознаешь, до какой степени безумно твое заблуждение; но всем вам должно быть известно, что несколько часов тому назад я слышал из уст Моисея: кто будет советовать вернуться и заключить договор с египтянами, того он обвинит как изменника Иегове, нашему Богу, как губителя и злейшего врага его народа.
Ури подошел к старику, схватил его руку и с глубоким убеждением в справедливости его слов воскликнул:
— Никаких переговоров и соглашений с египтянами! Благодарю тебя, Нун: ты открыл мне глаза!
Сказав это, он удалился вместе со стариком, который оперся рукою на его плечо. Мариам, затаив дыхание, выслушала предложение Ури; и при его последних словах ее глаза засветились восторженным блеском. Она почувствовала, что ее душа полна величия Всевышнего и что она обладает даром слова для передачи другим того, что она знает сама. Но обычаи и на этот раз не позволяли ей говорить. Сердце пророчицы болело, и когда она снова вошла в толпу и убедилась, что Иосия еще не приехал, то отправилась домой, так как стало смеркаться.
Там, по-видимому, никто не замечал ее отсутствия, даже бедная грустная Милька, и Мариам почувствовала себя безгранично одинокой в этом доме.
Когда же явится Иосия, когда же она найдет сильную грудь, чтобы склониться на нее, когда кончится эта отчужденность, это бесполезное проживание под кровлей, которую она должна называть своей, хотя никогда не чувствовала себя здесь вполне дома?
Моисей и Аарон тоже удалились и взяли с собою внука Гура; но Мариам, жившую и дышавшую только для народа и его блага, никто не счел нужным известить о том, куда они направляют путь и что замышляют.
Зачем Бог, Которому она посвятила всю свою жизнь и все свое существо, сотворил ее женщиной, дав ей ум и душу мужчины?
Как бы испытывая — любят ли ее в круге людей, к которому она принадлежит, Мариам ждала, чтобы с нею заговорил кто-нибудь из окружавших ее больших или малых; но дети Элеазара льнули к деду и бабке, и девушке никак не удавалось привлечь малюток к себе. Элизеба отдавала приказания рабам, заканчивавшим укладку вещей. Милька сидела, держа на коленях свою кошку, и смотрела в пространство, а старшие мальчики вышли на воздух. Никто не обращал на Мариам внимания и не говорил с нею.
Мариам овладела горькая печаль, и, разделив ужин с другими, причем она принудила себя не нарушать своим грустным настроением веселого возбуждения детей, смотревших на предстоящее путешествие как на великое удовольствие, — пророчица снова вышла из дому.
Плотно закутавшись в покрывало, девушка совсем одна вошла в лагерь, и то, что она увидела там, конечно, не могло способствовать улучшению настроения. Вокруг было довольно шумно, и если кое-где раздавались благочестивые песни, полные радостной надежды и ликования, то с другой стороны слышалось гораздо больше диких, разгульных и подстрекающих речей. Там, где она слышала угрозы или брань против своих великих братьев, она ускоряла шаги, но не могла избавиться от опасения при мысли о том, что может произойти завтра, после восхода солнца, при выступлении в поход, если преобладание останется за недовольными.
Мариам знала, что народ принужден идти вперед, но никаким образом не могла отделаться от страха перед военной силой фараона. Эта сила как бы воплощалась для нее в героической фигуре Иосии. Если сам Господь не станет в ряды несчастных работников и пастухов, которые сейчас кричат и ссорятся возле нее, то каким образом они смогут противостоять привыкшим к войне и хорошо вооруженным войскам египтян, их коням и колесницам?
Она слышала, что во всех концах лагеря поставлены часовые, которым отдан приказ при приближении неприятеля трубить в трубы или бить в жестяные доски, пока мужчины не соберутся к месту, откуда послышались эти предостерегающие звуки.
Она давно уже прислушивалась, не раздадутся ли такие призывы, но с гораздо большим напряжением ждала топота копыт одинокой лошади, твердой поступи и густого голоса воина, по которому тосковала ее душа.
Ради него она постоянно возвращалась к северной окраине лагеря, примыкавшей к дороге из Таниса. Там теперь, по приказанию Моисея, стояли шатры отборной части людей, способных к битвам. Здесь она надеялась найти более уверенности; но, прислушиваясь к речам вооруженных людей, окружавших густыми группами сторожевые огни, узнала, что предложение Ури дошло и до них. В большинстве это были мужья и отцы, оставившие дом, участок земли, какое-нибудь дело или торговлю, и если многие говорили о повелении Всевышнего и о новом прекрасном отечестве, обещанном им Богом, то немало было и тех, кто не прочь вернуться назад. Как желала бы она войти в толпу этих ослепленных людей и убедить их с новой верой и упованием повиноваться повелению Господа и следовать за ее братьями! Но и здесь она вынуждена была молчать. Ей позволено было только слушать, и это влекло ее больше всего туда, где она могла надеяться услышать более ободряющие слова и советы.
В этом ее нервном возбуждении была какая-то таинственная прелесть, и когда некоторые костры погасли, люди заснули и разговоры умолкли, Мариам почувствовала, что у нее отнято что-то желанное. Она снова, в последний раз, направилась к дороге, ведущей из Таниса; но там все было неподвижно, за исключением расхаживавших взад и вперед часовых.
Она все еще не сомневалась в приезде Иосии; ведь призыв, который она сообщила ему от имени Господа, дошел до него; но теперь, когда она по звездам увидела, что полночь миновала, то невольно подумала о том, как много лет он жил между египтянами и что, может быть, он считает недостойным мужчины — следовать призыву женщины, несмотря на то что она возвысила свой голос во имя Всевышнего. Она сегодня претерпела довольно унижений, почему же ей не ожидать унижения и с этой стороны?..
XIV
Глубоко встревоженная и терзаемая подобными мыслями, Мариам пошла к приютившему ее дому, чтобы лечь спать, но, уже ступив на порог, девушка подалась назад и снова стала прислушиваться к безмолвию полночи.
Иосия должен был приехать с той стороны.
Но она не слыхала ничего, кроме шагов часового и голоса Гура, проходившего с вооруженным отрядом через лагерь.
Ночь выдалась тихая и звездная, время было как бы создано для того, чтобы предаваться тихим мечтам под сикоморой. Ее скамья под развесистым деревом была пуста, и с опущенной головой Мариам пошла к любимому месту отдыха, с которым завтра должна была расстаться навсегда. Однако она еще не успела дойти до цели, как вдруг выпрямилась и остановилась, прижав руку к волновавшейся груди. На этот раз послышался топот копыт, она не ошиблась, и этот топот раздавался с севера.
Не приближаются ли боевые колесницы фараона, чтобы совершить нападение на лагерь евреев? Не следует ли ей закричать, чтобы разбудить воинов? Или же это едет тот самый человек, которого она ждет с таким страстным нетерпением? Да, да, да! Это был топот одной лошади; должно быть, это был вновь прибывший человек, так как между шатрами послышался шум, собаки залаяли, и крики и разговоры все более и более приближались вместе с всадником.
То был Иосия — она знала это наверняка!
Что он приехал один ночью и освободился от уз, привязывавших его к фараону и к его собратьям по оружию, это было доказательством его послушания! Любовь укрепила его волю и ускорила бег его коня, и его уже нельзя было лишить благодарности, награды, какую только может даровать любовь. В ее объятиях он, блаженствуя, должен признать, что отказался от великого, чтобы получить более сладостное и прекрасное. Ей казалось, что окружающая ночь превращается в светлый день, так как слух удостоверял ее, что приближающийся путник едет прямо к дому Аминадава, ее гостеприимного хозяина. Она знала теперь, что он последовал именно ее призыву и прибыл сюда, чтобы обняться с нею. Иосия искал ее прежде, чем отца, приютившегося в пустом доме своего внука Эфраима.
Он, наверное, поспешил бы к ней с быстротою, какая только была возможна для его утомленного коня, но нельзя было слишком скоро ехать по лагерю. О, как долго тянулось время до той минуты, когда она наконец увидела всадника, когда он соскочил на землю и бросил повод коня следовавшему за ним человеку!
И в самом деле это был Иосия!
Его спутником, она узнала его и тихо вздрогнула, его спутником был Гур, который за несколько часов перед тем предлагал ей руку.
Два сватавшихся к ней человека стояли друг возле друга при звездном свете, озаренные огнем плошек со смолою, пылавших возле телег и клади, приготовленной для предстоящего путешествия.
Высокий и более старый еврей превосходил младшего, крепко сложенного воина, ростом, и стадовладелец держался не менее прямо, чем египетский герой. Голоса обоих звучали серьезно и мужественно, но голос возлюбленного казался ей более глубоким и сильным. Теперь они подошли к Мариам так близко, что она могла явственно слышать их разговор.
Гур сообщил Иосии, что Моисей отправился на рекогносцировку, и воин высказал по этому поводу сожаление, так как хотел переговорить с ним о важном деле.
— В таком случае тебе придется завтра выступить с народом, — заметил Гур, — так как Моисей думает встретиться с тобою в пути.
Затем он указал на погруженный в глубокую тьму дом Аминадава и предложил Иосии провести остаток ночи под его кровлей, так как тому не хотелось бы будить своего старого отца в такой поздний час.
Мариам заметила, что ее друг медлил с ответом и пытливо посмотрел на кровлю и женскую половину дома ее хозяина. Зная, чего он там искал, и не в состоянии более противиться влечению своего сердца, она вышла из тени сикоморы и горячо, сердечно поздоровалась с Иосией.
Он тоже не скрывал радости своего сердца, и Гур стоял возле них, когда они протянули руки один другому и сперва безмолвно, а потом теплыми словами приветствовали друг друга.
— Я знала, что ты приедешь! — воскликнула девушка.
И Иосия с радостным волнением ответил:
— Это ты легко могла предвидеть, пророчица, так как в числе голосов, призвавших меня сюда, был и твой. — Затем он более спокойным тоном продолжал: — Я надеялся найти здесь, кроме тебя, и твоего брата, потому что я приехал с поручением, имеющим большую важность для него, для нас и для народа. Я вижу, что и вы приготовились к путешествию, и мне было бы прискорбно, если бы был нарушен покой твоего старого хозяина и слишком поспешно приняты меры, которых можно было бы еще избежать.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гур и подошел ближе к Иосии.
— Я хочу сказать, — ответил тот, — что если Моисей останется при своем намерении вести народ к востоку, то завтра бесполезно прольется много крови. В Танисе я узнал из верных источников, что хетамский гарнизон получил приказание не пропускать ни одного человека, не говоря уже о бесчисленной массе людей, численность которых удивила меня, когда я проезжал через лагерь. Я знаю Апу, начальника этих укреплений, и легионы, которыми он командует. Это было бы гибельное, бесполезное избиение наших наполовину безоружных и недисциплинированных воинов, это было бы… Короче, мне необходимо говорить с Моисеем, настоятельно и немедленно, чтобы предотвратить несчастье, пока еще не поздно.
— То, чего ты боишься, мы тоже никоим образом не упустили из виду, — возразил Гур, — и именно для предотвращения этого Моисей отправился в опасный путь.
— Куда? — спросил Иосия.
— Это тайна вождей народа.
— К которым принадлежит и мой отец.
— Конечно, и я готов проводить тебя к нему. Если он примет на себя ответственность посвятить тебя…
— Если это противоречит его долгу, то он промолчит. Кто будет завтра начальствовать над странствующими толпами?
— Я.
— Ты? — спросил Иосия с удивлением.
Гур спокойно ответил:
— Ты удивляешься дерзости пастуха, решающегося предводительствовать войском; но наш вождь — Господь всех воинств, на Которого мы возложили наше дело, и я вверяю себя Его руководству.
— И я тоже, — сказал Иосия. — Никто другой, а Бог, во имя Которого Мариам призвала меня, возложил на меня, в этом я уверен, важное поручение, приведшее меня сюда. Я должен повидаться с Моисеем, прежде чем будет слишком поздно.
— Ты уже слышал, что до завтрашнего или даже послезавтрашнего дня он недоступен ни для кого, а также и для меня. Не желаешь ли ты покамест поговорить с Аароном?
— Он в лагере?
— Нет, но мы ожидаем, что он вернется перед выступлением народа, следовательно, через несколько часов.
— А он уполномочен решать важные вопросы в отсутствии Моисея?
— Нет, он только объявляет народу более красноречиво распоряжения своего брата.
Воин разочарованно опустил глаза в землю и после короткого раздумья с живостью продолжал, глядя на Мариам:
— Господь Бог наш возвестил свою волю Моисею, но и тебе, его девственной сестре, открывает себя Всевышний, и тебе…
— О Иосия, — прервала его пророчица, протягивая к нему руки с мольбой и предостережением.
Но военачальник, не обращая внимания, продолжал:
— Господь Бог повелел тебе призвать меня, его слугу, обратно к народу; он приказал тебе дать мне новое имя, и я переменю на него то, которое дано мне отцом и матерью и которое я носил с честью тридцать лет. Послушный твоему зову, я бросил то, что могло меня сделать великим среди людей; но на пути, по которому мне, с моим Богом и твоим образом в сердце, пришлось идти навстречу угрожавшей мне смерти, мне дано было поручение, которое я должен выполнить здесь, и потому я думаю, что оно исходит от самого Всевышнего. Я обязан передать его вождям народа; но так как я не нашел Моисея, то лучше, чем кому-нибудь другому, я могу сообщить его тебе. Хотя ты женщина, но после своего брата ближе всех стоишь к Всевышнему. Поэтому я прошу тебя выслушать меня. Весть, которую я приношу, еще не готова для слуха третьего лица.
Гур выпрямился при этих словах и, прерывая Иосию, спросил Мариам, желает ли она выслушать сына Нуна без свидетелей, и она ответила тихим «да».
Тогда Гур холодно и гордо обратился к воину:
— Я думаю, что Мариам знает волю Господа, а также и своего брата, и что она вполне понимает, что прилично женщинам в Израиле. Если я не ошибаюсь, то под этим самым деревом твой родной отец, достойный Нун, дал моему сыну Ури единственный ответ, который должен давать и Моисей каждому, кто приносит известия, подобные твоему.
— А ты знаешь его? — спросил воин резко и укоризненно.
— Нет, — ответил Гур, — но подозреваю, в чем оно состоит. Посмотри сюда!
С этими словами он с юношеской гибкостью наклонился, сильными руками поднял два больших камня, прислонил их один к другому, собрал вокруг них несколько камней поменьше и воскликнул:
— Пусть этот памятник будет свидетелем между тобою и мною, как памятник Мицпа [31], воздвигнутый Иаковом и Лаваном. И как этот последний объявил Господу, что он есть страж между ними двумя, так говорю и я. Тебе же я указываю на этот памятник, чтобы ты помнил о Господе, когда мы расстанемся с тобою. Вот я кладу руку на эту груду камней и свидетельствую, что я, Гур, сын Каллеба и Эфраты, не уповаю ни на кого другого, кроме Господа, Бога наших отцов, и намерен следовать Его повелению, призывающему нас из царства фараона в страну, которую Он нам обещал. Тебя же, Иосия, сын Нуна, я спрашиваю, и Господь, Бог наш, слышит тебя: ты тоже не ждешь никакой другой помощи, кроме как от Бога Авраамова, сделавшего твой народ своим избранным народом? Далее ты должен засвидетельствовать, считаешь ли ты всегда египтян, которые нас угнетали и от рабства которых Господь, Бог наш, обещал освободить нас, смертельными врагами твоего Бога и твоего народа.
Черты бородатого воина дрогнули, и он порывался разрушить памятник и ответить назойливому вопросителю сильными словами, но Мариам положила руку на вершину камней и, схватив правую руку Иосии, вскричала:
— Он спрашивает тебя перед лицом нашего Бога и Господа, вашего свидетеля!
Тогда Иосия, сдержав свой гнев и крепко пожав руку пророчицы, ответил торжественно:
— Он спрашивает, и я еще медлю с ответом, так как слов «да» или «нет» здесь недостаточно. Но и я также призываю Бога в свидетели; и перед этим памятником ты, Мариам, и только ты одна, должна услышать, что я думаю и с какою целью я прибыл к вам. А ты, Гур, посмотри сюда! Подобно тебе, я кладу руку на этот памятник и свидетельствую, что я, Иосия, сын Нуна, не уповаю ни на кого, кроме Господа, Бога наших отцов. Пусть Он стоит между тобою и мною как свидетель и решит: мой путь есть ли Его путь, или же путь заблуждающегося человека. Я буду повиноваться Его воле, которую Он возвестил Моисею и этой избранной деве. Это я обещаю с клятвой, стражем которой да будет Господь, Бог наш!…
Гур выслушал воина с напряженным вниманием и затем воскликнул:
— Господь, Бог наш, слышал твою клятву, и против нее я выставляю перед этим памятником другую: когда ты, памятуя об этом камне, дашь слово, в котором ты только что отказал мне, то между нами впредь не будет возникать никакой злобы, и я охотно передам тебе, если это согласно с волей Всевышнего, должность военачальника, к которой ты, испытанный в войнах, способнее меня, начальствовавшего до сих пор только над моими пастухами и стадами. Тебе же, Мариам, я напоминаю, что этот памятник станет также свидетелем твоего разговора, который ты намерена вести с Иосией перед лицом Бога. Я напоминаю тебе о карающих словах, которые ты слышала под этим деревом из уст отца этого человека, и призываю Бога в свидетели, что я омрачил бы проклятием жизнь моего родного сына Ури, радость моего сердца, если бы он явился перед народом с целью склонить его в пользу предложения, которое он передал нам, так как это отвратило бы маловерных от их Бога. Об этом я напоминаю тебе и прибавляю еще следующее: если я буду тебе нужен, ты меня найдешь, и дверь, которую я отворил для тебя, остается отпертою, что бы ни случилось.
С этими словами Гур повернулся к ним спиною и ушел.
Оба они не знали, что с ними произошло. Иосия, который во время своей дальней, прерываемой разными опасностями поездки с пламенным томлением ожидал часа, когда он снова соединится со своею возлюбленной, теперь, смущенный и встревоженный, смотрел в землю. Мариам, которая при его приближении приготовила для него самое высшее и радостное, чем любящая женщина награждает верность и любовь, опустилась перед памятником на землю, возле самого дерева, и прижала лоб к его пустому суковатому стволу.
XV
Долго под сикоморой не было слышно ничего, кроме тихих молитв Мариам и нетерпеливых шагов воина, который, стараясь собраться с духом, не решался тревожить ее.
Иосия еще не мог уяснить себе, что именно, точно гора, встало внезапно между ним и его возлюбленной. Из слов Гура он узнал, что Моисей и его собственный отец отклоняют всякое посредничество; однако же обещания, которые он намеревался передать народу, казались ему даром милости Всевышнего. Они не были еще известны никому из его соплеменников, и если Моисей был тем, чем он считал его, то Господь должен был открыть ему глаза и показать, что он избрал его, Иосию, дабы при его посредничестве доставить народу лучшую будущность. Он не сомневался также и в том, что легко привлечет своего отца на свою сторону. Он с полным убеждением снова готов был уверять, что это Всевышний указал ему путь, и, когда вспомнил все это и Мариам наконец встала, он подошел к ней с возродившейся уверенностью. Любящее сердце побуждало его заключить ее в объятия, но она отстранила его, и ее голос, обыкновенно столь чистый и глубокий, звучал строго и глухо, когда она обратилась к нему с вопросом, почему он так долго медлит и что он намерен сообщить ей.
Под сикоморой она не только старалась собраться с духом и молилась, но и заглянула в глубину своей души. Она любила Иосию, но подозревала, что он явился с такими же предложениями, как и Ури, и гневные слова старого Нуна теперь звучали в ее душе громче, чем когда-нибудь. Страх, что ее возлюбленный идет по ложному пути, и странный поступок Гура охладили страсть пророчицы, и ее ум, вернувшийся к более хладнокровному размышлению, желал знать прежде всего, что так долго задерживало в Танисе Иосию, которого она призвала именем своего Бога, и почему он приехал один, без Эфраима.
Чистое небо было усеяно звездами, и светила, которым, по-видимому, было суждено смотреть с вышины на блаженство вновь соединившейся любящей четы, сделались теперь свидетелями робких вопросов встревоженной девушки и нетерпеливых ответов пылкого и горько разочарованного мужчины.
Он начал уверением в своей любви и в том, что он явился, чтобы сделать ее своею; но она, хотя и оставила свою руку в его руке, умоляла его прекратить теперь разговор о сватовстве и прежде всего сообщить то, что она желает знать.
Некоторые известия об Эфраиме он получил в пути от одного воина из Таниса и поэтому мог ответить, что непослушный мальчик, вероятно, из-за глупого любопытства отправился, больной и раненый, в город, по дороге лишился сил, но нашел приют и заботливый уход у одного друга. Но девушка встревожилась, и в ее душе поднялся упрек против себя самой за то, что этот осиротевший и неопытный мальчик, выросший на ее глазах, которого сама она послала в чуждый ему мир, находится в египетском доме.
Иосия уверил, что он принимает на себя заботу возвратить его к своим, и так как, несмотря на это уверение, она оставалась озабоченной, спросил, не утратил ли он ее любви и доверия. Но, вместо того чтобы дать ему утешительный ответ, она снова начала спрашивать и пожелала узнать, что задержало его прибытие, и, таким образом, он с обеспокоенным и уязвленным сердцем принужден был начать свой рассказ, хотя с конца.
Пока она слушала его, прислонясь к стволу сикоморы, Иосия, волнуемый страстным желанием и нетерпением, то ходил взад и вперед, то, едва владея собою, подступал к ней. Только страсть и надежда, наполнявшие его, и ничто другое, казались ему в этот час достойными словесного выражения. Если бы он узнал наверное, что ее сердце охладело, то он снова оторвался бы от нее, после того как открыл бы свою душу отцу, и пустился в путь, чтобы найти Моисея. Приобрести Мариам и избежать клятвоотступничества — вот все, чего он желал; и, как ни важно было то, что он пережил и на что надеялся в последние дни, он отвечал на ее вопросы торопливо, как будто дело шло о ничтожных вещах.
Он торопливо начал свой рассказ, и чем чаще она прерывала его, тем нетерпеливее он ей отвечал, тем глубже собирались складки на его лбу.
Несколько часов Иосия в сопровождении своего адона ехал к югу в веселом расположении духа, упоенный расцветавшими надеждами. Перед наступлением сумерек он увидел большую толпу людей, двигавшуюся впереди его. Сначала он подумал, что наехал на отставший арьергард выселяющихся евреев, и поэтому ускорил бег своего коня. Но, прежде чем он доехал до путников, несколько крестьян и возчиков, побросавших телеги и вьючных животных, кинулись ему навстречу с громкими криками и настойчивыми предостережениями, объясняя, что люди, идущие впереди, прокаженные. И предостережение беглецов было основательно, так как первые обратившиеся к нему с надрывавшим сердце криком: «Проказа, проказа!», носили явные признаки этой ужасной болезни, и с их покрытых струпьями и белою пылью обезображенных лиц глядели на него глаза без бровей, с тусклым блеском.
Скоро Иосия различил в этой толпе и отдельных людей, в том числе египетских жрецов с остриженными головами и еврейских мужчин и женщин. Он с суровым спокойствием военачальника обратился к тем и другим с вопросами и узнал, что они идут из каменоломен, что располагаются напротив Мемфиса, из особого отведенного для них места пребывания на восточном берегу Нила. Некоторые евреи слышали там от своих, что их народ оставляет Египет и намерен идти в страну, обещанную ему Господом. Поэтому многие из них решились довериться сильному Богу их отцов и следовать за переселенцами. Египетские жрецы, которых соединяло с евреями одинаковое несчастье, отправились вместе с ними и целью своего странствования избрали Суккот, куда, как они слышали, Моисей намерен вести народ прежде всего. Но каждый, кто мог бы показать им дорогу, убегал от них, и, таким образом, они подались слишком далеко к северу и дошли почти до крепости Табне. Иосия нагнал их за милю перед этим укреплением и посоветовал их вожакам вернуться назад, чтобы не заразить своей болезнью странствующих братьев.
Во время этого разговора из крепости пришел отряд египетских воинов с целью очистить дорогу от прокаженных; однако же начальник отряда, знакомый Иосии, не прибегнул к насилию, и оба они убедили вожаков этих несчастных вести их на Синайский полуостров, где в горах, недалеко от горных заводов, находилось поселение прокаженных. Они приняли это предложение, так как Иосия обещал им, что когда народ пойдет к востоку, то приблизится к ним и возьмет с собою каждого выздоровевшего. Если евреи останутся в Египте, то чистый воздух пустыни многим принесет исцеление, и каждый признанный очистившимся от проказы сможет возвратиться в отечество.
Эти переговоры заняли много времени, а к этой первой задержке присоединилось несколько других, так как из-за близкого соприкосновения с прокаженными он должен был ехать в Табне, чтобы подвергнуться там, вместе с начальником отряда, находившимся возле него, опрыскиванию птичьей кровью, переодеться и подчиниться известным церемониям, которые он и сам считал необходимыми и которые следовало неукоснительно выполнить не иначе как при ярком свете солнца. Адона Иосии задержали в крепости, так как этот мягкосердечный человек, встретив между нечастными одного из своих родственников, протянул ему руку.
Печальна и неприятна была причина этой задержки, и только тогда, когда Иосия в полдень выехал из Табне в Суккот, он снова почувствовал надежду и радость в предвкушении того, что вскоре увидит Мариам и привезет своим соплеменникам многообещающие известия.
Никогда сердце не билось в его груди быстрее и радостнее, чем во время ночного путешествия, которое вело его к возлюбленной и к отцу и у цели которого он до сих пор встречал вместо высшего благополучия только горькое разочарование.
В коротких, отрывистых фразах он нехотя рассказывал о своей встрече с прокаженными, хоть сделал для этих несчастных все, что считал наилучшим. Каждый из его товарищей по военной службе похвалил бы его, но та, чье одобрение было для него дороже всего, по окончании этого рассказа указала ему на одно место лагеря и с грустью проговорила:
— Они нашей крови, и наш Бог — их Бог. От Цоана, Факоса и Фибесета [32] прокаженные следовали за другими в некотором отдалении, и их палатки стоят вне лагеря. Прокаженные Суккота, которых немного, тоже могут отправиться с нами, потому что, обещая народу землю, к которой стремятся евреи теперь, Господь имел в виду и больших и малых, и бедных, и ничтожных, а также, конечно, и тех несчастных, которые теперь остаются во власти врага. Не лучше ли бы ты сделал, если бы отделил евреев от египтян и привел своих соплеменников к нам?
При этом замечании в душе воина возмутилась гордость мужчины, и его ответ прозвучал серьезно и строго:
— На войне приходится сдерживать свои чувства и жертвовать сотнями, чтобы сохранить тысячи. Да и пастух отделяет паршивую овцу ради спасения всего стада.
— Правда! — прервала его Мариам с горячностью. — Потому что пастух слабый человек, не знающий никакого лекарства против заразы; но Господь, призывающий весь свой народ, не допустит, чтобы из строгого повиновения Его воле произошел для Его народа какой-нибудь вред.
— Так думает женщина, — возразил Иосия, — но то, что сострадание внушает женщине, не должно иметь слишком большого веса в глазах мужчины. Вы, женщины, охотно повинуетесь голосу сердца, да вам и вообще подобает подчиняться, если только вы не забываете при этом, что прилично вам и вашему полу.
Щеки Мариам вспыхнули густым румянцем: она вдвойне почувствовала жало, скрывавшееся в этих словах, так как оно было направлено Иосией против нее. Как много выстрадать пришлось ей сегодня из-за своего пола, а теперь и он заставляет почувствовать, что она неравноправна с ним, что она только женщина. Возле сооруженного Гуром памятника, на котором лежала теперь ее рука, он требовал ее решения, как бы считая ее принадлежащей к числу вождей народа, а теперь он уже указывал ее место, тогда как Мариам чувствовала, что она ни умом, ни дарованиями не ниже кого бы то ни было из мужчин.
Но Иосия тоже чувствовал себя оскорбленным, и ее манера держать себя показывала ему, что этот час должен решить, кому из них, ему или ей, будет принадлежать главенство в их будущем союзе. Он стоял перед нею в гордом и строгом величии; никогда еще он не являлся перед нею таким мужественным и привлекательным. Но желание бороться за свое оскорбленное женское достоинство одержало в ней верх над всеми иными чувствами, и наконец она прервала тягостное молчание, последовавшее за его резкими словами, и со спокойствием, которое удалось ей сохранить только с помощью всей своей силы воли, сказала:
— Мы оба забываем о деле, которое удерживает нас здесь в поздний час ночи. Ты хотел сообщить мне, зачем приехал сюда, и услышать от меня то, что скажет на это не Мариам, слабая женщина, а доверенная Господа.
— Я надеялся услышать также и голос девушки, на любовь которой рассчитывал, — угрюмо возразил он.
— Ты услышишь его, — быстро проговорила она и отняла руку от памятника. — Но, может быть, я буду не в состоянии согласиться с мнением мужчины, сила и ум которого так далеко превосходят мои; а между тем ты только что показал, что не потерпишь противоречия от женщины, даже и от меня.
— Мариам! — прервал он ее с укором.
Но она еще с большею горячностью продолжала:
— Я почувствовала это, и так как потерять твое сердце было бы величайшим горем моей жизни, то ты должен научиться понимать меня, прежде чем потребуешь, чтобы я высказала свой приговор.
— Выслушай сперва данное мне поручение.
— Нет, нет! — возразила с живостью Мариам. — Ответ в эту минуту замер бы на моих губах! Позволь мне прежде рассказать тебе о женщине, которая обладает любящим сердцем, но знает и нечто другое, что в ее глазах стоит выше любви. Ты улыбаешься? И ты имеешь право на это, пока не знаешь того, что я намерена тебе рассказать.
— В таком случае говори! — прервал он ее тоном, ясно показывавшим, как трудно было ему принудить себя к терпению.
— Благодарю, — тепло сказала Мариам. Затем она прислонилась к стволу старого дерева, между тем как он опустился на скамью и смотрел то в землю, то на ее лицо, и начала: — Детство осталось позади, скоро прошла и моя юность. Когда я была еще мала, то немногим отличалась от других девочек. Я играла, как они, и хотя мать научила меня молиться Богу отцов, но мне нравились рассказы других детей о богине Исиде. По временам я прокрадывалась в ее храм, покупала пряности, опустошала для нее садик, проливала елей на ее алтаре и приносила ей цветы в жертву. Я была выше и сильнее многих девочек, и притом я была дочерью Амрама, и поэтому они ходили за мною и делали охотно то, что затевала я. Когда мне исполнилось восемь лет, мы переселились из Цоана сюда. Прежде чем я успела найти для себя какую-нибудь подругу, ты приехал к Гамалиилу, мужу твоей сестры, для излечения раны, нанесенной тебе копьем какого-то ливийца. Вспоминаешь ли ты еще о том времени, когда ты, юноша, возвысил меня, маленькую девочку, до степени своей подруги. Я приносила, что тебе было нужно, я выбалтывала тебе, что знала, а ты рассказывал мне о блестящем военном наряде, о конях и о колесницах воинов. Ты показал мне кольцо, добытое твоею храбростью, и, когда твоя рана в груди зажила, мы бродили с тобою по пастбищам.
Исида, нравившаяся и тебе, имела здесь храм, и как часто я тайком пробиралась на передний двор его, чтобы помолиться о тебе и принести ей мои праздничные печения. От тебя я так много слышала о фараоне и его блеске, об египтянах, об их мудрости, искусстве, утонченной жизни, что мое маленькое сердце томилось желанием жить среди них в столице. Да и помимо этого до меня доходили слухи, что мой брат Моисей при дворе царя осыпан великими благодеяниями и пользуется почетом в среде жрецов. Мне перестал нравиться наш народ: мне казалось, что он уступает египтянам во всех отношениях.
Затем наступила разлука с тобою, и так как мое маленькое сердце было набожно и ожидало всяких благ от божественного могущества, как бы это божество ни называлось, то я молилась о фараоне и его войске, в рядах которого ты служил.
Мать по временам говорила мне о Боге наших отцов как о могущественном покровителе, обязавшем народ в давно минувшие дни благодарностью, и рассказывала о нем прекрасные повествования; однако же и она сама не однажды совершала жертвоприношения в храме Сета или приносила священному быку бога-солнца цветы трилистника. Она тоже была расположена к египтянам, среди которых наш Моисей, ее гордость и радость, достиг столь высокого почета.
Мне исполнилось пятнадцать лет, и я жила весело в обществе других девушек. По вечерам, после возвращения пастухов, я сидела с молодежью у огня, и мне было приятно, когда сыновья владельцев стад оказывали мне предпочтение перед другими и сватались за меня; но я отказывала всем, в том числе и египетскому сотнику, начальнику крепости запасного склада, потому что я думала о тебе, товарище моего детства. Я отдала бы решительно все за слово заклинания, которое могло бы привести тебя к нам, когда я плясала и пела под звуки бубна и вокруг меня раздавались громкие крики одобрения. Каждый раз, как меня слушало очень много людей, я думала о тебе; подобно жаворонку, изливала я то, что наполняло мое сердце, и моя песнь относилась к тебе, а не к славе Всевышнего, Которому она была посвящена…
Здесь страсть с удвоенною силой овладела человеком, которому возлюбленная делала такие опьянявшие счастьем признания. Иосия внезапно вскочил и протянул руки к Мариам, однако она отстранила его с резкой суровостью, чтобы не поддаться страсти, грозившей овладеть и ею.
И все-таки звук ее глубокого голоса принял какой-то новый, странный оттенок, когда она сперва торопливо и тихо, а затем громче и выразительнее продолжала:
— Так достигла я восемнадцатилетнего возраста, и мне стало тяжело жить в Суккоте. Моею душой овладела какая-то невыразимая тоска, и не только по тебе. То, что прежде радовало меня, казалось теперь скучным, и однообразие жизни в отдаленном пограничном городе, среди пастухов и стад, казалось мне унылым и жалким.
Элеазар, сын Аарона, научил меня читать и приносил мне книги, полные рассказов о приключениях, которые никогда не могли случиться, но все-таки волновали сердце. Некоторые содержали в себе также хвалебные гимны богам и пламенные песни любви. Они глубоко захватывали мою душу, и, как только я вечером или в полдень оставалась одна, когда ничто кругом не нарушало тишины и пастухи и стада были далеко на пастбище, я повторяла про себя эти песни или сочиняла новые, и большею частью это были гимны божеству. Они прославляли то Аммона с бараньей головой, то Исиду с головою коровы, но часто также и всемогущего Бога, открывшегося Аврааму, о Котором моя мать говорила тем чаще, чем старше она становилась. Выдумывать в тишине подобные хвалебные песни, слушать повествования, говорившие мне о величии и славе Бога или о прекрасных ангелах и ужасных демонах, — я любила больше всего. Из веселого ребенка я сделалась мечтательной девушкой, не заботившейся о том, что делается дома. Тогда не было никого, кто бы предостерег меня, так как мой отец скончался вслед за матерью, и я жила одна со своею старой теткой Рахилью, в тягость себе самой и не радуя никого. Аарон, наш старший брат, переселился к своему тестю Аминадаву, так как наследственный дом Амрама сделался для него слишком тесным и бедным, и он оставил его мне. Даже подруги избегали меня, потому что моя веселость исчезла, и я смотрела на них с высоты своего отталкивающего высокомерия, так как могла сочинять песни и в моих грезах видела больше, чем все они вместе взятые.
Мне исполнилось девятнадцать лет, и вечером в день моего рождения, о котором не вспомнил никто, кроме Мильки, дочери Элеазара, Всевышний послал мне в первый раз своего вестника. Он пришел в образе ангела и велел приготовить дом для находящегося в пути гостя, который для меня милее всех других.
Это было ранним утром вот под этим деревом. Я пошла домой, привела, вместе с Рахилью, дом в порядок, приготовила постель и позаботилась о яствах, вине и обо всем, чем обыкновенно встречают гостя. Но полдень наступил и прошел, вечер сменился ночью, затем снова настало утро, а я все еще ждала путника. Но когда солнце того дня склонилось к закату, собаки подняли громкий лай, и, когда я вышла за дверь, ко мне скорыми шагами подошел сильный мужчина со спутанными седыми волосами и бородой в изорванной белой одежде жреца. Собаки, визжа, кинулись от него прочь, а я узнала в нем моего брата.
Наше свидание после долгой разлуки сначала принесло мне больше страха, чем радости: Моисей бежал от сыщиков, поскольку убил надсмотрщика. Ты знаешь это.
Злоба еще сверкала в его глазах. В своем гневе он казался мне подобным Сету, и каждое из его медленно произносимых слов отпечатлевалось в моей душе точно посредством резца и молота. Он три недели оставался под моей кровлей, и так как я была одна с ним и с глухой Рахилью, а он должен был скрываться, то никто не приходил к нам, и тогда-то он научил меня исповедывать Бога наших отцов.
Со страхом и трепетом слушала я его речи, и мне казалось, что его веские слова падали на мою грудь, точно утесы, когда он внушал моему сердцу, чего требует от меня Господь Бог, или когда он описывал величие и гнев Того, Кого не в состоянии постичь ничей ум, Кого не может изобразить никакое имя. Когда он говорил о Нем и о египетских богах, то мне казалось, что предо мною стоит Бог моего народа, как исполин, чело Которого касается неба, а все другие боги пресмыкаются в пыли у Его ног, точно визжащие собаки.
Моисей сообщил мне также, что мы единственный народ, избранный Господом, мы и никакое другое племя. И тогда впервые мою душу наполнила гордость при мысли, что я отпрыск Авраама; каждый еврей сделался мне братом, каждая дочь Израиля стала мне сестрою. С этих пор я увидела ясно, как жестоко египтяне угнетают и мучат моих соплеменников. Я была слепа к страданиям моего народа, но Моисей открыл мне глаза и насадил в моем сердце ненависть, великую ненависть к мучителям моего племени. Из этой ненависти выросла в моей душе любовь к истязаемым. И тогда я дала себе обет следовать за братом и дожидаться призыва моего Бога. И он не замедлил: голос Иеговы заговорил со мною.
Старая Рахиль скончалась. По приказанию Моисея я перестала жить в одиночестве и приняла приглашение Аарона и Аминадава. Я сделалась гостьей в их доме; но среди всех я жила своею особенной жизнью. Они не мешали мне, и эта сикомора с землей, на которой она стоит, сделалась как бы моей собственностью. Под ее тенью Бог повелел мне призвать тебя и наименовать «вспомоществуемым Иеговой». И ты — уже не Иосия, нет, а Иисус — последовал повелению своего Бога и его пророчицы…
В этом месте воин прервал речь Мариам, которую он слушал с напряженным вниманием, но вместе и с возраставшим разочарованием.
— Да, я повиновался тебе и Всевышнему! Но ты не спросила меня, чего это стоило мне. В своем рассказе ты дошла до настоящего времени, но не сумела ничего сказать о тех днях, когда ты, после смерти моей матери, гостила у нас в Танисе. Или ты забыла то, в чем тогда в первый раз признались мне твои глаза, а затем и губы? Неужели исчезли из твоей памяти день разлуки и вечер на берегу моря, когда ты позволила мне надеяться и просила меня помнить о тебе. Неужели ненависть, взращенная в твоем сердце Моисеем, убила в тебе всякое другое чувство, в том числе и любовь?
— И любовь? — переспросила Мариам и подняла на него свои глаза с выражением печали. — О нет! Как могла я забыть о том времени, счастливейшем в моей жизни? Но с того дня, как Моисей пришел домой из пустыни, чтобы, по повелению Господа, уничтожить рабство народа — это было через три месяца после моей разлуки с тобою, — я уже не считала лет и месяцев, дней и ночей.
— Значит, ты забыла и эту? — спросил Иосия с горечью.
— Нет, — возразила Мариам и с умоляющим видом посмотрела ему в лицо, — любовь, которая выросла в ребенке и не поблекла в девушке, не может быть убита; но кто не посвящает себя Богу… — Девушка внезапно умолкла и, как бы увлеченная собственным вдохновением, подняла руки к небу и воскликнула с мольбой: — Ты возле меня, Всемогущий, Великий, видишь мое сердце! Тебе известно, почему Мариам ничего не спрашивает о днях и годах и не желает ничего, кроме только соизволения быть твоим орудием, пока народ, который есть вместе и народ этого человека, не получит того, что Ты ему обещал!
Во время этой мольбы, вырвавшейся из сокровеннейшей глубины души пророчицы, поднялся теплый ветер, обыкновенно предшествующий рассвету, и в густой зелени сикоморы зашумели листья. Иосия пожирал глазами высокую, величественную фигуру Мариам, полуосвещенную слабым сиянием рассвета, и то, что он теперь слышал и созерцал, казалось ему каким-то чудом. То великое, чего она ожидала для своего народа и что должно было наполнить ее душу, прежде чем она позволила бы себе снова последовать влечению своего сердца, это великое он, как ему казалось, принес своим соплеменникам в качестве посланника Господа. Увлеченный высоким порывом ее души, он кинулся к ней и в волнении, исполненном радости и надежд, воскликнул:
— Значит, наступил час, который позволит тебе снова различать месяцы и дни и прислушиваться к твоим собственным сердечным желаниям. Я уже не Иосия, а Иисус, пришел как посланник Господа, и мое посольство обещает народу, который я хочу научиться любить, как его любишь ты, новое благополучие. Господь указывает ему новое, лучшее отечество!
Теперь и глаза Мариам тоже засветились радостью, и в благодарном порыве счастья она проговорила:
— Ты явился затем, чтобы вести нас в страну, которую Иегова обещал своему народу. О Господи, как безмерна твоя благость! Он, он приближается в качестве твоего вестника!
— Он приближается, он здесь! — воскликнул ИосияИисус, и она не отстранила его, когда он привлек ее к себе, и, охваченная блаженным трепетом, ответила на его поцелуй.
XVI
Опасаясь собственной слабости, Мариам поспешно высвободилась из объятий возлюбленного и затем, счастливая и с напряженным ожиданием вести о новой милости Всевышнего, начала слушать его краткий рассказ обо всем, что он пережил и перечувствовал со времени ее призыва.
Иосия описал сначала тот страшный разлад, который произошел в его душе, как затем он уверовал вполне и, послушный воле Бога своего народа и зову отца, поехал во дворец, чтобы там, под угрозой тюрьмы или смерти, добиться освобождения от своей присяги. Затем он рассказал ей, как милостива была к нему опечаленная царская чета и как, наконец, он взялся убедить вождей народа вести евреев в пустыню только на короткое время и затем привести их обратно в Египет, где будет отведена им новая прекрасная страна на западной стороне Нила. Там уже не будет впредь ни одного иноплеменного надсмотрщика, угнетающего народ: его делами будут управлять его собственные старейшины, и главою евреев станет человек, избранный ими самими.
Наконец, он сказал, что он сам назначен начальником еврейских войск и в качестве наместника посредником и примирителем между евреями и египтянами в тех случаях, когда это окажется необходимым.
Соединившись с Мариам, он, счастливый, будет в новой стране заботиться даже о самых последних людях своей крови. На пути сюда он чувствовал себя точно после кровавой битвы, когда звуки труб возвещают победу. Он имеет полное право сознавать себя вестником и послом Всевышнего.
Иосия умолк, заметив, что Мариам, сначала слушавшая его внимательно и с сияющими глазами, теперь стала следить за его речью с выражением лица все более и более тревожным и озабоченным. Но когда воин наконец заговорил о надежде в брачном союзе с нею осчастливить народ, она отняла у него свою руку, с беспокойством всмотрелась в его мужественные черты, пылавшие от радостного возбуждения, и затем устремила глаза в землю, как бы желая собраться с духом.
Не подозревая, что происходит, Иосия подвинулся к ней. Ее безмолвие он приписывал стыдливости девушки при первой ласке, которую она оказывает мужчине. Но когда она при его последних словах, выставлявших его истинным вестником Бога, неодобрительно и отрицательно покачала головой, он вздрогнул и, едва владея собою от горького разочарования, спросил:
— Веришь ли ты, что Господь посредством чуда защитил меня от гнева могущественнейшего царя и позволил мне получить из рук сильных мира сего для моего народа дар, какого сильнейший никогда не дает слабейшему, чтобы я исполнял Его дело с радостной уверенностью человека, которого Он сам призвал служить Ему?
Мариам прервала его и глухим голосом, едва сдерживая слезы, проговорила:
— Сильнейший слабейшему! Если таково твое мнение, то ты вынуждаешь меня спросить тебя словами твоего собственного отца: кто же могущественнее — Господь наш Бог или слабый царь, первенец которого засох, как трава, по мановению Всевышнего? О Иосия, Иосия!…
— Иисус! — прервал он запальчиво. — Или ты уже отказываешь мне в имени, которое дал мне твой Бог? Я уповал на Его помощь, когда вступил во дворец сильного, я под руководством Бога искал спасения и счастья для народа и нашел их; но ты, ты…
— И твой отец, и Моисей, и все верующие вожди колен не видят никакой благости для нас в дарах египтян, — возразила, задыхаясь от волнения, Мариам. — То, что они дают еврею, обрекает его на погибель; трава, посеянная нами, сохнет на том месте, к которому прикасаются их ноги! А ты, честным сердцем которого злоупотребляют они, ты — манок, посредством которого птицелов заманивает птиц в свои сети. Они дали тебе в руку молот, чтобы крепче, чем прежде, сковать цепи, которые мы разорвали с помощью Всевышнего!…
— Это слишком! — прервал пророчицу воин, заскрежетав зубами от гнева. — Ненависть омрачила твой светлый ум. И если птицелов действительно — как сказала ты сейчас, — если он действительно превратил меня в манок и злоупотребил мною, и повел меня по ложному пути, то он мог научиться этому у тебя, — да, у тебя! Ободренный тобою, я рассчитывал на твою любовь и верность. От тебя надеялся я получить поддержку, и где твоя любовь? Как ты не поскупилась для меня ни на что такое, что могло огорчить меня, так и я, беспощадный к себе самому, скажу тебе всю правду! Я приехал не только потому, что меня позвал Бог моих отцов, но и потому, что этот призыв дошел до меня через тебя и через моего отца. Вы ищете в какой-то безвестной дали страну, которую обещал вам Господь, я же отворил для народа ворота к новому, надежному отечеству. Но я делал это не ради него — что он был для меня до того времени? — а прежде всего для того, чтобы быть счастливым там с тобой, которую я любил, и с отцом моим. Но ты, чье холодное сердце не знает любви, с моим поцелуем на губах пренебрегаешь всем, что бы я ни предложил, — пренебрегаешь из ненависти к руке, которой я обязан этим даром. Твои стремления и твоя жизнь сделались стремлениями и жизнью мужчины! Ты отталкиваешь от себя и то, что для других женщин составляет высшее благо.
Мариам не выдержала больше и, всхлипывая, закрыла руками свое судорожно вздрагивавшее лицо.
…С наступлением рассвета в спящем лагере снова началось движение. Из домов Аминадава и Наасона вышли слуги и служанки. Все, пробужденное утром, направлялось к колодцам и к местам водопоя, но Мариам не замечала этого.
Как возрадовалось ее сердце, когда милый ей человек поведал, что он явился, дабы вести ее в страну, обещанную Господом народу. Тогда она охотно припала к его груди, чтобы насладиться коротким мгновением высшего счастья, но как скоро это блаженство сменилось горьким разочарованием!
Пока Иисус рассказывал Мариам о том, что фараон предлагает народу, а утренний ветер колебал вершину сикоморы, ей казалось, как будто оттуда раздался голос прогневавшегося Бога, как будто она снова слышит гневную речь старого Нуна. Подобно грому и молнии, эта речь обрушилась на Ури, а чем отличается предложение Иисуса от предложения Ури?
Мариам слышала из уст Моисея, что народ погибнет, если, изменив своему Богу, поддастся обещаниям фараона. Вступить в брак с человеком, явившимся для уничтожения всего, для чего жили и к чему стремились ее братья и его собственный отец, — это было бы позорной изменой. И все-таки она любила Иисуса и, вместо того чтобы сурово оттолкнуть его, как желала бы она снова прижаться к его сердцу, которое — она знала это — так горячо стремилось к ней.
Но на дереве листва продолжала шуметь; в этом шуме девушке слышалось предостережение Аарона, и она принудила себя оставаться непоколебимой.
Шелест вверху происходил от Бога, избравшего ее своею служительницей, и когда Иисус в страстном волнении признался, что возвратиться к народу, настолько же чуждому для него, насколько он дорог ей, его побудило прежде всего желание обладать ею, то девушкой вдруг овладело такое чувство, как будто биение ее сердца остановилось, и она в смертельном страхе не могла удержаться от громкого рыдания.
Не обращая внимания на Иисуса и на пробудившийся лагерь, она упала на колени под сикоморой и, воздев руки и широко раскрыв увлажненные слезами глаза, смотрела вверх, как бы ожидая особого откровения с неба. В вершине дерева утренний ветер продолжал шуметь, и вдруг пророчице почудилось, что не только в ее душе, но и вокруг нее разлилось точно солнечное сияние, как это бывало в то время, когда ей являлось какое-нибудь видение. И в этом свете она увидела фигуру, вид которой устрашил ее, и при этом каждая ветвь, покрытая листьями, прошептала ей имя того, чей образ представился ей. То был не Иисус, а другой человек, к которому не стремилось ее сердце. Но он стоял перед ее мысленным взором во всем своем величии и блеске и с торжественным жестом положил руку на воздвигнутый им памятник.
Едва дыша, смотрела Мариам на это лицо, хотя желала бы закрыть глаза и потерять слух, чтобы не видеть его и не слышать голоса, доносившегося к ней из ветвей дерева. Но внезапно фигура исчезла, призывы умолкли, и она увидела в ярком огненном сиянии его, первого мужчину, которому она позволила поцеловать свои губы. С поднятым мечом он, впереди пастухов своего народа, устремлялся на невидимого неприятеля.
Точно блеск молнии, мелькнуло и погасло это видение, но, прежде чем оно исчезло совсем, Мариам поняла его значение.
Человека, названного ею Иисусом и обладавшего всеми качествами для того, чтобы стать защитником и вождем своего народа, любовь не должна была отвлекать от высокой обязанности, указанной ему Всевышним. Никто из массы народа не должен был узнать цели его приезда, чтобы не поддаться соблазну и не уклониться со своего опасного пути. То, что надлежало делать, представлялось ей так же ясно и отчетливо, как и исчезнувшее видение. И точно Всевышний хотел показать ей, что она правильно поняла, чего требовало от нее это видение, вдруг раздался — еще прежде чем она встала, чтобы причинить своему возлюбленному страдание, на которое она осудила его и себя, — голос Гура вблизи сикоморы. Он приказывал толпе, стекавшейся со всех сторон, приготовиться к выступлению.
Путь спасения от самой себя лежал перед нею, но Иисус еще не осмеливался нарушить ее благоговейную молитву.
Он до глубины души был оскорблен и разгневан холодностью Мариам. Но, глядя на нее и видя, как ее высокая фигура вздрагивала от внезапного холода, а ее глаза и руки, точно зачарованные, поднимались к небу, он почувствовал, что в ее груди происходит что-то великое и святое, чему мешать было бы преступлением. Он не мог избавиться от ощущения, что желание обладать женщиной, стоящей так близко к Господу, было большим дерзновением. Он понимал все блаженство подобного обладания, но ему было бы тяжело видеть, кого она предпочитает своему возлюбленному и мужу.
Люди и стада подходили к сикоморе, и в то самое мгновение, когда Иосия решился позвать Мариам и указать ей на приближавшихся, она встала, повернулась к нему, и из ее стесненной груди вырвались слова:
— Я говорила с Господом, Иисус, и теперь знаю Его волю. Помнишь ли ты слова, которыми призвал тебя Бог?
Он утвердительно кивнул, и она продолжала:
— Значит, ты должен знать, что Всевышний обещал твоему отцу, Моисею и мне: Он выведет нас из земли египетской и поведет дальше в страну, где не будет над нами ни фараона, ни его наместника, а Он один будет нашим повелителем. Такова Его воля, и, если ты желаешь служить Ему, ты должен следовать за нами и в случае сражения предводительствовать воинами народа!
Иисус ударил себя в грудь и вскричал в сильном волнении:
— Меня связывает клятвенное обещание возвратиться в Танис и рассказать фараону, как приняли вожди народа предложение, с которым я был послан. И пусть разорвется мое сердце, но я не стану клятвоотступником!
— И пусть лучше разорвется мое, чем я нарушу верность Господу Богу. И ты, и я сделали выбор. Итак, пусть перед этим памятником будет расторгнуто то, что приковывало нас друг к другу.
Он вне себя кинулся к Мариам, чтобы схватить ее руку, но она отстранила его повелительным жестом, отвернулась и пошла к толпе, теснившейся с коровами и овцами у колодца.
Большие и малые почтительно расступались перед нею, когда она с гордым видом направилась к Гуру, раздававшему приказания пастухам; Гур пошел к ней навстречу и, услыхав то, что обещала она ему тихим голосом, положил руку на ее голову и сказал торжественно:
— Да благословит же Бог наш союз.
Рука об руку с человеком, которому она отдала себя в жены, Мариам пошла к Иисусу, и ничто не выдало волнения ее души, за исключением коротких остановок, во время которых грудь ее поднималась и опускалась. Щеки ее были бледны, но глаза сухи, и она держалась так же прямо, как и всегда.
Она предоставила Гуру сообщить возлюбленному, от которого она отказалась навсегда, весть об их союзе, и когда Иисус услыхал ее, он отступил, точно какая-то бездна разверзлась у ног его.
С побелевшими губами смотрел он на неравную чету. Язвительный смех казался ему лучшим ответом на подобное неожиданное известие; но серьезное лицо Мариам помогло ему совладать с собою и скрыть волнение за несколькими ничего не значащими словами. Он чувствовал, что ему не удастся надолго сохранить свое показное равнодушие, и поэтому простился с девушкой, проговорив наскоро, что ему необходимо повидаться с отцом и с его помощью созвать старейшин.
Но, прежде чем он кончил, прибежали пастухи, прося Гура решить их спор относительно места, которое должно занимать каждое колено во время пути. Он отправился с ними, и как только девушка осталась наедине с Иисусом, она с мольбою в глазах, тихо, но выразительно сказала ему:
— То, что соединило нас, нужно было расторгнуть посредством решительного поступка, но нас все-таки соединяет высшая цель. Как я жертвую тем, что всего дороже моему сердцу, чтобы остаться верною моему Богу и народу, так пожертвуй и ты тем, к чему привязалась твоя душа: последуй повелению Всевышнего, наименовавшего тебя Иисусом. Этот час превратил сладчайшее счастье в тяжкое страдание, пусть же из этого произрастет спасение наших соплеменников! Останься сыном народа, давшего тебе отца и мать. Будь тем, кем назначил тебя Господь: вождем своих по крови! Если ты будешь настаивать на клятве, данной тобою фараону, и объявишь старейшинам об обещаниях, с которыми ты приехал, то ты привлечешь их на свою сторону — я знаю это. Только немногие станут тебе противиться, и прежде всех, наверное, твой отец. Я как будто слышу его громкий и гневный голос, поднявшийся против своего собственного любимого сына. Однако же, если ты останешься глухим и к его увещеваниям, народ последует твоему призыву, вместо призыва своего Бога, и ты сделаешься могущественным повелителем евреев. Но когда наступит время и египтянин пустит на ветер свои обещания, когда ты увидишь, что твои соплеменники порабощены больше, чем прежде, и отпали от Бога своих отцов, чтобы снова служить звероголовым идолам, тогда на тебя падет проклятие твоего отца, гнев Всевышнего постигнет ослепленных, и отчаяние будет уделом человека, ввергнувшего в погибель слабую толпу, защитником которой избрал его Всевышний. И потому я, слабая женщина, но служительница Бога, девица, для которой ты был дороже жизни, предостерегаю тебя: бойся проклятия отца и кары Господней, остерегись обольщать народ!
Речь Мариам была прервана рабыней, которая звала ее к хозяевам, и она тихим голосом поспешно проговорила:
— Еще два слова! Если ты не желаешь быть слабее женщины, противоречие которой возбудило в тебе неудовольствие, то откажись от своих желаний, ради блага вон тех тысяч людей твоей крови! Положив руку на этот памятник, поклянись мне…
Однако голос отказался служить пророчице. Ее руки напрасно искали опоры, и, вскрикнув, она опустилась на колени возле сооруженного Гуром памятника.
Сильные руки Иисуса удержали ее от падения, и несколько женщин, прибежавших на его зов, стали приводить в чувство упавшую в обморок девушку.
Блуждающие глаза очнувшейся пророчицы перебегали от одного лица к другому, и только тогда, когда ее взгляд остановился на лице ее друга, к ней снова вернулось сознание того, где она находится и что произошло. Мариам выпила несколько глотков воды, принесенной ей женою какого-то пастуха, осушила глаза, увлажненные слезами, горько вздохнула и со слабой улыбкою прошептала Иисусу:
— Я все-таки не более как слабая женщина…
Затем она пошла к дому, но, сделав два-три шага, еще раз обернулась, кивнула воину и тихо сказала:
— Ты видишь, как они собираются. Скоро они отправятся в путь. Настаиваешь ли ты на своем? Еще есть время созвать старейшин.
Иисус отрицательно покачал головой, и когда ее влажный благодарный взгляд встретился с его глазами, он ответил тихим голосом:
— Я буду помнить этот символический памятник и этот знаменательный час. Передай мой привет отцу и скажи ему, что я люблю его. Скажи ему также имя, которым с этих пор будет называться его сын по повелению Всевышнего, и пусть он уповает на Того, Кто обещал мне помощь Иеговы, когда услышит, куда я иду, чтобы сдержать данную клятву.
Затем Иосия кивнул ей и пошел к лагерю, где кормилась его лошадь; но Мариам сказала ему вслед:
— Еще только одно, последнее слово: Моисей оставил тебе в дупле дерева послание.
Воин вернулся к сикоморе и прочел записку Моисея. Содержание ее было коротко: «Будь крепок и тверд»; и Иисус поднял голову и радостно воскликнул:
— Эти слова приятны моей душе! Если мы встретились здесь с тобою в последний раз, жена Гура, и я иду на смерть, то будь уверена, что Иосия сумел умереть крепким и твердым; ты же сделай для моего старого отца что можешь!
С этими словами он вскочил на коня. И пока, верный своей клятве, он ехал в Танис, в его душе не было страха, хотя он нисколько не скрывал от себя, что идет навстречу смертельной опасности. Его прекраснейшие мечты рассеялись в прах, при всем том в его душе глубокое горе боролось с веселым подъемом духа. В нем пробудилось какое-то новое ощущение, наполнившее все его существо. Он приобрел новую постоянную цель существования: посвятить свою кровь и свою жизнь своему Богу и своему народу. Он с удивлением ощутил в себе это чувство, которое в его мужественной груди далеко оттеснило всякое другое, даже любовь.
Правда, по временам Иосия грустно опускал голову при мысли о своем старом отце; но инстинктивно чувствовал, что поступил правильно, подавив страстное желание еще раз прижать старика к своему сердцу. Отец вряд ли понял бы побудительные причины его поступка, и было лучше для них обоих расстаться не повидавшись, вместо того чтобы вступить в открытую распрю.
Часто ему казалось, что все, пережитое в последнее время, он видел только во сне, и хотя он чувствовал себя точно опьяневшим от волнений последних часов, но сильное тело его едва ощущало перенесенные изнурительные усилия.
В одной известной ему придорожной гостинице, где он нашел много воинов, и в том числе нескольких хорошо знакомых ему командиров, Иисус наконец остановился на отдых и нашел пищу себе и своему коню, и когда, подкрепившись, отправился дальше, то увидел на своем пути движение жизни. Почти до самых ворот Таниса он обгонял отряды воинов и узнал, что они получили приказание соединиться с тысячами, которые он сам привел из Ливии.
Наконец он въехал в город. Проезжая мимо храма Аммона, он услыхал громкие жалобные стенания, хотя во время пути слышал, что моровая язва перестала свирепствовать. То, что он предугадывал по разным признакам, наконец подтвердили ему встречные стражи: первый пророк и верховный жрец Аммона, престарелый Руи, умер на девяносто восьмом году жизни, и Бай, второй пророк, так горячо уверявший Иисуса в своей дружбе и благодарности, сделался его наследником, а вместе с тем верховным жрецом, судьей, хранителем печати и главным казначеем, словом, самым могущественным человеком царства.
XVII
«Вспомоществуемый Иеговою!» — шептал про себя семь дней спустя, горько улыбаясь, закованный в цепи государственный преступник, в то время как его вместе с сорока другими узниками вели через триумфальные ворота Таниса к востоку.
Целью назначения этих несчастных были горные заводы на Синайском полуострове, где требовались новые подневольные работники.
Недолго длилось это настроение узника. Он выпрямился, и с губ его слетели слова: «крепок и тверд», и, как будто желая передать свою новообретенную бодрость юноше, который шел рядом с ним, он сказал ему: «Мужайся, Эфраим, мужайся, смотри не в землю, а вверх, что бы ни случилось!»
— Во время пути не разговаривать! — крикнул один из вооруженных ливийских стражников, сопровождавших транспорт, узникам и выразительным жестом поднял хлыст. Эта угроза относилась собственно к Иисусу и его товарищу по несчастью, Эфраиму, который был приговорен разделить участь своего дяди.
В чем состояла эта участь, было известно каждом ребенку в Египте. Выражение «пусть меня сошлют на горные заводы», давно стало одной из страшнейших клятв в народе, а жребий какого бы то ни было узника не был и вполовину так суров, как жребий осужденного государственного преступника.
В копях их ожидали самые жестокие унижения и муки. Силы даже здорового человека там истощались очень быстро, а человек изнуренный был принуждаем к работам, так далеко превосходившим его физические возможности, что он вскоре находил вечное успокоение для своей вконец измученной души. Быть сосланным в копи значило оказаться приговоренным к медленной и мучительной смерти; однако же человеку жизнь так дорога, что каторжная работа на горных заводах считалась более милосердным наказанием, чем гибель от руки палача.
Ободряющие слова Иисуса Навина мало действовали на Эфраима, но когда, несколько минут спустя, узников обогнала прикрытая зонтиком колесница, на которой позади возницы и пожилой матроны стояла стройная молодая женщина, юноша быстро повернулся и с сияющими глазами следил за экипажем, пока он не скрылся в дорожной пыли.
Младшая из двух женщин была закутана в покрывало, но Эфраиму показалось, что он в ней узнал ту особу, из-за которой погиб, но малейшему знаку которой он готов бы был повиноваться даже теперь.
Юноша не ошибся: знатная женщина в колеснице была Казана, а матрона — ее кормилица.
Колесница довольно далеко оставила за собою узников, и близ небольшого храма у дороги возле рощи из нильских акаций, где находился колодец для путников, Казана приказала кормилице дожидаться ее, сама же соскочила на дорогу и, склонив голову, начала ходить взад и вперед под тенью деревьев до той поры, когда поднявшаяся пыль возвестила о приближении несчастных.
Она достала заранее приготовленные золотые кольца и пошла навстречу человеку, который вел печальное шествие и ехал впереди его на осле. Когда она говорила с ним и указала на Иисуса Навина, страж, бросив украдкой взгляд на кольца, которые она сунула ему в руку, заметил их желтоватый блеск, и так как он рассчитывал только на серебро, то его черты тотчас же прояснились и приняли благосклонное выражение.
Хотя требование, заявленное затем Казаной, опять омрачило лицо начальника конвоя, но оно быстро просветлело от нового обещания молодой женщины, и он, повернувшись к своим подчиненным, крикнул:
— Эй вы, ведите кротов к колодцу! Они должны быть свежи и здоровы под землею!
Затем подъехал к узникам и сказал Иисусу:
— Ты когда-то командовал многими и пока еще имеешь более упрямый вид, чем это сейчас приличествует тебе или приятно мне. Стражники, смотрите хорошенько за другими, а с этим мне нужно поговорить с глазу на глаз!
Главный надсмотрщик захлопал в ладоши, точно выгоняя кур из огорода, и, между тем как узники вытащили ведро и вместе со стражниками утоляли жажду, отвел Иисуса и Эфраима в сторону от дороги. Их нельзя было отделить друг от друга, так как соединявшая их цепь была прикреплена к их ногам.
Маленький храм скоро скрылся из глаз остальных, и начальник конвоя, выразительным жестом указав двум евреям на тяжелую палку в своей правой руке и на собак, поместившихся у его ног, затем сел в некотором отдалении на одной из ступеней храма.
Во время разговора начальник конвоя смотрел в оба. Они могли говорить что угодно, но он знал свою обязанность и хотя за хорошую плату умел закрывать один глаз, однако же в течение его двадцатилетней службы, несмотря на неоднократные случаи попыток к бегству, ни одному из кротов — так он любил называть будущих работников в шахтах — не удавалось обмануть его бдительность.
Может быть, красавица была возлюбленной молодца, о котором ему говорили, что он был прежде военачальником. Но ему, опытному надсмотрщику, случалось называть своими «кротами» и гораздо более знатных господ, и если эта женщина под покрывалом позволила себе сунуть в руку узника маленькую пилу или деньги, то это ему, начальнику, могло быть только приятно: в этот же день вечером ничего у двух узников не останется недосмотренным, не исключая даже черных волос юноши, еще не сбритых по случаю суматохи и спешки при выступлении отряда, который должен был выйти в путь раньше войск фараона.
Надсмотрщик не мог расслышать того, о чем шептались между собою бывший военачальник и женщина; но смиренный вид и манеры последней заставляли его предполагать, что это она погубила гордого господина. Ох эти женщины! Да и молодой парень в цепях! Взгляды, которые он устремлял на стройную женщину, были так пламенны, как будто они хотели прожечь насквозь закрывавшее ее лицо покрывало. Но терпение! Великий отец Аммон! Его кроты идут в школу, где они научатся скромности!
Тем временем женщина откинула свое покрывало. Как она хороша! Должно быть, тяжело расставаться с такой возлюбленной. И вот она плачет! Сердце грубого стража смягчилось, насколько это допускала его должность; но на старшего из двух узников он охотно бы поднял плеть: разве это не позор — иметь такую милую и стоять перед нею точно камень! Он сначала даже не протянул руки женщине, которая, очевидно, была к нему расположена, хотя он, страж, охотно позволил бы им и поцелуй, и объятие!
Или, может быть, эта женщина — жена воина, которая его обманула. Но нет, нет! С какой лаской и нежностью он теперь наклонился к ней! Так говорит отец со своим ребенком; но его крот слишком молод для того, чтобы иметь такую дочь. Загадка! Впрочем, страж не ломал головы в бесплодных догадках, так как во время пути было в его власти заставить говорить даже самого скрытного из преступников.
Не только какому-нибудь простому стражу, но и каждому представился бы вопрос: что вызвало знатную прекрасную женщину на дорогу при сером свете утра к обремененному цепями несчастливцу? Да и Казану ничто не побудило бы предпринять эту поездку, кроме мучительного страха, что человек, которого она любила, может быть, чувствует к ней презрение и проклинает ее, как гнусную предательницу. Его ожидала ужасная участь, и ее сильное, живое воображение представило ей Иосию в рудниках, истомленного, разбитого, увядшего и умирающего с проклятием на устах.
Вечером того дня, когда Эфраим, в припадке горячки, чуть не задохшийся от дорожной пыли, был принесен в ее дом, отец сообщил Казане, что в лице молодого еврея они имеют залог, который заставит Иосию вернуться в Танис и подчиниться желаниям пророка Бая. С ним, как ей известно, он вступил в тайный заговор. Далее отец сказал ей, что не только большие отличия и высокое звание, но и брачный союз с нею привяжет Иосию к египтянам и к тому делу, от которого он, Горнехт, ожидает величайших благ для себя, своего дома и страны.
Это наполнило душу Казаны радостной надеждой на давно желанное счастье, и она теперь рассказывала об этом узнику возле маленького храма, склонив голову и проливая слезы. Ведь он все равно был теперь потерян для нее, и хотя он не отвечал на любовь, которую она питала к нему с детства, но не должен был ее ненавидеть и осуждать, не выслушав.
Иосия выслушал прелестную женщину охотно и уверял, что ничто не будет отраднее для его сердца, чем возможность с ее стороны оправдаться от упрека, что это она подвергла его, вместе с сопровождавшим его юношей, ужаснейшей участи.
Казана громко зарыдала и с трудом овладела собой, чтобы рассказать все с некоторым спокойствием.
Вскоре после отъезда Иосии верховный жрец умер, и в тот же день второй пророк Аммона Бай сделался его преемником. Теперь многое изменилось, и этот могущественнейший человек в государстве разжигает в душе фараона ненависть к евреям и их вождю Моисею, которого до сих пор защищали и боялись и царь, и царица. Бай не замедлил побудить царя к преследованию беглецов, и срочно собрали войско, чтобы принудить их к возвращению. У Казаны тотчас же возникли опасения, что Иосия не решится сражаться против своих соплеменников и что его должно возмутить то обстоятельство, что египтяне начинают уже нарушать договоры, которые поручено ему заключить, даже прежде, чем узнали, как евреи приняли это предложение.
Затем, когда военачальник вернулся в Танис, фараон — это Иосия знает слишком хорошо — сторожил его, как узника, и не желал допустить его к себе, прежде чем он не поклянется, что снова будет командовать своими тысячами и останется верным слугою царя. Однако же новый верховный жрец не забыл, что Иосия спас его жизнь, и выказал себя благорасположенным и благодарным к бывшему военачальнику. Ей известно также, что жрец надеялся вовлечь Иосию в тайное предприятие, в котором участвует и ее отец. Поэтому Бай, а не кто другой побудил фараона отстранить Иосию от войны против собственного своего народа, поставить его во главе иноземных наемников и принять его в число своих друзей, если он вновь даст верноподданническую присягу. Но все это, конечно, известно Иосии, так как новый верховный жрец сам предлагал ему лакомые блюда, которые он далеко отодвигал от себя с твердым и мужественным упорством.
Горнехт тоже сначала был на стороне Иосии и тут впервые окончательно отказался ставить ему в упрек его происхождение. Но на третий день по возвращении Иосии все повернулось к худшему. Иосия должен четко представлять себе, что побудило человека, о котором она, как его дочь, не смеет думать ничего худого, сделаться из друга его смертельным врагом.
Говоря это, Казана вопросительно посмотрела на Иосию, и тот не замедлил с ответом:
— Он объявил мне, что я был бы для него желанным зятем.
— А ты? — спросила Казана и с беспокойством посмотрела ему в лицо.
— Я, — ответил узник, — должен был отвечать, что ты мила и дорога мне с детских лет и что, однако же, многое не позволяет мне соединить судьбу какой-либо женщины с моею.
Глаза Казаны засверкали, и она воскликнула:
— Потому что ты любишь другую, женщину из твоего народа, которая прислала к тебе Эфраима!
Но узник покачал головой и ласково возразил:
— Ты ошибаешься, Казана. Та, о которой ты говоришь, теперь уже сделалась женой другого человека.
— Но в таком случае, — спросила вдова, как бы окрыленная новой надеждой, и посмотрела на него с выражением нежной просьбы, — в таком случае почему ты — о, извини меня! — почему ты так резко отказал моему отцу?
— Я и не намеревался быть резким, дорогое дитя, — возразил он с сердечною искренностью и положил руку на ее голову. — Я думал о тебе со всею теплотой, на какую только способен. Я не мог исполнить желания твоего отца лишь потому, что серьезная необходимость запрещает мне искать у собственного очага покоя и счастья, к которому стремятся другие. Если бы меня оставили на свободе, моя жизнь сделалась бы сплошным беспокойством и борьбой.
— А между тем, — вздохнула Казана, — большинство носящих меч и щит радуется по возвращении домой, увидев жену, детей и все то дорогое, что ожидает их под собственной кровлей!
— Конечно, конечно, — сказал он серьезно, — но меня призывают особые обязанности, которых не знают египтяне. Я — сын моего народа.
— И намерен ему служить? — спросила Казана. — О, я хорошо понимаю тебя. Однако же… зачем ты в таком случае вернулся в Танис? Зачем ты отдался в руки фараона?
— Потому что меня принудила к этому священная клятва, — ласково ответил он.
— Клятва! — вскричала Казана. — Смерть и заточение разделяют тебя с теми, которых ты любишь и которым ты желаешь служить! О, если бы ты никогда не возвращался в эти места несправедливости, измены и неблагодарности! О! Как много людей, которым клятва верности принесла бедствие и слезы! Но какое дело вам, мужчинам, до страданий, которые вы причиняете другим! Меня ты лишил радости существования, а среди твоих соплеменников живет почтенный твой отец, у которого ты единственный сын. Как часто видела я этого милого красивого старика с сияющими глазами и волосами белыми как снег! Встречая его в гавани или на переднем дворе дворца, когда он приказывал пастухам доставить коров и овец к столу сборщика налогов, я думала, что таким же будешь и ты, если тебе суждено дожить до преклонного возраста. И теперь упрямство сына будет отравлять ему каждый день его старости!
— Теперь он, — отвечал Иисус Навин, — отец человека, который в цепях идет в ссылку, но имеет право держать голову выше, чем те, что предали его. У них и у фараона вылетело из головы, что я не раз на полях битв проливал за них кровь своего сердца и во всех опасностях оставался верным царю. Марнепта, его наместник и главный судья, которому я спас жизнь, и многие, называвшие меня прежде другом, оставили меня и ввергнули в несчастье, а вместе со мною и этого невинного мальчика; но на тех, которые совершили это преступление, пусть на всех их…
— Не проклинай их, — прошептала Казана, вспыхнув.
Но Иосия не обратил внимания на ее просьбу, воскликнув:
— Разве я был бы мужчиной, если бы забыл о мщении?!
Молодая женщина тревожно схватил его за руку и умоляюще проговорила:
— Разве ты сможешь простить моего отца? Но ты не должен его проклинать, потому что он сделался твоим врагом из любви ко мне. Ты знаешь его, тебе известно, как он горяч и как легко выходит из себя, несмотря на свой зрелый возраст. Даже мне не сказал он о том, что считает оскорблением, так как видел, что многие сватались ко мне, а я для него дороже всего. Скорее фараон простил бы бунтовщику, чем мой отец человеку, пренебрегшему мною, его сокровищем. Он вернулся точно безумный. Каждое слово его было ругательством. Ему не сиделось дома, и он продолжал бушевать вне его. Однако же он наконец успокоился, как это бывало часто, когда на переднем дворе Высоких Ворот ему не встречался кто-нибудь, кому было желательно подлить масла в огонь. Все это я узнала от жены верховного жреца, потому что и ей было прискорбно то, что они надумали совершить во вред тебе; ведь ее муж употребил все средства для твоего спасения. Она, мужественная, как воин, была готова помочь ему и отворить для тебя двери тюрьмы, так как не забыла, что ты спас ее мужа в Ливии. Вместе с твоими цепями должны были пасть и цепи Эфраима, и все было готово для облегчения вашего побега.
— Я знаю это, — прервал ее Иосия угрюмо, — и буду благодарить Бога твоих отцов, если люди, от которых я слышал, что будто ты стала причиной усиления строгости нашего заключения, сказали неправду.
— Разве я была бы теперь здесь, если бы это было правдой? Не скрою, и я была оскорблена, как и всякая женщина, к которой любимый человек выказал пренебрежение; но твое несчастье скоро превратило гнев мой в сострадание, и в моей душе снова запылал прежний огонь. Я ни в чем не виновна и не переставала надеяться на твое освобождение. Только вчера вечером я узнала, что попытка Бая не удалась. Верховный жрец может сделать многое, но он не станет на пути человека, который присоединился к моему отцу в качестве союзника.
— Ты разумеешь князя Сиптаха, племянника фараона? — вскричал с волнением Иисус Навин. — Мне намекали на то, что они замышляют для возвышения князя. Они рассчитывали поставить меня на место сирийца Аарсу, предводителя наемных войск, если бы я согласился дать им волю над моими соплеменниками и отрекся от людей одной со мной крови. Но я скорее умру двадцать раз, чем запятнаю себя такой изменой. Аарсу более пригоден для их темных козней, но в конце концов он предаст их всех. Что касается меня, то князь имеет основание ненавидеть меня.
При этих словах Казана приложила руку к губам, указала с беспокойством на Эфраима и начальника конвоя и тихо проговорила:
— Пощади отца! Князь… то, что пробудило в нем вражду против тебя…
— Этот развратник старается и тебя заманить в свои сети, узнав, что ты расположена ко мне, — прервал ее воин.
Она, краснея, кивнула утвердительно и прибавила:
— Поэтому Аарсу, которого он теперь привлек на свою сторону, должен был так строго смотреть за вами.
— И сириец смотрит в оба! Однако довольно! Я верю тебе и благодарю тебя от души, что ты проводила нас, несчастных. Как приятно мне бывало во время походов вспоминать о милом ребенке, выросшем на моих глазах.
— И ты и теперь будешь вспоминать о нем без злобы и ненависти?
— Конечно; я говорю это искренне.
Молодая женщина с страстным волнением схватила руку узника, чтобы поднести ее к своим губам, но Иосия отнял ее. Казана посмотрела на него увлажненными глазами и сказала с грустью:
— Ты отказываешь мне в милости, в которой добрый человек никогда не отказывает нищему. — Затем она внезапно выпрямилась и так громко, что начальник конвоя вздрогнул и посмотрел на солнце, воскликнула: — Я говорю тебе, что наступит время, когда ты будешь просить как о милости позволить тебе с благодарностью поцеловать эту руку, потому что, когда придет вестник, который принесет тебе и этому мальчику желанную свободу, то ею вы будете обязаны Казане!
Ее лицо, оживленное этой упоительной надеждой, пылало, но Иисус Навин схватил ее правую руку, произнеся:
— О, если бы только исполнилось это желание твоей верной души! Но, как человек правдивый, я должен сказать тебе, что никогда не возвращусь на службу к египтянам. Что бы ни случилось, я телом и душой верен отныне тем, которых вы преследуете и презираете и к которым я принадлежу по своему рождению.
Казана склонила свою прекрасную голову, но вслед за тем снова гордо подняла ее и сказала:
— Мне с детских лет известно, что нет человека честнее и правдивее тебя. И если я среди своего народа не найду больше никого, к кому могла бы питать высокое уважение, то буду вспоминать о тебе, в котором все возвышенно, истинно и безупречно. Если же Казане удастся освободить тебя, то не презирай ее, если найдешь ее хуже, чем она была до разлуки с тобой! Как бы она ни унизила себя, какой бы великий позор ни постиг ее…
— Что ты задумала? — прервал ее Иисус Навин в тревоге.
Но она не могла ответить ему, потому что начальник конвоя встал и, хлопнув в ладоши, приказал:
— Вперед, кроты! Живо в дорогу!
Скорбь овладела мужественным сердцем воина, и, повинуясь внезапному побуждению, он поцеловал Казану в лоб и в голову и прошептал:
— Оставь нас в беде, если наша свобода будет стоить тебе унижения. Мы все равно никогда не увидимся снова. Что бы ни случилось, моя жизнь впредь будет ничем иным, как борьбою и самоотречением. Все мрачнее начнет сгущаться ночь вокруг нас, но, как бы ни была она черна, мне и этому мальчику все-таки будет светить одна звезда: воспоминание о тебе, мое верное, возлюбленное дитя!
При этом он указал на Эфраима, и юноша, вне себя от горя, прижал губы к руке всхлипывавшей женщины.
— Вперед! — снова приказал главный надсмотрщик, подсадил, улыбаясь и благодаря, щедрую женщину в колесницу и удивился сиявшему выражением счастья взору, с каким ее влажные глаза провожали узников.
Кони побежали, раздались новые крики, послышалось несколько ударов плети по голым плечам узников, крики боли резко прозвучали в утреннем воздухе, и транспорт несчастных двинулся дальше к востоку. Цепи на их ногах поднимали пыль, и пыль окутывала движущуюся толпу, подобно печали, ненависти и страху, омрачавшим душу каждого узника.
XVIII
На расстоянии доброго часа пути от маленького храма, у которого отдыхали арестанты, дорога в Суккот и к западному рукаву Тростникового моря [33] расходилась с той дорогой, которая в более южном направлении вела за крепостные верки [34] на перешейке, в горнозаводскую область.
Вскоре после выхода арестантов, из города Рамсеса выступило войско, созванное для преследования евреев, и так как узники отдыхали у колодца довольно долго, то войско почти догнало их. Они не успели еще отойти далеко, когда их настигли несколько передовых воинов, чтобы очистить дорогу для приближавшихся отрядов. Они приказали арестантам отойти в сторону и приостановить дальнейшее следование, пока их не минует обоз фараона с палатками и вещами, стук колес которого уже был слышен позади.
Проводники узников радовались этой остановке: им некуда было спешить. День был жаркий, а если они, вследствие этой задержки, придут к месту назначения позже, чем следовало, то не они будут ответственны за это.
Иисусу Навину была тоже на руку непредвиденная остановка, поскольку его младший товарищ выглядел точно помешанный и или вовсе не отвечал на его вопросы, или же давал такие сбивчивые ответы, что это наводило на тревожные мысли, поскольку было известно, что многие из приговоренных к каторжным работам впадают в сумасшествие или в меланхолию. Но теперь мимо них должна была пройти часть войска, и то, что предстояло им увидеть, обещало рассеять тупую апатию юноши.
Возле дороги находился песчаный холм, покрытый тамариндовым кустарником, и начальник конвоя повел арестантов туда. Он был строг, но не жесток, и позволил своим кротам растянуться на песке, потому что прохождение войск должно было занять довольно много времени.
Как только узники сделали привал, послышались шум колес, ржание коней, громкие команды и временами неприятный крик какого-нибудь осла.
Как только показались первые колесницы, Эфраим спросил, не приближается ли это фараон; Иисус Навин ответил, улыбаясь, что, когда царь сопровождает войска в поход, то во главе их, непосредственно за передовым отрядом, идет лагерный обоз, так как фараон и его вельможи желают найти палатки уже поставленными и столы накрытыми, когда оканчивается дневной переход и солдаты и их начальники располагаются на ночной отдых.
Не успел Иисус Навин договорить, как появилось несколько пустых повозок и ненавьюченных ослов: они были предназначены для транспортировки хлеба и муки, убойного скота и живности, собираемых с каждой деревни, находившейся на пути повелителя, и уже накануне доставленных сборщикам.
Вслед за тем показался отряд воинов на колесницах. Каждую колесницу — маленький двухколесный обитый бронзой экипаж — везла пара коней, и на каждой стояли один воин и возница. К передней части колесницы были прикреплены большие колчаны; воины опирались на копья или на огромные луки. Кольчуги, покрытые медной чешуей и подбитые войлоком панцири с пестрыми накидками, шлемы и передний выступ колесниц защищали воинов от метательных снарядов неприятеля. Этот отряд, который Иисус Навин называл передовым, ехал медленной рысью, и за ним следовало большое число телег и повозок, в которые запряжены были лошади, мулы и быки, а также целые стада навьюченных ослов.
Дядя показал племяннику длинные шесты, жерди и тяжелые свертки дорогих тканей, предназначаемые для устройства царских шатров и везомые многочисленными вьючными животными, а также ослов и повозки с кухонной посудой и походной кузницей. В обозе на мулах, за которыми следовали расторопные погонщики, ехали врачи, хранители платья, составители мазей, повара, свиватели венков, слуги и рабы, которые все принадлежали к лагерю фараона. Так недавно выступив в поход, они были еще свежи и расположены к шуткам; заметив узников, они по временам, по египетскому обычаю, бросали им какое-нибудь едкое слово насмешки, причем, однако же, некоторые старались загладить его милостыней. Другие, не позволявшие себе подобных шуток, тоже посылали с погонщиками ослов плоды и небольшие подарки, не забывая, что тот, кто сегодня свободен, завтра может очутиться в обществе таких вот несчастных. Начальник конвоя допускал такую милостыню, и когда один из проходивших рабов, которого Иисус Навин продал за его порочность, произнес имя Иосии и с наглым жестом указал на него, то этот добродушный грубый человек дал оскорбленному глоток вина из своей собственной фляги.
Эфраим, который совершил свое путешествие из Суккота в Танис пешком, с палкой в руке и небольшою сумкой с хлебом, сушеной бараниной, редькой и финиками, высказал удивление по поводу того, что один человек нуждается для своих удобств в таком множестве людей и вещей, и затем снова впал в задумчивость, пока дядя новыми объяснениями не заставил его очнуться.
Когда лагерный обоз прошел, начальник конвоя хотел было подать сигнал к отправлению, но «открыватели пути», предшествовавшие следовавшему затем отряду лучников, не позволили этого, так как арестантам не подобало смешиваться с воинами. Таким образом, узники остались на своем холме, глядя на проходившие мимо воинские отряды.
За лучниками следовали воины, вооруженные мечами и такими большими щитами из крепкой бычьей кожи, что даже высокорослым людям они доходили от подошвы до половины груди. Иосия объяснил юноше, что эти щиты вечером ставятся один возле другого таким образом, что окружают царский лагерь, как ограда. Кроме этого оборонительного оружия, каждый меченосец имел еще копье, короткий, подобно кинжалу, меч или боевой серп, и когда за тысячами людей с этим вооружением проследовал отряд пращников, то Эфраим на сей раз заговорил по собственному побуждению и уверял, что те пращи, делать которые научили его пастухи, гораздо лучше, чем пращи воинов. Поощренный дядей, он рассказывал с таким оживлением, как ему удавалось убивать пращными камнями не только шакалов, волков и пантер, но и коршунов, что его слушали и находившиеся вблизи узники. Между прочим, юноша спросил о значении значков и знамен и о названиях каждого отдельного отряда.
Мимо них прошли уже многие тысячи, когда показался полный отряд бойцов на колесницах, и конвоир закричал в изумлении:
— Благой бог, повелитель двух миров! Да процветает его жизнь, счастье и здоровье.
С этими словами он опустился, как молящийся, на колени; узники же распростерлись ниц, чтобы поцеловать землю, и были готовы последовать приказанию своего надсмотрщика и соединиться с ним в общем крике: «Жизнь, счастье и здоровье повелителю!»
Но им пришлось еще долго ждать появления фараона. После бойцов, проехавших на колесницах, проследовали телохранители — чужеземные наемники в своеобразных шлемах и с более длинными мечами у бедра, за ними показались многочисленные изображения богов, затем большая толпа жрецов и пероносцев. Далее опять следовали телохранители и уже затем фараон со своею свитой.
Впереди свиты ехал верховный жрец Бай на вызолоченной боевой колеснице, которую везли великолепные гнедые жеребцы. Он уже бывал в походах прежде в качестве военачальника, и теперь принял на себя предводительство войском, предназначенным, по повелению богов, для преследования бежавших. Хотя он был облачен в жреческую одежду, но носил шлем и боевую секиру главнокомандующего. Наконец, непосредственно за его колесницей двигался фараон, но не на боевой колеснице, как его воинственные предки на войне: он предпочел, чтобы его несли в тронном паланкине. Великолепный балдахин прикрывал этот трон сверху, а с боков защищали его от солнечного зноя большие круглые опахала из страусовых перьев, прикрепленных на длинных шестах, которые несли царские веероносцы.
После того как Марнепта оставил за собою город и триумфальные ворота и крики ликующей толпы перестали поддерживать его бодрость, он заснул, и опахала своею тенью скрыли бы его лицо от глаз арестантов, если бы их крик не был настолько громок, что пробудил его и заставил повернуть голову в сторону кричавших. Но милостивое движение его правой руки показывало, что оно было предназначено не для преступников, и, прежде чем затих крик несчастных, он снова закрыл глаза.
Безмолвная задумчивость Эфраима сменилась живейшим интересом, и между тем как позолоченные пустые колесницы фараона двигались мимо, влекомые великолепнейшими конями, каких только он когда-нибудь видел, юноша разразился громкими изъявлениями восторга.
И в самом деле благородные животные с пучками перьев, колебавшимися на их головах, кони, богатая сбруя которых блистала золотом и драгоценными каменьями, представляли великолепное зрелище. Большие золотые колчаны с боков колесниц, окаймленные изумрудами, были наполнены стрелами.
Заснувший человек, слабой руке которого было вверено управление великим народом, изнеженный властитель, избегавший всякого усилия, снова приобретал утраченную энергию, как только дело шло об охоте. Этот поход представлялся ему всего лишь грандиозной травлей диких зверей, и так как он считал царственным удовольствием направить свои стрелы вместо зверей в людей, которых он еще так недавно боялся, то он послушался совета верховного жреца и последовал за войском. Этот поход был предпринят по повелению великого бога Аммона, и потому, думал фараон, едва ли ему следует бояться могущества Мезу. Он желал заставить еврейского вождя поплатиться за то, что царь и его супруга трепетали перед ним и пролили так много слез по его милости.
Между тем как Иисус объяснял юноше, в каком финикийском городе были сделаны золотые колесницы, он вдруг почувствовал, что правая рука Эфраима схватилась за сгиб его кисти, и услыхал его восклицание: «Она, она! Посмотри туда, это она!»
Юноша все больше и больше волновался; и он не ошибся: прекрасная Казана в той самой колеснице, в которой она провожала арестантов, ехала теперь среди придворной свиты фараона, и, кроме нее, значительное число женщин участвовало в этом воинственном шествии, которое начальник пехотинцев, старый храбрец времен великого Рамсеса, снисходительно называл «увеселительной прогулкой».
Во время походов в пустыню и в глубину Сирии, Ливии или Эфиопии фараона сопровождало обыкновенно небольшое избранное число его побочных жен в экипажах, закрытых со всех сторон и охраняемых евнухами; но на этот раз не царица, оставшаяся дома, а жена верховного жреца Бая подала пример следования за войском другим знатным женщинам, и для многих было заманчиво хоть раз безопасно насладиться волнениями войны.
Казана не более часа тому назад изумила свою старшую подругу своим появлением, так как еще вчера молодую вдову нельзя было убедить следовать за войском. Повинуясь внезапному порыву, не спросившись отца и не готовая к путешествию до такой степени, что даже не захватила с собою необходимых в дороге вещей, Казана присоединилась к войску. Казалось, что привлекавшим ее магнитом сделался человек, которого она всячески избегала до тех пор, хотя он был не более не менее как Сиптах, племянник царя.
Когда она проезжала мимо узников, в колеснице прекрасной молодой женщины стоял возле нее, вместо кормилицы, Сиптах и, шутя, объяснял ей значение цветов в преподнесенном букете, относительно появления которого Казана утверждала, что он ни в каком случае не мог быть предназначен для нее, так как еще час с четвертью назад она и не думала следовать за войском. Но князь уверял, что гаторы еще при восходе солнца сообщили ему о предстоявшем счастье и что выбор каждого цветка в букете подтверждает его слова.
Несколько молодых царедворцев, ехавших впереди, окружили их и вмешались в веселый разговор, в котором приняла участие и бойкая жена верховного жреца, вышедшая из своей большой дорожной колесницы, чтобы сесть в паланкин.
Ничто из этого не ускользнуло от внимания Иисуса, и когда он увидел, что Казана весело и шаловливо ударила веером по руке князя, о котором так недавно думала с отвращением, то его лицо омрачилось, и он спросил себя, не ведет ли молодая женщина преступную игру, составная часть которой — его несчастье.
Но в эту минуту надсмотрщик арестантов заметил локон на виске Сиптаха, локон, служивший знаком принадлежности князя к царскому дому, и его громкий крик: «Счастье, счастье!», к которому присоединились другие стражники и арестанты, был услышан Казаной и ее спутниками. Они посмотрели в сторону тамариндового кустарника, откуда исходил этот крик, и Иисус Навин заметил теперь, как молодая женщина побледнела и быстрым движением указала на узников. Несомненно, она что-то Сиптаху предложила, потому что князь сперва с неудовольствием пожал плечами, но затем, поговорив с ней довольно долго то шутливо, то серьезно, соскочил с колесницы и сделал знак начальнику арестантского конвоя.
— Видели ли эти люди лицо благого бога, властителя двух миров? — закричал он ему так громко, что Казана должна была его хорошо слышать. И так как на этот вопрос последовал какой-то нерешительный ответ, то он высокомерно продолжал: — Все равно, они во всяком случае видели мое лицо, а также лицо прекраснейшей из женщин, и если по этой причине они надеются на милость, то они не ошибаются. Ты знаешь, кто я! Расковать тех, которые закованы вместе.
Затем он сделал надсмотрщику знак, подошел к нему и прошептал:
— Однако же тем строже ты должен смотреть за ними. Вон того человека, что у кустов, бывшего военачальника Иосию, я не люблю. По возвращении в Танис явись ко мне и дай отчет о его поведении. Чем тише он сделается, тем глубже моя рука опустится в кошелек. Понимаешь?
Надсмотрщик поклонился, подумав при этом: «Однако же, князь, я позабочусь и о том, чтобы никто не посягнул на жизнь моих кротов. Чем важнее эти вельможи, тем кровавее и страннее их желания! Многие подъезжали ко мне с подобными предложениями! Вот этот освобождает ноги беднягам, а мою душу желает обременить гнусным убийством! Не на такого напал, Сиптах!»
— Эй, Гетер, мешок с инструментами сюда, и долой цепи со всех кротов!
Пока на песчаном холме у дороги визжали пилы, узники освобождались от цепей, сковавших их ноги, и затем каждому из них были связаны руки, войска фараона пошли дальше.
Казана предложила князю Сиптаху освободить несчастных от оков и при этом откровенно призналась, что ей кажется невыносимым видеть так жестоко униженным военачальника, бывавшего так часто гостем в ее доме. Жена верховного жреца поддержала ее просьбу, и князь был вынужден уступить.
Иисус Навин знал, кому он и Эфраим были обязаны этой милостью, и чувствовал благодарную радость. Теперь ему было легче идти, но мрачное опасение все сильнее и тягостнее угнетало его душу.
Войска, прошедшего перед их глазами, было бы лично ему вполне достаточно для того, чтобы истребить до последнего человека вдесятеро большие силы, чем нестройные толпы его соплеменников. Народ, а вместе с ним Нун и Мариам, причинившая Иосии много горя, но тем самым помогшая ему избрать единственный путь, который он считал истинным, казались бывшему воину, безусловно, обреченными на верную смерть. Как ни могуществен Бог, величие Которого так пламенно прославляла пророчица и на Которого он сам научился взирать с таким благоговением, но необученные и невооруженные толпы пастухов, по его мнению, были обречены беспомощно погибнуть под натиском подобного войска. Эта уверенность, которая только усиливалась при прохождении каждого нового отряда, глубоко терзала душу Иосии, теперь уже окончательно назвавшегося Иисусом Навином. Никогда еще он не чувствовал такой жгучей душевной боли, и она еще усилилась, когда он увидел проходившие перед ним под предводительством другого военачальника тысячи, которыми он сам командовал еще так недавно. Они теперь выступили в поход для уничтожения его соплеменников. Это было прискорбно; а поведение Эфраима давало ему повод к новой заботе: со времени появления Казаны и ее заступничества за него и его товарищей по несчастью юноша снова умолк и смотрел тревожными, блуждающими глазами то на удалявшееся войско, то в пространство.
Теперь Эфраим тоже был освобожден от оков, и Иисус Навин тихо спросил его, чувствует ли он настоятельное желание вернуться к своим, чтобы помочь им защищаться против такого сильного врага. Эфраим отвечал:
— Против этого войска им ничего не сделать; остается только покориться. Да и чего недоставало нам до выступления евреев из Таниса? Ты еврей, но был среди египтян важным военачальником до тех пор, пока не последовал призыву Мариам. На твоем месте я поступил бы иначе!
— Как именно? — спросил сурово Иисус Навин.
— Как? — повторил юноша, и огонь его молодой души ярко вспыхнул. — Как? Я остался бы там, где есть честь и слава и все, что прекрасно! Ты мог бы сделаться величайшим из великих, счастливейшим из счастливых, я слышал это, но ты возжелал иного.
— Потому что этого требовал долг, потому что я не хочу больше служить никому, кроме народа, среди которого я вырос!
— Народа? — усмехнулся юноша презрительно. — Я знаю его, да и ты снова видел его в Суккоте. Это бедные, погибшие несчастливцы, которые изгибаются под палкой; для его богатых высшее благо — скот, и если они принадлежат к числу вождей колен, то враждуют друг с другом. Никто из них не имеет понятия о том, что приятно глазу и сердцу. Меня они называют одним из богатейших людей, но мне становится противно, когда я вспоминаю о своем наследственном родительском доме, одном из обширнейших и лучших. Кто видел лучшее, тот перестает желать подобных вещей.
При этих словах Эфраима жилы на лбу Иисуса Навина вздулись, и он с гневом стал упрекать юношу в том, что он отрекается от своих соплеменников и, как изменник, отпадает от своего народа.
Начальник конвоя тотчас приказал ему замолчать, потому что Навин заговорил громче, чем разрешалось, и это приказание было приятно задорному юноше. Когда во время дальнейшего пути дядя с укором смотрел на него или спрашивал — обдумал ли он свои слова, Эфраим с неудовольствием отворачивался или угрюмо молчал до появления первой звезды, когда узникам сделали на ночь привал под открытым небом и роздали скудную провизию.
Затем Иисус вырыл в песке впадину, чтобы лечь в нее, и заботливо помог юноше устроить себе такую же.
Эфраим молча воспользовался этим; но когда они легли друг возле друга и дядя начал говорить о Боге своего народа, на помощь которого они должны уповать, если не желают в рудниках впасть в отчаяние, то юноша прервал его тихо, но гневным и решительным тоном:
— Они не доведут меня живого до рудников! Лучше попытаться бежать, чем погибнуть там.
Иисус Навин прошептал ему на ухо несколько предостерегающих слов и снова напомнил об обязанностях по отношению к своему народу. Но юноша попросил оставить его в покое; однако же вслед за тем он толкнул своего спутника и тихо спросил:
— Что они замышляют насчет князя Сиптаха?
— Не знаю, но, наверное, ничего хорошего.
— А где Аарсу, сириец, командующий азиатскими наемниками, твой враг, который сторожил нас с таким злобным рвением? Я не видел его в числе других.
— Он остался со своими отрядами в Танисе.
— Чтобы охранять дворец?
— Да.
— Значит, под его начальством много воинов, и фараон оказывает ему доверие?
— Величайшее, которого он, однако же, едва ли заслуживает.
— Ведь Аарсу сириец и, следовательно, нашей крови.
— По крайней мере он ближе к нам, чем к египтянам, по языку и наружности.
— Я принял бы его за одного из наших; однако же он один из первых людей в войске, каким был и ты.
— И другие сирийцы и ливийцы начальствуют над отрядами наемников: Бен-Мацана, один из знатнейших царедворцев, которого египтяне называют Рамсесом в храме Ра, — имеет отцом еврея.
— И ни тем, ни другим не пренебрегают по причине их происхождения.
— Было бы несправедливо утверждать противное. Но зачем ты задаешь эти вопросы?
— Я не могу заснуть.
— И тогда у тебя явились такие мысли. Но они не случайны; у тебя что-то на уме, и мне было бы прискорбно узнать, что я отгадал эти мысли: ты хочешь поступить на службу фараону!
На некоторое время оба замолчали. Затем Эфраим заговорил снова, и хотя он обращался к Иисусу Навину, но тон его слов был таков, как будто он говорил с самим с собой.
— Египтяне уничтожат множество наших соплеменников, а тех, которые останутся, ожидают рабство и позор. Мой дом уже и теперь я оставляю на жертву разрушению; у меня не останется ничего из моих великолепных стад, а золото и серебро, доставшиеся мне в наследство и которых, говорят, у меня много, они увезут с собой. Твой отец хранит его, но оно скоро попадет как добыча в руки египтян. Не придется ли мне, когда я буду свободен, вернуться к своим и делать кирпичи? Должен ли я сгибать спину и позволять бить и мучить меня?
На это Иисус Навин возразил с жаром:
— Ты должен взывать к Богу твоих отцов, чтобы Он защитил и охранил свой народ. Но если Всевышний все-таки решил погубить его, то будь мужчиной и учись всеми силами твоей молодой души ненавидеть тех, чьи ноги попирают тебя! Тогда беги к сирийцам и предложи им свою сильную молодую руку и не отдыхай и не успокаивайся до тех пор, пока не отомстишь людям, пролившим кровь твоего народа, а тебя самого без вины оковавшим цепями.
Затем опять последовало долгое молчание; оттуда, где лежал Эфраим, не было слышно ничего, кроме глухих тихих и подавленных стонов, наконец он тихо сказал Иисусу Навину:
— Цепи больше не сковывают нас, и как могу я ненавидеть ту, которая освободила нас от них?
— Оставайся благодарным Казане, — шепотом ответил Иисус Навин, — но питай ненависть к ее соотечественникам.
Вскоре он услыхал, как Эфраим повернулся в своей яме, снова глубоко вздохнул и застонал.
Полночь прошла; прибывающая луна высоко стояла на небе, и старший из двух узников не переставал прислушиваться к младшему; но тот оставался безмолвным, хотя и он не спал, как это можно было заключить по доносившемуся звуку, похожему на скрежет зубов. Или то мыши — обитатели здешних сухих, поросших буроватой травой солончаков и бесплодных пространств пустыни — грызли жесткий хлеб узников?
Такой скрежет нарушает сон даже того, кому хочется спать; но Иисус Навин бодрствовал, чтобы открыть глаза ослепленному юноше; однако же он напрасно ждал, чтобы племянник подал какие-нибудь признаки жизни.
Дядя намеревался положить руку на плечо племянника, но оставил это намерение, увидев при свете луны, что Эфраим поднял одну руку, хотя перед тем, как он лег, ему еще крепче, чем прежде, связали обе руки вместе. Тогда Навин понял, что скрежет зубов, который он слышал, происходил от усилий юноши перегрызть веревки, и невольно оглянулся вокруг, опасаясь, что стража заметила это. Но никто не обращал на них внимания.
Сдерживая дыхание, Навин следил за движениями племянника, и его сердце начало биться тревожно. Эфраим замышлял бегство, и первый шаг ему удался! Если бы удались и дальнейшие! Но он опасался, что освободившийся выберет не самый безопасный путь. Этот юноша был единственным сыном его умершей милой сестры, круглый сирота, и поэтому никогда не пользовался назиданиями, которые может дать только мать и которые своенравная молодая душа получает только от нее. Чужие руки привязали молодое деревцо к жерди, и оно выросло прямо, но материнская любовь не облагородила его тщательно выбранными и привитыми побегами. Он вырос не у родительского, а у чужого очага, тогда как только отчий очаг может быть настоящим приютом для юности. Что же удивительного, если Эфраим чувствовал себя чужим среди своих?
При этих мыслях Навина охватила жалость вместе с сознанием вины в несчастьях юноши, которого из-за него постигло такое тяжелое бедствие. Но как сильно ни хотелось ему еще раз предостеречь племянника насчет измены и вероломства, он не сделал этого из опасения повредить его предприятию. Малейший шум мог привлечь внимание стражей, а он уже успел принять такое живое участие в попытке юноши к бегству, как будто Эфраим задумал побег по его наущению.
Поэтому вместо того, чтобы надоедать племяннику бесплодными предостережениями, дядя смотрел кругом, охраняя его; притом жизнь научила Иисуса Навина, что люди пренебрегают добрым советом чаще, чем это следует, и что только собственный опыт обладает непреоборимою силой убеждения.
Наметанный глаз вскоре показал бывшему военачальнику дорогу, по которой Эфраим мог незаметно уйти, если бы ему улыбнулось счастье.
Он тихо окликнул племянника и в ответ услышал его шепот:
— Я развяжу твои веревки, если ты протянешь руки ко мне. Мои уже свободны!
Лицо Иисуса Навина просияло. «Однако этот упрямый мальчик, — подумал он, — добрый юноша: он подвергает опасности собственную попытку ради того, кто при побеге вместе с ним может заградить ему путь, на котором он в своем юношеском ослеплении надеется найти удачу».
XIX
Иисус Навин внимательно посмотрел вокруг. Небо все еще было ясно, но его скоро должны были покрыть тучи, поднимавшиеся со стороны моря, если бы ветер прекратился совершенно.
Воздух был душен, но часовые не дремали и постоянно сменялись. Трудно было обмануть их бдительность; однако близ ложа Эфраима, которое, чтобы сделать его удобнее, дядя предусмотрительно устроил на отлогом скате холма, спускалась в долину узкая расселина, на голых краях которой белые жилы гипса и мерцающей слюды блестели при лунном свете. Если бы ловкому мальчику удалось незамеченным добраться до нее и проползти по ней до солончакового болота, окруженного высокими хвощами и вихрастым кустарником, которым оканчивалась расселина, то при наличии туч его попытка могла оказаться успешной.
Убедясь в этом, Навин с таким хладнокровием, как будто дело шло об избрании пути для войска, стал размышлять — не может ли и он сам, если ему удастся освободить руки, последовать за Эфраимом, не помешав его бегству. И он был принужден ответить на этот вопрос отрицательно, потому что часовой, который в нескольких шагах от него, на более возвышенной окраине холма, то сидел, то ходил взад и вперед, мог при свете луны легко заметить усилия юноши развязать ему крепкие узлы веревок на руках. Притом тучи приближались к луне и могли закрыть ее прежде, чем это было бы сделано, и, таким образом, Эфраим из-за него подвергся бы опасности и упустил бы единственный благоприятный момент для своего спасения. Разве не было гнусным преступлением из-за шаткой надежды уйти самому помешать освобождению юноши, естественным покровителем которого он являлся. Поэтому Навин прошептал Эфраиму:
— Я не могу следовать за тобой. По впадине, что у тебя справа, спустись к болоту. Я глаз не буду спускать с часовых. Как только облака закроют луну и я тихо кашляну, спускайся. Если это удастся, то присоединись к нашему народу. Поклонись моему старому отцу, уверь его в моей любви и верности и скажи ему, куда меня ведут. Слушайся советов его и Мариам — эти советы самые надежные. Тучи подходят к луне, и теперь ни слова больше.
Но поскольку Эфраим продолжал настаивать на том, чтобы освободить дяде руки, тот еще раз велел ему замолчать. Как только тучи заволокли луну, а часовой, ходивший взад и вперед над их головами, заговорил с другим, пришедшим к нему на смену, Навин кашлянул и с бьющимся сердцем, сдерживая дыхание, начал всматриваться в ночную тьму по направлению к расселине.
Он услыхал тихий шорох и при отблеске костра, зажженного часовым для отпугивания диких зверей, увидел, что место Эфраима опустело.
Он облегченно вздохнул: Эфраим, значит, добрался до расселины. Но, напрягая слух, чтобы следить за шорохом, производимым беглецом, Навин не услышал затем ничего, кроме шагов и разговора часовых. Он слышал только звуки их слов, не улавливая смысла, до такой степени его слух был занят тем, что происходило на тропе, по которой уходил беглец. Как ловко и осторожно двигался мальчик! Он находился, должно быть, еще в расселине. Между тем луна успешно боролась с тучами, и когда ее серебряный диск пробился сквозь их густую завесу, скрывающую ее от взоров, и ее свет в виде прозрачного сияющего столба отразился в неподвижном соляном болоте, Иисус Навин мог видеть, что происходит внизу. Но он там не замечал еще ничего, похожего на человеческую фигуру.
Не наткнулся ли беглец в расселине на препятствие? Не задержала ли его какая-нибудь глыба камня или глубокий провал на ее дне? Не поглотила ли глубина этой пропасти юношу, подвигавшегося ощупью во мраке? При этой мысли Навину казалось, что биение сердца его останавливается.
Как томительно желал он теперь услышать какой-нибудь самый легкий шум в расселине! Эта тишина была ужасна. Но чу!… Нет, было бы лучше, если бы все оставалось тихо по-прежнему! В безмолвии ночи послышался шум падавших камней и осыпавшейся земли. Луна снова выглянула из облаков, и Иисус Навин увидел у болота живое существо, похожее больше на зверя, чем на человека, потому что оно, казалось, ползло на четвереньках. Вот из воды поднялись сверкающие брызги: это фигура кинулась в болото. Затем тучи снова омрачили небо, и тьма распространилась кругом.
Глубоко вздохнув, Навин сказал себе самому, что это он видел бегущего Эфраима и, что бы ни случилось, юноша во всяком случае ушел на значительное расстояние от своих преследователей.
Но часовые не дремали и не позволили себя провести. Хотя он, чтобы отвлечь их внимание от Эфраима, громко вскрикнул: «Шакал!», но они пронзительными свистками разбудили спавших товарищей. Немного времени спустя их начальник стоял перёд ним с горящей лучиной; он посветил ему в лицо и издал вздох облегчения: он не напрасно связал ему руки вдвойне, иначе жестоко поплатился бы, если бы позволил уйти именно этому человеку.
Но пока начальник конвоя ощупывал веревки на руках арестанта, свет горящей лучины упал на пустое место беглеца. Там лежали еще, точно издеваясь, перегрызенные веревки; он поднял их, гневно швырнул под ноги Иисуса Навина, дал несколько свистков и закричал:
— Сбежал еврей, кудрявый мальчишка!
Не обращая больше никакого внимания на Навина, он стал распоряжаться насчет преследования. Голосом, охрипшим от злобы, он отдавал приказания; каждое из них было вразумительно и исполнялось с усердием. Между тем как несколько стражей собирали узников, считали их и связывали веревками одного с другим, начальник конвоя вместе с остальными и с собаками кинулся отыскивать следы беглеца.
Навин видел, как он заставил обученных животных обнюхать веревки Эфраима и место, где он спал, и как затем они устремились в расселину. Едва дыша, он заметил, что они оставались там довольно долго и наконец при свете луны, все больше и больше выпрыгивавшей из облаков, выбежали из расселины и кинулись к соляному болоту. Навин счел счастливым то обстоятельство, что Эфраим пошел прямо через болото, вместо того чтобы обойти его, так как псы потеряли на берегу след, и минуты шли за минутами, а начальник стражи с собаками, обнюхивавшими следы беглеца, шел по берегу, пытаясь направить их на надлежащий путь. Наконец их громкий веселый лай показал Навину, что они снова напали на след, но это еще не внушало ему особенных опасений, так как беглец далеко опередил своих преследователей. Однако же сердце связанного воина билось довольно сильно и время казалось ему длящимся без конца, пока не вернулся начальник конвоя, измученный безуспешной погоней.
Пожилой человек не мог догнать быстроногого юношу, но двое более молодых и проворных стражей были посланы в погоню за беглецом; сам начальник сказал это со злобными ругательствами.
Этот снисходительный человек точно переродился, так как считал случившееся не только неизгладимым позором и стыдом, но и явным несчастьем.
Еврей, пытавшийся обмануть его своим криком о шакале, несомненно, являлся сообщником беглеца! Надсмотрщик громко проклинал также и князя Сиптаха, вмешавшегося в дела его службы. Но ничего подобного не должно было случиться с ним в другой раз, и он хотел заставить всю толпу узников почувствовать обиду, нанесенную ему Эфраимом. Он велел снова заковать всех в цепи, соединить бывшего военачальника с каким-то чахоточным стариком, поставить арестантов в шеренгу перед огнем костра и держать так до рассвета.
Иисус Навин ничего не ответил на вопросы своего нового товарища по оковам; с замиравшим от страха сердцем дожидался он возвращения преследователей. Между тем он старался настроить себя на молитву и вверил собственную участь и судьбу бежавшего мальчика Богу, искренне надеясь на Его помощь. Правда, его молитву грубо прервал начальник стражников, вымещая на нем свою злобу.
Но человек, некогда повелевавший тысячами воинов, выносил ругательства главного надсмотрщика с терпением и принудил себя принимать их как неизбежное зло, подобно граду или дождю; мало того, он с трудом скрыл свою радость, когда после восхода солнца вернулись молодые стражники, посланные преследовать Эфраима, запыхавшиеся, с растрепанными волосами, и не привели никого, кроме своей собаки с разбитым черепом.
Теперь начальнику стражи не оставалось ничего больше, как сообщить о случившемся в первом же форте эфамской крепостной линии, через которую и без того должны были пройти узники и куда их повели теперь.
Со времени бегства Эфраима конвойные находились в скверном расположении духа. Вчера они позволяли арестантам идти не торопясь, сегодня же узников понукали, заставляли идти как можно скорее. А между тем стоял удушающий зной, и жгучее солнце боролось с грозовыми тучами, которые тяжелыми массами собирались на севере.
Тело Иосии, привыкшее к усилиям всякого рода, выдерживало муки этого поспешного марша, но его слабый товарищ, поседевший за письменным столом, то и дело падал от изнеможения и наконец остался неподвижным, лежа возле него.
Тогда начальник конвоя был принужден посадить несчастного на осла; к Иосии приковали другого узника. То был брат первого, конюший царя, сильный египтянин, которого сослали на горные заводы лишь за то, что, к его несчастью, он был самым близким кровным родственником государственного преступника. С этим сильным напарником Навину стало идти несравненно легче; он с участием слушал своего спутника, старался его утешить, когда несчастный тихим голосом поверял ему свою тоску и с тяжелым сердцем жаловался, что ему пришлось оставить жену и ребенка в горе и нужде. Двое из его мальчиков умерли от моровой язвы, и его сердце было удручено невозможностью позаботиться о погребении их, так что теперь они были навсегда потеряны для него, даже и на том свете.
На втором привале огорченный отец сделался более откровенным. Его душу переполняла жажда мести, и подобное же чувство он подозревал в своем так сурово смотревшем товарище. Бывший смотритель царских конюшен имел свояченицу, принадлежавшую к числу побочных жен фараона, и от нее его жена слышала, что в «Замкнутом доме» [35] замышляется заговор против повелителя. Иисус Навин хотел узнать, кого женщины намерены поставить на место Марнепта.
В ответ на вопросительные взгляды конюший прошептал:
— Племянник царя Сиптах и его мать стоят во главе заговорщиков. Как только буду свободен, я вспомню и о тебе, ибо моя свояченица, конечно, не забудет меня.
Затем опальный конюший пожелал узнать, что было причиной ссылки Иисуса Навина, и тот откровенно признался ему, кто он такой. Но когда египтянин узнал, что скован с евреем, он бешено начал рвать цепь, проклиная свою участь. Однако же его гнев скоро утих вследствие изумительного самообладания, с которым его товарищ по несчастью переносил самые тяжкие оскорбления, а Иисусу Навину было приятно, что египтянин теперь реже надоедал ему жалобами и вопросами.
Многие часы кряду Навин шел теперь без помехи и мог отдаться своему страстному желанию сосредоточиться, разобраться в новых сильных ощущениях, овладевших его душою в последние дни, и примениться к своему новому ужасному положению.
Эти безмолвные думы и самоуглубление оказались для Навина благодетельны. Во время ближайшего ночлега он подкрепил силы глубоким и освежающим сном, когда же проснулся, угасавшие звезды все еще стояли на небе и напомнили ему сикомору в Суккоте, а также богатое последствиями утро, когда его нареченная возвратила его еврейскому Богу и народу. Над узником простерся сияющий небесный свод, и никогда еще он не чувствовал так явственно близости Всевышнего. Навин верил в Его безграничное могущество, и в первый раз в его душе зародилась надежда, что всесильный Создатель неба и земли может найти пути и средства для спасения народа, который Навин сделал своим, отделив от десятков тысяч египетских воинов.
После пламенной молитвы к Богу о том, чтобы Он простер свою защищающую руку над бессильными толпами, которые, повинуясь Его повелению, бросили столь многое и так доверчиво пошли в неведомую даль, Навин поручил особому Его покровительству своего отца, которого сам не мог защитить, и в его душе водворилось удивительное спокойствие.
Крик стражей, лязганье цепей, вид товарищей по несчастью и все окружавшее его должно было напоминать узнику об ожидавшей его участи. Ему предстояло состариться в каторжной работе, в глухом, жарком, подавляющем грудь подземелье, лишась отрады дышать свежим воздухом, видеть свет солнца, нося цепи, подвергаясь ругательствам и побоям, в голоде и жажде, в тупом, убивающем душу и тело однообразии мучительных дней и ночей. Однако же его ни на одно мгновение не оставила твердая вера, что эта ужасная участь предназначена скорее всякому другому, чем ему, и что должно случиться что-нибудь такое, что избавит его от подобного жребия.
На дальнейшем пути к востоку, начавшемся с рассветом, эту твердую уверенность бывший воин называл безумием, но все-таки старался сохранить ее, и это ему удалось.
Дорога вела через пустыню, и после нескольких часов быстрой ходьбы арестанты дошли до первого укрепления, называвшегося «крепостью Сети». Они давно уже видели ее, и в ясном воздухе пустыни она казалась находящейся от них не дальше полета стрелы.
Вокруг нее не росло ни одной пальмы, ни одного куста; она возвышалась на голой каменисто-песчаной почве со своими деревянными палисадами, валом, покатыми стенами и сторожкой с широкой плоской крышей, кишевшей вооруженными воинами. Они получили из Питома известие, что евреи готовятся прорваться через крепостную линию на перешейке, и приближавшийся арестантский транспорт был сначала принят за авангард беглецов.
С высоты крепких выступов, выдававшихся, подобно балконам, на всем протяжении стен и имевших целью мешать постановке штурмовых лестниц, сквозь отверстия между зубцами воины смотрели на приближавшихся арестантов. Но лучники вложили стрелы в колчаны, так как с высоты башни было замечено, как незначительна была подходившая толпа, и один посланец принес уже начальнику крепости разрешение пропустить арестантский транспорт.
Ворота палисада были отперты для преступников, и начальник конвоя позволил им сесть на горячую мостовую. Отсюда ни один из них не мог уйти, даже если бы конвойные удалились, так как было бы трудно перелезть через высокую ограду, а с крыши укрепления и сквозь зубцы выступов метательные снаряды могли поразить беглеца.
От внимания бывшего военачальника не ускользнуло то обстоятельство, что все здесь, как в военное время, было готово к отражению неприятеля. Каждый человек был на своем посту, а возле большого медного круга на башне стояли часовые с тяжелыми колотушками в руках, чтобы ударить в него при приближении ожидаемых противников. Хотя кругом, насколько хватал глаз, не было видно ни одного дерева, ни дома, но звон металлической доски все-таки доходил до ближайшего форта эфамской линии и предупреждал его гарнизон или призывал его на помощь.
Ссылка в одиночество этой пустыни была не наказанием, но, конечно, несчастьем, и начальники войска заботились о том, чтобы подобные гарнизоны никогда не оставались в пустыне надолго. Иисус Навин в прежние времена тоже был начальником укрепления на самом южном конце линии, которое называли южным Мигдолом, так как каждый из этих фортов носил имя «мигдол», означавшее на языке семитов крепостную башню.
Здесь все еще ожидали евреев; нечего было и думать о том, что Моисей приведет свой народ обратно в Египет. Он, следовательно, или остается в Суккоте, или направился к югу. Но там находились горькие озера и тростники, и каким образом тысячи евреев могли перейти через глубокую воду?
При этом рассуждении сердце Иисуса тревожно забилось, и все его опасения скоро должны были подтвердиться. Он слышал, как начальник цитадели говорил начальнику арестантского конвоя, что евреи за несколько дней перед тем приближались к линии укреплений, но скоро повернули к югу, даже не поговорив с гарнизоном. После того они, по-видимому, блуждали между Питомом и Тростниковым морем в пустыне. Обо всем этом немедленно было донесено в Танис, но фараон был вынужден отложить выступление войска до истечения семи дней большого траура по скончавшемуся наследнику престола. Это могло бы послужить на пользу беглецам, но теперь он через почтового голубя получил известие, что эти ослепленные люди расположились лагерем у Пи-Гахирофа, недалеко от Тростникового моря. Поэтому войску будет легко загнать их, как стадо скота, в воду, так как с других сторон для них нет никакого выхода.
Начальник арестантского конвоя с удовольствием выслушал эти вести и шепнул коменданту крепости несколько слов, указывая пальцем на Иисуса Навина, давно уже узнавшего своего боевого товарища, который в его тысяче командовал сотней и которому он не раз оказывал благодеяния. В своем жалком положении он не желал напоминать ему, своему бывшему подчиненному и должнику, о себе, но комендант покраснел, увидев его, и пожал плечами, как бы желая выразить сожаление о его несчастье и о невозможности что-нибудь сделать для него, и затем проговорил так громко, что Иисус Навин мог его слышать:
— Правила запрещают говорить с государственными преступниками, но я знавал этого человека в его лучшие дни и пришлю тебе вина, которое прошу тебя разделить с ним.
Когда наконец он пошел с начальником конвоя к воротам и последний сказал, что Иосия менее достоин этой милости, чем самый последний из арестантов, поскольку это он содействовал бегству молодого еврея, то комендант провел пальцами по своим волосам и ответил:
— Я охотно оказал бы ему какую-нибудь поблажку, хотя он еще остается у меня в долгу, но если так, то оставим речь о вине: вы и без того отдыхали достаточно долго.
Начальник конвоя угрюмо отдал приказ отправляться и погнал злополучную толпу в глубину пустыни, по направлению к горным заводам.
Теперь Иисус Навин шел с поникшей головой. Душа его возмущалась против несчастья — быть в это решительное время далеко от своего народа и своего отца, находившихся, как он знал, в великой опасности, и брести в оковах по пустыне!… Под его предводительством странники, может быть, еще нашли бы какой-нибудь выход. Его кулак сжимался при мысли о скованном теле, не позволявшем ему выполнить то, что придумывал его ум для спасения своих соплеменников, однако же он не желал терять мужества, и каждый раз, как только он говорил себе, что его народ погиб и должен пасть в этой борьбе, то своим внутренним ухом слышал новое имя, данное ему Богом, и при этом в нем ярким пламенем разгорались ненависть и презрение ко всему египетскому, усугубленные недостойным поведением начальника крепости. Все его существо было возмущено в высшей степени, и начальник конвоя, видя его пылающие щеки и мрачный блеск глаз, подумал, что и этим сильным человеком овладела лихорадка, жертвой которой уже сделалось такое множество узников во время пути.
Когда несчастные путники при наступлении тьмы остановились на ночлег в пустыне, все в Иисусе Навине волновалось и бушевало, и то, что происходило вокруг, соответствовало буре в его душе. Черные тучи снова сгущались на севере, в стороне моря, и, прежде чем разразились гром и молния и хлынул проливной дождь, порывы ветра, свистя и воя, нагнали большие массы горячего песка на отдыхавших арестантов.
После того как узников покрыли густые слои пыли, место их отдыха превратилось в болота и пруды. Стражи связали несчастным руки и ноги и, промокшие, дрожащие, держали концы веревок в своих руках, так как эта ночь была черна, как уголья из костра, погашенного ливнем, и кто был бы в состоянии преследовать беглецов среди такой тьмы и непогоды?
Но Иисус Навин не помышлял о бегстве. В то время как египтяне дрожали и вздыхали, когда им казалось, что они слышат гневный голос Сета, и ослепительные сполохи огня низвергались из туч, он только чувствовал близость разгневанного Бога своих отцов, гнев Которого он разделял, ненависть Которого сделалась и его ненавистью. Навин чувствовал себя свидетелем Его всесокрушающего всемогущества, и его грудь вздымалась от гордости, когда он повторял себе, что призван носить меч, служа этому властителю, сильнейшему из всех сильных.
XX
На перешейке бушевала буря, поднявшаяся при наступлении тьмы. Озера посреди него вздымали высокие волны, и Тростниковое море, вдававшееся в перешеек с юга бухтой в форме раковины улитки, находилось в состоянии бурного волнения.
Далее к северу, где войско фараона незадолго перед тем расположилось лагерем под прикрытием южного Мигдола, в воздухе носился песок, поднятый бурей, и у шатров фараона и вельмож неустанно работали молотки, вбивавшие колья палаток глубже в почву, так как парча, суконные и льняные ткани, из которых составлялись походные жилища фараона и его свиты, вздуваемые ветром, грозили повалить колья, к которым они были прикреплены.
На севере висели тучи, но звезды и месяц по временам показывались, и отдаленная молния часто освещала тьму. Небесная влага, по-видимому, и сегодня избегала этой лишенной дождя полосы земли, и везде горели костры; воины окружали их густою двойною стеной, точно живою оградой, чтобы не дать ветру разнести их в разные стороны.
Часовые несли теперь тяжелую службу: воздух был жарок, несмотря на северный ветер, который дул во всю мочь и беспрестанно осыпал их лица песком.
У северных ворот лагеря ходили взад и вперед только двое часовых, но этого было достаточно, так как по случаю бурной погоды долгое время не появлялось никого, кто бы просил о пропуске в лагерь или из лагеря. Только через три часа после захода солнца показался какой-то стройный парень, не то мальчик, не то юноша. Он уверенной поступью подошел к часовым, показал им свой знак посланца и спросил, где находится палатка князя Сиптаха.
По-видимому, он совершил трудное путешествие: его густые черные кудри были растрепаны, ноги покрыты пылью и засохшею глиной. Однако он не возбудил никакого подозрения, потому что держал себя с достоинством свободного человека; его знак посланца был в полном порядке, а показанное им письмо было действительно адресовано принцу; это удостоверил провиантский писец, который вместе с другими должностными лицами и низшими офицерами сидел у ближайшего костра.
Так как наружность юноши понравилась большинству присутствовавших, и притом же он пришел из Таниса и, может быть, принес разные новости, то ему предложено было сесть у костра и закусить. Но посланец спешил.
Он, поблагодарив, отклонил приглашение, коротко ответил на вопросы и попросил дать ему проводника, который не замедлил явиться к его услугам. Но скоро юноше пришлось убедиться, что не так-то легко дойти до особы, принадлежащей к числу членов царского дома. Шатры фараона, его родственников и сановников стояли на особом месте, окруженном щитами меченосцев, в самом центре лагеря, и у входа туда юношу отсылали от одного человека к другому; его знак посланца и письмо к князю подверглись многократному осмотру. Проводник был отослан обратно, и место его занял знатный царедворец, которого называли глазом и ухом фараона. Он занялся рассмотрением печати письма, но посланец потребовал письмо обратно, и как только оно снова очутилось в его руках и ему указали на две друг возле друга стоявшие палатки, из которых одна служила помещением для князя Сиптаха, а другая для Казаны, дочери Горнехта, он обратился к вышедшему из первой царедворцу, показал ему письмо и просил проводить его к князю. Но тот вызвался сам передать это письмо Сиптаху, назвавшись домоправителем князя, и Эфраим, так как это был он, изъявил готовность принять его предложение, если он тотчас же разрешит ему пройти к молодой вдове.
Домоправитель, по-видимому, сильно желал, чтобы письмо попало в его руки, и, осмотрев Эфраима с головы до ног, спросил: знает ли его Казана? Так как юноша ответил утвердительно и прибавил, что ему поручено передать ей кое-что словесно, то египтянин сказал, улыбаясь:
— Ну хорошо; но мы должны оберегать наши ковры от таких ног; притом мне кажется, что ты устал и нуждаешься в отдыхе. Иди за мной.
Он повел его в маленькую палатку, перед которой сидели у костра два раба: один старый, а другой едва вышедший из детского возраста, и заканчивали свой ужин пучком чеснока.
Увидев своего господина, они вскочили на ноги, и он приказал старику вымыть ноги гонца, а молодому велел потребовать от его имени мяса, хлеба и вина из кухни князя. Затем он провел Эфраима в свою палатку, освещенную фонарем, и спросил его, каким образом он, который, должно быть, не принадлежит к числу рабов и вообще людей низкого звания, дошел до такой небрежности в своем внешнем виде. Посланец ответил, что на пути он какому-то тяжело раненному человеку перевязал раны верхнею частью своего передника, и придворный тотчас же бросился к своим вещам и достал для него платок из льняной ткани, собранный изящными складками.
Эфраиму было так нетрудно придумать ответ, который, в сущности, был близок к истине, и этот ответ казался таким правдивым, что ему поверили; и так как доброта домоправителя показалась юноше достойной всякой благодарности, то он не возражал, когда тот, не ломая печати, привычною рукою нажал гибкий папирус свитка, раздвинул отдельные слои и стал заглядывать в отверстие, чтобы знать содержание письма. При этом круглые глаза хорошо откормленного царедворца засверкали, и Эфраим подумал, что лицо этого человека, которое при своей полноте и лоснящейся округленности сперва показалось ему зеркалом великой сердечной доброты, сделалось похожим на физиономию кошки.
Окончив свою работу, домоправитель, попросив юношу, не торопясь, подкрепиться пищей, ушел и явился снова уже тогда, когда Эфраим, хорошо умывшись, с новым верхним передником вокруг бедер, с умащенными, душистыми волосами смотрелся в зеркало и собирался надеть на руку золотой обруч. Он долго не решался это сделать, ему было известно, что он мог подвергнуться большой опасности. Этот обруч был единственной дорогой вещью, какую он имел, и ему стоило большого труда скрывать его под своим передником. Обруч мог еще сослужить ему добрую службу, но, надев его, Эфраим обратил бы на себя внимание и мог быть узнан. Однако же вид собственного отражения в зеркале, тщеславие и желание понравиться Казане одержали верх над осторожностью и соображениями благоразумия, и на верхней части его руки снова заблистало драгоценное украшение.
Царедворец с удивлением смотрел на красивого, изящного и гордо смотревшего в зеркало юношу, в которого преобразился простой посланец, и с его губ сорвался вопрос, не родственник ли он Казане; и когда тот ответил отрицательно, он спросил, к какой фамилии он принадлежит.
Несколько мгновений Эфраим в смущении смотрел в землю, но затем попросил египтянина не спрашивать его об этом до тех пор, пока он не переговорит с дочерью Горнехта.
Царедворец покачал головой и еще раз посмотрел на него, но не настаивал больше, так как то, что ему удалось высмотреть в письме, — являлось тайной, которая могла подвергнуть смерти знающего ее человека, а знатный молодой посланец, по всей вероятности, был сыном какого-нибудь вельможи, принадлежавшего к числу участников заговора князя Сиптаха.
По телу придворного пробежала дрожь, и он со страхом и участием взглянул на этого цветущего юношу, который в такие ранние годы вмешался в опасные замыслы.
Его господин посвятил его в тайну только намеками, и ему было бы еще возможно отделить собственную участь от судьбы князя. Сделай он это, ему предстоит беззаботная старость; если же он последует за князем и покушение последнего окажется успешным, то какого высокого положения сможет он достичь! Выбор, представлявшийся ловкому царедворцу, отцу четырех детей, был чреват непредсказуемыми последствиями, и, с покрытым каплями пота челом, неспособный ни к какому ясному соображению, он отвел Эфраима к палатке Казаны и затем поспешил к своему повелителю.
В легком сооружении из кольев и тяжелых пестрых тканей, где помещалась прекрасная вдова, было тихо. С сильно бьющимся сердцем Эфраим приблизился к входу, и когда наконец собрался с духом и раздвинул занавес, вздуваемый ветром, точно парус, то увидел темное пространство, к которому справа и слева примыкало по одному подобному же помещению. В левом было так же темно, как и в среднем, но из правого через несколько щелей пробивался свет. Палатка принадлежала к числу тех разделенных на три части шатров, с плоскою крышей, какие он уже видал, и в освещенной комнате теперь находилась та, к которой влекло его сердце.
Чтобы не возбудить нового подозрения, он должен был победить в себе робкую нерешительность и уже наклонился, чтобы отстегнуть петлю, которой занавес был прикреплен к колышку, вбитому в землю, когда дверь освещенной комнаты отворилась, и какая-то женская фигура вошла в темное среднее помещение.
Она ли это? Следует ли ему решиться заговорить с ней? Да, он должен сделать это!
Сжав кулаки и глубоко вздохнув, он собрался с духом, точно дело шло о том, чтобы пробраться в святая святых какого-либо храма, замкнутое для непосвященных. Затем он отстранил занавеску, и его с легким криком встретила женщина, которую он заметил прежде. Но он тут же успокоился: луч света скользнул по ее лицу, и Эфраим увидел, что перед ним стоит не Казана, а ее кормилица, сопровождавшая ее к арестантам, а затем в лагерь. Она тоже узнала Эфраима и смотрела на него оцепеневшим взором, точно на мертвеца, восставшего из могилы.
Они находились в очень дружеских отношениях между собою. Когда Эфраим в первый раз вступил в дом Горнехта, именно кормилица приготовила для него ванну и помазала его раны целебным бальзамом, а во время вторичного пребывания его под той же кровлей она, вместе со своею госпожой, была его сиделкой. Они много часов болтали тогда друг с другом, и юноша знал, что она расположена к нему, так как ее рука с материнской лаской успокаивала его, когда он метался в жару лихорадки, то просыпаясь, то впадая в бред. И позже она не уставала расспрашивать о его народе и наконец призналась, что сама происходит из родственного евреям племени сирийцев. Даже язык Эфраима не стал еще ей совсем чужим, так как она была приведена в Египет вместе с другими пленниками великого Рамсеса уже в двадцатилетнем возрасте. Она с удовольствием говорила, что Эфраим напоминает ее сына, каким он был еще в более юные годы.
Со стороны этой женщины юноша не мог ожидать ничего плохого, и потому он схватил ее руку и прошептал, что он ускользнул от часовых и теперь пришел посоветоваться с ее госпожой.
Слова «ускользнул» было достаточно для успокоения старой женщины: судя по тому, что ей было известно насчет привидений, они обращали людей в бегство, но не убегали от них сами. Успокоившись, она погладила кудрявую голову юноши и, не дав ему договорить, повернулась, чтобы поспешить в освещенную комнату и известить свою госпожу о его приходе.
Немного погодя, Эфраим предстал перед женщиной, сделавшейся путеводною звездой его жизни. С пылающими щеками смотрел он на прекрасное, но залитое слезами лицо, и хотя его кольнуло в сердце то, что она, прежде чем удостоить неожиданного гостя каким-либо приветствием, спросила, следует ли за ним Иосия, но он забыл свое глупое огорчение, когда заметил, что она смотрит на него ласковыми глазами. Когда же она спросила кормилицу, не находит ли она его свежим, красивым и притом возмужавшим, то ему показалось, что он в самом деле вырос, и сердце его забилось чаще.
Она желала узнать до мельчайших подробностей все, что касалось его дяди; но, когда он ответил на ее вопросы и наконец решился рассказать о своей собственной судьбе, она прервала его, чтобы посоветоваться с кормилицей, каким образом укрыть юношу от непрошенных взглядов и спасти от новых опасностей; и достаточно надежное средство вскоре было найдено. Прежде всего старуха, с помощью Эфраима, тщательно занавесила главный вход в шатер, затем указала ему на темное отделение палатки, в которое он должен был проскользнуть быстро и без шума, как только она подаст ему знак.
Между тем Казана налила юноше вина в кубок, велела ему, когда он вернулся с кормилицей, сесть на шкуре жирафа у ее ног и затем спросила его, как ему удалось ускользнуть от часовых и чего он ожидает от будущего. Она предупредила, что ее отец остался в Танисе, и потому ему нечего бояться быть узнанным и выданным Горнехтом.
По лицу и по тону ее голоса Эфраим понял, как рада она была этому свиданию, и когда он начал свой рассказ заявлением, что побег сделался возможным вследствие приказания Сиптаха освободить узников от цепей, чем они, впрочем, обязаны только ей одной, то она, как ребенок, захлопала в ладоши. Но затем ее лицо омрачилось, и Казана с глубоким вздохом сказала, что перед его приходом ее сердце едва не разбилось от горя и слез, но что Иосия узнает в конце концов, чем способна пожертвовать женщина для исполнения пламенного желания ее сердца.
Уверение Эфраима, что до своего бегства он вызвался развязать веревки и дяде, она наградила словами благодарности; когда же он сказал ей, что Иисус отказался принять помощь, чтобы не помешать успеху его бегства, план которого дядя искусно обдумал за него, Казана со слезами на глазах воскликнула, обращаясь к кормилице, что так поступить в состоянии только один-единственный человек.
Она с напряженным вниманием слушала дальнейший рассказ беглеца и часто прерывала его полными участия вопросами.
Эфраиму казалось каким-то блаженным сном, какой-то чарующею сказкой то, что мучительные дни и ночи, оставшиеся позади, закончились так счастливо, и ему не было надобности в помощи кубка, который она заботливо наполнила для него, чтобы сделаться пламенным рассказчиком.
Красноречиво, как никогда прежде, юноша описывал, как, спускаясь на дно расселины, наткнулся он на слабо державшийся камень и вместе с ним скользнул по крутому откосу головой вниз. Он подумал, что все пропало, потому что, как только освободился от засыпавших его мелких камней и побежал к болоту, услыхал свистки часовых. Но он с детства был хорошим бегуном, притом еще на родных пастбищах научился узнавать направление по звездам, и потому он бежал, не глядя ни вправо, ни влево, пока несли ноги, к югу, все к югу. Ему часто случалось при этом спотыкаться о камни и неровности почвы, но он быстро оправлялся и летел дальше к югу, где, как ему было известно, находилась Казана — та, ради которой он не задумываясь пренебрег бы самыми благоразумными советами, она, для которой он готов пожертвовать свободой и жизнью.
Эфраим и сам не знал, откуда взялось у него мужество признаться в этом, и ни удар веера Казаны, ни угрожающее восклицание кормилицы: «Каков мальчик!» не урезонили его; нет, при дальнейшем рассказе его сияющие глаза искали ее глаз так же упорно, как прежде.
Одну из бросившихся на него собак он убил, швырнув ее на утес, другую отгонял камнями, пока она с воем не убежала в чащу. Никаких других преследований он не видел ни ночью, ни в течение всего следующего дня. Наконец он добрался до проезжей дороги и до людей, указавших ему путь к войску фараона.
Около полудня, побежденный усталостью, Эфраим заснул под тенью сикоморы, и, когда проснулся, солнце уже склонялось к закату. Он чувствовал сильный голод и поэтому вырыл несколько реп в поле, находившемся вблизи. Но внезапно из оросительной канавы появился владелец поля; он с угрозами кинулся на него, и ему с трудом удалось уйти от его преследования.
Часть ночи он провел идя дальше по дороге, затем остановился на отдых у колодца, находящегося возле нее, так как ему известно, что дикие звери избегают мест, часто посещаемых людьми.
После заката солнца Эфраим продолжал свой путь, держась дороги, по которой следовало войско. Повсюду он находил его следы, и когда, незадолго до полудня, измученный и голодный, он дошел до какой-то деревни, стоящей на плодородной полосе земли, орошаемой каналом Сети, то подумал, не продать ли ему ручной золотой обруч, чтобы на вырученные деньги купить еды и оставить про запас серебра и меди. Но он боялся быть принятым за вора и снова попасть в неволю, так как его передник был изорван колючками, а сандалии давно уже свалились с ног. Ему пришло в голову, что даже самый жестокосердый человек должен почувствовать сострадание при виде его жалкого положения, и он постучался у двери какого-то поселянина, прося милостыни, как ни было это противно ему. Но тот не дал ничего, кроме язвительного наставления, что такой молодой и сильный парень не должен протягивать руки, предоставив слабым и старым выклянчивание подачки. Другой поселянин грозился даже поколотить юношу; но когда он, опустив голову, пошел дальше, за ним вслед отправилась какая-то молодая женщина, которую он заметил близ дома этого варвара, сунула ему в руку хлеб и несколько фиников и наскоро шепнула, что по случаю проезда фараона деревня поставила много провизии, иначе она могла бы дать ему и кое-что получше.
Никакое праздничное блюдо не казалось ему еще таким вкусным, как этот неожиданный дар, съеденный им у ближайшего колодца. Однако Эфраим не сказал Казане, что эта пища была для него отравлена сомнением: исполнить ли ему поручение Иисуса Навина и вернуться к своим, или же повиноваться страстному желанию своего сердца, которое влекло его к ней?
Не решив этого вопроса, юноша пошел дальше, но, по-видимому, сама судьба взялась указать ему верный путь. Пройдя не более получаса и снова очутившись в пустыне, он увидел у края дороги какого-то молодого человека своих лет, который стонал, охватив ладонями свои ноги. Побуждаемый жалостью, Эфраим подошел к нему ближе и, к своему удивлению, узнал в нем скорохода и посыльного Горнехта, с которым раньше часто общался.
— Апу, нашего проворного нубийского гонца? — прервала его молодая женщина.
Эфраим кивнул и рассказал далее, что Апу был послан как можно скорее доставить князю Сиптаху письмо. Быстроногий юноша, привыкший бегать впереди благородных коней своего господина, мчался как стрела и часа через два был бы у цели, если бы не наступил ногою на острый осколок какой-то бутылки, разбитой колесом телеги, и его рана оказалась глубока и опасна.
— И ты остался при нем? — спросила Казана.
— Как же иначе? — ответил Эфраим. — Он уже наполовину истек кровью и был бледен как смерть. Поэтому я оттащил его к ближайшей канаве, омыл его рану и смазал ее имевшимся у него бальзамом.
— Я сама сунула баночку с этой мазью ему в карман год тому назад, — вмешалась сердобольная кормилица, утирая слезы.
Эфраим подтвердил ее слова, добавив, что сам Апу с благодарностью упоминал об этом. Затем он продолжал:
— Я разорвал всю мою верхнюю накидку на куски и перевязал его раны, как умел. При этом он беспрестанно торопил меня, вынув знак посланца и свисток, которые дал ему его господин, и так как он не знал о постигшем меня несчастье, то поручил мне вместо него передать письмо князю Сиптаху. О, как охотно принял я это поручение!… И через два часа с небольшим я дошел до лагеря. Теперь письмо в руках князя, а я вот здесь и вижу, что это тебя радует. Но я… конечно, никто не был так счастлив, как я теперь, тем, что сижу у твоих ног и смотрю на тебя; никто не был так благодарен, как я, за то, что ты выслушала меня с такой добротой; и если меня снова закуют в цепи, то я спокойно перенесу это, если только ты останешься доброй ко мне по-прежнему. О, мое несчастье было так тяжко! У меня нет ни отца, ни матери и никого, кто бы любил меня. Только ты одна, ты дорога мне и ты не оттолкнешь меня — не правда ли?
Он произнес последние слова точно в забытьи. Увлеченный силой страсти, и после страшных мытарств последних дней и часов не будучи способен сдержать порыв переполнивших его чувств, юноша, еще так недавно вышедший из детского возраста и видевший себя предоставленным себе самому, оторванный от всего, что некогда поддерживало и защищало его, громко зарыдал, и, точно испуганный птенец, ищущий защиты под крылом своей матери, он, обливаясь слезами, склонил голову на колени Казаны.
Мягкосердечной молодой женщиной овладело горячее сострадание, а глаза ее увлажнились. Она ласково положила руки ему на голову, и когда почувствовала дрожь, сотрясавшую тело плакавшего юноши, то обеими руками приподняла его, поцеловала в лоб и щеки, посмотрела на него, улыбаясь сквозь слезы, и воскликнула:
— Бедный глупый мальчик! Почему мне не быть доброй к тебе, а тем более из-за чего мне тебя отгонять! Твой дядя для меня дороже всех людей, а ты — как бы его сын. Ради вас я решилась на то, что иначе оттолкнула бы от себя так далеко, так далеко!… Но теперь пусть это будет так, и, что бы ни думали и ни говорили обо мне, я не буду об этом сожалеть, лишь бы только мне удалось одно, для чего я жертвую и телом, и жизнью, и всем, что я прежде ценила неизмеримо высоко! Подожди только, бедный неугомонный мальчик, — она снова поцеловала его щеки, — я сумею и для тебя уровнять дорогу! Но теперь довольно!
Это приказание прозвучало серьезнее и имело целью охладить возраставшую пылкость юноши. Внезапно Казана вскочила и вскричала с тревожной поспешностью:
— Уходи, уходи сейчас же!
Это строгое приказание было вызвано звуком шагов, приближавшихся к палатке, и предостерегающим жестом кормилицы. Тонкий слух Эфраима сделал для него понятным ее опасение и заставил его проскользнуть вслед за кормилицей в темное помещение. Там он сообразил, что лишь несколько мгновений промедления выдали бы его, так как занавес палатки уже открылся, и какой-то мужчина прошел через среднее темное отделение прямо в освещенное, где Казана слишком дружески — юноша хорошо слышал это — приветствовала нового гостя и как будто была изумлена его появлением в такой поздний час.
Между тем кормилица схватила свой собственный плащ, накинула его на голые плечи беглеца и шепнула:
— Перед восходом солнца жди вблизи нашей палатки, но не входи в нее прежде, чем я тебя позову, если тебе дорога жизнь. Ты не имеешь ни отца, ни матери, и мое дитя, Казана… о золотое, любящее сердце, из всех лучших она самая лучшая!… Но годится ли она быть руководительницей неопытного ветрогона, который пылает из-за нее, точно сухая солома, — это другой вопрос. При твоем рассказе я подумала о многом, и так как я желаю тебе добра, то скажу вот что: у тебя есть дядя, а он, как справедливо утверждает Казана, лучший из всех мужчин, я знаю людей. Делай то, что он советует тебе, так как это наверняка послужит тебе на пользу. Слушайся его. И если его приказание уведет тебя далеко отсюда и от Казаны, то тем лучше для тебя. Мы блуждаем по опасным тропам, и если бы мы делали это не ради Иосии, то я попыталась бы обеими руками удержать ее. Но для него… я старуха, но для этого человека я сама готова пройти и через огонь. Правда, я не в состоянии и рассказать, как мне больно за это бедное добросердечное дитя и за тебя, на которого когда-то был так похож мой сын, и потому я только повторяю тебе: слушайся своего дядю, мальчик! Иначе ты пропал, а это было бы прискорбно!
С этими словами она толкнула его к отверстию между стенами палатки и дожидалась, пока Эфраим не выбрался наружу. Затем она вытерла глаза и вошла, как будто случайно, в освещенную комнату. Но Казане и ее позднему гостю нужно было поговорить о вещах, не терпевших никаких свидетелей, и ее «милое дитя» позволило кормилице только зажечь один фитиль большого тройного светильника и отослало ее спать.
Она послушно исполнила приказание своей госпожи и в темной комнате опустилась на свою постель, стоявшую возле ложа Казаны, закрыла лицо руками и заплакала.
Кормилице казалось, будто весь свет встал с ног на голову: она не понимала Казану, потому что молодая вдова приносила свою чистоту и честь в жертву мужчине, к которому, это было известно кормилице, она в душе чувствовала отвращение.
XXI
Эфраим присел в тени палатки, из которой только что ускользнул, и плотно приложил ухо к ее ткани. Он осторожно проделал отверстие в одном из швов парусины и, таким образом, мог видеть и слышать, что происходит в освещенной комнате любимой им женщины.
Буря удерживала в палатках и шатрах всех, кого служба не заставляла выйти на открытый воздух, и Эфраим тем менее мог опасаться быть обнаруженным, чем глубже была тень на том месте, где он находился. Его прикрывал также и плащ кормилицы, и если по его молодому телу беспрестанно пробегала дрожь, то причиной того была горькая скорбь, терзавшая его душу.
Вельможей, князем царского дома был тот человек, к груди которого — он видел это — Казана склонила свою голову, и ни разу эта непостоянная женщина не отстранила дерзкого мужчину, когда его губы искали ее губ в поцелуях, которых так страстно желал юноша.
По отношению к Эфраиму она не имела никаких обязанностей, но его дяде принадлежало ее сердце, она оказывала ему предпочтение перед всеми другими мужчинами, она объявила себя готовою для его освобождения подвергнуться самым ужасным бедствиям, и вот теперь его собственные глаза убеждают его, что она — женщина фальшивая и неверная и отдает другому то, что принадлежит только одному человеку. И ему, Эфраиму, она тоже оказывала ласки, но это были только крохи, упавшие со стола Иосии, это была кража добра, принадлежащего его дяде; Эфраим, краснея, признавался в том, и все-таки он чувствовал себя обиженным, оскорбленным, обманутым и терзаемым жгучей ревностью за человека, которого он почитал и даже любил, хотя и противился его желаниям.
А Иосия? Как он, Эфраим, как вот этот царственный гость и как всякий человек, так и его дядя должен был желать любви этой женщины, несмотря на его странное поведение у колодца, — да и невозможно иначе, — и вот она, в безопасности от гнева бедного узника, трусливо и вероломно наслаждается нежными ласками другого. Сиптах — он слышал это при последней встрече их обоих — враг его дяди, и именно с ним Казана изменяет своему милому!
Прореха в шве палатки могла показать Эфраиму все, что происходило внутри, но он несколько раз закрывал глаза, чтобы не видеть ничего. Правда, чаще это ненавистное зрелище приковывало его с какой-то таинственной, волшебной силой, и тогда ему хотелось прорвать стену палатки, повергнуть презренного на землю и прокричать вероломной женщине в лицо имя Иосии вместе с самыми резкими словами порицания.
Овладевшая им страсть неожиданно превратилась в ненависть и презрение. Он считал себя счастливейшим из людей и теперь вдруг сделался самым несчастным; подобного падения с недосягаемой высоты в невероятную глубину, как ему казалось, никто еще не испытывал.
Кормилица была права: от этой неверной женщины он ничего не мог ожидать для своей будущности, кроме бедствия и отчаяния.
Один раз Эфраим уже вскочил, чтобы убежать, но снова услыхал ее очаровательный смех, и какая-то таинственная сила удержала его и заставила слушать дальше.
Клокотавшая в нем кровь сначала так сильно шумела у него в ушах, что он чувствовал себя неспособным следить за разговором, происходившим в освещенном отделении палатки. Но мало-помалу юноша стал понимать содержание целых фраз и наконец мог уловить все, что они говорили. От его слуха не ускользнуло ни одно слово из их дальнейшего разговора, и этот разговор был способен приковать к себе внимание, хотя заставил Эфраима заглянуть в бездну, которая ужаснула его.
Казана во многом отказывала князю, но это только побуждало наглеца еще с большею страстностью требовать от нее всего — и тела, и души, и в награду за эту жертву он обещал ей место возле него в качестве царицы на египетском троне, к которому он стремился. Он ясно высказал свои намерения, но следовавшие затем слова трудно было понять, так как необузданный жених страшно торопился и часто прерывал наскоро брошенные фразы, чтобы уверить Казану, которой в этот час он отдавал в руки жизнь и свободу, в своей неизменной любви, или успокоить ее, когда преступность его замыслов внушала ей страх и отвращение. Скоро он дошел до разговора о письме, которое принес Эфраим. После того как он прочел его вслух и объяснил Казане, юноша с легкой дрожью почувствовал себя соучастником преступнейшего из всех покушений, и на один момент им овладело желание выдать изменников в руки властителя, погибель которого они замышляли. Однако он отогнал от себя эту мысль и наслаждался только приятным чувством, первым в этот ужасный час, что он держит такого важного господина в своей власти, точно жука на нитке. Сознание этого подействовало на него благотворно и возвратило ему уверенность и мужество. При этом Эфраим вспомнил рассудительные слова дяди: «Не давай ни великим, ни малым права смотреть на тебя иначе как с уважением, и ты будешь держать голову так же высоко, как самый гордый военный герой в пурпурной мантии и золотом панцире».
На постели в доме Казаны в те часы, когда юношу трясла лихорадка, он беспрестанно повторял себе это изречение; но во время пребывания его в оковах и бегства оно исчезло из его памяти. Только в палатке домоправителя Сиптаха, когда ему, освеженному и умащенному, старый раб подал зеркало, он снова вспомнил о нем на один момент, но теперь оно всецело овладело сознанием Эфраима. И странно: этот презренный изменник внутри палатки носил пурпурный плащ и золотой панцирь и имел вид героя войны; однако же он не смел свободно поднять голову, потому что его замысел мог быть выполнен только под темным покровом тайны, боящейся света, и был подобен работе крота, подрывающего почву во мраке.
Орудием Сиптаха был гнусный трилистник — ложь, обман и вероломство, а его помощницей — женщина, ради которой он, Эфраим, к своему стыду, готов был пожертвовать всем, что достойно уважения, что честно и дорого ему.
Самым беззаконным, чего его научили избегать, были ступени той лестницы, по которой вон тот дурной человек внутри палатки намеревался взойти наверх. Эфраим знал это; намерения князя предстали перед ним, как развернутый папирус…
Свиток, принесенный им самим в лагерь, заключал в себе два письма: одно было от заговорщиков, находившихся в Танисе, другое — от матери Сиптаха.
Первые ожидали скорейшего возвращения его и сообщали, что охраняющий дворец царя сириец Аарсу, предводитель иноземных наемников, а также «дом женщин», были готовы принести ему присягу. Как только верховный жрец, одновременно и верховный судья и наместник и хранитель печати провозгласит его, он сделается царем, и во дворце, отворенном для него, он сможет взойти на трон, не встретив сопротивления. Если фараон возвратится, то телохранители схватят его и устранят навсегда. Такое приказание втайне отдал Сиптах, не любивший никаких полумер, между тем как верховный жрец настаивал на том, чтобы держать низверженного фараона в не особенно тяжком заключении.
Опасаться было нечего, кроме преждевременного возвращения Сети, второго сына Марнепта, из Фив, поскольку после смерти старшего брата он стал наследником престола, и почтовые голуби принесли вчера известие, что Сети уже в дороге. Поэтому Сиптаху и могущественному жрецу, намеревавшемуся провозгласить его царем, следовало поспешить.
Против возможного сопротивления со стороны войска тоже были приняты необходимые меры. Как только евреи будут уничтожены, большая часть этого войска, ничего не подозревая о низвержении своего царственного военачальника, будет возвращена в качестве гарнизонов на старые квартиры. Телохранители же присоединятся к Сиптаху, а остальных, которые могут возвратиться вместе с фараоном в столицу, в случае сопротивления нейтрализует или уничтожит Аарсу со своими наемниками.
— Теперь все дело в том, — сказал в заключение князь, потягиваясь с видом человека, окончившего тяжелый труд, — чтобы мне вместе с Баем как можно скорее явиться в Танис, возложить на себя царский венец в храме Аммона, быть провозглашенным и принятым в качестве фараона во дворце. Остальное само собой сделается. Сети, которого они величают наследником, бедняжка, так же слаб духом, как и его отец. Он подчинится обстоятельствам, в противном случае мы принудим его силой. Что же касается Марнепта, отряд телохранителей позаботится о том, чтобы он тоже никогда больше не возвращался во дворец города Рамсеса.
Другое письмо, на имя фараона от матери князя, имело цель избавить Сиптаха от подозрения, будто он из трусости покидает войско перед самым сражением. Мать князя никогда не чувствовала себя здоровее, но это не мешало ей лицемерно жаловаться и уверять, что дни ее сочтены. Она умоляла царя немедленно отпустить к ней сына и верховного жреца Бая, иначе она будет лишена утешения благословить перед смертью свое единственное детище. Кроме того, она сознавала за собой кое-какие прегрешения, и никто, кроме верховного жреца, не мог расположить в ее пользу богов. Без его напутствия она умрет в отчаянии.
Недостойный претендент на царский венец прочел вслух и это письмо. Оно было, по его мнению, мастерским произведением женского ума и хитрости. Читая его, он от удовольствия потирал руки.
Измена, убийство, лицемерие, коварство, осквернение самых святых чувств, все, что есть дурного, было пущено в ход, чтобы возвести Сиптаха на престол. Когда Казана узнала о том, что грозило фараону, то горько заплакала и заломила руки и успокоилась только тогда, когда князь уверил ее, что Горнехт одобряет все предпринятое ими единственно ко благу Египта: власть хотят вырвать из рук царствующего фараона, потому что он губит страну.
Чтение письма матери князя к фараону, которая подстрекала на гнусное преступление родного сына, стало последней каплей, переполнившей сердце Эфраима. Оно затронуло в нем самые чувствительные струны. Молодой еврей привык смотреть на отношения родителей к детям, как на нечто святое. Оскорбление того, что в его глазах заслуживало наибольшего уважения, привело его в ярость. Он сжал кулаки и, грозно потрясая ими, с проклятием вскочил и бросился прочь от шатра.
Эфраим уже не слышал, как вслед за тем Казана потребовала от князя клятвы, что он, достигнув власти, беспрекословно исполнит ее первую просьбу. Она не станет просить у него ни денег, ни подарков, а только права прощать и миловать тех, кого ей укажет сердце. Грядущие события, несомненно, вызовут гнев богов, она, Казана, берет на себя обязанность умилостивить их.
Эфраим не хотел, не мог больше ничего видеть и слышать. Все казалось ему так ужасно, так ненавистно! Впервые сознал он, какой опасности подвергался сам: он мог завязнуть в этом отвратительном болоте и сделаться мерзким, потерянным человеком. «Но все же, — думалось ему, — я никогда не пал бы так низко». Слова дяди опять припомнились юноше. Он гордо поднял голову, расправил плечи и грудь, как бы желая проверить, не сломлены ли его силы, глубоко вздохнул и подумал, что не стоит губить себя из-за дурной женщины, будь она даже прекрасна и соблазнительна, как Казана. Прочь, прочь отсюда, подальше от этих сетей, которые чуть и его не опутали, чуть не втянули в убийство и ложь!
Он решил немедленно идти к своим и быстро направился к выходу из стана; но, едва сделав несколько шагов, поглядел на небо и увидел, что теперь идет всего еще второй час после полуночи. Вокруг все было тихо. Только из-за ближайшей временной изгороди, за которой стояли царские кони, по временам слышалось позвякивание цепи или ржание. Бежать немедля же было бы опасно: его могли заметить и задержать. Благоразумие предписывало обуздать нетерпение и повременить. Взор Эфраима, блуждая по окрестным предметам, остановился на ставке княжеского домоправителя. Из нее вышел старый раб. Он оглядывался по сторонам, очевидно, высматривая своего хозяина. А тот тем временем все еще сидел в шатре князя, дожидаясь его возвращения от Казаны.
Старый раб с самого начала доброжелательно отнесся к Эфраиму, и с добродушной настойчивостью стал приглашать его в ставку, чтобы хорошенько отдохнуть, ибо молодости нужен сон. Эфраим охотно принял приглашение. Теперь только почувствовал он, как сильно устал: ноги его точно были налиты свинцом. Старик отдал ему свою циновку, которую разостлал для него на земле. Едва коснувшись ее, Эфраим почувствовал, как будто у него отнимаются руки и ноги. Тем не менее он намеревался здесь, в тишине, получше обдумать свое положение.
Мысли его прежде всего устремились в будущее, к поручению дяди. Он бесповоротно решил идти к своим. Если евреям удастся спастись от войск фараона, другие могут делать, что хотят, а он соберет своих пастухов, слуг, товарищей и во главе их поспешит в рудники освобождать дядю. Он непременно вернет его престарелому отцу и народу, которому Иисус Навин так нужен. Эфраим уже видел себя во главе добровольцев с боевым топором в руках… но тут сон одолел его. Он заснул так крепко, что даже не видал никаких снов, а когда занялось утро, старый раб с трудом разбудил юношу.
Стан уже пришел в движение. Слуги снимали шатры, нагружали запряженные волами и ослами повозки, ковали лошадей, мыли колесницы, чистили оружие и доспехи, раздавали и торопливо ели утреннюю закуску. Слышался то звук трубы, то громко отдаваемый приказ, а восточная часть стана оглашалась пением жрецов, благоговейно приветствовавших возрождение бога солнца.
К роскошному пурпурному шатру, рядом со ставкой Казаны, который уже разбирали ловкие слуги, подъехала раззолоченная колесница, а за ней и другая такая же.
Князь Сиптах и верховный жрец Бай получили от фараона разрешение ехать в Танис, чтобы принять последний вздох умирающей.
Скоро и Эфраим простился со старым рабом. Он поручил доброму старику возвратить плащ кормилице Казаны и сказать ей, что он решил исполнить ее совет и желание дяди. Затем он пустился в путь.
Эфраим беспрепятственно вышел из стана. Углубясь в пустыню, он внезапно огласил ее криком, каким в былое время сзывал на пастбищах своих пастухов. Звук его голоса разнесся по равнине и спугнул ястреба, который с соседней скалы обозревал окрестность. Птица взвилась. Юноше показалось, что и ему стоит только расправить руки, и они немедленно превратятся в крылья и тоже быстро унесут его вдаль. Никогда еще не чувствовал он себя так хорошо и привольно, никогда не сознавал в себе такой силы. Если бы в это время ему предложили начальство над тысячью в египетском войске, он и теперь, как тогда, перед разрушенным жилищем Нуна, отвечал бы, что желает лишь одного: по-прежнему оставаться пастухом и управлять только своими стадами и слугами. Он круглый сирота, но у него есть народ, к которому он принадлежит: где водворится этот народ, там будет и его дом.
Как странник, издалека возвращающийся на родину, Эфраим все ускорял свой шаг.
Была ночь, когда юноша прибыл в Танис; месяц едва зарождался в небе, и полный серебристый круг теперь бледнел на его глазах перед утренней зарей. Но Эфраиму казалось, что прошли годы после разлуки его с Мариам. И в самом деле, он так много пережил в последние дни, что набрался опыта на целую жизнь.
Он ушел от соплеменников юношей, а возвращался к ним зрелым мужем. Благодаря последней страшной ночи, он в одном только не изменился — и в самом главном: возвратясь к своим, он может по-прежнему смело смотреть в глаза всем, кого любит и почитает. Да, и больше того! Эфраим покажет всем, кого он особенно чтит, что имеет право высоко держать голову. Он заплатит свой долг Иисусу Навину. Он за все вознаградит дядю, который остался в цепях, чтобы он, Эфраим, мог стать свободным, как птица.
Эфраим уже с час неутомимо стремился вперед, когда набрел на полуразрушенную сторожевую башню. Он поднялся на нее, чтобы обозреть местность. Величественная вершина горы Ваал-Цефон [36] уже давно виднелась на черте небосклона. Теперь, по эту сторону ее, перед Эфраимом открылся северный край Тростникового моря.
Свирепствовавшая ночью буря улеглась, но сильное волнение изумрудно-зеленой водной стихии показывало, что она все еще не могла успокоиться. По безоблачному до тех пор небу опять забегали клочки темных туч, которые как бы предвещали новую бурю.
«На что, — думал Эфраим, осматриваясь кругом, — могли рассчитывать еврейские вожди, собираясь разбить свой стан между Ваал-Цефоном и Пи-Гахирофом [37]. Последний был теперь перед ним как на ладони. Стан беглецов со своими хижинами и шатрами возвышался на берегу узкой заводи, которую высылал далеко в глубь суши северо-западный рукав Тростникового моря. Сиптах говорил это Казане. Неужели князь опять обманул? Нет, вероломный изменник на сей раз, против своего обыкновения, сказал правду.
Между поселком и морем, там, где ветер носил легкие струйки дыма, соколиный глаз Эфраима различил множество светлых пятен, напоминавших стада овец вдали, а среди и возле них — какое-то движение. Это был стан его соплеменников. Пространство, теперь отделявшее его от них, показалось ему ничтожным. Но чем ближе были они, тем сильнее волновала Эфраима их судьба. Его великому народу через несколько часов грозила опасность вместе с женами и детьми, со стадами и шатрами погибнуть от руки многочисленного и сильного врага, от которого он не может уйти.
По мере дальнейшего осмотра местности, сердце юноши все болезненнее сжималось. Нечего было и думать об отступлении на восток, где волновалась глубокая морская заводь, или на юг, где бурлило само Красное море, или на север, откуда надвигались полчища фараона. К западу тянулась обнаженная Эфамская степь. Если бы евреям и удалось туда проникнуть, это все равно ни к чему не привело. Они опять очутились бы в египетских владениях, и исход из Египта все равно бы не состоялся.
Следовательно, евреям ничего больше не оставалось, как решиться на бой. При этой мысли кровь застывала в жилах юноши. Ему была хорошо знакома плохо вооруженная и столь же плохо обученная, частью дикая и необузданная, частью жалкая и трусливая толпа евреев. А с другой стороны, за последние дни он успел убедиться в превосходстве египетского войска с его бесчисленной пехотой и великолепными боевыми колесницами.
Эфраим так же, как перед тем его дядя, пришел к убеждению, что народ его погибнет, если не поможет ему сам Бог его праотцов. В дни детства и теперь, отправляя его в Танис, Мариам со сверкающими глазами твердила ему о великом, всемогущем Боге, Который возлюбил народ еврейский больше всех других народов. Но вдохновенная речь пророчицы не пробуждала в его детском сердце никаких других чувств, кроме благоговейного трепета перед непостижимым величием и грозным могуществом этого Бога.
Гораздо легче и приятнее было ему возноситься духом к богу солнца. Благодушный и веселый наставник Эфраима, египетский жрец в Питоме, часто водил его в храм этого бога. Позднее юноша и совсем перестал ощущать потребность в обращении к какому бы то ни было божеству. Он ни в чем не нуждался. Другие дети во всем следовали примеру родителей, он же рос сиротой. Пастухи, сторожившие его стада, сначала в шутку, потом серьезно величали его своим господином, и это преждевременно развило в нем сознание собственной силы и сделало его тем гордым, своевольным юношей, каким оставался он до сих пор.
Ему, здоровому, сильному, властному, повиновались старшие. Другие в нем нуждались, сам же он привык полагаться только на себя. О чем-нибудь просить, о мелочи или о важном деле, — было ему равно невыносимо. Он не считал нужным прибегать и к Богу, Который стоял так высоко над ним, что казался ему чуждым и недоступным.
Но теперь, ввиду неотвратимой опасности, грозившей его народу, Эфраим впервые понял, что в приближающейся беде спасения можно ждать только от всемогущей руки Того, в чьей власти разбить вдребезги и небо, и землю.
Кто таков он, Эфраим, чтобы утруждать мольбами о себе Бога, величие Которого Мариам и Иосия изображали ему в таких ярких красках? Иное дело многотысячный народ, самим Богом избранный для великой будущности. Народ этот на краю гибели. Эфраим, который теперь к нему возвращается прямо из неприятельского стана, может быть, один измерил всю глубину грозящей ему опасности.
И его вдруг охватило убеждение, что Господь, погруженный в заботы о небе и земле, о солнце и звездах и на мгновение забывший о судьбе своего народа теперь в лице его, Эфраима, посылает ему спасителя. Он все еще стоял на вершине разрушенной башни и, воздев руки, устремил взор в небо.
Темные тучи, которые Эфраим уже давно заметил на горизонте, быстро надвигались с севера и постепенно застилали небосклон. Совсем было стихший при солнечном восходе ветер опять задул и вскоре превратился в бурю. Все чаще и чаще чередовались порывы его и, проносясь над перешейком, гнали высокие столбы желтого песка.
Желая, чтобы молитва его была услышана, Эфраим, стараясь перекричать бурю, во всю силу своей молодой груди воскликнул:
— Адонаи, Адонаи!… [38] Ты, именуемый Иеговою, великий Бог праотцов моих, услышь меня, Эфраима! Я молод, неопытен, и в ничтожестве своем не стою Твоего внимания. Мне ничего не надо для себя, но народ, Тобою избранный, ныне в великой нужде. Он, по слову Твоему, покинул и безопасные дома свои, и тучные пастбища, так как Ты обещал ему лучшую землю. Но вот за ним гонятся фараоновы полчища. Народ наш не в силах побороть их. Поверь мне, Или [39], мой Господь! Я был в египетском стане и все видел. Так же верно, как то, что я здесь перед Тобою, знаю я, что нам не одолеть их. Фараонова рать растопчет нас, как стадо волов топчет былинки на пастбищах. Мой — и Твой также — народ устроил стоянку там, где фараон, окружив его со всех сторон, отрежет ему все пути ко спасению: мне это ясно видно отсюда! Внемли же мне, Адонаи! Можешь ли Ты меня слышать в эту страшную бурю? Конечно, можешь, ибо Тебя зовут Всемогущим. А если Ты слышишь и вникаешь в смысл моих слов, то зришь и правду их? Вспомни обет, который Ты дал народу через раба твоего Моисея! У египтян я видел разврат, убийство и постыдное вероломство. Даже в меня, грешного и неопытного юношу, вселили они ужас и отвращение. Ты же — источник всякого добра и, по свидетельству Мариам, сама правда! Разве можешь Ты, как они, нарушить Свое обещание? Нет, нет, Всесильный, Великий, одна мысль о том уже грешна! Услышь меня, Адонаи! Смотри: на севере поднимаются и готовы на нас ринуться египетские полчища; на юге Твой народ в безысходной беде. Но Ты, Всемогущий, Премудрый, сумеешь его спасти. Ты обещал им новую землю; но если они погибнут, кто же вступит в нее?
Так заключил Эфраим свою детскую, нескладную, но прямо из души вылившуюся молитву.
Он опрометью бросился вниз по крутой лестнице полуразвалившейся башни и пустился бежать по обнаженной пустыне так быстро, как будто вторично спасался от погони. Буря, несшаяся с северо-востока, подгоняла его, и, вероятно, думалось ему, точно так же ускоряла и движение фараоновой пехоты. Вожди его народа, должно быть, не подозревают, как многочисленна надвигающаяся на них рать, и не сознают всей опасности своего положения. Зато он, Эфраим, ясно видит ее и предупредит их. И он несся с такой быстротой, как будто буря дала ему крылья.
Вот и селение Пи-Гахироф. Эфраим не останавливался в нем, но мимоходом заметил, что оно совсем опустело: ни людей, ни скота не было видно. Должно быть, жители, испуганные приближением египетских войск, а может быть, и евреев, поспешили куда-нибудь скрыться.
Эфраим все шел, а небо, яркая лазурь которого в здешних местах вообще редко омрачается, на этот раз становилось все мрачнее, и буря разыгрывалась. Вихрь развевал волосы вокруг разгоряченного чела юноши. Эфраим прерывисто дышал, но не прекращал бега. Ноги его, напротив, с каждым шагом вперед все быстрее и быстрее отделялись от земли.
По мере приближения к морю рев бури усиливался, и грознее шумели волны, радостно кидаясь на камни у подножия Ваал-Цефона и с плеском разбиваясь о них. Всего только час минул с тех пор, как Эфраим оставил башню, а вот уж и передовые палатки еврейского стана. Его встретил хорошо знакомый окрик: «Нечисто!» Перед ним мелькнули печальные одежды, а из обтрепанных ветром ставок выглянули изможденные, покрытые струпьями лица. Он понял, что наткнулся на стоянку прокаженных, которым Моисей велел располагаться на отдых за чертой общего стана.
Но Эфраим так торопился, что не захотел идти в обход, а с ходу промчался между палатками несчастных. Не остановила его высокая пальма, с корнем вырванная ветром и рухнувшая так близко от него, что верхушкой даже задела юношу.
Но вот наконец и основной стан. И тут попадались обрушенные шатры и поваленные изгороди.
У первых же знакомых, которые ему встретились, Эфраим осведомился о своем деде Нуне и об Иосии.
Нун, вместе с Моисеем и другими старейшинами, пошел на морской берег. Эфраим последовал за ними. Влажный, пропитанный солью воздух освежил его. Однако он не мог немедленно вступить в объяснение со старейшинами. Он воспользовался этим временем, чтобы перевести дух, и, остановясь на некотором расстоянии, наблюдал, как они вели оживленные переговоры с финикийскими мореходами.
Таким молодым людям, как Эфраим, воспрещалось вмешиваться в совещания старейшин. На этот раз речь шла, очевидно, о море. Евреи беспрестанно указывали на залив, а финикияне то на залив, то на гору, на небо и на север, откуда неслась все свирепевшая буря.
Выступ каменной стены защищал старейшин от ветра. Но, несмотря на это, они, опираясь на посохи и цепляясь за камни, все-таки с трудом держались на ногах.
Наконец совещание окончилось, и, как только исполинская фигура Моисея вместе с другими знатнейшими евреями медленными, но уверенными шагами направилась далее к морскому берегу, Нун, поддерживаемый одним из своих пастухов, пошел к лагерю, с трудом двигаясь против ветра. Он был в траурной одежде, и его красивое лицо, обрамленное белыми волосами на голове и подбородке, носило отпечаток горя, удручающего душу и тело.
Он поднял свою поникшую голову только тогда, когда Эфраим окликнул его. Увидев внука, он в изумлении и испуге отшатнулся назад и крепче оперся на сильного раба, который его поддерживал.
От вольноотпущенных слуг, оставленных в Танисе, Нун получил известие об ужасной судьбе, постигшей его сына и внука. Старик разорвал свою одежду, посыпал голову пеплом, облекся в траур и предался печали о любимом, прекрасном единственном сыне и цветущем внуке. Теперь Эфраим стоял перед ним, и, после того как внук положил ему руки на плечи, поцеловал и снова поцеловал, он спросил, жив ли еще его сын и помнит ли он о своем народе? Как только юноша подтвердил это, старик схватил его за плечо, чтобы он, его кровь, а не чужой, поддерживал его.
Нуну предстояло выполнить серьезные и неотложные обязанности, от которых ничто не должно было отвлекать его, но когда пылкий юноша по пути к лагерю сквозь шум бури прокричал ему в ухо, что он намерен собрать своих пастухов и сверстников для освобождения Иосии, называющегося теперь Иисусом, то старик оживился и приободрился, прижав внука крепко к сердцу, он сказал с жаром, что хотя он и старик, но все-таки не слишком стар для того, чтобы владеть секирой, и вместе с молодыми сподвижниками Эфраима готов освободить своего сына. При этом глаза его, увлажненные слезами, засверкали; свободной рукой он указал вверх со словами:
— Бог моих отцов, на Которого я научился уповать, бодрствует над своими верными. Видишь ли ты там, в конце морского залива, песок и раковины? Еще час тому назад там была вода и шумели волны с белой пеной. Вот, мальчик, путь, обещающий нам спасение, потому что, если ветер продлится, он отгонит воды еще дальше в море. Это обещают нам финикияне, опытные мореходы. Они говорят, что их бог северного ветра к нам благосклонен, и там, на вершине Ваал-Цефона, их мальчики зажгли уже для него огонь, но мы знаем, что другой Бог открывает нам путь в пустыню. Нам приходилось плохо, мальчик!
— Да, дед! — воскликнул юноша. — Вы попали точно лев в западню, а войско египтян — оно от первого до последнего человека прошло перед моими глазами, — войско египтян сильно и непобедимо. Я спешил, как только несли меня ноги, чтобы передать вам, как много в нем меченосцев, лучников, пращников, коней и колесниц…
— Мы знаем это, знаем, — прервал внука старик, — но вот мы и пришли.
Нун указал на опрокинувшуюся палатку, которую его слуги старались подпереть и возле которой совсем престарелый еврей, его отец Элисам, сидел на походной скамье, закутанный в платки. Нун торопливо сказал отцу несколько слов и подвел к нему Эфраима. Пока тот обнимал своего прадеда, а Элисам гладил и ласкал его, Нун с юношеской живостью отдавал приказания своим пастухам и слугам:
— Пусть валится палатка, оставьте ее, эй вы! Буря начала работу за вас. Наматывайте парусину на колья, нагружайте телеги и вьючных животных. Живо! А ты, Гадди, ты, Самма, и ты, Иаков, отправляйтесь к другим! Час выступления настал! Каждый должен спешить и запрягать повозки, снаряжать животных как можно скорее. Господь указывает нам путь, и во имя Его и по приказанию Моисея — пусть каждый поторопится! Велите всем сохранять прежний порядок. Мы идем во главе, затем следуют другие колена и, наконец, иноплеменники и прокаженные — мужчины и женщины. Радуйтесь вы, люди, потому что наш Бог совершает великое чудо и делает море сухим для нас, Его избранного народа. Пусть каждый благодарит Его при работе и молится Ему от глубины сердца, чтобы Он покровительствовал нам далее. Кто не желает, чтобы его убил меч или раздавила тяжесть колесниц фараона, тот пусть напряжет все свои силы и забудет об отдыхе. Живо сворачивайте вон ту палатку, а эту я сверну сам. Помогай, мальчик! Посмотри на детей Манассии: они уже укладываются. Хорошо, Эфраим, ты умеешь владеть руками! Ах, как много еще у нас дела! Голова, старая, забывчивая голова! На меня так много навалилось разом. У тебя, Рафу, проворные ноги; а я принял на себя обязанность побудить чужих к скорейшему выступлению. Беги и поторопи их, чтобы они не слишком отставали от нашего народа. Время дорого! Господи, Господи, Боже мой, протяни охраняющую руку над Твоим народом и отодвинь волны еще дальше бурей, твоим дыханием! Пусть каждый безмолвно молится во время движения; Вездесущий, Который смотрит в сердца, услышит его молитву. Эта тяжесть слишком велика для тебя, Эфраим, ты надорвешься. Но нет, мальчик одолел ее! Подражайте ему вы, люди, а вы, что из Суккота, радуйтесь силе вашего молодого господина!
Эти слова относились к пастухам, слугам и служанкам Эфраима, из которых многие среди работы приветствовали его возгласами, целовали его в руку или плечо и высказывали радость по случаю его возвращения. Они увязывали и нагружали, свертывали, укладывали вещи или энергичными ударами и криками сдерживали вместе скот, напуганный бурей.
Жители Суккота подражали своему молодому господину, жители Таниса — внуку своего, а другие владельцы стад и незначительные люди из племени Эфраима, повозки которых окружали шатер их главы Нуна, делали то же, чтобы не отставать от других, и все-таки их работа длилась несколько часов, прежде чем посуда, весь скарб, пища для людей и скота были уложены в повозки или нагружены на вьючных животных, а старики, больные и слабосильные усажены на носилки или в телеги.
По временам буря доносила издали звуки густого баса Моисея или более высокий голос Аарона до места, где работало колено Эфраимово. Но ни они, ни люди из племени Иуды не нуждались в понукании, так как во главе последних стояли Гур и Наасон, а первому помогала Мариам, его новобрачная супруга.
Совсем иначе шло дело у остальных колен и у иноплеменников; упрямство и трусость их вождей были причиной задержки, поставившей народ в опасное положение.
XXII
Прорвать центр Эфамской крепостной линии и выйти далее к северо-востоку на ближайший путь, ведущий в Палестину, оказалось невозможно; но и второй план Моисея — обойти со своим народом крепость Южный Мигдол [40] тоже представлялся невыполнимым, так как разведчики сообщили, что его гарнизон получил сильное подкрепление. Тогда толпа приступила к Божьему человеку и объявила ему, что лучше вернуться домой и умолять фараона о помиловании, чем подвергнуть себя самих, своих жен и детей истреблению.
Потребовалось много дней, для того чтобы успокоить недовольных; но когда явились новые соглядатаи с известием, что идет фараон с сильным войском, то, казалось, наступил момент для принуждения странников идти напролом. Моисей пустил в ход все обаяние своей властной личности, Аарон всю силу своего красноречия, а старый Нун и Гур действовали примером собственной отваги, чтобы ободрить и убедить маловеров и сомневающихся. Но страшная весть лишила большинство евреев последних остатков самообладания и веры в Бога, и толпа уже решила обратиться к фараону с уверением в своем раскаянии, когда гонцы, посланные ей тайно от своих вождей, вернулись. Они утверждали, что приближающемуся войску отдан приказ не давать пощады ни одному из евреев, и даже тем, которые стали бы умолять о милосердии, ударами меча показать, как наказывает фараон людей, нечестивое чародейство которых принесло бедствие и смерть столь многим египтянам.
Слишком поздно поняли они наконец, что возвращение угрожает им еще более верной гибелью, чем отважное движение вперед. Но когда способные носить оружие евреи, под предводительством Гура и Нуна, подошли уже близко к Южному Мигдолу, то дружно обратились в бегство, как только услыхали звук египетских военных труб. Они вернулись к народу измученные, подавленные, упавшие духом, и с ними до лагеря дошли преувеличенные вести о военной силе фараона. Тогда смертельный ужас и отчаяние овладели даже самыми мужественными людьми. Все увещания оказывались напрасными, все угрозы были тщетны, и бунтующая толпа увлекла с собою вождей. После непродолжительного странствования евреи дошли до Тростникового моря и, очутившись перед его глубокими зелеными волнами, были принуждены отказаться от бегства на юг.
Таким образом, народ стал лагерем между Пи-Гахирофом и Ваал-Цефоном, и здесь его вождям снова удалось напомнить впавшим в уныние людям о Боге их отцов.
Ввиду неизбежной гибели, от которой не могло спасти никакое человеческое могущество, отчаявшиеся люди снова научились устремлять взоры к небу. Но душа Моисея была удручена заботой и состраданием к бедным, подвергшимся жестоким испытаниям толпам, которые, следуя его призыву, теперь снова обрели силы.
В последнюю ночь Моисей взошел на одну из меньших возвышенностей горы Ваал-Цефон и среди свиста бури, при шуме морских волн обратился к Господу, своему Богу, и почувствовал Его близость. Он не уставал просить его сострадания к бедствию своих соплеменников и умолял о спасении их.
В тот же самый час и жена Гура Мариам пришла на берег моря, чтобы под тенью одинокой пальмы просить о том же Всевышнего, доверенною служительницею Которого она и теперь по-прежнему считала себя. Она указывала Ему на участь жен и детей, которые в уповании на Него отправились на чужбину. Опустившись на колени, пророчица страстно молилась также и о друге своей юности, томившемся теперь в ужасной неволе. Но ее молитва о нем была робкая и тихая, она взывала к небу: «Не забудь, Господи, несчастного Иосию, которого я, по твоему повелению, назвала Иисусом, хотя он оказался менее послушным твоему призыву, чем мой брат Моисей и мой супруг Гур! Вспомни также о юном Эфраиме, внуке Нуна, твоего верного слуги!»
Затем Мариам вернулась в шатер своего мужа; между тем как многие менее значительные мужи и истерзанные страхом женщины из народа перед простыми палатками или на жалких увлажненных слезами циновках изливали свою смятенную душу перед Богом отцов и вверяли ему заботу о людях, наиболее близких их сердцам.
Таким образом, в эту ночь лагерь превратился в храм, где знатный и незнатный, глава семейства и хозяйка дома, господин и раб, и даже несчастные прокаженные, все искали и находили своего Бога.
Наконец наступило утро, в которое Эфраим сквозь шум бури произнес свою детскую молитву, и море начало свой отлив. Когда народ собственными глазами увидел чудо, совершаемое Всевышним для своих избранников, то впавшие было в отчаяние и уныние сделались снова верующими и исполненными радостной надежды людьми.
Не только среди эфраимитов, но и среди других колен и даже иноплеменных и прокаженных возродившаяся уверенность побуждала каждого энергично снаряжаться к дальнейшему странствованию, и в первый раз народ собрался и расположился в порядке без споров и ссор, без насилия, без проклятий и слез.
После заката солнца Моисей, с высоко поднятым жезлом, и Аарон, с молитвами и пением гимнов, пошли впереди всех к оконечности морской бухты. Неослабевавшая буря совершенно освободила ее от волн и наклоняла пламя и дым факелов, предшествовавших каждому колену, к юго-западу.
За главнейшими вождями, на которых были устремлены глаза всех с упованием, следовал старый Нун с эфраимитами. Морское дно, на которое они вступили, состояло из твердого влажного песка, по которому даже стада шли, как по гладкой дороге, едва заметно наклонявшейся к морю.
Эфраим, в котором старейшины видели уже будущего вождя, получил, по предложению своего деда, поручение заботиться о том, чтобы движение не останавливалось, и ему вручен был жезл вождя. Рыбаки, хижины которых стояли у подошвы Ваал-Цефона, были того же мнения, что и финикийские шкиперы, а именно: что, как только луна достигнет своей наибольшей высоты, море вернется в свое старое ложе, и поэтому необходимо двигаться без остановки.
Буря подбадривала Эфраима, и когда он с развевавшимися волосами, устремляясь при выполнении своих новых обязанностей то туда, то сюда, победоносно боролся с ветром, ему казалось это предвкушением отваги, таившейся в его душе.
Так подвигался еврейский народ во тьме, быстро наступившей вслед за вечерними сумерками. Резкий запах водорослей и рыб, оставшихся на морском дне, нравился теперь юноше, чувствовавшему себя взрослым мужчиной, больше сладкого аромата нарда в палатке Казаны. Только один раз у него промелькнуло воспоминание о прекрасной египтянке, но вообще в продолжение этих часов у него не оставалось ни одного мгновения, для того чтобы думать о ней. Было полно хлопот: то следовало немедля устранить какие-нибудь обломки, брошенные волнами на дорогу, то схватить за рога и тащить впереди стада козла, который отказывался ступить на мокрую почву, или перегнать коров и вьючных животных через какую-нибудь лужу, которая их останавливала.
Не один раз также приходилось ему подпирать плечом какую-нибудь тяжело нагруженную телегу, колеса которой слишком глубоко увязли в песке; когда во время этого удивительного и богатого событиями странствия возник у самого египетского берега спор между двумя толпами пастухов относительно того, кому идти впереди, то Эфраим быстро решил этот вопрос посредством жребия. Двух маленьких девочек, которые плакали и упирались, не желая идти через лужу, между тем как их мать должна была перебираться через нее с грудным ребенком на руках, он, недолго думая, сам перенес через мелкую воду, а нагруженную телегу, у которой сломалось колесо, велел при свете факелов сдвинуть прочь с дороги и приказал сильным рабам, несшим только небольшие узелки, взвалить себе на плечи мешки, тюки и даже обломки повозки. Плакавшим женщинам и детям Эфраим по временам бросал слова утешения; если же при свете факелов ему попадалось на глаза лицо какого-нибудь старого товарища, на содействие которого он надеялся для освобождения Иисуса Навина, то он в кратких словах описывал ему отважный подвиг, который он намеревался совершить вместе с ним.
Носители кадильниц, обыкновенно предшествовавшие путешественникам, должны были на этот раз замыкать их ряды, иначе буря, налетавшая с северо-востока, гнала дым им в лицо. Они стояли на египетском берегу, и уже мимо них прошел весь народ, кроме прокаженных, шедших в самом конце, позади иноплеменников. Эти последние представляли собою пеструю толпу и состояли из азиатов семитской крови, которые бежали от принудительных работ и тяжких наказаний, налагаемых на них египетским законом, из мелких торговцев, находивших покупателей для своих товаров между тысячами переселявшихся евреев, а также из пастухов племени шазу, которым пограничные власти запрещали вернуться домой. Эфраиму трудно было сладить с ними, так как они отказывались оставить твердую землю, пока прокаженные не будут отодвинуты дальше от них. Но юноша, с помощью старейшин колена Вениаминова, которое предшествовало иноплеменникам, и их привел к послушанию. Он пригрозил им предсказанием финикиян и рыбаков, что, как только луна станет склоняться к закату, море возвратится в свое ложе. Наконец он убедил разумнейшего из вожаков прокаженных, бывшего египетского жреца, соблюдать по крайней мере половину требуемой дистанции.
Между тем буря продолжала свирепствовать со всевозраставшей силой, и ее шум и протяжные завывания, сливавшиеся с ревом возмущенных волн и грохотом прибоя, заглушали командные крики старейшин, вопли женщин, плач детей, рев и блеяние стад и лай собак. Голос Эфраима был слышен только ближайшим к нему людям; к тому же многие факелы погасли, остальные же едва мерцали. Когда Эфраим, тяжело дыша, медленно шел позади последних групп прокаженных по влажному дну, стараясь отдохнуть, кто-то позади окликнул его по имени. Обернувшись, он увидел одного из товарищей своих детских игр, вернувшегося из разведки. Обливаясь потом и задыхаясь, разведчик прокричал юноше, в руке которого заметил жезл вождя, что колесницы фараона идут впереди остального войска. Он оставил их у Пи-Гахирофа, и если они не остановились там, чтобы дать другим отрядам время присоединиться к ним, то могут настигнуть беглецов каждую минуту. Затем он побежал мимо прокаженных к вождям; но Эфраим остановился среди дороги, приложил руку ко лбу, и опасения овладели его душой с новой силой.
Эфраим знал, что мужчин, женщин и детей, которых он только что видел в страхе и растерянности, приближавшееся войско раздавит, как кучу муравьев. Все его чувства стали снова побуждать его к молитве, и из стесненного сердца вырвался умоляющий крик:
— Или, Или, великий Бог в вышине! Ты знаешь, я говорил уже это — и Твое всевидящее око должно уловить, несмотря на тьму настоящей ночи, — в каком положении находится народ твой, который Ты обещал привести в новую страну. Вспомни о своем обещании, Иегова! Будь милостив к нам, Сильный, Великий! Наш враг приближается с необоримым войском! Удержи его, спаси нас! Защити бедных жен и детей! Спаси нас, будь милостив к нам!
Во время этой молитвы он поднял глаза и на вершине горы Ваал-Цефон увидел красное пламя костра. Костер там был зажжен финикиянами, чтобы расположить Ваала, бога северного ветра, в пользу родственных им по крови евреев и настроить его враждебно против ненавистных египтян.
Это был дружеский поступок; но Эфраим возлагал надежду на другого Бога, и, обозревая затем небесный свод, по которому стремительно проносились серые и черные тучи, то сходясь вместе, то разрываясь и ища новых путей в высоте, он между двумя отделившимися одна от другой массами облаков заметил серебристый блеск полной луны, достигшей теперь высшей точки своего пути. Тогда юношей снова овладело уныние. Он вспомнил о предостережении людей, сведущих относительно ветров и погоды. Если морской прилив снова наполнит прежнее море, то евреи погибнут, так как и к северу, где между илом и камнями стояли глубокие лужи, не было выхода. Если через несколько часов волны прихлынут обратно, то племя Авраамово исчезнет с лица земли, подобно тому, как письмена, начертанные на восковой дощечке, исчезают под давлением теплой руки.
Но разве этот обреченный погибели народ не тот же самый, который отметил сам Господь, чтобы сделать его Своим избранником? Может ли Он отдать его в руки своих собственных врагов? Нет, нет, тысячу раз нет! И луна, предполагаемая причина погибели еврейского народа, незадолго перед этим вступила с ним в союз и благоприятствовала его бегству. Только уповать и надеяться, только не терять бодрой уверенности!
Притом еще ничто, решительно ничто не потеряно! Что бы ни случилось, весь народ не может погибнуть, а колено Эфраимово, идущее во главе странников, несомненно, уцелеет, ведь многие должны достигнуть того берега, может быть, большее число, чем он думает, потому что бухта неширока, и даже замыкавшие шествие прокаженные продвигаются довольно быстро по мокрому песку.
Эфраим остановился позади всех, чтобы прислушаться, не приближаются ли вражеские воины. На берегу бухты он припал ухом к земле: он мог положиться на остроту своего слуха, так как часто прислушивался таким способом к отдаленному топоту заблудившегося скота или, на охоте, к приближению стада антилоп или газелей.
Самому Эфраиму, который находился позади всех, угрожала наибольшая опасность; но какое ему было дело до этого? Он охотно пожертвует своей молодой жизнью ради спасения других!
С тех пор как Эфраиму вручили жезл вождя, ему казалось, что он принял на себя обязанность охранять своих соплеменников, и потому он все время прислушивался и наконец ощутил едва уловимое колебание почвы и затем тихий гул. Это был неприятель, это, наверное, были колесницы фараона! Как быстро мчали их вперед гордые кони!
Юноша вскочил, точно почувствовав удар хлыста, и побежал дальше, чтобы поторопить других. Какая-то подавляющая духота чувствовалась в воздухе, несмотря на бушевавшую бурю, успевшую погасить множество факелов! Луна скрылась за тучами, но все ярче и ярче блистал колеблющийся огонь костра на вершине высокой горы Ваал-Цефон. Искры вырывались из его середины и сверкающими брызгами летели к западу, так как ветер дул теперь с востока.
Едва заметив это, Эфраим поспешил к мальчикам, несшим кадильницы и находившимся позади шествия, чтобы приказать им как можно скорее наполнить эти медные сосуды и позаботиться о том, чтобы из них поднимался густой дым. Он думал, что буря понесет дым навстречу коням, запряженным в колесницы, испугает или хоть ненадолго задержит их.
Никакое средство не казалось ему слишком ничтожным, каждое выигранное мгновение он считал драгоценным, и как только убедился, что облака дыма выходят из кадильниц в изобилии и, захватывая дыхание, распространяются над дорогою, которую народ оставил за собою, то побежал вперед, догнал старейшин и прокричал, что колесницы фараона недалеко и необходимо ускорить движение. И все переселенцы, в том числе носильщики, возчики и пастухи, собрали оставшиеся силы, чтобы как можно скорее продвигаться вперед; и хотя ветер, все упорнее дувший с востока, затруднял движение, однако страх перед приближавшимися преследователями удвоил силы беглецов.
Подобно пастушьей собаке, охраняющей и погоняющей стадо, юноша шел впереди вождей колен, которые одобрительно кивали ему, когда он показывался, и когда Эфраим пробирался через бредущие толпы и шел вперед против бури, то, как бы в награду за его труды, восточный ветер донес до него какие-то странные крики. Чем ближе Эфраим подвигался к месту, откуда доносились они, тем громче они раздавались и тем более он убеждался в том, что это были крики радости и ликования, какие давно уже не вырывались из груди евреев.
Эти крики ободрили юношу, подобно тому как прохладное питье освежает после продолжительной жажды; он не мог сдержать радости и закричал в восторге: «Спасены, спасены!»
Два колена уже вступили на восточный берег залива, и от них исходили крики ликования, которые, вместе с огнем, вздымавшимся из больших котлов со смолой, поставленных у самого берега, должны были поднять дух приближавшихся путников и придать им силы. При свете этих жаровен он увидел величественную фигуру Моисея на прибрежном холме. Моисей простирал свой жезл к морю, и этот образ запечатлелся в душе Эфраима и остальных и сильно поднял уверенность его сердца. Моисей был доверенным Всевышнего, и пока он держал свой жезл, волны оставались неподвижными, точно очарованные. Бог через своего слугу запрещал им возвращаться в их ложе!
Эфраиму уже не нужно было обращаться к Всемогущему: подобное дело принадлежало этому возвышенному, великому человеку; но юноша все-таки обязан был исполнять по-прежнему свою обязанность и наблюдать за каждым из идущих людей.
Он вернулся назад, против потока двигавшейся толпы, до прокаженных и мальчиков с кадильницами и кричал каждому отдельному отряду:
— Спасены, спасены! Жезл Моисея укрощает волны! Уже многие вступили на берег! Благодарите Господа! Вперед, чтобы и вы могли принять участие в ликовании! Взгляните на те два красные огня, их зажгли спасенные. Между ними стоит служитель Господа с поднятым жезлом!
Затем Эфраим стал на колени и опять прижал ухо к мокрому песку. Теперь он явственно услыхал вблизи стук колес и топот быстро бегущих коней.
Он продолжал еще прислушиваться, когда этот шум постепенно утих, и Эфраим более уже не слышал ничего, кроме воя яростной бури и грозных ударов высоко поднимавшихся волн или отдельных криков, доносимых восточным ветром.
Колесницы домчались до свободного от воды дна бухты и остановились на довольно значительное время, прежде чем решились продолжать свое движение по столь опасному пути. Но вот прозвучала военная команда, и снова раздался грохот колес. Он приближался медленнее, чем прежде, но все же скорее, чем мог идти еврейский народ.
И для египтян путь тоже оставался свободным от волн; но если бы только евреи сохранили хоть на короткое время свое преимущество, им нечего было бы бояться в будущем, так как спасенные могли бы ночью рассеяться по горам пустыни и скрываться во тьме, куда не могла последовать за ними ни одна колесница. Моисей знал эту страну, здесь он так долго жил в качестве беглеца; нужно было теперь только уведомить его о близости неприятеля. Эфраим поручил это одному из друзей детства, происходившему из колена Вениаминова, и тот скоро добрался до спасительного берега; сам же он остался позади, для наблюдения за приближавшейся военной силой, потому что он уже различал, не припадая к земле, несмотря на бурю, стук колес и ржание коней. Прокаженные, тоже услыхавшие эти звуки, стонали и жаловались; они видели себя уже повергнутыми на землю, раздавленными или загнанными в холодную бездну вод, так как дорога сузилась и море, по-видимому, намеревалось снова завладеть оставленным им пространством. Люди и скот не могли уже идти такими широкими рядами, как прежде; отдельные части шествия сбивались в кучу, замедляли свое движение и теряли драгоценное время: находившиеся с правой стороны шли уже вброд через прибывавшую воду, торопливо, со страхом, так как издали уже слышались команды египетских военачальников.
Однако враги принуждены были приостановиться, и Эфраим сразу понял причину этой остановки. Песок становился все более влажным, и тонкие колеса боевых колесниц глубоко врезывались в дно и порой даже погружались в него до самых осей.
Под покровом тьмы юноша подобрался на возможно близкое расстояние от преследователей и услыхал здесь — ругань, там — гневное приказание, удар плети, и, наконец, до него явственно донеслись слова какого-то военачальника, обращенные к соседу:
— Проклятие! Если бы только они дали нам выступить до полудня, не дожидаясь совпадения предзнаменований и торжественного введения Анны в должность на место Бая, то нам ничего бы не стоило покончить с ними, мы захватили бы их, как стаю перепелов! Верховный жрец в прежние времена был так мужествен на войне, и вот теперь отказывается от командования из-за сострадания к умирающей женщине!
— Матери Сиптаха, — заметил другой, должно быть, в качестве смягчающего обстоятельства. — А все-таки и двадцать принцесс не должны были отвлечь его от исполнения своей обязанности по отношению к нам. Если бы князь остался, нам не было бы надобности загонять своих кляч до смерти, да еще в такое время, когда каждый благоразумный начальник позволяет своим людям посидеть у лагерных огней, поужинать и поиграть в шашки. Понукай коней, Гетер! Мы опять вязнем в песке!
Вслед за тем позади первой колесницы раздался громкий крик, и Эфраим услыхал новый голос:
— Вперед, пусть хоть лошади все передохнут!
— Если бы возможно было вернуться, — снова послышался голос главного начальника воинов на колесницах, родственника царя, — то я бы повернул. Но тут одно мешает другому. Итак, вперед, во что бы то ни стало! Мы следует за ними по пятам, стой, стой! Этот проклятый едкий дым! Ну подождите же, собаки! Как только дорога расширится, мы вас всех передавим, пусть боги отнимут у меня день жизни за каждого, кого я оставлю в живых! Опять один факел погас! Не видно почти ничего! В такой час приятнее держать в руке клюку нищего, чем жезл военачальника!
— А на шее иметь веревку висельника, вместо золотой цепи! — добавил кто-то. — Только бы снова выглянула луна! Гороскопы предсказывали, что она будет во всей полноте светить от вечера до утра, и поэтому я, при позднем выступлении, советовал превратить ночь в день! Если бы только было хоть чуть светлее…
Но эта фраза осталась неоконченной. Сильный порыв ветра, вырвавшегося из юго-восточных ущелий горы Ваал-Цефон, подобно дикому зверю низринулся на странников, и высокая волна окатила Эфраима с головы до ног. Захлебнувшись и откашливаясь, он откинул волосы назад и вытер глаза; но позади него раздались крики ужаса, вырвавшиеся из груди египтян, потому что та же самая волна, которая задела его, увлекла передние колесницы в воду.
Тогда юноша начал бояться и за своих; и в то время как он спешил вперед, чтобы снова присоединиться к ним, яркая молния осветила бухту, гору Ваал-Цефон и ее окрестности. Грома не было слышно еще довольно долго, но скоро непогода приблизилась; наконец, молния засверкала во тьме уже не ломаными линиями, а в виде бесформенных огненных масс — и, прежде чем они погасли, раздался оглушительный удар грома, он отразился от голых утесов каменной горы и грохочущими волнами звуков прокатился до оконечности бухты и до берега.
Море и земля, люди и животные были залиты отовсюду ослепительным светом, когда грозные тучи разряжались снова, и морские волны и воздух окрашивались в какой-то желтый цвет, сквозь который яркий блеск молнии сиял и прорывался пламенем, как бы сквозь зелено-желтое стекло.
Теперь Эфраиму казалось, что самые черные тучи надвигаются с юга, а не с севера; затем при свете молний он увидел, что позади то испуганные кони кидались в море, то какая-нибудь колесница наезжала на другую; далее множество колесниц сбились в тесную кучу, к погибели тех, кого они везли, и препятствуя движению других.
Однако же враг продвигался вперед, и отделявший беглецов от преследователей промежуток не увеличивался. Но беспорядок в рядах египтян сделался так велик, что вопли ужаса воинов и гневные крики начальников были слышны очень явственно, едва только смолкал грохот грома.
Как ни были черны облака на южном горизонте, как ни свирепствовала непогода, омраченное небо пока сдерживало свои воды, и людей смывала не влага облаков, а море, волны которого вздымались все выше и все чаще лизали оконечность бухты.
Путь становился все уже, а вместе с ним суживался и конец шествия.
Между тем пламя из котлов со смолою продолжало светить, указывая евреям спасительную цель и напоминая им о Моисее и его жезле, вверенном ему Богом. Каждый шаг приближал к нему путников.
Вот громкие крики торжества возвестили, что и колено Вениамина дошло до берега; однако же ему пришлось в конце своего пути идти по воде, и он промок от брызг пенистых волн. Потребовались поистине невероятные усилия для того, чтобы спасти скот от потопления, по-прежнему гнать его гуртом и везти нагруженные повозки; но теперь и люди, и животные стояли в безопасности на берегу. Оставалось помочь только иноплеменникам и прокаженным. Последние не имели никаких стад, но у иноплеменных они были, а буря так пугала бедных животных, что они упирались, не желая идти через воду, которая покрывала почву уже на локоть глубины. Эфраим побежал на берег, созвал пастухов, и под его руководством они помогли иноплеменникам гнать скот.
Наконец последний из иноплеменников, последняя голова их скота вступили на спасительный берег, приветствуемые громкими криками.
Прокаженные шли сперва по колено, а потом даже и по пояс в воде, и прежде чем добрались до суши, отверзлись все хляби небесные и стремительно хлынул дождь. Но и прокаженные наконец достигли цели, и если на берегу многие матери, так долго несшие своих детей на руках, упали в изнеможении, если многие из несчастных, помогавших более сильным товарищам выталкивать повозки из размякнувшей почвы или нести носилки через воду, чувствовали лихорадочный жар в голове, то все-таки и они избегли погибели.
Одни колена должны были ожидать дальнейших приказаний за пальмами, зеленевшими меж холмами возле нескольких источников; другие были отведены дальше в глубь страны, чтобы, по данному знаку, двинуться к юго-востоку, в горы, негостеприимная каменная область которых представляла большие трудности для движения регулярного войска боевых колесниц.
Гур собрал вокруг себя своих пастухов, и они стояли с копьями, пращами и короткими мечами, готовые напасть на врагов. И людей, и коней предполагалось не щадить, а из повозок устроить высокий завал, чтобы затруднить путь для остальных египтян.
Котлы на берегу были заботливо пополнены смолой и прикрыты, чтобы пламя не потушили ни дождь, ни буря. Они должны были светить пастухам, вызвавшимся напасть на колесницы, и старый Нун, Гур и Эфраим стояли во главе их. Но напрасно сыны Израиля ожидали преследователей; и когда Эфраим прежде всех при свете огня смоляных котлов заметил, что путь, по которому прошли спасенные, сделался широкой равниной моря и дым стало относить ветром вместо юго-запада к северу, то из его груди, переполненной радостью и благодарностью, вырвался крик:
— Посмотрите на котлы: ветер переменился! Теперь он гонит море к северу. Войско фараона погибнет в волнах!
На несколько мгновений в кругу спасенных водворилось безмолвие; но затем вдруг Нун громким голосом вскричал:
— Эфраим не ошибся, дети! Что такое мы, люди? Господи, Господи, сильный и грозный, Ты творишь суд над своими врагами!
Его прервали громкие крики, потому что и от источников, где Моисей в изнеможении прислонился к пальме и где был и Аарон, все увидели то же, что и Эфраим, и в толпе спасенных, переходя от одного к другому, разнеслась радостная, невероятная и, однако же, правдивая и подтверждавшаяся с каждым мгновением весть.
Тысячи глаз поднялись вверх: там черные тучи неслись к северу, все дальше к северу.
Дождь прекратился, гром затих, и видно было только сверкание молний над перешейком и над морем вдали, на севере, на юге же небо прояснилось. Наконец из-за серых туч выглянула луна, клонившаяся к горизонту, и ее мирный свет посеребрил высоты Ваал-Цефона и берега залива, снова покрывшиеся волнами. Бушующая буря превратилась в негромкий шум утреннего ветра, веявшего с юга; море, которое, подобно какому-то чудовищу, с ревом устремлялось на утесы, лежало теперь у каменного подножия горы, будто изнемогшее.
Над трупами столь многих людей оно все еще некоторое время расстилалось темным гробовым покровом, и побледневшая луна перед своим закатом позаботилась о том, чтобы место успокоения фараона и множества вельмож не осталось без драгоценного убранства. Ее лучи обливали и окаймляли этот покров, поверхность моря, колышущимся зыбким убором из сверкающих бриллиантов в серебряной оправе.
В то время как восток прояснялся и небо покрывалось ярким румянцем утренней зари, стали устраивать лагерь, но мало осталось времени для поспешного завтрака, так как вскоре удары в медную доску стали созывать странствующий народ, и, как только он собрался у источников, выступила Мариам. Она потрясала бубном, ударяла в обтягивавшую его телячью кожу, и его звуки, гремя и звеня, разносились далеко. Женщины и девушки следовали за нею, вступая в ритмический такт священной пляски, а Мариам пела:
«Я воспеваю Иегову, потому что Он велик, Он низвергнул в море коней с колесницами!
Восхваляй моя песня Иегову, потому что Он был моим спасением, Он мой Бог — и я прославляю его!
Он Бог моих отцов — да вознесется к Нему моя песнь!
Колесницы фараона и войско его Он бросил в пучину, цвет его бойцов погиб во глубине Тростникового моря.
Морской прилив распростерся над ними, и, подобно камням, они потонули в пучине.
Твоя десница, Иегова, Чье могущество и высота велики, Твоя десница истребила врагов!
Ты уничтожил их своею славой, их, которые восстали против Тебя, и Твой гнев, излитый Тобою на них, пожрал их, как огонь жатву.
Ты подул на воды — и они сгрудились, волны поднялись, как плотины, и потоки хлынули на середину моря.
Враг вскричал: «Я погонюсь за ними, я настигну их, мы разделим добычу, я пролью на них мою ярость, и моя рука уничтожит их!»
Но Ты подул на море, волны покрыли их — и, как свинец, они потонули в могучих водах.
Кто равен тебе между богами, Иегова?
Кто из них может быть так славен и свят, как Ты — страшный в славе Своей и совершающий чудеса.
Посредством Своей милости Ты управляешь Твоим народом, который Ты освободил; Своим могуществом Ты ведешь его в Твое священное жилище!»
Женщины и мужчины подпевали хором, когда Мариам повторила восклицание: «Я восхваляю Иегову, потому что Он велик, — Он низвергнул в море коней с колесницами!»
Эта песнь и этот торжественный час остались незабвенными для евреев; душа каждого из них была полна Богом, и с радостью и благодарностью каждый надеялся на лучшие, счастливейшие дни.
XXIII
Песнь кончилась. Буря хоть и утихла, но утреннее небо, которое так великолепно было украшено алым цветом зари, снова затянулось серыми тучами, а с юго-запада все еще дул сильный ветер, волнуя море, колебля и раскачивая вершины пальм у источников.
Спасенный народ воздал хвалу Всевышнему, и даже самые холодные и упрямые присоединили свои голоса к хвалебному гимну Мариам; но когда хор подошел ближе к морю, то многим хотелось оставить его мерное, правильное шествие, чтобы поспешить к берегу, куда манило их многое.
Сотни человек собрались теперь на берегу, где волны, подобно великодушным разбойникам, возвращали и выбрасывали на сушу то, что они награбили в эту ночь.
Женщины тоже не могли удержаться от этого порыва: их влекли к берегу сильнейшие побуждения человеческого сердца — корысть и жажда мести.
Ежеминутно показывалось что-нибудь новое, возбуждавшее жадность: здесь лежал труп какого-нибудь воина, там его разбитая колесница в песке. С одного снимали золотые и серебряные украшения, если покойник принадлежал к числу военачальников, у другого срывали с пояса меч или боевую секиру; мужчины и женщины низшего класса, рабы и рабыни из евреев или иноплеменников стаскивали с утопленников запястья и обручи из благородного металла или кольца с их вздувшихся пальцев.
Вороны, следовавшие за странствующим народом и исчезнувшие во время бури, появились снова и, каркая, пробивались против ветра, чтобы по крайней мере удержать за собою место над добычей, к которой привлекло их чутье.
Но жаднее воронов были подонки странствующей толпы, и там, где море выбрасывало на берег какую-нибудь драгоценную вещь, раздавались дикие крики и происходили яростные драки. Вожди не препятствовали, они считали, что народ имеет право на эту добычу; если же кто-либо из них решался остановить эту грубую жадность, то ему все равно отказывали в повиновении. То, что египтяне заставили их выстрадать в последние часы, было так ужасно, что даже лучшим людям из евреев не приходило в голову обуздать эту жажду мщения. Даже седобородые мужи почтенного вида, жены и матери, наружность которых заставляла предполагать в них доброту и кротость, отталкивали тех немногих несчастных, которым на обломках боевых колесниц или провиантских повозок удавалось добраться до берега. Первые пастушескими палками, странническими посохами, ножами и секирами, вторые — камнями и бранью заставляли их выпустить из рук спасительные деревянные обломки, а тех, которым все-таки удалось ступить на землю, яростные толпы загоняли опять в море, пощадившее их.
Злоба была так велика, мщение считалось столь священной обязанностью, что никто не думал о сострадании и пощаде; не было произнесено ни одного слова, которое призывало бы к великодушию или хотя бы напомнило, что спасение погибающего и обладание им в качестве военнопленного раба обещало прибыль, так как за него можно было получить выкуп.
— Смерть ненавистному врагу! Погибель ему! Долой его! Бросьте их на съедение рыбам! Вы загнали нас в море с нашими детьми, убирайтесь же теперь назад в соленую воду!
Таковы были крики, раздававшиеся со всех сторон; и никто не останавливал их, даже Мариам и Эфраим, которые тоже подошли к берегу, чтобы посмотреть, что происходит.
Девушка вышла замуж за Гура, но новое положение в качестве жены мало изменило ее деятельность и характер. Судьба народа и ее откровения с Богом, пророчицей Которого она чувствовала себя по-прежнему, были для нее и теперь самым важным делом. Притом теперь, когда исполнилось все, на что она надеялась и о чем молилась, когда при первом великом успехе своих стремлений она в своей песне выразила чувства верующих, когда, наконец, она, как предводительница благодарной толпы, шла и пела впереди нее, — ей казалось, что она достигла высшей цели своего существования.
Эфраим снова напомнил ей об Иосии, и, разговаривая с ним об узнике, она выступала гордо, точно царица, и отвечала на приветствия толпы с величественным достоинством. Ее глаза сияли блаженством, в чертах по временам проглядывало выражение сострадания, когда Эфраим рассказывал о тяжких бедствиях, которые он перенес вместе с дядей. Она все еще вспоминала о человеке, которого любила, но он уже не был ей необходим для достижения ее высших целей.
Едва Эфраим упомянул о прекрасной египтянке, которая была благосклонна к его дяде и по ходатайству которой с узников сняли цепи, как с берега, где столпилось множество людей, снова послышался шум. К дикому вою ярости примешивались радостные крики, что заставляло предполагать, что море выбросило на землю нечто необыкновенное.
Любопытство привлекло на берег их обоих; и так как из-за высокого уважения, которым пользовалась Мариам, толпа расступалась перед нею, то они вскоре увидели кузов большой походной колесницы, лишившейся колес. Парусиновый верх колесницы был сорван, а на его дне лежали две старые египтянки; третья, молодая, стояла, прислонясь к задней стенке этого превратившегося в челнок экипажа. Первые две лежали мертвые в воде, покрывавшей дно кузова, и несколько евреек намеревались сорвать с шеи и с рук трупов золотые украшения. Молодая женщина по какой-то невероятной случайности осталась в живых и теперь протягивала еврейкам свои драгоценные уборы. При этом ее помертвевшие губы и прекрасные, но окоченевшие руки дрожали. Тихим благозвучным голосом она обещала грабительницам отдать им все, заплатить большой выкуп, если они пощадят ее. Она еще так молода и одному еврею сделала добро; пусть только они выслушают ее…
Трогательно звучала эта просьба, но она так грубо прерывалась проклятиями и угрозами, что ее слышали только немногие. Вдруг она громко вскрикнула: какая-то озверевшая женщина вырвала из ее уха золотую серьгу в виде змеи. И как раз в это время Мариам и Эфраим подошли к берегу.
Этот крик боли, точно кинжал, вонзился в сердце юноши, и он побледнел, узнав в молодой египтянке Казану. Трупы, лежавшие возле нее, были телами кормилицы и жены верховного жреца Бая.
Едва владея собою, Эфраим оттолкнул мужчин, которые отделяли его от нападавших, подбежал к обломкам колесницы, вскочил на песчаный бугор, к которому море прибило экипаж, и, перекрывая гомон толпы, закричал:
— Прочь! Горе тому, кто ее тронет!
Но одна еврейка, жена кирпичника, у которой ребенок умер в жестоких судорогах во время перехода через море, сорвала уже кинжал с пояса Казаны и вонзила ей в спину, с криком:
— Это тебе за мою маленькую Руфь, девка!
Затем она подняла окровавленное оружие для нового удара; но, прежде чем она успела нанести его, Эфраим кинулся между нею и ее жертвой и вырвал кинжал из руки разъяренной женщины. Затем он стал перед раненой и, замахнувшись клинком, громко и с угрозой закричал:
— Кто из вас тронет ее, убийцы и хищницы, кровь той смешается с кровью этой женщины! — Затем бросился к окровавленному телу раненой и, увидев, что она лишилась чувств, взял ее на руки и понес к Мариам.
Несколько мгновений изумленные мародеры оставались безмолвными и не противились ему; но, прежде чем Эфраим достиг цели, вокруг него раздались крики: «Мщение, мщение! Мы нашли женщину, нам, нам одним принадлежит добыча! Как смеет дерзкий эфраимит ругать нас, называя разбойниками и убийцами? Там, где дело идет о пролитии египетской крови, она должна течь! Как наш Господь Бог, так и мы не щадим врага! Бросайтесь на него! Отнимите у него девушку!»
Но юноша не обращал внимания на эти взрывы гнева, пока не положил голову Казаны на колени Мариам, сидевшей на ближайшем песчаном бугре; а когда возмущенная толпа, в которой женщины шли впереди мужчин, прихлынула к нему, он снова взмахнул кинжалом и крикнул:
— Назад! Еще раз приказываю вам! Те из вас, кто происходит от Эфраима и Иуды, пусть приблизятся ко мне и к Мариам, жене своего вождя! Вот так, братья, и горе тому, кто тронет ее. Вы добиваетесь мщения; но разве оно уже не совершено вон тем чудовищем, убившим эту несчастную, беззащитную женщину. Вы требуете драгоценностей вашей жертвы? Хорошо, они ваши, и я отдам их вам и прибавлю еще свои, если вы дадите возможность жене Гура позаботиться об этой умирающей…
С этими словами он наклонился над Казаной, снял оставшиеся запястья и кольца и бросил их в жадные руки, которые тянулись за ними. Потом снял со своей руки золотой обруч, поднял его вверх и вскричал:
— Это обещанная прибавка! Если вы уйдете спокойно и оставите эту женщину на попечении Мариам, то я отдам вам это золото. Если же вам хочется еще больше крови, то попробуйте подойти, но в таком случае обруч я оставлю себе!
Эти слова подействовали. Разъяренные женщины посматривали то на тяжелый широкий золотой обруч, то на красивого юношу, а мужчины из колен Иуды и Эфраима переглядывались вопросительно друг с другом; наконец жена какого-то иноплеменного торговца предложила:
— Пусть отдаст золото, а мы оставим красивому сыну вождя его окровавленную душеньку!
Другие согласились с этим решением, и хотя возмущенная жена кирпичника, которая в качестве мстительницы за своего ребенка думала, что она совершила дело, угодное Богу, и несправедливо была названа за это убийцей, с угрожающими жестами ругала юношу, но толпа увлекла ее с собою к берегу, надеясь найти там новую добычу.
Во время этой сцены Мариам твердой, опытной рукой исследовала и перевязала рану египтянки. Кинжал, который в шутку подарил Казане Сиптах, чтобы она не осталась на войне без оружия, нанес ей под плечом глубокую рану, кровь из которой текла так обильно, что слабое пламя ее жизни могло погаснуть в любое мгновение.
Но Казана была еще жива, и ее перенесли в палатку Нуна, как самую ближайшую.
Старый предводитель племени только что раздал оружие пастухам и юношам, созванным Эфраимом для освобождения Иисуса из неволи, и обещал присоединиться к ним, — когда внесли раненую египтянку.
Как Казана к этому старцу, так и он уже много лет чувствовал сердечное расположение к дочери Горнехта. При встречах с ним она никогда не оставляла его без приветствия, на которое он обыкновенно отвечал: «Да благословит тебя Господь, дитя!» или «Прекрасен час, когда старик встречает такое прелестное создание!» Несколько лет назад, когда Казана была еще девочкой, он даже послал ей раз в подарок ягненка с особенно шелковистой снежно-белой шерстью, после того как ее отец выменял хлеб из своего имения на скот знаменитого завода Нуна, а то, что рассказывал ему о Казане сын, могло только усилить его расположение к ней. Он видел в ней самую лучшую из подраставших в Танисе девушек, и если бы она была еврейкой, то он счел бы для себя счастьем иметь ее своею невесткой.
Увидеть вновь свою любимицу в таком положении было старику до того горько, что слезы текли по его белой бороде, и голос задрожал, когда он увидел на ее плече окровавленную повязку.
После того как египтянку уложили на его постель и предводитель предоставил свой ящик с лекарствами в распоряжение пророчицы, сведущей во врачебном искусстве, Мариам попросила мужчин оставить ее наедине с раненой, когда же она опять позвала их в палатку, Казана уже приняла лекарство, а рана ее была перевязана вновь, тщательнее прежнего.
С волосами, приведенными в порядок, омытая от крови, лежала Казана под свежими простынями, похожая на девушку, едва вышедшую из детского возраста. Она дышала, но ее щеки и губы были смертельно бледны, и только после вторичного приема питья, приготовленного пророчицей, открыла глаза.
У изножья ее постели стоял старик с внуком, и оба готовы были спросить друг друга, почему они не могут удержаться от слез при взгляде в лицо чужеземки. Убеждение, так неожиданно овладевшее Эфраимом, что Казана — женщина дурная и неверная, быстро отвратило его от нее и вернуло на истинный путь, который он оставил. Однако же, рассказывая своему деду и Мариам, как Казана сострадательно вступилась за узников, он утаил то, что подслушал у ее палатки; и когда они захотели узнать о ней больше, то поступил подобно отцу, который невольно стал свидетелем преступления своего любимого чада, но не желает выдать преступника ни единым словом.
Теперь Эфраим был рад своему молчанию, так как, что бы он ни видел, что бы ни слышал, это прелестное создание, наверное, не было способно ни на какую гнусность!
Для старого Нуна Казана не переставала никогда быть милым ребенком, каким он знал ее прежде: «радостью его глаз и сердца». Поэтому он и теперь с нежной озабоченностью вглядывался в ее болезненно вздрагивавшие черты, и, когда наконец она открыла глаза, он улыбнулся ей с отеческой сердечностью. Она тотчас же узнала и его, и Эфраима, это было видно по ее взгляду, но попытка кивнуть им не удалась: больная была слишком слаба для этого. Но на ее выразительном лице видны были изумление и радость, и, когда Мариам в третий раз подала ей лекарство и протерла лоб какой-то крепкой эссенцией, она посмотрела в лицо сперва одному, потом другому удивленными глазами, и, когда заметила озабоченные лица мужчин, ей удалось произнести тихим голосом:
— Очень болит рана, и смерть… Неужели я должна умереть?
Они смущенно посмотрели друг на друга, мужчинам хотелось скрыть от нее ужасную истину, но она продолжала:
— О, не скрывайте от меня ничего. Прошу вас, скажите мне правду!
И Мариам, стоявшая возле нее на коленях, нашла в себе мужество, чтобы ответить:
— Да, бедное молодое создание, рана глубока; но все, что в состоянии сделать мое искусство, будет сделано, чтобы продлить твою жизнь насколько возможно.
В этих словах слышались ласка и сострадание, но глубокий голос пророчицы, по-видимому, болезненно действовал на Казану; ее губы искривились во время речи Мариам, а когда она кончила, страждущая закрыла глаза, и крупные слезы одна за другою потекли по ее щекам.
Вокруг царило глубокое робкое молчание, пока она снова не открыла глаза; с усилием направив взгляд на Мариам, она тихо и как бы удивленная чем-то странным спросила:
— Ты женщина, а между тем исполняешь обязанности врача?
Мариам отвечала:
— Мой Бог повелел мне заботиться о страждущих из моего народа.
Глаза умирающей засветились каким-то беспокойным блеском, и громче прежнего, с уверенностью, которая изумила присутствовавших, она произнесла:
— Ты — Мариам, женщина, которая призвала к себе Иосию? — И когда та немедленно и с достоинством отвечала: «Да», Казана продолжала: — Ты обладаешь какой-то странной властной красотой и, конечно, можешь сделать многое. Иосия повиновался твоему призыву, а ты… ты позволила себе выйти замуж за другого?
— Да, — ответила пророчица сурово и на этот раз глухим голосом.
Умирающая опять закрыла глаза, и на губах ее заиграла какая-то странная презрительная улыбка, но совсем ненадолго, потому что ею овладело сильное, томительное беспокойство.
Пальцы ее рук, губы и даже веки находились в постоянном движении, и ее узкий гладкий лоб собрался в складки, как будто она обдумывала какую-то трудную задачу. Наконец удручавшие ее чары рассеялись, и, точно пробудясь, она тревожно вскричала:
— Ты, что стоишь там, Эфраим, который был как бы его сыном, и ты, Нун, старик, его милый отец. Вы стоите там и будете жить… а я, я… Ах, как тяжело оставлять мир!… Анубис ведет меня к судейскому трону Осириса. Мое сердце будет взвешено, и затем…
Здесь она вздрогнула, причем сперва сжала, потом снова открыла кисти рук, но скоро овладела собой и заговорила снова. Однако Мариам строго запретила ей говорить, так как это могло ускорить ее кончину.
Тогда страждущая собралась с силами и, окинув высокую фигуру пророчицы медленным взглядом, сказала поспешно и так громко, как только могла:
— Ты хочешь помешать мне сделать то, что я должна сделать? Ты?
Этот вопрос отзывал насмешкой, но, должно быть, чувствуя, что ей нужно щадить свои силы, она гораздо спокойнее и точно говоря сама с собою продолжала:
— Я не могу так умереть; так — не могу! Как это случилось, почему я все, все… Если я должна понести наказание за это, то я не буду жаловаться, если только он узнает, как это случилось. О Нун, добрый старый Нун, который подарил мне ягненка, когда я была еще маленькой, — я так любила его, — и ты, Эфраим, мой мальчик, вам я расскажу все…
Приступ кашля помешал ей говорить, но как только он прошел, Казана снова обратилась к Мариам и сказала тоном, в котором так явственно слышалось горькое отвращение, что он удивил людей, знавших ее добрый, ласковый характер:
— А ты там — ты, высокая женщина с густым голосом, врач, — ты заманила его из Таниса, от его воинов и от меня… Он исполнил твою волю. А ты… ты сделалась женой другого; это случилось как раз после его приезда к тебе… Да, потому что когда Эфраим звал его, он называл еще тебя девушкой… Я не знаю, огорчила ли ты Иосию… Но я знаю нечто другое, именно, что хочу и должна признаться кое в чем, пока еще не поздно… Но это могут слышать только те, которые любят его, — и я… слышишь ты? — я люблю его больше, чем все другое на земле! А ты, ты имеешь мужа и Бога, Которого повеления исполняешь с усердием. Ты сама сказала это. Что может значить для тебя Иосия? Поэтому я прошу тебя оставить нас. Из всех людей, которых я встречала, мне внушали отвращение немногие — но ты… твой голос, твои глаза… они сжимают мое сердце, — и если ты останешься возле меня, то я буду не в состоянии говорить, а я должна… Ах, как мне больно, как трудно говорить. Только, прежде чем ты уйдешь, скажи мне одно: ты ведь врач — я хочу рассказать многое для передачи ему, прежде чем умру… станет ли этот разговор для меня смертельным?
Пророчица снова отвечала коротко: «Да» — твердым и предостерегающим тоном.
Колеблясь между требованием своего долга врача и желанием исполнить волю умирающей, она посмотрела на Нуна и, прочтя в его глазах требование, чтобы она повиновалась, Мариам с поникшей головой вышла из палатки. Но горькие слова несчастной женщины преследовали ее и омрачали ей так великолепно начатый день и несколько позднейших часов, и до самого конца она не могла себе объяснить, почему чувствует себя такою незначительной в сравнении с несчастной умирающей женщиной, почему ей кажется, что она должна уступить ей первое место.
Как только Казана осталась наедине с дедом и внуком, и Эфраим опустился на колени у ее ложа, а старик поцеловал больную в лоб и наклонил голову, чтобы вслушиваться в ее тихие слова, она начала снова:
— Теперь мне лучше. Эта высокая женщина… темные сросшиеся брови… черные как ночь глаза… они горят так жарко и все-таки они холодны… Эта женщина… Неужели ее любил Иосия, отец? Скажи это мне; я, разумеется, спрашиваю об этом не из пустого любопытства.
— Он уважал ее, как и каждый в нашем народе, — отвечал печально Нун, — потому что она обладает высоким умом и наш Бог позволяет ей слышать Его голос; но ты, моя милая, была дорога ему с детства, я знаю это.
Легкая дрожь пробежала по телу умирающей. На некоторое время она закрыла глаза, и на ее губах заиграла улыбка.
Это длилось настолько долго, что Нун подумал, что ее уже призывает смерть, он, держа стакан с лекарством в руке, начал прислушиваться к ее дыханию. Казана, по-видимому, не замечала этого; но когда наконец снова открыла глаза, то протянула руку к лекарству, приняла его и заговорила опять:
— Мне сейчас казалось, будто я снова видела его, Иосию. Он был в военных доспехах, как тогда, когда в первый раз взял меня на руки. Я была еще маленькая и боялась его, потому что он был так серьезен, а кормилица говорила мне, что он убил очень много врагов. Но я радовалась, когда он приходил, и печалилась, когда он уходил от нас. Так шли годы, и моя любовь росла вместе со мною. Мое юное сердце было так полно им, так полно… Даже и тогда, когда меня принудили выйти за другого, и затем, когда я осталась вдовой.
Последние слова прозвучали едва слышно, и она отдыхала несколько мгновений, чтобы продолжать снова:
— Иосия знает все это; но он не знает того, как я беспокоилась, когда он был в походе, как тосковала по нему в его отсутствие. Наконец он вернулся, и как я была рада увидеть его! А он, Иосия… Женщина, я знаю это от Эфраима — эта высокая надменная женщина призвала его в Питом. Он вернулся, а затем… О Нун, твой сын… Это было самое тяжкое!… Он оттолкнул мою руку, которую предлагал ему мой отец… Как это мне было больно!… Я не могу больше… Дай мне пить!…
Щеки ее покраснели при этих горьких признаниях, и опытный старик, видя, как быстро усилия, которые она делала, приближали ее к смерти, просил ее замолчать на некоторое время, чтобы отдохнуть, но она хотела воспользоваться оставшимися еще в ее распоряжении минутами и, хотя острая боль, которую вызывал отрывистый кашель, заставляла ее прижимать руки к груди, она все-таки продолжала:
— Затем явилась ненависть; но она была непродолжительна, и я никогда не любила его с большей силой, чем в то время, как отправилась вслед за несчастным узником. Ты знаешь это, мальчик. Но затем начинается ужасное, злое, дурное… Он должен узнать об этом, чтобы не презирать меня, если услышит что-нибудь… Я никогда не знала матери, и никого не было при мне, чтобы предостеречь меня… С чего мне начать? Князь Сиптах — ты ведь знаешь его, отец! — этот дурной человек скоро будет властителем нашей страны. Мой отец вступил с ним в сговор… Благие боги, я не могу продолжать!…
Страх и отчаяние исказили черты Казаны при этих словах; но Эфраим продолжил за нее и со слезами на глазах, дрожащим голосом признался ей, что знает все. Затем он повторил то, что подслушал у палатки, и она подтвердила это взглядом. Когда он, наконец, упомянул о жене наместника и верховного жреца Бая, труп которой был выкинут на берег вместе с нею, то она прервала его тихим восклицанием:
— Она придумала все это. Ее муж должен был сделаться самым могущественным лицом в Египте и управлять даже фараоном, потому что Сиптах — не царский сын.
— И притом, — прервал Нун, чтобы заставить ее замолчать и помочь ей высказать то, что она хотела сказать, — Бай, возвысивший его, может его и низвергнуть. Он еще вернее, чем лишенный престола фараон, сделается орудием человека, провозгласившего его царем. Но сириец Аарсу мне знаком, и, если я не ошибаюсь, настанет время, когда в Египте, терзаемом внутренними беспорядками, он будет добиваться для себя власти, которой помог достичь другому с помощью своих наемников. Но, дитя, что побудило тебя следовать за войском и за этим гнусным развратником?
Глаза умирающей засверкали, так как этот вопрос приводил ее прямо к тому, о чем она хотела поведать, и она отвечала так быстро и громко, как только позволяли ее силы:
— Я сделала это ради твоего сына, Нун, из-за моей любви к нему, для того чтобы освободить Иосию. Я еще вечером накануне твердо и решительно отказала в этом жене Бая. Но когда я увидела твоего сына у колодца, и он, Иосия… Он наконец был так добр и дружески поцеловал меня… И тогда, тогда… мое бедное сердце! Я увидела его в несчастье, лучшего из людей я видела погибающим в позоре и бесчестье. И когда он пошел дальше с цепями на ногах, то в моем уме мелькнула мысль…
— Тогда ты, честное, безумное, сумасбродное дитя, — прервал ее старик, — решилась воспламенить сердце будущего царя любовью к тебе и при его посредстве освободить моего сына, твоего друга.
При этих словах старика Казана снова улыбнулась и тихо сказала:
— Да, да, ради этого, только ради этого! Сиптах был мне так противен! Стыд, позор, о как это было ужасно!
— И ради моего сына ты приняла их на себя?… — прервал ее старик, и ее рука, которую он поднес к своим губам, сделалась мокрой от его слез.
Она же взглянула на Эфраима и тихо сказала:
— Я думала также и о тебе, мальчик! Ведь ты так молод, а на рудниках жизнь просто невыносима!
Тут она снова вздрогнула; юноша покрыл ее пылавшую правую руку поцелуями, а тем временем Казана с любовью смотрела в лицо ему и Нуну и едва слышным голосом продолжала:
— О, теперь все хорошо, и если боги даруют ему свободу…
Эфраим прервал ее и воскликнул с жаром:
— Сегодня же мы идем к рудникам, я и мои товарищи, и дед за нами, мы освободим Иосию!
— И из моих уст он узнает, — прибавил старик, — как неизменно любила его Казана и что его жизнь будет слишком коротка для того, чтобы отблагодарить ее за такую жертву. — Но голос изменил ему; с лица же умирающей исчезли всякие признаки страдания, и она долгое время безмолвно смотрела вверх с выражением счастья в чертах. Однако же мало-помалу ее гладкий лоб наморщился, и она отрывисто заговорила:
— Хорошо, все хорошо… Только одно… мой труп… ненабальзамированный… без священного амулета…
Старик прервал ее:
— Как только ты закроешь глаза, я передам твое тело в сохранности финикийскому судовладельцу, который находится здесь, чтобы он доставил его твоему отцу.
Казана попыталась повернуть к нему голову, чтобы поблагодарить взглядом, но внезапно обеими руками схватилась за грудь, пурпурная кровь выступила на ее губы, смертельная бледность на щеках сменилась пылающим румянцем, и после короткой, исполненной страдания борьбы она откинулась назад. Смерть наложила свою руку на это любящее сердце, и черты Казаны приняли выражение, какое бывает у ребенка, когда мать простила его проступок и прижала его к сердцу перед отходом ко сну.
Старик со слезами закрыл глаза усопшей; Эфраим, глубоко потрясенный, поцеловал ее сомкнутые веки, и после короткого молчания Нун сказал:
— Я не люблю спрашивать о нашей участи по ту сторону гроба, которой не знает и сам Моисей; но кто жил так, что его память свято сохраняется в душах людей, которых он любил, тот, я думаю, сделал свое дело для продолжения своего существования и после смерти. Мы будем вспоминать об этой умершей в наши лучшие часы. Сделаем с ее телом то, что мы обещали; а затем тому, для кого Казана пожертвовала всем, докажем, что и мы любим его не меньше, чем его любила эта египтянка.
XXIV
Государственные преступники, сосланные в рудники, на этот раз подвигались вперед медленно. Их опытный начальник конвоя не помнил ни одного более неудачного, более обильного неприятностями, препятствиями и напастями странствования по пустыне. Один из его кротов, Эфраим, бежал; он лишился своих верных собак-ищеек; и после того, как его команда была напугана и вымокла до костей в непогоду, какие в этой пустынной полосе случаются едва раз в пять лет, в следующий вечер разразилась другая буря, та самая, что погубила войско фараона, и она была еще более неистова и яростна. Буря задержала движение ссыльных, и после продолжительного ливня несколько узников и конвойных заболели лихорадкой, проведя ночь на размокшей земле под открытым небом. Даже египетские ослы, непривыкшие к дождю, пострадали, и самый лучший из них пал на дороге. Вскоре пришлось закопать в землю двух умерших преступников, а троих тяжело захворавших посадить на оставшихся ослов, а припасы, которыми они были навьючены, взвалить на узников. Подобного невезения не случалось с начальником конвоя еще ни разу в течение его двадцатипятилетней службы, и он предвидел большие неприятности.
Все это дурно действовало на этого человека, который в другое время был известен как самый мягкосердечный из своих сослуживцев. Иисус Навин, напарник бессовестного мальчишки, к бегству которого присоединились все остальные несчастья, должен был тяжелее всех почувствовать его озлобление.
Может быть, раздраженный глава конвоя относился бы к нему мягче, если бы Иисус Навин жаловался, как узник, шедший позади него, или разражался проклятиями, как его товарищ по цепи, делавший намеки на то, что наступят-де времена, когда его свояченица будет стоять близко к фараону и сумеет найти тех, которые так жестоко обращались с ее родственником.
Но Иосия решил все, что бы ни делали с ним обозленный начальник партии и его помощники, переносить с таким же спокойствием, с каким переносил солнечный зной, который с тех пор, как он стал носить оружие, мучил его в многократных походах в пустыне, и его твердый, мужественный дух помог ему остаться верным этому решению.
Когда начальник конвоя наваливал на него непосильные тяжести, он собирал всю мощь своих мускулов и, пошатываясь, шел с ними вперед, не произнося ни слова неудовольствия, пока не подкашивались колени. Но тогда главный конвоир кидался к нему, снимал с его плеч несколько мешков и кричал, что он хорошо видит его умысел: преступнику хочется умереть на дороге, чтобы только наделать неприятностей ему, но он не позволит с собою шутить, когда дело идет о жизни людей, которые нужны на горных заводах.
Один раз он даже нанес Навину кровавую рану, но вслед за тем употребил все усилия, чтобы вылечить: поил его вином для подкрепления сил и на полдня приостановил путешествие, чтобы дать раненому отдохнуть.
Начальник конвоя не забыл обещания князя Сиптаха щедро наградить того, кто принесет ему известие о смерти этого узника, но оно-то именно и побудило честного служаку в особенности заботиться о сохранении жизни Иисуса Навина, так как сознание, что он нарушил долг ради выгоды, отравило бы ему пищу и питье и спокойный сон — его высшие блага.
Поэтому, хотя бывший военачальник и подвергался жестокостям, они никогда не переходили за пределы, дальше которых их нельзя было переносить, и он с удовольствием употреблял свою большую силу для облегчения ноши более слабых товарищей.
Навин вверил свою судьбу Богу, призывавшему его на служение; однако же он хорошо знал, что одной пассивной набожной веры для него недостаточно, — и потому и ночью, и днем помышлял о бегстве. Но цепь, соединявшая его с другим узником, была крепка, притом ее тщательно осматривали каждое утро и каждый вечер, так что пока всякая попытка в этом направлении была бессмысленна.
Узники шли сначала по холмистой стране, затем миновали цепь гор и наконец достигли пустынной местности, из каменистой почвы которой кое-где выступали отдельные усеченные конусы песчаника.
У одной большой горы, которую природа сложила, по-видимому, из плоских слоев камня, на пятый вечер сделан был привал; а когда поднялось солнце шестого дня, отряд повернул в боковую долину, ведшую к рудникам.
В первые дни их обогнал только посланец из казначейства фараона, но навстречу им попалось несколько маленьких транспортов, которые везли в Египет малахит, бирюзу и медь, а также изготовлявшиеся по соседству от рудников зеленые сплавы стекла. В числе тех, кого они встретили при входе в поперечную долину, куда узники повернули в последнее утро, была супружеская пара, возвращавшаяся в Египет после помилования, дарованного ей фараоном.
Начальник партии указал на эту чету арестантам, чтобы ободрить их, но вид помилованных произвел на обреченных совершенно противоположное действие, потому что всклокоченные волосы мужа, едва переступившего за предел тридцатилетнего возраста, поседели, его высокая фигура сгорбилась, голая спина была исполосована шрамами и кровавыми сине-багровыми рубцами; а жена, разделявшая его несчастье, ослепла. Она сидела, скорчившись, на осле в тупой сосредоточенности безумия, и хотя движение узников внезапно нарушило безмолвие пустыни, а слух этой женщины остался острым по-прежнему, она не обратила на них внимания и продолжала равнодушно вперять невидящие глаза в пространство.
Вид этих несчастных представил Иосии его собственное ужасное будущее, как в зеркале, и в первый раз он громко застонал и закрыл лицо рукой. Это заметил начальник партии и, тронутый страданием человека, твердость которого казалась ему до сих пор несокрушимой, сказал:
— Не все они возвращаются в таком виде, не все, поверь, далеко не все.
«Потому что они представляют еще более безотрадное зрелище, — подумал он про себя. — Но беднягам нет нужды знать это заранее. Если я приду сюда в следующий раз, то спрошу об Иосии, потому что мне будет любопытно узнать, что вышло из этого быка: самых сильных и твердых рудники часто губят скорее, чем остальных».
Он взмахнул над Иосией хлыстом, подобно вознице, который погоняет ленивых коней, не трогая их, а только угрожая. Затем указал на облако дыма, поднимавшееся из-за возвышенности направо от дороги, и воскликнул:
— Там, должно быть, уже плавильные печи! Около полудня мы будем у цели. Там довольно огня, чтобы сварить чечевицу, да и кусок баранины тоже вещь хорошая; ведь мы празднуем сегодня день рождения благого бога, сына солнца — да процветут его жизнь, счастье и здоровье!
Уже около получаса партия шла по высохшему руслу реки с высокими берегами, где недавно, после последнего ливня, глубокий горный поток с шумом несся в долину, а сегодня осталось только несколько высыхающих на глазах луж.
Обогнув крутую гору, на вершине которой стоял небольшой египетский храм богини Гатор и несколько могильных камней, печальное шествие приблизилось к изгибу долины, которая вела в ущелье, где находились горные заводы.
У ворот храма развевались знамена на высоких мачтах — в честь дня рождения фараона; и так как из долины рудников, обычно столь тихой, неслись громкие крики, гул и звон, то начальник партии подумал, что этот важнейший праздник арестантами празднуется с необычайным шумом. Свое предположение он сообщил и другим стражам, которые остановились, прислушиваясь.
Затем партия пошла дальше без остановок, и никто даже не поднимал от утомления головы; полуденное солнце жгло так немилосердно, и ослепительно ярко освещенные стены ущелья изливали такой зной, точно они хотели превзойти жар плавильных печей, находившихся по соседству с ними.
Несмотря на близость цели, путники еле двигались, точно сонные, и только у одного из них сильнейшее напряжение захватывало дух.
Подобно тому как боевой конь, запряженный в плуг, сгибает шею, раздувает ноздри и поднимает огненный взор, согнутая фигура Иисуса Навина, несмотря на мешок, давивший его плечи, выпрямилась, и его глаза, сверкая, повернулись к тому месту, откуда доносился шум, принятый конвоирами за громкое праздничное ликование.
Но он, Иисус Навин, лучше других знал, в чем дело! Он никак не мог обмануться в значении этого шума: это были военные клики египетских войск, это был сигнал труб, трубивших сбор, это был лязг оружия и яростные крики неприятельских полчищ.
Готовый к быстрому действию, он повелительным тоном шепнул своему товарищу:
— Время освобождения близко. Будь начеку и без рассуждений следуй за мной.
При первом взгляде на ущелье Навин на вершине одного из утесов заметил обрамленную белыми как снег волосами голову своего отца. Он узнал бы его между десятками тысяч человек и с более дальнего расстояния! Затем он взглянул на начальника арестантской партии, который стоял сначала в безмолвном испуге, думая, что на заводах вспыхнуло возмущение, но быстро вновь обрел присутствие духа и хриплым голосом крикнул стражам:
— Идите позади преступников и убивайте всякого, кто попытается бежать!
Но, едва его подчиненные кинулись, чтобы занять места позади партии, Иисус Навин, шедший со своим напарником впереди других арестантов, приказал тому:
— На него!
С этими словами он ринулся на изумленного начальника конвоя и схватил его за правую руку, его товарищ — за левую, прежде чем тот успел заметить их стремительный бросок.
Этот могучий человек, силу которого удвоило бешенство, боролся с ожесточением, пытаясь вырваться, но узники держали его, точно железными клещами.
Быстрый взгляд показал бывшему военачальнику путь, который следует ему выбрать, чтобы присоединиться к своим. Правда, на этом пути ему предстояло миновать маленький отряд египетских лучников, посылавших стрелы в находившихся на противоположной стороне долины евреев, но они едва ли станут стрелять по нему и по его товарищу, так как мощная фигура начальника арестантской партии, которого одежда и оружие делали достаточно заметным, скрывала их обоих.
— Подними цепь правой рукой, — прошептал воин своему товарищу, — а я буду держать наш живой щит. Мы должны, пятясь, взойти по горному скату.
Его напарник повиновался, и когда они подошли к неприятелю на расстояние полета стрелы, то держали пленника впереди себя, подвигаясь то в сторону, то назад, и Иисус Навин шаг за шагом приближался к еврейским воинам с далеко разносившимся криком: «Сын Нуна возвращается к отцу и к своему народу!»
Ни один из египтян, знавших начальника арестантской партии, не решился пустить стрелу в узников; а со склона горы, по которому взбиралась пара вместе скованных узников, раздались радостные крики, среди которых звучало в ответ воину его имя, и вслед за тем Эфраим с толпой молодых бойцов сбежал с возвышенности прямо к ним.
К своему удивлению, Иисус Навин увидел в руках сынов своего народа большие щиты египетских тяжеловооруженных воинов, меч или боевую секиру. У многих были также прикреплены к поясу и пастушеские пращи, и сумки с круглыми камнями.
Эфраим предводительствовал своими соратниками и, прежде чем приветствовать дядю, разделил их на два отряда, которые подобно двойной стене выступили вперед между Иисусом Навином и неприятельскими лучниками.
Только теперь он предался радости свидания; за его приветствием последовало другое, так как и старый Нун, под прикрытием египетских щитов, выброшенных морем на сушу, пробрался к выдающемуся утесу, где сильные руки расковали цепи Иисуса Навина и его товарища и заковали начальника арестантской партии.
Этот несчастный отказался от всякого сопротивления и, смирившись, предоставил делать с собою все что угодно. Прежде чем ему связали руки за спиной, он просил, чтобы ему позволили отереть глаза, так как слеза за слезой текли по седой бороде этого сурового человека. Его перехитрили, его пересилили, и он уже не считал себя более способным отправлять свою должность.
Старый Нун со страстною горячностью прижал к сердцу своего освобожденного, вновь обретенного единственного сына, которого считал уже погибшим. Затем он выпустил его из объятий, отступил от него и не уставал наслаждаться его лицезрением и заставлял его повторять, что он, верный своему Богу, посвятил себя служению своему народу.
Но оба они не долго позволили себе предаваться радости этого прекрасного свидания: борьба настойчиво предъявляла свои права, и руководство как бы само собою перешло в руки Иисуса Навина.
Он одновременно с радостью и некоторой долей грусти узнал, какой конец постиг храброе войско, к вождям которого он так долго причислял себя с гордостью, и далее о том, что другой отряд вооруженных пастухов под предводительством мужа Мариам напал на Дофкийские бирюзовые копи, которые лежат к югу, на расстоянии нескольких часов пути. Если они победили, то должны были до заката солнца присоединиться к юношескому отряду Эфраима.
Молодежь горела желанием броситься на египтян, но рассудительный Иисус Навин, оценив противника, хотя и не сомневался в том, что им пришлось бы уступить пылким пастухам, далеко превосходившим их числом, однако же в этой битве, которая велась из-за него, он в особенности желал, чтобы пролилось как можно меньше крови; и потому, приказав Эфраиму отрезать ветвь от ближайшей пальмы, велел подать себе щит и, размахивая традиционным символом мира, пошел один к неприятелю, прикрываясь из предосторожности этим щитом.
Непосредственный начальник египтян стоял у входа к рудникам и, доверяясь знаку, приглашавшему к переговорам, просил доложить о себе начальнику горных заводов. Тот готов был принять его, но прежде желал узнать содержание только что врученного ему письма, которое должно было заключать в себе дурные вести, что было ясно по выражению лица привезшего его гонца и из нескольких отрывочных, но многозначащих фраз, сказанных им своим соотечественникам.
Между тем как несколько воинов фараона угощали измученного и запыленного гонца разными яствами и с содроганием слушали вести, которые он передавал охрипшим голосом, начальник горных заводов читал письмо. Лицо омрачилось, и, окончив чтение, он злобно сжал папирус: в нем заключалось уведомление о гибели войска, о смерти фараона Марнепта и далее о том, что старший из оставшихся в живых его сыновей провозглашен вторым Сети и коронован, после того как попытка князя Сиптаха овладеть престолом потерпела неудачу. Князь бежал в болотистый округ дельты, а сириец Аарсу, покинув его и перейдя на сторону нового царя, получил должность начальника над всеми наемными войсками. Бая, верховного жреца и судью, второй Сети лишил всех должностей и удалил от себя. Участников заговора Сиптаха, по слухам, предполагалось сослать не на медные рудники, а на эфиопские золотые прииски. Ходили также слухи, что многие женщины задушены, а мать Сиптаха — точно. Каждый воин, без которого можно обойтись на заводах, должен был немедленно отправиться в Танис, потому что во вновь формируемых легионах недоставало людей, опытных в военной службе.
Эти известия произвели ошеломляющее впечатление. Когда Иисус Навин сообщил начальнику заводов, что он уведомлен о гибели египетского войска и через несколько часов ожидает прибытия новых отрядов, которым поручено овладеть Дофкой, египтянин принял заискивающий тон и старался только добиться благоприятных условий для отступления. Он слишком хорошо знал, как слаб гарнизон бирюзовых копей и что сам он не может ожидать никакой помощи из отечества. Кроме того, личность посредника внушала ему доверие, и он уступил, после разных возражений и угроз, довольный данным гарнизону дозволением уйти беспрепятственно вместе с вьючными животными и необходимыми съестными припасами. Разумеется, это могло произойти только тогда, когда египтяне сложат оружие и укажут евреям все места, где работают арестанты.
Отряд молодых евреев немедленно приступил к разоружению египтян, уступавших им вдвое численностью; у многих старых воинов глаза увлажнялись при этом слезами, некоторые разламывали копья и стрелы с ругательствами и проклятиями, несколько седобородых стариков, служивших прежде под начальством Иосии и узнавших его, поднимали кулаки и называли его изменником.
То были люди опустившиеся, сосланные на службу в пустыню, и большинство из них носило на лице отпечаток испорченности и ожесточения. На Ниле умели выбирать людей, для которых беспощадная строгость к беззащитным превратилась в обязанность.
Наконец шахты были отворены, и Иисус Навин сам схватил рудную лампочку и проник в жаркую галерею, где арестанты, голые и в цепях, отбивали содержавшие медную руду камни от стен.
Уже издали он слышал, как кирки с концами, имевшими форму хвоста ласточки, вонзались в камень. Затем он услышал жалобный вой истязаемых мужчин и женщин, так как свирепые надсмотрщики следовали за ними в подземелье и заставляли неповоротливых пошевеливаться.
Сегодня, в день рождения фараона, их утром пригнали к храму Гатор, стоявшему на вершине соседнего холма, для молитвы за повелителя, и они были бы освобождены от работы до следующего утра, если бы неожиданное нападение евреев не заставило начальство загнать их снова в шахты. Поэтому там в этот день работали и женщины, обязанность которых в другое время заключалась в том, чтобы толочь и просеивать медь, необходимую для приготовления стеклянных сплавов и красильных веществ.
Когда арестанты услыхали шаги и призывы Иисуса Навина, отраженные каменными стенами, они испугались, вообразив, что им угрожает какое-нибудь новое бедствие, и их вопли и жалобы послышались отовсюду. Но освободитель скоро дошел до ближайших работников, и радостная весть, что он явился положить конец их печальной участи, быстро распространилась до самых глубоких выработок шахты.
Ликование захлестнуло места, привыкшие к горьким жалобам и жарким слезам; однако до слуха Иисуса Навина долетали также крики о помощи, жалобные вопли, стоны и хрипение, потому что какой-то горячий человек накинулся на самого ненавистного из надсмотрщиков и повалил его ударом кирки. Его пример всколыхнул жажду мести в других, и, прежде чем освободители сумели помешать этому, остальные надсмотрщики подверглись той же участи. Но они защищались, и тела арестантов покрывали пол возле трупов их мучителей.
Наконец освобожденная толпа, следуя призыву Навина, вырвалась на дневной свет. Дико и грубо звучали их крики, и к ним примешивался лязг цепей, которые они тащили за собой.
Даже самые мужественные из евреев, увидев каторжников при солнечном свете, отступали перед ними. Воспаленные, красные глаза этих несчастных, из которых многие некогда в собственном доме или при дворе фараона наслаждались всеми благами жизни, были нежными отцами и матерями, с радостью делали добро и пользовались всеми преимуществами культуры богато одаренного народа, эти глаза при внезапном переходе из мрака подземелья к блеску полуденного солнца сначала наполнялись слезами, но вслед за тем сверкали дико и жадно, подобно глазам голодных псов.
Пораженные невероятным поворотом в своей судьбе, они, сначала робкие и нерешительные, старались прийти в себя и не мешали евреям, которые по знаку Иисуса Навина начали перепиливать цепи, сковывавшие их ноги; но затем, при виде обезоруженных египетских воинов и надсмотрщиков, поставленных в стороне, возле утеса, под наблюдением Эфраима и его товарищей, ими овладело странное волнение. С криками и воем, которые невозможно описать, они вырвались из рук своих освободителей и, хотя не обменялись друг с другом ни одним словом или знаком, но увлеченные одним и тем же страшным порывом, не обращая внимания на свои оковы, ринулись на безоружных. Прежде чем евреи успели их остановить, толпа набросилась на своих мучителей. Здесь — какой-нибудь изнуренный мужчина вцеплялся руками в шею сильного врага, там — полунагие, страшно обезображенные бедствием и отчаянием женщины нападали на человека, который особенно жестоко обходился с ними, били его, зубами и ногтями вымещая на нем свою долго сдерживаемую ненависть. Казалось, бешеный поток ненависти прорвал плотину и, свободный от всяких сдерживавших его препятствий, ищет свою жертву.
То была ужасная картина. В этой кровавой схватке раздавались терзавшие слух крики, визг и стоны; здесь невозможно было отличить одного от другого, мужчин от женщин; с одной стороны — дикое остервенение, доходившее до кровожадности, с другой — страх смерти и отчаянная самозащита.
Только немногие каторжники сохраняли самообладание, но и те подстрекали товарищей против врагов, в страшном возбуждении понося их и потрясая кулаками.
Злоба, с которой узники нападали теперь на своих мучителей, нисколько не уступала тем жестокостям, которые они претерпели от них.
Иисус Навин приказал своим людям разнять дерущихся по возможности без кровопролития, однако это было вовсе не легко, и дело не обошлось без новых ужасов. Наконец порядок был восстановлен. До какой степени в этой борьбе возросла сила даже людей самых слабых и изнуренных, видно было из того, что, несмотря на отсутствие оружия, на месте расправы все-таки осталось значительное число трупов, и большинство египетских надсмотрщиков были обезображены до неузнаваемости.
Когда все успокоилось, Иисус Навин потребовал список заключенных от раненого начальника рудников, но тот указал на своего писца, не тронутого узниками; последний был их врачом и относился к ним дружески; это был старик, много испытавший, и так как он сам познал всю тяжесть страдания, то всегда был готов облегчить его другим.
Он прочел имена узников, в числе которых было много евреев; и, после того как каждый из вызванных поочередно выступил вперед, многие из них изъявили готовность присоединиться к переселенцам.
Когда обезоруженные воины и надсмотрщики собрались наконец отправляться восвояси, от них отделился начальник арестантского конвоя, сопровождавший Иисуса Навина и других каторжников в рудники. Он в смущении, с поникшей головой подошел к старому Нуну и его сыну и просил их взять его с собой. «Дома, — говорил он, — не ждет меня ничего хорошего, а такого могущественного Бога, как ваш, нет в Египте. Мне случалось видеть, как Иосия, несмотря на то что был некогда военачальником, в самые тяжкие минуты своей жизни простирал руки к этому Богу, после чего ему сообщалась такая твердость, какой не приходилось мне встречать ни в ком. Теперь я знаю, что именно этот Бог потопил в море сильное войско фараона, чтобы спасти народ Свой. Такой Бог мне по сердцу, и я не желаю ничего лучшего, как остаться ныне при тех, которые Ему служат».
Иисус Навин охотно позволил ему присоединиться к еврейскому народу.
В числе освобожденных каторжников находились пятнадцать евреев, и между ними, к великой радости Эфраима, Рувим, муж несчастной Мильки, отличавшейся такой глубокой привязанностью к Мариам. Его замкнутый характер и молчаливость послужили ему на пользу, а тяжелая работа каторжника, по-видимому, мало повредила этому сильному человеку.
Эфраимом и его юными товарищами овладело восторженное чувство победы и радостное сознание удачи; но солнце уже зашло, а о Гуре и его отряде ничего не было слышно, и это тревожило Нуна и бывших при нем евреев.
Эфраим вызвался отправиться с несколькими товарищами на разведку, когда прибывший гонец сообщил, что люди Гура при виде хорошо укрепленного египетского форта пали духом. Их вождь настаивал на штурме, но его воины не отваживались на такой подвиг, и если Нун со своими пастухами не придет к ним на помощь, то они отступят, не завершив предпринятого дела.
Тогда было решено помочь малодушным. Все отправились с бодрой уверенностью, и во время пути Эфраим и Нун рассказали Иисусу Навину, как они нашли Казану и как она умерла. Воин выслушал этот рассказ с глубоким волнением, теперь ему была известна вся глубина ее любви, и он оставался задумчивым и безмолвным, пока они не дошли до Дофки — долины бирюзовых приисков. Посреди нее возвышалась крепость, к которой примыкали хибары узников.
Гур и его толпа скрывались в одной из боковых долин. Иисус Навин разделил все войско евреев на несколько отрядов, дав каждому особое задание, и на рассвете подал знак к штурму.
После короткой борьбы небольшой гарнизон был разгромлен и укрепление взято. Обезоруженных египтян, так же как и их товарищей с медных рудников, отправили домой. Узников освободили, а прокаженным, квартал которых был расположен в долине, по ту сторону приисков, и между которыми находились также отведенные туда по приказанию Иисуса Навина, было позволено следовать в некотором отдалении за победителями.
То, чего не мог сделать Гур, удалось Иисусу Навину, и, прежде чем молодые воины ушли с Эфраимом, старый Нун собрал их и вместе с ними возблагодарил Господа. Воины Гура присоединились к ним в этой молитве.
Там, где появлялся Иисус Навин, молодые товарищи Эфраима приветствовали его радостными кликами: «Да здравствует наш военачальник! Да будет счастлив тот, которого Сам Всевышний избрал Своим мечом! Мы охотно последуем за ним: рядом с ним Бог ведет нас к победе!»
Такие восклицания часто раздавались и во время дальнейшего странствования. В них участвовали и воины Гура, чему тот не препятствовал. После взятия крепости он благодарил Иисуса Навина и выразил свою радость по поводу его освобождения.
При выступлении младшие отошли назад, чтобы дать идти впереди старшим, а Гур просил старого Нуна, далеко превосходившего его годами, идти во главе, хотя его самого после спасения народа на берегу Тростникового моря Моисей и старейшины назначили главнокомандующим всех еврейских войск.
Путь вел сначала через горную долину, затем пересекал ущелье, которое было единственной дорогой, соединявшей рудники с Тростниковым морем.
Каменистая местность была дика и пустынна; тропы, по которым приходилось взбираться, были круты. Престарелого Нуна, выросшего на равнинах Гесена и не привыкшего подниматься на горы, при веселом клике других сын и внук несли на руках до конца подъема. Гур, следовавший во главе своего отряда, за товарищами Эфраима, слышал радостные клики юношей; он шел за ними, опустив голову, и мрачно смотрел в землю.
На вершине пришлось остановиться в ожидании народа, который должен был идти через пустыню Сур [41] на Дофку [42].
С этой возвышенности победители смотрели, поджидая соратников, но те не появлялись. Тогда они оглянулись назад на тропинку, по которой взошли, и им представилось другое зрелище, до того величественное и чудесное, что оно привлекало глаза каждого, точно каким-то волшебством. У ног их лежала круглая котловина, окруженная скалами, зубцами и шпилями, здесь белыми как мел, там черными как вороново крыло, или серыми, бурыми, красными, зелеными, которые, казалось, выросли из песка и указывали на лазурное небо пустыни, залитое ослепительным светом и не закрытое ни одним облачком.
Голо и пусто, безмолвно и безжизненно было здесь все, представлявшееся взорам. На склонах скал, окружавших песчаную почву долины, не росло даже и хвощей, не было никаких самых скудных растений. Ни одна птица, ни один червяк или жук не оживляли этого безмолвного места, враждебного всякой жизни. Здесь глаза не встречали ничего, что напоминало бы о существовании человека, о его посевах, насаждениях, творчестве. Казалось, Бог создал для Себя самого эти большие пространства, не служившие никакому живому существу. Проникавший в эту пустыню, вступал в область, которую Всевышний, может быть, избрал для Своего собственного покоя и уединения как святая святых храма, недоступную для непосвященных.
Молодые люди молча созерцали странный пейзаж, расстилавшийся у их ног. Расположившись на привал, они всячески старались услужить старому Нуну, любившему молодежь. Он отдыхал среди них под быстро устроенным навесом и с сияющими глазами рассказывал им о подвигах, которые совершил его сын в качестве военачальника.
Между тем Иисус Навин и Гур все еще стояли на высоте ущелья, и каждый безмолвно смотрел вниз, на пустынную скалистую долину. Осененная голубым куполом неба и окруженная высокими, как горы, колоннами и контрфорсами, вышедшими из мастерской Творца, она открывалась перед ними подобно внутренности какого-то величественнейшего храма.
Гур долгое время мрачно смотрел в землю, но затем внезапно прервал молчание:
— В Суккоте я поставил памятник и призвал Господа быть свидетелем между мною и тобой. Но здесь, в этой тишине, мне кажется, что мы и без памятника или знака сознаем Его близость.
При этих словах он выпрямился и продолжал:
— И теперь я возношу взор к тебе, Адонаи, и обращаю мое бедное слово к Тебе, Иегова, Бог Авраама и наших отцов, прося быть свидетелем между мною и этим человеком, которого Ты Сам призвал на Твою службу, чтобы он стал Твоим мечом!
Гур произнес эти слова, подняв глаза и руки к небу. Затем обратился к Иисусу Навину с суровой торжественностью:
— Я спрашиваю тебя, Иосия, сын Нуна, помнишь ли ты клятву, которую ты дал перед камнями в Суккоте.
— Помню, — ответил Иисус Навин. — В тяжком бедствии и великой опасности я узнал, чего желает от меня Всевышний, и всю дарованную мне Им силу жизни и души я намерен посвятить Ему и Его народу, который вместе с тем и мой народ. Отныне я буду называться Иисусом Навином… Ни у египтян, ни у какого другого иноплеменного царя я не буду впредь искать помощи, потому что сам Господь Бог даровал мне это имя устами твоей жены.
— Именно это я и надеялся услышать от тебя, — прервал его Гур торжественно, — и так как здесь Всевышний служит нам свидетелем, слышит этот разговор между нами, то да исполнится здесь то, что я обещал перед лицом Его. Вожди колен и Моисей, служитель Господа, возвели меня в степень главного вождя военных сил нашего народа. Но теперь ты называешься Иисусом Навином и поклялся не служить никому другому, кроме Господа нашего Бога; притом я хорошо знаю, что в качестве военачальника ты можешь сделать больше меня, выросшего и поседевшего пастухом, и всякого другого еврея, кто бы он ни был; поэтому пусть исполнится обет, данный в Суккоте. От Моисея, служителя Господа, и от старейшин я потребую, чтобы они вверили тебе должность вождя. Я предоставлю им решение этого вопроса, и так как я чувствую, что Всевышний смотрит в мое сердце, то да будет известно тебе, что в глубине души я чувствовал к тебе злобу. Но ради блага народа я желаю забыть то, что лежит между нами, и протягиваю тебе мою правую руку!
С этими словами он подал руку Иисусу Навину; тот принял ее и с чистосердечной откровенностью ответил:
— Твои слова достойны мужчины, пусть будут такими же и мои. Ради народа и дела, которому мы оба служим, я принимаю твое предложение. Но так как ты призвал Бога в свидетели, и Он слышит меня, то и я во всем воздам честь полной истине. К тому, что ты желаешь передать мне, именно к должности верховного вождя военных сил, я призван Самим Господом. Он призвал меня через Мариам, и эта должность приличествует мне. Но что ты сам пожелал отказаться от своего звания, то я считаю это достохвальным подвигом. Я знаю, как трудно человеку отречься от власти, в особенности в пользу младшего и чуждого его сердцу. Ты сделал это, и я благодарен тебе. Однако и я в глубине души думал о тебе с неприязнью, потому что через тебя я лишился другого блага, от которого мужчине отказаться еще труднее, чем от должности: я потерял любовь женщины.
Кровь бросилась в лицо Гуру, и он вскричал:
— Ты говоришь о Мариам! Я не принуждал ее к браку; я даже не внес за нее брачного выкупа, как того требовал обычай отцов: она сделалась моею женою по своему собственному побуждению.
— Я знаю это, — ответил спокойно Иисус Навин. — Однако же другой человек дольше и пламеннее желал обладать ею, и огонь ревности жестоко сжигал его душу. Но не беспокойся. Если бы теперь ты даже дал ей развод и привел ее ко мне, чтобы я открыл для нее мой шатер и мои объятия, то я бы спросил, зачем ты поступаешь так с собою и со мною, потому что недавно я в первый раз узнал, что значит и на что способна любовь женщины и что я был в заблуждении, воображая, что Мариам разделяет пыл моего сердца. Во время моего странствования с цепями на ногах, среди жесточайшего злополучия я дал себе обет — всю силу, весь жар моего тела и души не посвящать никому, кроме нашего народа. Любовь к женщине не отвлечет меня от великой обязанности, которую я возложил на себя. Что касается твоей жены, то я останусь для нее чужим, хотя бы она возвестила мне какое-нибудь новое повеление Господа в качестве пророчицы.
С этими словами Иисус Навин протянул руку Гуру, и в то время, как тот взял ее, послышался шум: на гору взошли вестники, которые кричали, указывая на большой столб пыли, предшествовавший еврейскому народу.
XXV
Путники подходили все ближе и ближе, и многие из молодых бойцов поспешили к ним навстречу.
Это уже не были те веселые толпы, которые, торжествуя, присоединяли свои голоса к хвалебному гимну Мариам. Медленно, опустив головы, они взбирались на гору. Им приходилось карабкаться на высоту с более крутой стороны, и как тяжело вздыхали носильщики, как жалобно хныкали женщины и дети, какие дикие проклятия произносили возчики, понукая своих коней на узкой и крутой тропинке, как хрипло звучали голоса из пересохшего горла изнеможенных людей, подпиравших своими плечами повозки, чтобы помочь тащившим их животным.
Эти тысячи людей, которые немного дней тому назад чувствовали такую благодарность к спасительной милости Господа, казались теперь Иисусу Навину похожими на разбитую армию.
Но путь, пройденный ими от последнего места расположения их лагеря у гавани Тростникового моря, был дик, безводен и так труден и ужасен для них, выросших на плодородных равнинах Нижнего Египта! Он вел через обнаженную скалистую местность, и глаз, привыкший видеть далеко кругом роскошную зелень, здесь встречал повсюду преграды и нагую пустыню.
Пройдя через Бабасские ворота, они вступили в долину того же названия и в дальнейшем следовании по пустыне Сур встречали долины только с круто поднимавшимися стенами утесов. Одна высокая гора мрачно и грозно возвышалась над всеми своими красными скатами, которые казались странникам делом человеческих рук, ибо всем бросались в глаза слои плит, нагроможденные друг на друга с равномерными промежутками, и можно было подумать, что какие-то гиганты работники, помогавшие здесь Строителю всего мира, были отозваны, прежде чем окончили это создание, которое в этой пустыне не должно было пугать ничей пытливый глаз и не было предназначено служить никакому живому существу. Серые и бурые скалы возвышались возле дороги, и в покрывавшем ее песке лежали высокие кучи красных зерен порфира и черные как уголь, точно разбитые молотком камни, похожие на шлаки, из которых выплавляется медь. Множество скал зеленоватого оттенка и причудливых форм окружали небольшие, окаймленные горами площади возвышенных долин, примыкавших одна к другой. Их пересекал путь, поднимавшийся вверх, и путники часто, вступив в какую-нибудь из этих котловин, опасались, что высокий утес на ее заднем плане заставит их вернуться. Тогда поднимались жалобы и ропот, но скоро оказывался выход, который вел в какую-нибудь новую впадину среди скал.
По выступлении евреев из лагеря у гавани Тростникового моря сначала им часто попадались колючие смолистые акации и какие-нибудь душистые злаки пустыни, нравившиеся животным; но чем дальше они подвигались в глубину скалистой пустыни, тем суше и жарче становился песок, и глаз напрасно искал трав и деревьев.
В Илиме они нашли пресные источники и тенистые пальмы, а у Тростникового моря — цистерны, наполненные водою; но при остановке в пустыне Сур не нашли уже ничего для утоления жажды, и в полдень, казалось, полчище каких-то злых демонов согнало тень со скал: все в этих котловинах и впадинах блестело и пылало, и нигде не было спасения от солнечного зноя.
Последняя принесенная с собою в лагерь вода была разделена между людьми и животными, и когда утром еврейский народ двинулся снова в путь, то не нашлось больше ни одной капли для утоления все усиливавшейся жажды.
Тогда прежнее малодушие и неповиновение овладели толпой. Не было конца проклятиям против Моисея и старейшин, которые из многоводного Египта привели народ в такую безводную пустыню; но когда наконец евреи взобрались на вершину ущелья, горловые связки у них уже слишком пересохли для того, чтобы громко проклинать и ругаться.
Послы старого Нуна, Эфраима и Гура уже сообщили приближавшимся, что молодые евреи одержали одну победу и возвратили свободу Иисусу Навину и другим узникам; но изнеможение было так велико, что даже эта радостная весть не произвела большого действия, оно ограничивалось тем, что на губах мужчин промелькнула мимолетная улыбка, а в темных глазах женщин потухший блеск снова вспыхнул на мгновение.
Даже Мариам с бледной Милькой оставалась при своих спутниках и не призывала женщин, как прежде, благодарить Всевышнего.
Рувим, муж Мильки, которой страх разочарования еще мешал предаваться возродившейся надежде, был тихий, молчаливый человек, так что первый посланец не мог сказать, находится ли он в числе освобожденных. Милькой овладело сильное волнение. Мариам велела ей терпеливо ждать, но Милька перебегала от одной женщины к другой, осаждая их настойчивыми расспросами. Не получив ни от одной из них известия о своем потерянном муже, она начала громко рыдать и вернулась к пророчице. Но и у нее она нашла мало утешения, так как Мариам, которой предстояло поздравить своего мужа с победой и снова увидеть освобожденного друга своего детства, замкнулась в себе, и казалось, как будто ее душу удручало какое-то тяжелое бремя.
Как только Моисей узнал, что нападение на рудники удалось и Иисус Навин освобожден, он оставил народ, так как ему донесли, что воинственные амаликитяне [43], населявшие оазис у подножия Синайской горы, уже вооружаются, чтобы не пропустить евреев через свою землю, изобиловавшую водою и пальмами. Ввиду этого он с несколькими избранными людьми отправился прямо через горы на рекогносцировку. Он намеревался снова присоединиться к соплеменникам между Алусом и Рафидимом — долиною, лежавшею перед оазисом. В его отсутствие место его и его спутников должны были занять Абидан, глава вениамитов, а также Гур и Нун, вожди колен Иуды и Эфрема, по возвращении из рудников.
При приближении народа к ущелью его встретил Гур с освобожденными узниками, которых всех опередил молодой Рувим, муж Мильки. Но она узнала его еще издали, когда он всходил на гору, и, несмотря на запрещение Мариам, добежала до середины племени Симеона, которое шло впереди.
Там долгожданная встреча этой четы порадовала многие усталые души, и когда муж и жена, тесно прижавшись друг к другу, поспешили к Мариам, и пророчица взглянула в лицо Мильки, то ей показалось, что совершилось какое-то чудо: из бледной лилии Милька превратилась в цветущую розу. Ее губы, открывавшиеся редко и робко, только для какой-нибудь просьбы или для ответа, были теперь в постоянном движении. Она так много желала знать, ей хотелось о многом расспросить своего молчаливого возлюбленного, вытерпевшего такие страшные мучения.
Это была прекрасная, счастливая чета, и супругам казалось, что они идут не возле нагих скал по жестким тропинкам пустыни, а по местности, украшенной цветущими растениями, где журчат источники и поют птицы.
Пророчице, делавшей все, чтобы поддержать бодрость в этой понурой женщине, было приятно зрелище ее счастья. Но скоро все следы радостного сочувствия исчезли с лица Мариам. Между тем как Рувим и Милька, по-видимому, едва касались земли, точно летя на крыльях, пророчица шла вперед с поникшей головой, угнетенная тяжкой мыслью о том, что она сама виновата в том, что этот час не принес ей такого же счастья.
Она говорила себе, что, отказавшись следовать голосу сердца, она принесла тяжелую, достойную всякой награды и угодную Богу жертву, но из ее головы не выходил образ умирающей египтянки, отказавшей ей в праве причислять себя к тем, кто любил Иосию, и из-за любви к нему скончавшейся во цвете лет.
Она, Мариам, осталась жива, но сама убила в себе пламеннейшие желания своего сердца: долг запрещает ей с жарким томлением думать о человеке, который стоит вон там, преданный делу своего народа и Богу своих отцов, свободный, прекрасный, может быть, будущий вождь военных сил евреев, а впоследствии, если так решит Моисей, первый после него и важнейший из всех людей еврейского народа, но потерянный для нее навсегда.
Если бы в ту злополучную ночь она последовала желанию своего любящего сердца, а не требованиям своего призвания, ставившего ее высоко над другими женщинами, то он давно уже держал бы ее в своих объятиях, как молчаливый Рувим свою прежде столь слабую, бледную, а теперь так приободрившуюся Мильку.
Какие мысли! Она должна загнать их в глубочайшую пропасть своего сердца, стараться уничтожить их, потому что для нее грех так пламенно желать свидания с другим! И она хотела, чтобы муж находился при ней в этот ужасный час в качестве избавителя от себя самой и от ее запрещенных желаний.
Ее мужем был начальник колена Иуды Гур, а не бывший египтянин, освобожденный узник. Чего же было ей нужно от эфраимита, от которого она отказалась навсегда. Как могла Мариам обижаться на то, что освобожденный не пошел к ней навстречу. Почему она втайне питала безумную надежду, что его удерживает там, наверху, какая-нибудь серьезная обязанность.
Она едва видела, едва слышала, что вокруг нее происходило; и только благодарное приветствие, которое Милька крикнула навстречу Гуру, возвестило ей, что муж приближается.
Он уже издали кивал ей, но он приближался один, без Иосии, без Иисуса Навина… все равно, как бы он ни назывался; и сознание, что ей обидно это, что это больно ее сердцу, возмущало ее против себя самой. Ведь она высоко ценила своего мужа, и ей было нетрудно дружески приветствовать его.
Он весело и сердечно ответил на ее привет; но когда она указала ему на вновь соединившуюся чету, прославляла его, как победителя и избавителя Рувима и многих других несчастных, он откровенно признался, что эта похвала принадлежит не ему, а Иисусу, которого она сама призвала во имя Всевышнего для начальствования над военными силами народа.
При этих словах Мариам побледнела и, несмотря на утомительность пути, круто поднимавшегося в гору, не уставала обращаться к мужу с настойчивыми вопросами. Когда она узнала, что Иисус Навин со своим отцом и с молодыми людьми отдыхает наверху и что Гур обещал ему добровольно отказаться от должности главного военачальника, если Моисей согласится передать ее Иисусу Навину, ее сросшиеся брови под высоким лбом мрачно сдвинулись и с суровой резкостью она сказала:
— Ты мой господин, и мне неприлично противиться тебе даже тогда, когда ты настолько забываешь свою собственную жену, что уступаешь первое место человеку, который когда-то осмеливался поднимать на нее глаза.
Гур с жаром прервал ее:
— Он тебя не знает больше и, если бы даже я захотел дать тебе развод, он все-таки не стал бы искать твоей руки.
— Не стал бы? — спросила она с принужденной улыбкой. — И он сам сказал тебе об этом?
— Он посвятил свое тело и свою душу благу народа и отрекся от любви к женщине, — ответил Гур.
Но она возразила:
— Отречение легко там, где желание не могло бы добиться ничего, кроме отказа и стыда! Не ему, который в час величайшей опасности искал помощи у египтян, а тебе одному, который вел народ к первой победе в Суккоте и которому сам Бог через Моисея, своего слугу, вверил должность военачальника, тебе одному принадлежит главное командование над войском.
Гур с беспокойством посмотрел на жену, к которой он пылал поздней горячей любовью, и, заметив, что щеки ее горят и дыхание прерывается, не знал, чему приписать это: трудности подъема на гору или же страстному честолюбию ее высоко парящей души, которое она перенесла теперь на него, своего мужа.
Ему было приятно, что он для нее гораздо дороже более молодого человека, известного своими геройскими подвигами, возвращения которого он в душе опасался. Но Гур поседел в строгом исполнении своих обязанностей и никогда не уклонялся от того, что считал справедливым. Его первой жене, которую он похоронил за несколько лет перед тем, его взгляды были приказанием; со стороны Мариам он тоже еще не встречал никакого противоречия. Нельзя было сомневаться в том, что Иосия наилучшим образом подготовлен для командования военной силой народа, и поэтому он, тяжело дыша, так как и ему трудно было подниматься в гору, сказал:
— Твое высокое мнение льстит мне и радует меня; но, хотя Моисей и старейшины и вверили мне главное начальствование над войском, ты все-таки вспомнишь о памятнике в Суккоте и о моем обете. Я постоянно храню его в сердце и сдержу его.
Мариам, недовольная, стала смотреть в сторону и не говорила больше ничего, пока они не взошли на гору.
С ее высоты юноши-победители приветствовали поднимавшихся громкими кликами.
Радость нового свидания, захваченные в виде добычи съестные припасы и питье, хотя и скудные, но послужившие к подкреплению большинства нуждавшихся в них людей, подняли упавший дух истощенных, а чувствовавшие жажду сократили свой отдых, чтобы поскорее дойти до Дофки. От Иисуса Навина они узнали, что там они найдут не только засыпанные цистерны, но и скрытые источники, существование которых стало ему известно от бывшего конвоира узников.
Дорога шла под гору. «Спеши!» — вот девиз истомленного путника, когда он идет к колодцу. Немного времени спустя после заката солнца евреи пришли в долину бирюзовых копей, где и устроили лагерь вокруг холма, на котором стояли склады и разрушенная крепость Дофка. Скоро были найдены источники в роще акаций, посвященной богине Гатор.
Быстро зажигался костер за костром. Непостоянные сердца, которые в пустыне Син были близки к отчаянию, снова наполнились радостью существования, надеждой и благодарной верой. Прекрасные акации были срублены для облегчения доступа к колодцам, живительная влага которых произвела это удивительное превращение.
Возле ущелья Иисус Навин и Мариам свиделись снова, но едва успели наскоро обменяться приветствиями. Здесь, в лагере, они были ближе друг к другу.
Было уже поздно, так как старейшины долго совещались насчет мер, которые следовало предпринять против внезапного нападения амаликитян.
Иосия явился на совещание вместе с отцом. Наследника этого сановитого, высокоуважаемого старца приветствовали со всех сторон, и его совет сформировать авангард из молодых, а арьергард из старших воинов и послать выбранные из первых маленькие отряды на разведку был охотно принят.
Иосия имел право сказать себе, что опытен во всем, относящемся к управлению большою военной силой и к ее обороне. Сам Бог вверил ему должность военачальника, и Моисей, посылая ему совет быть сильным и крепким, утвердил его в ней. Гур, носивший теперь это звание, тоже желал передать свою должность ему. И слово его было крепко, хотя он и замедлил повторением своего обещания перед старейшинами. Во всяком случае, с Иисусом Навином обращались так, как будто он уже стал главнокомандующим, да и сам он чувствовал себя таковым.
Когда собрание начало расходиться, Гур просил Иисуса Навина проводить его до палатки, несмотря на поздний час, и воин пошел с ним, желая объясниться с Мариам. Он хотел в присутствии ее мужа показать ей, что вступил на тот путь, на который она ему так настойчиво указывала.
Перед супругой другого умолкли нежные чувства еврея. Жена Гура должна была знать, что он ничего больше не желает от нее. Сам он совсем и окончательно перестал думать о ней с любовью даже в часы уединения.
Он в душе признавал, что она великая женщина, но его охватывал холод, когда он думал о ее величии.
Образ действий Мариам представлялся ему теперь тоже в ином свете. Когда она после долгой разлуки приветствовала его с холодной улыбкой, он пришел к убеждению, что они сделались совершенно чуждыми друг другу; и это чувство все более и более усиливалось у костра, пылавшего перед великолепной палаткой вождя, где он снова встретился с нею.
Освобожденный Рувим со своею Милькой давно покинули Мариам, и теперь во время одинокого ожидания в ее уме являлось то одно, то другое, что она желала дать почувствовать человеку, которому позволила слишком многое, теперь точно грех лежавшее у нее на душе.
Мы преисполняемся гневом легче всего к тем, относительно кого чувствуем себя неправыми, а женщина считает дар своей любви до того великим и драгоценным, что даже и от отвергнутого обожателя требует, чтобы он не переставал вспоминать о ней с благодарностью. Но Иисус Навин заявил, что он не желает больше обладать женщиной, к которой некогда пылал страстью и которую держал в своих объятиях, хотя бы даже она была ему предложена. И он подтвердил такое уверение тем, что не вышел к ней навстречу, а спокойно ждал ее. Теперь наконец он пришел вместе с ее мужем, который готов был уступить ему первое место.
Но Мариам еще здесь и будет зорко смотреть за своим слишком великодушным супругом. Старика, с судьбой которого она соединила свою и честная преданность которого трогала ее, никто не должен был обманом лишить руководящей роли; и ему следовало удерживать за собою положение вождя уже потому, что она не желала быть женою человека, не смеющего более заявлять притязания на самое первое место после ее братьев.
Прославленная женщина, верившая в свой пророческий дар, никогда еще не чувствовала в своей душе такой горечи, обиды и раздражения. Она не признавалась в этом себе самой, и, однако же, ей казалось, будто ненависть, внушенная ей Моисеем против египтян и оставшаяся теперь беспредметной, требует новой цели и направляется против единственного человека, которого она некогда любила.
Но правдивая женщина может быть ласкова с каждым, кого она не презирает, и Мариам, хотя сильно покраснела при виде человека, на поцелуй которого она когда-то ответила, однако же приняла его дружески и обратилась к нему с участливыми вопросами.
При этом она называла его прежним именем Иосия, и когда он заметил, что она делает это умышленно, то спросил, не забыла ли она, что сама в качестве доверенной Всевышнего приказала ему впредь называться Иисусом.
Мариам ответила, что память у нее хорошая, но он напоминает ей о времени, которое она желала бы забыть. Он сам оттолкнул от себя имя, данное ему Господом, предпочтя милость египтян помощи, которую обещал ему Бог. Она не изменит старой привычке и будет по-прежнему звать его Иосией.
Честный воин не ожидал такой враждебности с ее стороны, однако же сохранил относительное спокойствие и равнодушно ответил, что ей редко будут представляться случаи называть его так или иначе. Люди, расположенные к нему, охотно привыкают называть его Иисусом.
На это Мариам заметила, что она готова делать то же, если позволит ей муж, если он сам будет настаивать на этом, потому что имя есть не более как внешнее. Но должность и сан, конечно, другое дело.
Когда затем Иисус Навин сказал ей, что он все еще верит, что сам Бог устами ее, Своей пророчицы, призвал его быть вождем воинов народа, что ни за кем, кроме Моисея, он не признает права отказать ему в притязании на эту должность, Гур согласился с ним и протянул ему руку.
Тогда Мариам оставила сдержанность, к которой принуждала себя до тех пор, и с вызывающей запальчивостью сказала:
— И в этом я другого мнения! Ты уклонился от призыва Всевышнего. Можешь ли ты отрицать это? И когда Вездесущий, вместо того чтобы видеть тебя во главе твоих соплеменников, нашел тебя у ног фараона, Он лишил тебя должности, которую вверил тебе прежде. Как сильнейший из всех вождей, Он поднял бурю и волны, и они поглотили врага. Так окончили они свои дни, бывшие твоими друзьями до тех пор, когда их тяжелые цепи заставили тебя почувствовать, как они расположены к тебе и к твоему народу. Я между тем прославляла милость Всевышнего, и народ присоединился к моему хвалебному гимну. И еще в тот же день Господь призвал вместо тебя другого для предводительствования войском, и этот другой, как тебе известно, мой муж. И хотя Гур никогда не изучал военного искусства, но Бог направляет его руку, а кто, кроме Его, дарует победу? Мой супруг — выслушай это во второй раз, — мой супруг единственный здесь военачальник; и хотя он в избытке своего великодушия позабыл это, но он все-таки удержит свою должность, когда вспомнит, чья рука избрала его. И я, его жена, возвышаю голос и напоминаю ему об этом!
Тогда Иисус Навин повернулся к выходу, чтобы положить конец этому неприятному спору; но Гур удержал его и, глубоко возмущенный неуместным вмешательством жены в дело мужчин, начал уверять, что он настаивает на своем обещании. Ветер развеет недобрые слова женщины. Лишь Моисею принадлежит право объявить, кого Иегова выбрал главным военачальником.
Говоря это, Гур с суровым достоинством смотрел на жену, как бы убеждая ее быть рассудительною, и его слова, казалось, достигли цели: Мариам, то бледнея, то краснея, последовала за мужчинами; она тоже стала удерживать гостя, как бы желая его успокоить, и дрожащею рукою сделала ему знак подойти к ней ближе.
— Только одно еще я желала бы тебе сказать, чтобы ты не составил обо мне ложного мнения, — начала она, тяжело дыша, — я называю нашим другом каждого, кто посвящает себя делу народа, а Гур говорил мне, с каким самоотвержением ты намерен служить этому делу. Нас разъединило твое упование на милость фараона, а потому я способна оценить твой серьезный и решительный разрыв с египтянами; но важность этого поступка я стала ценить как следует только с тех пор, как узнала, что с неприятелем тебя соединяли и другие узы, кроме долгой привычки.
— К чему клонится эта речь? — прервал ее Иисус Навин, убежденный, что она только что положила на тетиву новую стрелу, предназначенную для нанесения ему раны.
Но она не обратила внимания на его вопрос и с вызывающей язвительностью взгляда, противоречившей сдержанности ее речи, холодно продолжала:
— После того как промысел Господа спас нас от врагов, Тростниковое море выбросило на берег прекраснейшую женщину, какую только мне случалось видеть. Я перевязала ее рану, нанесенную ей одной еврейкой, и она призналась, что полна любви к тебе, и, умирая, вспоминала о тебе, как о кумире своего сердца.
Иисус Навин, возмущенный до глубины души, заявил:
— Если это истинная правда, то, значит, мой отец сообщил мне неверные сведения, так как от него я слышал, что несчастная сделала свое последнее признание только тем, которые меня любят, а не тебе. И она была права, избегая твоего присутствия, потому что ты никогда бы не поняла ее!
Тут он заметил на губах Мариам надменную улыбку, но не дал ей говорить и продолжал:
— Твой ум… да, он вдесятеро острее того, каким обладала та несчастная женщина. Но в твоем сердце, открытом для великого, нет места для любви. Оно состарится и перестанет биться, не зная, что значит это слово! И, несмотря на твой взгляд, пылающий гневом, я говорю тебе далее: ты больше, чем женщина, — ты пророчица; я же не могу похвалиться таким высоким даром. Я всего лишь простой человек, для которого битва более подходящее дело, чем созерцание будущего. Однако же я предвижу, что произойдет. Сжигающую тебя ненависть против меня ты будешь питать в своей душе. Ты насадишь ее и в сердце своего мужа и усердно постараешься раздуть ее. И я знаю — зачем! Пожирающее тебя пламенное честолюбие делает для тебя невыносимой участь жены человека, уступившего первое место другому. Ты отказываешься называть меня именем, которым я обязан тебе. Но если злоба и высокомерие не задушат в тебе единственного чувства, которое еще соединяет нас, именно — любви к нашему народу, то наступит день, когда ты добровольно подойдешь ко мне и назовешь меня Иисусом по свободному побуждению своего сердца.
С этими словами он поклонился Мариам и Гуру и исчез в темноте ночи.
Гур мрачно посмотрел ему вслед и не сказал ни слова, пока шаги позднего посетителя раздавались в спавшем лагере. Но затем долго сдерживаемый гнев этого серьезного человека, смотревшего до тех пор на свою молодую жену с нежным обожанием, вырвался на волю.
Сделав два больших шага, он остановился возле жены, которая была бледнее, чем он, и, по-видимому, расстроенная, смотрела в огонь. Его голос потерял свое металлическое благозвучие и раздавался резко и пронзительно, когда он вскричал:
— Я имел мужество посвататься к девушке, вообразившей, что она ближе к Богу, чем другие женщины, и теперь, сделавшись моею женой, она заставляет меня раскаиваться в такой смелости!
— Раскаиваться? — сорвался вопрос с ее бледных губ, и ее черные глаза сверкнули на него вызывающим взглядом.
Но он, не смущаясь, схватил ее руку, сжал ее крепко, до боли, и продолжал:
— Да, ты заставляешь меня раскаиваться в этом! Да будет мне стыдно, если я допущу, чтобы за этим позорным часом последовали другие, подобные ему!
Мариам старалась высвободить руку, но он, не выпуская ее, продолжал:
— Я посватался к тебе в надежде, что ты сделаешься гордостью моего дома. Я думал, что я сею честь, но теперь я пожинаю поношение, так как что может более позорить мужчин, чем женщина, которая командует им и забывается до того, что враждебными речами язвит сердце друга, охраняемого законами гостеприимства? Жене, не такой, как ты, а простой и настоящей, которая смотрит на прежнюю жизнь своего мужа и не думает только о приумножении его величия, из-за желания разделять его с ним, — такой жене я не имел бы нужды кричать в ухо, что Гур, ее муж, ее супруг, за свою долгую жизнь приобрел достаточно почестей и титулов и может отделить от них некоторую долю без ущерба для своего достоинства. В глазах Иеговы величайший человек не тот, кто стоит первым в качестве главного начальника, а тот, кто наиболее выдается в самоотверженной любви к народу. Ты желаешь стоять высоко, ты желаешь, чтобы толпа чтила тебя как избранницу Бога, — я не запрещаю тебе этого, пока ты не забываешь о том, что повелевает тебе долг хозяйки дома. Ты обязана также любить меня, ты обещала мне это в день свадьбы; но человеческое сердце может дать только то, чем оно обладает, а Иосия был прав, говоря, что твоей холодной душе чужда любовь, которая горит и согревает других!
С этими словами он повернулся и пошел в темную глубину шатра, а Мариам осталась у огня, трепещущий свет которого падал полосами на ее прекрасное лицо, покрытое глубокой бледностью.
Крепко стиснув зубы и прижимая руки к вздымавшейся груди, она посмотрела вслед мужу.
Ее седовласый супруг только что стоял перед нею в полном сознании своего достоинства, величавый, внушающий невольное почтение, настоящий властный глава племени, и она чувствовала его великое превосходство над нею. Каждое из его слов вонзалось в ее грудь, подобно острию копья. Могущество истины сообщило им полную силу и поставило перед ней зеркало, отразившее ей образ, который привел ее в ужас.
Теперь она чувствовала нетерпеливое желание поспешить вслед за ним и опять вымолить у него любовь, которою он окружал ее до сих пор, — это она сознавала с благодарностью. Мариам чувствовала, что она в состоянии ответить на этот драгоценный подарок: не напрасно же она томилась теперь таким искренним желанием услышать из его уст доброе, прощающее слово.
Ее душа казалась ей подобной засеянному полю, попорченному ядовитой ржавчиной, поблеклому, засохшему, безжизненному, а между тем некогда в ней все цвело и зеленело!
Она вспомнила пахотную землю в Гесеме, которая, дав обильную жатву, оставалась твердой и сухой до той поры, пока прибывала вода реки, чтобы снова размягчить ее и превратить в ростки принятые ею семена. Так было и с ее душою, с той только разницей, что она бросила в огонь созревшее зерно и преступной рукой воздвигла плотину между оросительной влагой и засохшей почвой.
Но время еще не прошло.
Она знала, что он ошибался в одном отношении: она женщина такая же, как и всякая другая, и способна испытывать горячую страсть к любимому человеку. Единственно от нее зависело заставить его почувствовать это в ее объятиях.
Теперь он, разумеется, вправе считать ее черствой и бесчувственной, потому что там, где прежде цвела любовь, теперь появился горький источник, испортивший все, чего он коснулся.
Было ли то мщение сердца, пламенные желания которого она сама так решительно умертвила?
Бог пренебрег ее тягчайшей жертвой; в этом невозможно было сомневаться, потому что слава Его уже не являлась ей в возвышающих сердце видениях, и, следовательно, она едва ли имела теперь право называться пророчицей. Ее, правдивую, эта жертва привела к неправде; ее, которая в сознании, что она идет по истинному пути, жила в мире с собою, она ввергла в мучительную тревогу. Со времени этого великого и тяжкого подвига для нее, некогда столь богатой надеждами, не расцветало ничто, к чему она стремилась с страстным желанием. Она, не знавшая ни одной женщины, перед которой ей пришлось бы отступить, должна была потерпеть унижение от бедной умирающей. Она была доброжелательна к каждому, кто принадлежал к числу ее соплеменников и был предан делу ее народа, а теперь лучшего и благороднейшего она оскорбила враждебным озлоблением. Беднейшей жене поденщика удавалось крепче привязать к себе своего мужа, который однажды полюбил ее, а она безрассудно отдалила от себя своего.
Мариам, иззябшая, пришла к его очагу в качестве ищущей покровительства, но нашла там более теплоты, чем надеялась, и его великодушие и любовь, подобно целебному бальзаму, подействовали на ее изнуренную душу.
Теперь же Гур более не считал ее способной к нежному чувству, а между тем она не могла жить без любви, и никакая жертва не казалась ей слишком тяжелой, лишь бы снова приобрести его любовь. Но гордость тоже была одним из условий ее существования, и каждый раз, как она намеревалась смиренно открыть свое сердце мужу, ей овладевало опасение, как бы не унизить своего достоинства; и Мариам, точно околдованная, стояла у костра до тех пор, пока сгоревшие дрова, дымясь, обрушились у ее ног, и ее окружила тьма.
Какая-то странная боязнь закралась в душу пророчицы. Две летучие мыши, вероятно, прилетевшие с рудников и кружившиеся у огня, пролетели как раз возле нее, подобно призракам. Все побуждало ее вернуться в шатер, к мужу, и с внезапной решимостью она вошла в обширное помещение, освещенное одним светильником. Но оно было пусто, и встретившая ее раба сказала, что Гур до самого выступления народа останется у сына и внука.
Тогда Мариам овладела скорбь, и она легла в постель такая беспомощная и пристыженная, какой не чувствовала себя со времени своего детства.
Несколько часов спустя лагерь проснулся, и когда Гур на рассвете с кратким приветствием вошел в палатку, гордость снова заставила Мариам поднять голову, и ее ответ на его слова прозвучал сдержанно и холодно. Впрочем, он пришел не один: с ним был его сын Ури. Притом он смотрел суровее, чем обыкновенно, потому что люди племени Иуды, собравшись рано утром, умоляли его не уступать должности военачальника никому из принадлежащих к другим коленам.
Это явилось для него неожиданностью. Он указал соплеменникам на зависимость этого вопроса от решения Моисея, и желание, чтобы оно состоялось не в его пользу, усилилось в нем, потому что самонадеянный взгляд его молодой жены снова возмутил его душу.
XXVI
Рано утром следующего дня народ выступил в путь, освеженный и с поднятым духом; но маленький источник, который откопали евреи, совсем истощился. Однако они легко перенесли это лишение, так как надеялись найти новые источники в Алусе.
В лучезарном величии солнце поднялось на ясном небе. Его свет пролил свою живительную силу и в сердца людей, и, подобно голубому своду в вышине, сияли скалы и желтый песок. Ароматный, чистый, легкий и охлажденный ночной свежестью воздух вздымал грудь странников, и путешествие сделалось теперь для них удовольствием.
Давно уже мужчины не выказывали большей уверенности, глаза женщин не светились более веселым блеском, потому что Господь показал своему народу, что Он думает о нем среди его бедствий; отцы и матери с гордостью смотрели на одолевших врага сыновей. Среди большинства колен Израилевых приветствовали погибших и вновь возвращенных узников. Было приятной обязанностью — по возможности вознаградить их за вред, нанесенный им страшными каторжными работами. Эфраимиты, да и другие колена радовались возвращению Иисуса Навина, как называли теперь бывшего Иосию все, за исключением людей колена Иудова, — радовались, вспоминая обещание, скрывавшееся в этом имени.
Юноши, одержавшие под его начальством победу над египтянами, рассказывали своим, какой человек сын Нуна, как он все обдумывает и каждого ставит на надлежащее место. Каждый, на кого он бросит взгляд, воспламеняется жаждой битвы. От одного военного крика его неприятель приходит в замешательство.
Глаза каждого, кто говорил о Нуне и о его храбром внуке, сияли. Колену Эфраимову, высокие притязания которого во многих возбуждали неудовольствие, теперь охотно позволяли идти впереди. Только среди колена Иудова слышались порицания и ропот. Должно быть, существовало основание к этому неудовольствию, потому что глава племени Гур и его молодая жена шли, точно подавленные каким-то тяжелым бременем. Люди, заговаривавшие с ним теперь, лучше бы сделали, если бы выбрали другой час для этого.
Пока солнце стояло невысоко, была еще некоторая тень у краев скал из песчаника, ограничивавших путь с двух сторон или возвышавшихся посреди него; и когда сыны Кора запели хвалебный гимн, то молодые и старые присоединились к нему, и веселее всех пели Милька, утратившая свою подавленность, и Рувим, ее счастливый освобожденный муж.
Дети собирали золотисто-желтые дикие яблоки, которые, точно с неба, падали с засохших веток и лежали на пути. Эти плоды они приносили своим родителям. Но яблоки были горьки, как желчь, и один угрюмый старик из колена Завулонова сказал: «То же будет и с этим днем: теперь он имеет еще веселый вид, но когда солнце поднимется выше и мы не найдем воды, мы изведаем горечь!»
Его предсказание сбылось слишком скоро. По выходе путников из песчаника путь пролег через скалы, похожие на стены из красного кирпича и серого булыжника, все поднимаясь то отложе, то круче; и так же солнце поднималось все выше и выше, а зной с каждым часом усиливался.
Никогда еще дневное светило не осыпало странников более острыми стрелами, которые беспощадно вонзались в их непокрытые головы и спины.
Под их жгучим жалом падали то старые, то молодые или, шатаясь, как пьяные, горя, точно в жару лихорадки, едва подвигались вперед, поддерживаемые своими ближними. У мужчин и женщин воспаленная кожа сходила с лица и рук, и не было ни одного человека, у которого зной не иссушил бы языка и нёба и не отнял бы его крепкой силы и вновь возродившегося мужества.
Скот, понуря головы, нехотя подвигался вперед, едва волоча ноги, или валился на землю и лежал, пока бичи пастухов не заставляли его подняться и брести дальше.
Около полудня народу позволили было остановиться для отдыха, но на месте остановки не было ни малейшей тени. Люди, улегшиеся под палящим полдневным зноем, вместо отдыха испытывали только новые муки. Не в состоянии их выносить, они настаивали на скорейшем выступлении в путь, чтобы дойти до источников Алуса.
В предшествовавшие дни, после того как солнце на безоблачном небе начинало склоняться к западу, жара обыкновенно ослабевала и перед наступлением сумерек странников овевало более свежее дыхание воздуха; но в этот день скалистая местность пустыни в течение многих часов оставалась насыщенной зноем полудня до тех пор, пока от моря, с запада, не начало доноситься легкое веяние. В то же время авангард, который, согласно совету Иисуса Навина, шел впереди странников, остановился, а за ним остановился и весь народ.
Мужчины, женщины, дети повернули глаза в одну сторону и руками, посохами, клюками указывали на одно и то же место, где взоры их приковало чудесное, никогда еще ими не виданное зрелище.
Громкий крик удивления вырвался из засохших, усталых губ, так долго не открывавшихся для разговора; он передавался от отряда к отряду, от колена к колену, пока не дошел до прокаженных в конце шествия и до арьергарда, следовавшего за ними. Один подходил к другому и шептал ему имя, известное каждому, имя священной горы, где Господь обещал Моисею привести свой народ в прекрасную и обширную страну, изобилующую молоком и медом.
Никто не сказал об этом изнуренным странникам, но каждому из них было известно, что здесь в первый раз он видит Хорив и его синайскую вершину, священнейшую высоту этого гранитного горного массива. Это была не только гора, это был трон всемогущего Бога их отцов!
Подобно кусту, из которого Всевышний обращал речь к своему избраннику, в этот час вся священная гора, казалось, была объята пламенем. Высоко и величественно поднималась ее семизубчатая вершина над широко раскинувшимися дальними возвышенностями и долинами и пылала подобно какому-то исполинскому рубину, пронизанному насквозь светом всемирного пожара.
Никому еще не случалось видеть подобного зрелища. Затем солнце стало опускаться все глубже и глубже и наконец ушло в скрывавшееся за горою море на покой. Пылающий рубин превратился в темный аметист и, наконец, украсился темной синевой фиалки; но взоры народа не отрывались от этого священного места, точно очарованные. Мало того: когда дневное светило исчезло совсем и его отражение украсило одно далеко растянувшееся облако сияющими каймами, глаза зрителей раскрылись еще шире: один человек из колена Вениаминова, пораженный величием этого зрелища, усмотрел в нем дивную волнующуюся мантию Иеговы, окаймленную золотом, и соседи, которым он указал на нее, поверили ему, разделяя его благочестивый экстаз.
Это возвышающее зрелище на некоторое время заставило путников забыть жажду и изнеможение. Но скоро высочайший подъем духа превратился в самое глубокое уныние, потому что, когда наступила ночь и народ после короткого перехода дошел до Алуса, оказалось, что кочевавшее здесь племя вчера, перед снятием своих шатров, засыпало камнями и щебнем здешний и без того плохой источник.
Из питья все, что народ нес с собою, было выпито уже перед Дофкой, а истощенный источник рудников не дал воды для наполнения хотя бы одного бурдюка. Жажда не только осушала нёбо, но начала жечь и внутренности. Пересохшая гортань отказывалась принимать твердую пищу, в которой не было недостатка. Куда бы ни обращались взоры и слух, везде они встречали лишь одно безотрадное, возмутительное и внушающее сострадание.
Здесь — мужчины и женщины бушевали и проклинали, жаловались и стонали, там — они предавались безмолвному отчаянию. Другие, чьи дети с криком и плачем просили воды, отправлялись к засыпанному источнику и дрались за любой маленький клочок земли, из которого они надеялись собрать несколько капель драгоценной влаги в какую-нибудь чашечку. Скот блеял и мычал так беспокойно и жалобно, что эти звуки терзали сердца пастухов.
Только немногие дали себе труд поставить палатки. Ночь была так тепла, и все были того мнения, что чем раньше отправиться далее, тем будет лучше, так как Моисей обещал через несколько часов присоединиться к странникам. Он один мог найти способ выйти из этого бедствия: предохранить и людей, и животных от истощения было его обязанностью.
Если Бог, рассуждали они, Бог, Который обещал им такую прекрасную будущность, допустит, чтобы они погибли в пустыне, то это будет значить, что человек, предводительству которого они вверились, обманщик, а Бог, на могущество и милость Которого он непрестанно указывал им, лживее, бессильнее тех идолов с головами людей и животных, которым они поклонялись в Египте.
Между ругательствами и проклятиями слышались также и угрозы. Когда Аарон, вернувшийся к народу, обращался к нему с речью, ему грозили сжатыми кулаками.
Мариам, по приказанию своего мужа, тоже должна была перестать успокаивать женщин ободряющими словами утешения, после того как одна из них, у иссохшей груди которой умер ребенок, подняла на нее камень, а другие последовали ее примеру.
Старого Нуна и его сына слушали с большей охотой. Оба они решили, что Иисус Навин будет сражаться, на каком бы месте ни поставил его Моисей; но Гур сам привел его к воинам, и те радостно приветствовали его.
Как отец, так и сын умели укрепить в них уверенность. Они рассказывали воинам о богатом источниками оазисе амаликитян, который был недалеко, и указывали на оружие в их руках, которым вооружил их Сам Господь.
Иисус Навин уверял их, что они далеко превосходят числом воинов этого племени. Если молодежь будет драться с такою же храбростью, как она дралась у медных рудников и в Дофке, то, при Божией помощи, они одержат победу.
После полуночи Иосия, посоветовавшись со старейшинами, велел трубить в трубы, чтобы созвать людей, способных сражаться. При свете звезд он сделал им смотр, разделил на отряды, каждому из которых дал соответствующего командира, и объяснил значение сигналов, которым они должны были следовать.
Они собрались сонные, истомленные жаждой, но новая деятельность, к которой побуждал их бодрый вождь, и надежда на победу и драгоценную добычу, то есть кусок земли у подножия священной горы, богатый источниками и пальмами, изумительным образом укрепили их ослабевшую энергию.
Эфраим был между ними и поддерживал остальных своей неутомимой бодростью. Когда Иисус Навин, на котором Господь уже показал, что Он считает его достойным помощи, обещанной ему в самом его имени, стал убеждать воинов положиться на всемогущество Божие, то его слова подействовали совсем другим образом, чем речи Аарона, которые они слышали каждый день.
Когда говорил Иисус Навин, с губ многих юношей, хотя бы они чувствовали жажду, срывался воодушевленный крик: «Да здравствует военачальник! Ты наш вождь, мы не пойдем ни за кем другим!»
Но Навин объявил им серьезно и решительно, что он намерен сам оказывать то же повиновение, какое требует от них. Он охотно поступит последним человеком в последний отряд, если так прикажет Моисей.
Звезды еще ярко сияли на безоблачном небе, когда звуки рогов подали народу сигнал к выступлению.
Между тем гонец был уже послан вперед, чтобы сообщить Моисею о сделанных распоряжениях, и Эфраим последовал за ним по окончании военного смотра.
Во время дальнейшего перехода Иисус Навин держал всех воинов так близко друг к другу, как будто уже теперь следовало ожидать нападения. При этом он пользовался каждой минутой, чтобы давать им и их начальникам объяснения о предстоящей битве, наблюдать за ними и приводить отряды в больший порядок. Так он поддерживал их внимание до тех пор, пока не побледнели звезды.
Только изредка слышались протесты или жалобы между бойцами; но тем громче были ропот, проклятия и угрозы тех, которые не носили никакого оружия. Еще до рассвета между мужчинами, у которых от усталости подгибались колени и которые близко видели бедственное положение женщин и детей, все чаще слышался крик: «На Моисея! Мы побьем его камнями там, где найдем!»
Некоторые уже вырвали камни из земли, и озлобление толпы проявилось наконец так страстно и необузданно, что Гур собрал благонамеренных старейшин на совет и затем с воинами из колена Иуды поспешил опередить народ, чтобы в случае необходимости вооруженной рукою защитить Моисея от бунтовщиков.
Иисусу Навину поручили сдерживать мятежников, которые с угрозами и ругательствами старались прорваться вперед мимо воинов.
Когда солнце наконец взошло в ослепительном великолепии, шествие евреев представляло жалкое зрелище вконец измученных людей, которые подвигались вперед, шатаясь и едва волоча ноги. Даже воины тащились, точно расслабленные. Только в тех случаях, когда бунтовщики старались прорваться вперед, они собирались с силами и, исполняя свою обязанность, отгоняли их мечами и копьями.
По обеим сторонам долины, через которую теперь проходили странники, поднимались высокие стены из серого гранита, которые причудливо сверкали и блестели, когда косые лучи дневного светила падали на куски кварца, вкрапленные в первобытную гранитную массу.
К полудню следовало ожидать подавляющего зноя среди голых каменных стен, местами близко сходившихся одна с другою; но теперь еще царила утренняя прохлада. Скот находил для себя некоторое подкрепление, так как ему попадались кусты сочного душистого бетарана, и дети пастухов, подняв полы своей одежды, наполняли их ветвями этого растения и кормили ими своих голодных четвероногих любимцев, несмотря на собственное изнеможение.
Так провели они около часа, как вдруг послышался громкий радостный крик. Он начался в передовом отряде и переходил от одного колена Израилева к другому, пока не дошел до последнего человека в арьергарде.
Никто не слышал объяснения первоначальной причины этого крика, однако же каждый знал, что это значит не что иное, как то, что вода наконец найдена.
Эфраим повернул назад, чтобы подтвердить радостную весть, и как подействовала она на людей, упавших духом!
Они встрепенулись и с удвоенной скоростью пошли вперед, точно успели уже осушить по кувшину воды.
Отряды воинов теперь пропускали их беспрепятственно и весело приветствовали своих близких, когда те проходили мимо.
Однако же стремительный поток быстро бежавшего народа скоро остановился, потому что до места, где он надеялся освежиться, не допускала передних, а с ними вместе и весь народ преграда более сильная, чем рвы и стены.
Из толпы странствующих воинов раздался громовый, всю долину наполнивший крик. Наконец показались мужчины и женщины с веселыми лицами и с полными кувшинами и ведрами в руках и на голове, весело кивая друзьям, крича им утешительные слова и стараясь пробраться к ним сквозь толпу. Но у многих из них была отнята драгоценная влага, прежде чем они достигали цели.
Иисус Навин со своими отрядами тоже проложил себе путь к живительному источнику, чтобы установить порядок между жаждущими. Однако же приходилось некоторое время потерпеть, потому что сильные люди Иудова колена, с которыми Гур опередил остальных, еще работали кирками и упирались на рычаги, быстро изготовленные из стволов колючих акаций, росших поблизости, чтобы очистить дорогу от больших камней и расширить доступ к потоку воды, изливавшемуся из многих расселин утеса.
Источник сначала терялся в груде гранитных глыб, покрытых илом, далее — в земле; но теперь работа подвинулась настолько, что убегавшая вода была задержана, и был устроен водоем, из которого мог пить и скот.
Те, кому удалось уже наполнить кувшины, воспользовались струей воды, пробивавшейся через быстро выраставшую запруду.
Теперь люди, приставленные в качестве сторожей лагеря, не допускали сюда никого, чтобы дать время воде отстояться в новом обширном хранилище, в которое она прибывала в изумительном изобилии.
В ожидании Божьего дара, из-за которого поднималось столько буйных криков и воплей, можно было немного потерпеть. Сокровище было поднято, оставалось только сохранить его. Не слышно было ни одного слова брани, ропота или неудовольствия; многие восприняли новый дар Всевышнего робко и с каким-то пристыженным видом.
Издали доносились громкие радостные крики и восклицания. Но Божий человек, которому лучше, чем кому-нибудь другому, были знакомы скалы, пастбища и источники области Хорива и который снова оказал великое благодеяние народу, удалился в ближайшее ущелье, как бы желая уйти от изъявлений благодарности и хора приветственных кликов, которые захватывали все большее число воодушевившихся людей. Главным же образом Моисей искал успокоения, возможности сосредоточиться для своей глубоко взволнованной души.
Скоро послышались благочестивые хвалебные гимны Господу среди освеженных, возродившихся и переполненных благодарностью людей; и никогда они еще не ставили своего лагеря с большей надеждой и радостной уверенностью в успехе.
Песни, веселый смех, шутки и оживленные восклицания сопровождали установку каждого шатра, и лагерь возник так быстро, как будто он вырос из земли с помощью волшебства.
Глаза молодежи сверкали воинственной отвагой, несколько голов скота были забиты для праздничного пира. Матери, покончив свое дело по устройству лагеря и очага, пошли к источнику, ведя с собою детей за руки, чтобы и они видели место, где жезл Моисея указал евреям воду, изливавшуюся из расселины гранита. Многие мужчины, подняв руки и глаза, окружали пространство, где Иегова показал Себя столь милостивым к своему народу, и в их числе несколько бунтовщиков, которые так недавно наклонялись, чтобы поднять камни для убиения Божьего избранника. Никто не сомневался в том, что здесь совершилось великое чудо.
Старые внушали молодым никогда не забывать этого дня и этой воды; одна женщина окропила ею лбы своих внуков, чтобы обеспечить малюткам Божие покровительство на предстоявшую им жизнь.
Надежда, благодарность и теплая вера утвердились повсюду; исчез даже страх перед воинственными амаликитянами: что могло случиться с людьми, вверившими свою судьбу милости такого всемогущего Покровителя?
Только один шатер, лучший из всех, шатер вождя Иудова племени, был далек от общего ликования.
Безмолвно разделив трапезу мужчин, охваченных благодарным воодушевлением, узнав от Рувима, что Моисей вверил Иисусу Навину должность главнокомандующего, предпочтя его всем старейшинам, услыхав далее, что Гур с радостью уступал это звание сыну Нуна, Мариам сидела в шатре, окруженная своими служанками.
На этот раз пророчица явно не одобряла хвалебных гимнов народа. Когда ее женщины и Милька стали убеждать ее пойти с ними к источнику, она велела идти туда без нее.
Она поджидала мужа и желала приветствовать его наедине. Но он не возвращался в свой шатер. По окончании совета старейшин он находился при главнокомандующем, чтобы привести в порядок военные отряды, что он делал в качестве помощника, подчиненного Иосии, который ей, Мариам, был обязан своим признанием и именем Иисуса.
Теперь служанки пророчицы занимались прядением шерсти, но ей эта унизительная работа была противна; и пока она сидела, сложив руки и праздно устремив неподвижный взор в пространство, часы медленно тянулись один за другим. При этом Мариам чувствовала, что ее намерение смиренно подойти к мужу все более и более слабеет. Ей хотелось молиться о ниспослании ей силы покорно склониться перед человеком, который был ее господином; однако же пророчица, привыкшая к горячим мольбам, никаким образом не могла возбудить в себе молитвенного настроения. Едва удавалось ей сосредоточиться и возвысить стремления своего сердца, как ее расстраивало то одно, то другое. Каждая новая весть, доходившая к ней из лагеря, усиливала ее неудовольствие. Когда наконец наступил вечер, явился посланец сказать ей, чтобы она не заботилась об ужине для мужчин, который уже давно был приготовлен: Гур, его сын и внук намерены были принять приглашение Нуна и сына его Иисуса.
При этом известии Мариам с трудом удержалась от слез. Но если бы она дала им волю, то из ее глаз полились бы слезы гнева и оскорбленного достоинства женщины, а не слезы печали и тоскливого ожидания.
В часы вечерней стражи мимо проходили воины, до нее доносились приветственные крики в честь Иисуса Навина, передававшиеся от отряда к отряду.
Там, где слышались слова «твердый и сильный!», подразумевался тот, кто некогда был ей дорог и кого она теперь ненавидела, в чем уже откровенно признавалась себе. Ее мужа приветствовали криками только люди его колена. Это ли была благодарность за великодушие, с которым он в пользу младшего сложил с себя звание, принадлежащее по праву ему одному? Видеть своего мужа отодвинутым на второй план было еще больнее сердцу Мариам, чем то, что Гур ее, новобрачную, оставил одну.
Ужин перед шатром эфраимитов тянулся долго. Около полуночи Мариам отослала своих служанок отдыхать и легла, намереваясь дождаться своего супруга и поведать ему обо всем, что ее огорчало, что приводило ее в негодование и к чему она стремилась с тоскливым желанием.
Она думала, что при таком горестном настроении ее души ей нетрудно будет не спать. Но чрезмерные усилия и волнения последних дней и ночей давали себя чувствовать, и ею овладел сон среди молитвы о смирении и о любви ее мужа. Наконец, ко времени первой утренней смены часовых, когда только что забрезжил свет, ее разбудили звуки труб, возвещавшие о близкой опасности.
Мариам быстро встала и, взглянув на ложе своего супруга, нашла его пустым. Однако же оно, очевидно, было занято ночью, и на песчаном полу как раз перед своей постелью заметила она следы ног Гура. Он стоял близко возле нее и, может быть, с любовью смотрел в лицо жены.
Да, это было действительно так: ей сказала об этом старая раба, не дожидаясь ее вопроса. Разбудив Гура, она пошла с ним и видела, как он осторожно посветил в лицо Мариам и затем долго стоял склонившись над нею, как бы для того, чтобы ее поцеловать.
Это была добрая весть, и она так обрадовала одинокую женщину, что Мариам забыла свою обычную сдержанность и прижала губы к морщинистому лбу маленькой, согбенной старушки, которая служила еще ее родителям. Затем она велела служанкам наскоро привести в порядок свои волосы, надеть на нее праздничную светло-голубую одежду, подаренную ей Гуром, и поспешила из шатра, чтобы проститься с мужем.
Между тем военные отряды выстраивались. Евреи начали снимать палатки, и Мариам долго не могла отыскать Гура. Наконец она нашла, но он был занят серьезным разговором с Иисусом Навином, и когда она увидела последнего, холодная дрожь пробежала по жилам пророчицы, и она не могла заставить себя подойти ближе к разговаривавшим мужчинам.
XXVII
Предстояла трудная борьба. По донесениям лазутчиков, к амаликитянам присоединились и другие племена пустыни. Несмотря на это, еврейское войско все-таки вдвое превосходило их численностью. Но как далеко отряды Иисуса Навина уступали в воинском умении своим противникам, привыкшим к битвам и нападениям!
Неприятели шли с юга, от оазиса, лежавшего у подножия священной горы, а этот оазис с незапамятных времен был местопребыванием их племени, их кормильцем, их милой родиной, — словом, всем для них; он был достоин того, чтобы отдать за него все, до последней капли крови.
Иисус Навин, которого теперь Моисей и весь народ признали главным военачальником евреев, повел свои новосформированные отряды к самому обширному месту долины, так как оно позволяло ему лучше воспользоваться численным превосходством своих воинов.
Он велел снять лагерь и перенести его на северный конец предназначенной для битвы долины Рефидим, в более узкое место, где его легче было защищать. Начальство над лагерем и воинами, выделенными для его защиты, он вверил своему предусмотрительному отцу.
Иисус Навин желал оставить Моисея и более старых вождей колен Израилевых в хорошо защищенных пределах лагеря, но великий вождь народа предупредил его и взошел вместе с Гуром и Аароном на гранитную скалу, с высоты которой можно было обозревать битву. Таким образом, бойцы видели Моисея и двух его спутников на вершине возвышавшегося над долиной утеса и знали, что доверенный Господа не устанет ходатайствовать за них перед Всевышним и молить Его о даровании победы евреям.
Но и каждый простой человек в войске, каждый старик, каждая женщина в лагере обращались в этот час опасности к Богу своих отцов, и избранный Иисусом Навином военный клич: «Иегова — наше знамя!» соединял сердца воинов с Богом брани и даже самым робким и неискусным воинам напоминал, что они не могут сделать ни одного шага, не могут нанести ни одного удара без Его дозволения.
Звуки еврейских труб и рогов раздавались все громче и громче, так как амаликитяне наступали на ровную плоскость, которая должна была служить местом битвы.
Это было странное поле сражения; опытный военачальник никогда не выбрал бы его по собственной воле, потому что оно с двух сторон было ограничено высочайшими серыми, круто поднимавшимися стенами из гранита. В случае победы врагов должен был погибнуть и лагерь, а средствами, предоставляемыми военным искусством, приходилось здесь пользоваться на весьма ограниченном пространстве, какое только можно вообразить.
Обойти неприятеля или ударить ему во фланг казалось здесь невозможным; но и скалы должны были служить вождю: он приказал своим искусным пращникам и лучникам взобраться по их склонам до умеренной высоты, объяснив им, по какому сигналу они должны были принять участие в битве.
Уже с первого взгляда еврейский полководец увидел, что он не преувеличивал силы неприятелей. Те из них, которые открыли сражение, были бородатые люди с резко обозначенными чертами смуглых лиц, черные глаза их пылали жаждою битвы и дикой ненавистью к противникам.
Подобно своему седобородому вождю, все они были сухощавы и подвижны. Как опытные бойцы, они хорошо владели своими серповидными медными мечами и кривыми палицами из тяжелого дерева с заостренным концом или копьями, украшенными под наконечником пучками из верблюжьей шерсти. Военные клики громко, свирепо и злобно раздавались из крепкой груди этих людей, которые должны были или победить, или отдать врагу все, что им было наиболее дорого.
Иисус Навин встретил первую атаку во главе воинов, вооруженных большими щитами египтян; и, воодушевляемые своим храбрым вождем, они довольно долго выдерживали натиск, тем более что узкий вход на поле сражения не позволял неприятелю вполне развернуть свою силу.
Но когда неприятельские пехотинцы отступили и против евреев ринулся отряд воинов на быстроходных верблюдах, то многие испугались при виде этих больших и странных животных, о которых они знали прежде только понаслышке.
С громким криком ужаса они побросали свои щиты и побежали. В каждый образовавшийся таким образом промежуток в их рядах амаликитянские всадники направляли своих верблюдов и с их высоты поражали противников длинными острыми пиками. Пастухи, не привыкшие к подобному способу нападения, помышляли теперь только о своем собственном спасении, и некоторые из них обратились в бегство. Ими овладевал внезапный ужас, когда их глаза встречались с пылающим взором или в их ушах раздавался крик амаликитянок, которые тоже кинулись к месту сражения, чтобы воспламенить мужество в своих мужьях и устрашить врага. Левой рукою они держались за кожаные ремни, свешивавшиеся с седел, предоставляя горбатым животным тащить их с собою. Казалось, злоба закалила слабое женское сердце каждой из них против страха смерти, страдания и женской робости, и яростные вопли этих мегер уничтожили мужество даже многих наиболее смелых евреев.
Но едва военачальник заметил, что его воины дрогнули, он поспешил извлечь пользу из этого прискорбного обстоятельства. Иисус Навин приказал им отступить еще дальше и открыть для неприятеля вход в долину, резонно полагая, что он, Навин, будет в состоянии воспользоваться более действенным образом численным превосходством своего войска, как скоро ему будет возможно оттеснить неприятеля одновременно с фронта и с двух сторон и привлечь пращников и лучников к участию в битве.
Эфраим и его мужественные товарищи, окружавшие Иисуса Навина в качестве гонцов для разведки, были посланы на северный конец долины, чтобы сообщить начальникам поставленных там отрядов о том, что он намеревался сделать, и передать им приказ выдвинутся вперед.
Быстроногие пастухи, проворные, подобно газелям, поспешили туда, и скоро оказалось, что военачальник рассчитал верно: как только амаликитяне дошли до середины долины, они были атакованы со всех сторон, и многие из них, мужественно стремившиеся вперед и размахивавшие мечами и копьями, пали на песок, пораженные со скал круглыми камнями пращников или острыми стрелами лучников.
Между тем Моисей с Аароном и Гуром оставались на скале, возвышавшейся над полем сражения. Оттуда Божий избранник наблюдал за битвой, в которой он, поседевший в делах мира, участвовал только душою и сердцем.
Ни одно движение, ни один поднимавшийся или опускавшийся меч друга или врага не ускользали от его зорких глаз; но когда началось первое нападение и полководец, согласно своему хорошо задуманному плану, допустил врага в самое сердце своего войска, то Гур, обращаясь к Моисею, сказал:
— Однако высокий ум моей жены, твоей сестры, в самом деле не ошибался: сын Нуна лишился призвания Всевышнего. Что это за командование! Численный перевес на нашей стороне, а между тем неприятель беспрепятственно врывается в середину войска. Подобно морским волнам, которым Господь повелел тогда отступить, подаются и наши отряды, и притом, кажется, по приказанию своего вождя.
— Чтобы поглотить амаликитян, как морские волны поглотили египтян, — ответил Моисей.
Затем он поднял руки к небу и взмолился:
— Посмотри, Иегова, вниз, на твой народ, находящийся в новой опасности; укрепи руку и обостри взор того, кого Ты избрал Своим мечом! Ниспошли ему помощь, которую Ты обещал ему, назвав его, Иосию, Иисусом! И если Тебе не угодно более, чтобы он, показавши уже себя твердым и сильным, управлял нашими воинами в битве, то стань Сам, с небесными силами, во главе своих людей, чтобы они истребили врага своего народа!
Так молился Божий человек, воздев руки к небу, и не переставал взывать к Богу, воля Которого управляла его волею; и скоро Аарон шепнул ему, что неприятель жестоко стеснен и мужество евреев не оставляет желать лучшего. Иисус Навин появлялся то здесь, то там, и неприятельские ряды поредели, между тем как еврейские, по-видимому, все растут. Гур подтвердил это и прибавил, что нельзя отказать сыну Нуна в неутомимом рвении и геройском презрении к смерти. Он только что повалил на землю самого свирепого из амаликитянских вождей своею боевой секирой.
Тогда Моисей глубоко вздохнул, опустил руки и с напряженным вниманием стал следить за дальнейшим ходом кипевшей внизу битвы.
Тем временем солнце достигло полуденной высоты и обдавало бойцов жгучим зноем. Серые гранитные стены долины изливали потоки все более и более усиливавшегося жара, и по лицам трех стоявших на скале человек струились крупные капли пота. Как этот полуденный зной должен был отягчать борьбу, как сильно должны были гореть раны людей, лежавших на песке и истекавших кровью!
Моисей чувствовал все это, точно он сам лично принимал участие в сражении; его непоколебимо твердая душа была полна состраданием, и людей одной с ним крови, для которых он жил и действовал, о которых думал и молился, он заключил в своем сердце, как отец своих детей.
Раны единоверцев причиняли ему боль; но сердце его билось гордой радостью, когда он видел, как люди, трусливое непокорство которых еще недавно возбуждало в нем пламенный гнев, научились защищаться и нападать, как отряды юных воинов один за другим кидались на врага с громким криком: «Иегова — наше знамя!»
В величавой, героической фигуре Иисуса Навина Моисей видел внуков своего народа, какими он их представлял себе в будущем, и теперь он не сомневался более в том, что сам Господь назначил сына Нуна военачальником. Его властный взгляд редко сиял таким блеском, как в эту минуту.
Но что это?
С губ Аарона тоже сорвался крик ужаса, Гур в испуге тревожно стал смотреть к северу. С той стороны, где стояли шатры евреев, послышался новый военный клич, с которым смешивались громкие жалобные вопли не только мужчин, но и женщин, и детей: на лагерь было совершено нападение.
Задолго до начала сражения от войска амаликитян отделился один отряд и пробрался к лагерю через только им известное ущелье.
Гур подумал о своей молодой жене, Аарон вспомнил о своей верной супруге Элизебе, о своих детях и внуках, и оба умоляющими взорами безмолвно просили Моисея отпустить их, желая поспешить на помощь к тем, кого они любили всего более; но строгий вождь отказал в просьбе и оставил их при себе.
И он снова поднял руки и вознесся сердцем к небу. С пламенной молитвой он воззвал к Всевышнему, и чем дальше шло время, тем жарче была его мольба, так как все, чего достигли еврейские воины, казалось потерянным. Каждый новый взгляд на поле сражения, каждое известие, которое он получал от своих товарищей, в то время как его душа, вознесшаяся к Богу, оставалась слепою и глухою к зрелищу битвы, бушевавшей внизу, отягчали бремя его заботы.
Иисус Навин во главе сильного отряда оставил поле сражения, взяв с собою Везалиила, внука Гура, Оголиава, его любимейшего товарища, молодого Эфраима и мужа Мильки, Рувима.
Гур следовал за ними глазами, посылая им в сердце своем благословения, потому что они оставили поле битвы, очевидно, только для того, чтобы спасти лагерь. С напряженным вниманием прислушивался он к звукам, долетавшим с севера, когда ветер доносил до него отдельные крики и вопли с того места, где стояли еврейские шатры.
Старый Нун храбро защищал лагерь против напавшего на него отряда амаликитян; но когда он увидел, что сотни, вверенные его командованию Иисусом Навином, не в состоянии долго сопротивляться врагам, то послал просить подкрепления. Иисус Навин тотчас же поручил дальнейшее управление войсками в битве второму вождю племени Иуды, Наасону, а также Ури, сыну Гура, отличавшемуся мужеством и благоразумием, и вместе с выбранными им людьми поспешил на помощь к своему отцу.
Он не потерял ни одного мгновения; однако же, когда он появился на месте борьбы, дело уже было решено. Приближаясь к лагерю, он увидел, что амаликитяне уже прорвали ряды воинов его отца, отрезали его от них и бросились в лагерь.
Прежде всего военачальник выручил храброго старца из рук врагов; затем нужно было выгнать сынов пустыни из палаток, причем произошла жаркая рукопашная схватка. Сам Иисус Навин не мог быть везде и принужден был предоставить молодым воинам действовать по своему усмотрению в каждом отдельном случае.
И здесь он поднял тот же военный клич: «Иегова — наше знамя!» — и бросился в ставку Гура, которой неприятель овладел прежде всего и где кипела наиболее ожесточенная схватка. Перед его появлением уже многие трупы покрывали землю, и бешеные амаликитяне дрались еще с кучкой евреев, изнутри же палатки доносились дикие крики ужаса.
Иисус Навин стремительно кинулся туда, и его глазам представилось зрелище, которое ужаснуло даже этого неустрашимого воина. На левой стороне обширного пола шатра евреи боролись с амаликитянами, катаясь на окровавленных циновках, на правой стояла Мариам и несколько ее служанок, которым враги уже связали руки. Амаликитяне намеревались увести их с собою, как драгоценную добычу, но одна амаликитянка, беснуясь от злобы, жажды мести и ревности и желая предать еврейских женщин смерти, раздула уголья очага и с помощью покрывала, сорванного с головы Мариам, довела их до пылающего жара.
Страшный шум наполнял палатку, когда в нее ворвался Иисус Навин. Здесь — шумели боровшиеся люди, там — служанки пророчицы отчаянно кричали и, увидав приближающихся евреев, умоляли их о помощи и спасении.
Мертвенно-бледная Мариам стояла на коленях перед тем самым амаликитянским военачальником, жена которого угрожала ей смертью. Точно на какой-то призрак, поднявшийся из земли, смотрела она неподвижным взором на появившегося избавителя, и то, что теперь произошло, запечатлелось в памяти пророчицы как ряд кровавых, ужасных, бессвязных и при всем том прекрасных образов.
Амаликитянский вождь, связавший ее, представлял собою геройскую фигуру, достойную удивления. Этот смуглый горбоносый воин с черной бородою и пылающими глазами походил на орла его гор. Скоро с ним должен был померяться силами человек, прежде дорогой сердцу Мариам. Она часто уподобляла его льву, но никогда он не казался ей так похожим на царя пустыни, как в эту минуту. Оба были страшны и сильны. Никто не мог бы сказать наперед, кто из них падет, кто победит; но ей пришлось смотреть на их борьбу, и пылкий сын пустыни уже испустил воинственный клич и бросился на более сдержанного еврея.
Каждому ребенку было известно, что человек не может остаться живым, если у него сердце остановилось на минуту; однако же Мариам сознавала, что ее сердце оставалось неподвижным, точно оно оцепенело или превратилось в камень, когда льву угрожала опасность погибнуть от орла, когда блеснул нож амаликитянина и она увидела кровь на плече Иисуса Навина.
Но тут ее оцепеневшее сердце снова ожило и начало биться сильнее, чем когда-либо. Этот мужественный, как лев, боец, которого она только за минуту перед тем ненавидела с таким озлоблением, превратился теперь снова, точно каким-то чудом, в друга ее юности. Со звуками труб и кимвалов любовь снова воскресла и с торжествующим ликованием входила в ее недавно столь опустевшую, обнищавшую душу. Причина раздора между ним и Мариам была внезапно забыта, и никогда она не взывала к Всевышнему с более пламенной мольбою, чем в той короткой молитве, которая вырвалась из ее сердца в тот миг. И чем пламеннее была ее мольба, тем скорее она была услышана: орел пал с растерзанными крыльями, уступив львиной силе своего противника.
Тогда у Мариам потемнело в глазах, и, точно во сне, она чувствовала только, как Эфраим разрезал веревки, которыми были связаны ее ноги.
Вскоре за тем к ней вернулось полное сознание, и теперь она видела у своих ног окровавленное тело побежденного военачальника, а на другой стороне шатра, на полу, убитых и раненых амаликитян и евреев и между ними многих рабов своего мужа. Возле павших стояли, радуясь победе, сильные воины ее народа и среди них почтенная фигура старого Нуна и Иисус Навин, которому отец перевязывал рану.
Она чувствовала, что сделать это следовало ей, а не кому-либо другому, и ею овладели глубокий стыд и жгучая тоска при мысли, как виновата она перед этим человеком.
Она, так глубоко оскорбившая его, не знала теперь, чем загладить этот проступок и как вознаградить его за то, чем она была ему обязана. Все ее сердце было переполнено желанием услышать от него слова примирения, и она на коленях подползла к нему по окровавленному полу. Но красноречивые уста пророчицы были точно парализованы и не могли найти подходящего слова. Наконец из ее стесненной груди вдруг вырвался громкий умоляющий возглас:
— Иисус, о Иисус! Я тяжко согрешила перед тобой и буду каяться в этом всю мою жизнь; только не пренебрегай моей благодарностью, не отталкивай ее от себя и прости меня, если можешь!
Больше она не смогла вымолвить ни слова, но ее глаза наполнились горячими слезами, и с непреодолимою силою и вместе так нежно, точно мать, поднимающая упавшего ребенка, он поднял ее с земли, и из его губ послышались кроткие слова, обещавшие полное прощение. Пожатие его правой руки тоже удостоверяло ее, что он более не таит против нее гнева. Она держала еще его руку в своей, когда услыхала его уверение, что слышать имя Иисус от нее ему приятнее, чем от кого бы то ни было.
Наконец, с боевым кличем: «Иегова — наше знамя!» — он оставил ее, и еще долго в ее душе раздавались его громкий голос и приветственные крики его воинов.
Вскоре все стихло вокруг. Мариам сознавала только то, что никогда она не плакала такими горячими и горькими слезами, как в этот час. И Богу, избравшему ее своею пророчицей, она дала два торжественных обета.
А оба человека, которых касались эти обеты, находились среди грохота битвы. Один снова повел своих воинов из освобожденного лагеря против врага, другой вместе с вождем народа наблюдал со скалы за ходом сражения.
Иисус Навин нашел своих воинов в очень затруднительном положении. В одном месте они отступали перед неприятелем, в другом еще сопротивлялись натиску сынов пустыни, но слабо, и Гур с все возрастающим беспокойством думал, что в лагере находилась его жена и внуки, а среди битвы его сыну угрожала смертельная опасность.
Его родительское сердце болело, когда он видел, что Ури отступает перед врагом, и затем снова наполнялось радостью, когда его сын хорошо направленной атакой поражал своих противников. В такие минуты Гуру хотелось крикнуть ему слово похвалы. Но чье ухо могло бы быть настолько чутким, чтобы отличить голос отдельного человека среди бряцания оружия, воинственных криков, воплей женщин, стонов раненых, отвратительного рева верблюдов, звука труб и рогов там внизу, в пылу битвы?
Первый отряд амаликитян врезался уже, подобно клину, в войско евреев и проник почти до самых задних его рядов. Если бы этому отряду удалось проложить путь для следовавших за ним воинов и соединиться с теми, которые напали на лагерь с тыла, битва была бы проиграна, и погибель еврейского народа оказалась неизбежна, потому что у южного входа в долину стоял еще один отряд амаликитян, который еще не принимал участия в сражении и, по-видимому, был предназначен для защиты оазиса против врага в случае крайней опасности.
Затем последовала новая неожиданность.
Амаликитяне пробились уже так далеко вперед, что пращные камни и стрелы едва могли теперь долетать до них. Чтобы пращники и лучники не оставались вне битвы, их следовало призвать вниз, на поле сражения.
Гур давно уже хотел крикнуть сыну, чтобы он вспомнил о них; но вот внезапно появилась фигура юноши, который с легкостью горной козы приближался к ним со стороны лагеря, взбираясь и прыгая с утеса на утес.
Как только юноша добрался до первых стрелков, он что-то сказал им, сделал следующим знак, который они передали дальше, и наконец все они спустились в долину, затем опять поднялись немного на скалу с западной ее стороны и внезапно исчезли, точно проглоченные каменными глыбами.
Юноша, за которым последовали пращники и лучники, был Эфраим.
Черная тень на каменной стене утеса, где он исчез вместе с другими, вероятно, представляла собою вход в ущелье, через которое они должны были пройти, чтобы присоединиться к воинам, последовавшим за Иисусом Навином для освобождения лагеря.
Так думал не только Гур, но и Аарон, и первый снова начал сомневаться в призвании Иисуса Навина, так как то, что могло послужить в пользу лагеря, ослабляло войско, предводительство которым было предоставлено сыну Гура и его товарищу Наасону.
Битва из-за лагеря продолжалась уже целый час. Моисей не переставал молиться, подняв руки к небу, когда амаликитянам удался их сильный натиск.
Вождь еврейского народа снова громко воззвал к Всевышнему; но у него подгибались колени от утомления, и ослабевшие руки его опустились. Только душа его сохранила свою силу полета, а сердце — желание не отступать от того, кто руководит битвами. Вождь не хотел оставаться праздным в этой борьбе, и его оружием была молитва.
Подобно ребенку, который не отстает от своей матери, пока она не даст того, чего он бескорыстно выпрашивает у нее для своих братьев и сестер, он не переставал молиться Всемогущему, Который до тех пор был, как отец, милостив к нему и к его народу и чудесным образом спасал их от опасности.
Но его тело было истощено. Он обратился к своим товарищам, и они пододвинули ему камень, на который он сел, чтобы новой молитвой подействовать на сердце Всевышнего.
Так сидел он; и если его утомленные члены отказывались служить ему, то его душа была послушна его воле и со всем пылом своим возносилась к властителю человеческих судеб.
Но руки Моисея все более и более ослабевали и наконец опустились совсем, точно налитые свинцом; а между тем с давних пор для него сделалось потребностью простирать руки к небу в те минуты, когда он обращался к Богу с пламенной молитвой. Это знали его товарищи, и притом они заметили, что каждый раз, когда у их великого вождя опускались руки, амаликитяне приобретали новое преимущество в битве.
Поэтому они усердно поддерживали его руки — один справа, другой слева; и хотя его голос ослабел, так что нельзя было расслышать слов, хотя его исполинская фигура качалась, хотя ему порою казалось, что камень, на котором он сидит, долина и вся земля колеблются, — его глаза и руки все еще были подняты к небу. Ни на одно мгновение он не переставал взывать к Всевышнему, до тех пор, пока внезапно со стороны лагеря послышался громкий крик победы, пронесшийся эхом по скалам, окружавшим долину.
Иисус Навин снова появился на поле сражения во главе своих воинов и с непреодолимой силой ринулся на врагов.
С этой минуты битва приняла иной ход. Успех ее колебался еще то в ту, то в другую сторону, и Моисей не мог оставить своей молитвы, но наконец и эта последняя схватка окончилась. Ряды амаликитян дрогнули и стали рассеиваться. Они в ужасе бросились бежать к южному входу долины, откуда пришли.
Оттуда тоже слышались крики; из тысячи уст раздавались радостные восклицания: «Иегова — наше знамя!… Победа, победа!»
Тогда Божий человек снял руки с плеч своих спутников, сам поднял их высоко и вскричал с новою, изумительно возродившейся силой:
— Благодарю Тебя, мой Бог и Господь! Иегова — наше знамя! Народ спасен!
Затем его глаза помутились от изнеможения, но несколько минут спустя он снова поднял их и увидел, что Эфраим с пращниками и лучниками напал на отряд амаликитян, стоявший у южного входа в долину, между тем как Иисус Навин гнал главную силу сынов пустыни к их отступавшим соплеменникам.
Военачальник слышал от пленных об ущелье, по которому люди, умеющие хорошо лазить по горам, могли дойти до тропинки в лощине, ведущей к южному концу поля сражения, и по его приказанию Эфраим с пращниками и лучниками напал на этой тропе в тыл на последний способный к сопротивлению отряд неприятеля.
Стесненные с двух сторон, неся большие потери в людях и лишась мужества, амаликитяне оставили битву, и теперь обнаружилось, как хорошо дети пустыни, выросшие в этой горной стране, умеют пользоваться своими ногами. По знаку своего вождя они закололи верблюдов и рассеялись в разные стороны, подобно перьям, разлетающимся от дуновения ветра. На крутые горные склоны, которые казались недоступными для людей, они проворно взбирались при помощи рук и ног, подобно ящерицам, многие другие ушли через ущелье, которое Иисусу Навину показали пленные рабы.
XXVIII
Более половины амаликитян пало убитыми или ранеными на поле битвы; Иисусу Навину было известно также, что другие племена пустыни, присоединившиеся к ним, согласно своему обычаю, оставили разбитых товарищей и убрались восвояси.
Однако же представлялось вполне вероятным, что отчаяние внушит беглецам мужество — не отдавать в руки евреев своего оазиса без сопротивления. Но бойцы еврейского вождя были слишком изнурены, для того чтобы можно было немедленно вести их далее. Сам он был покрыт множеством легких ран, и усилия последних дней чувствительно отзывались на его закаленном теле. К тому же солнце, поднявшееся незадолго перед началом битвы, теперь уже заходило, и, в случае необходимости вторгнуться в оазис, было бы неблагоразумно сражаться в темноте. Самому Навину, и в особенности его храбрым бойцам, был необходим отдых до утренней зари.
Иисус видел вокруг себя веселые лица, сиявшие радостью победы, и, когда он отпускал своих воинов в лагерь отпраздновать победу в кругу близких людей, каждый отряд, проходивший мимо него медленно и с усталым видом, разражался такими бодрыми и звонкими криками, как будто воины забыли усталость, которая незадолго перед тем склоняла их головы и обременяла их ноги.
«Да здравствует Иисус!… Да здравствует победитель!» Эти крики эхо разносило еще по горам, после того как последние отряды скрылись от его взоров. Но еще громче в его душе раздавались слова, которыми благодарил его Моисей: «Ты вел себя, как истинный меч Всевышнего, сильный и твердый. Покуда Бог остается твоим помощником, пока твое знамя — Иегова, мы не устрашимся никакого врага!…» Ему все еще казалось, что он чувствует на лбу и темени поцелуй великого человека Божия, который перед всем народом прижал его к своей груди, и ему стоило немалого труда унять волнение, возбужденное в нем концом этого чреватого последствиями дня.
Сильное желание привести свои мысли в порядок, прежде чем он снова смешается с ликующей толпой и увидит отца, который должен был принимать участие во всем великом, что волновало его душу, удерживало Навина на поле сражения.
Оно сделалось местом ужаса, так как те, которые не могли оставить его, лежали там мертвыми или ранеными. Вороны, следовавшие за странниками, летали над трупами и уже осмеливались спускаться на эту обильную пищу для своего черного пира. Запах крови привлекал хищных зверей из их горных логовищ, их рев и голодный лай слышались со всех сторон.
Когда затем после сумерек наступила тьма, над землей, наполненной кровью, замелькали светильники. Они помогали рабам и тем, кто искал своих близких, отличить друзей от врагов, раненых от убитых. Громкие жалобные стоны смешивались с карканьем воронов и воем голодных шакалов, гиен, лисиц и пантер.
Но Иисус Навин был хорошо знаком с ужасами поля сражения и не страшился их. Прислонившись к скале, он смотрел на восхождение тех самых звезд, которые светили ему в лагере перед Танисом, когда он находился в глубочайшем разладе с самим собой перед предстоящим решением труднейшего в его жизни вопроса.
С тех пор прошел только месяц, но за этот короткий срок совершился неслыханный переворот во всей его внутренней и внешней жизни.
То, что в ту ночь перед шатром, где лежал в лихорадке Эфраим, казалось Иосии великим, славным и достойным напряжения всех сил, теперь было далеко позади и представлялось ему суетным и ничтожным.
Он не нуждался более в почестях и званиях, которыми могло осыпать его самовластие прихотливого слабого властителя чужого народа. Какое было ему теперь дело до благоустроенного и хорошо обученного войска, к вождям которого он причислял себя с такой гордостью? Он едва верил, что было время, когда высшей целью его стремлений было командовать все большим числом тысяч египтян, когда сердце его наполнялось радостью по поводу присуждения ему какого-либо нового титула или пышного знака отличия людьми, большинство которых он считал недостойными уважения.
Тогда от египтян он ожидал всего — и ничего не ожидал от евреев.
Еще в ту ночь, перед шатром, Иосии были противны его соплеменники, как жалкие рабы, испорченные унизительной подневольной работой. Даже на знатнейших из них он смотрел надменно и свысока, так как они были пастухами, и уже по этому самому существами презренными в глазах египтян, чувства которых разделял и он.
Его отец был тоже стадовладелец, и если Иосия его высоко ценил, то только потому, что не принимал в расчет его звания, а также потому, что натура достойного старца внушала уважение, что его пылкая бодрость вызывала любовь со стороны каждого, и более всех со стороны любящего его мужественного сына.
При отце Иисус Навин никогда не стыдился признавать себя евреем, но в кругу товарищей по службе он старался держать себя так, чтобы они забыли о его происхождении и считали одним из своих во всех отношениях. Его прародительница Асенефа, жена Иосифа Прекрасного, была египтянка, и он гордился этим.
А теперь, сегодня? Он заставил бы почувствовать свое неудовольствие к каждому, кто обозвал бы его египтянином, и то, что всего месяц назад он отталкивал от себя и скрывал, то теперь, в эту ночь новолуния, которая только что началась, сияя звездами, заставляло его поднимать голову с радостною гордостью. Какое высокое чувство — сознавать себя, с обоснованным самоуважением, тем, чем он был в эту минуту! Жизнь и стремления его в то время, когда он был египетским военачальником, казались ему как бы продолжительным обманом, бегством от собственного знамени. Его чувство правды ликовало при сознании, что недостойному отрицанию и сокрытию своего происхождения наступил конец.
Он с радостью ощущал себя членом народа, который Всевышний предпочел всем другим; он радовался, что он принадлежит к тому обществу, где даже самый ничтожный из людей, даже ребенок, молясь, воздевает руки к Богу, Которого лучшие умы меж египтянами окружали тайной, так как они считали свой народ слишком слабым и тупоумным, для того чтобы предстать перед Его могущественным величием и понимать Его.
И этот единый, единственный Бог, перед которым весь пестрый сонм богов египетских обращался в ничто, избрал его, сына Нуна, из тысяч его соплеменников передовым бойцом и защитником своего избранного народа и дал ему имя, которым обещал ему свою помощь.
«Повиноваться своему Богу и под Его защитой посвятить кровь и жизнь своему собственному народу, более великой цели, — думал Навин, — еще ни перед кем не было поставлено». Его черные глаза горели и сияли, когда он думал об этом. Сердце ему казалось слишком малым для того, чтобы вместить в себе всю любовь, которой он желал загладить перед соплеменниками свою прежнюю вину.
Возвышенная, благородная женщина, обладать которой Иосия надеялся, принадлежала теперь другому, но это нисколько не нарушало радостного волнения его души, потому что он перестал желать обладания ею, хотя ее образ по-прежнему царил в его душе. Теперь он думал о ней только со спокойной благодарностью, так как охотно признавал, что его новая жизнь началась с той решительной ночи, в которую Мариам подала ему пример пожертвования Богу и народу всем, даже самым дорогим для сердца.
То, чем погрешила перед ним пророчица, Иисус Навин охотно изгнал из своей памяти; он привык забывать то, что прощал. Теперь он чувствовал только величие того, чем он был обязан ей. Она стояла между его новой и прежней жизнью, подобно великолепному дереву, поднимающемуся к небу на границе двух враждебных стран. Любовь была похоронена в могиле, но он и она никогда не могли перестать стремиться к одной и той же цели, по одному и тому же пути.
Еще раз оглянулся Иисус Навин на пройденное им пространство и мог сказать себе, что под его предводительством несчастные подневольные работники в короткое время превратились в храбрых бойцов. На поле битвы они были послушны уже по собственному побуждению и научились высоко носить голову после победы. И с каждым новым успехом должны были улучшаться их качества. Уже сегодня ему казалось не только желательным, но вполне возможным, предводительствуя ими, завоевать отечество, которое они полюбили бы и где среди свободы и благосостояния они могли бы сделаться дельными людьми, какими он желал их видеть.
Среди ужасов поля битвы, в безлунную ночь, в его сердце вливалась радость, светлая, как день. С тихим восклицанием: «Бог и мой народ!» и с благодарным взглядом вверх, в звездную высоту, оставил он усеянную трупами долину смерти как триумфатор, идущий по пальмовым ветвям и цветам, которыми благодарный народ усыпал путь для его торжественного шествия после победы.
Заключение
В лагере царило оживленное движение.
Перед шатрами горели костры, окруженные веселыми группами людей, и несколько голов скота было забито: здесь — для благодарственного жертвоприношения, там — для торжественного ночного пиршества.
Везде, где появлялся Иисус Навин, его принимали с радостными восклицаниями, но отца он здесь не нашел: Нун принял приглашение Гура, и у его палатки сын наконец обнял старца, сиявшего счастьем.
Мариам и ее муж тоже оказали ему прием, который обрадовал его: Гур с прямодушною сердечностью протянул ему руку, а пророчица почтительно поклонилась, и ее глаза выражали радостную благодарность.
Гур знаком пригласил его сесть возле себя, приказал рабу, только что убившему теленка, разрубить его на два куска, указал на них со словами:
— Ты оказал великую услугу народу и мне, сын Нуна, и моя жизнь слишком коротка для благодарности, которою ты обязал меня и мою жену. Если ты можешь забыть горькие слова, которые расстроили в Дофке мир между нами — а ты говоришь, что ты забыл их, — то будем впредь друг с другом в братском союзе, будем разделять один с другим радость и горе, беды и опасности. Должность главного военного вождя отныне принадлежит тебе одному и никому другому, и этому радуется весь народ, а более всех это радует меня и мою жену. Итак, если ты разделяешь мое желание заключить со мною дружеский союз, то, по обычаю отцов, перейдем через две половины этого убитого животного.
Иисус Навин охотно принял приглашение; Мариам первая с жаром поддержала громкое одобрительное восклицание старого Нуна, потому что это она внушила мужу, перед которым смирилась и любовь которого она обрела снова, мысль предложить Иисусу Навину заключенный ими теперь союз.
Все это было нетрудно ей сделать, потому что оба обещания, которые она дала себе после того, как сын Нуна спас ее от врага, уже готовы были исполниться, и она чувствовала, что в добрый час они были даны ею.
Новое для нее приятное чувство сознавать себя женщиной, как всякая другая, сообщило всему ее существу кротость, ей до сих пор чуждую, и эта кротость приобрела для нее любовь мужа, всю цену которому она узнала в то горькое время, когда его сердце было закрыто для нее.
В тот самый час, когда Гур и Иисус Навин заключили между собой союз братства, соединилась и другая чета людей, разлученных друг с другом священными обязанностями. Пока друзья пировали перед палаткой Гура, явились три человека из народа, желавшие говорить с Нуном, своим господином. Это были: старая вольноотпущенница, овдовевшая после исхода евреев в Танисе, ее внучка Хогла и Ассер, жених, с которым девушка разлучилась, чтобы заботиться о своих стариках.
Ее дед Элиав вскоре умер, и затем бабушка и внучка с невообразимыми трудностями отправились вслед за еврейским народом.
Нун принял этих верных людей с радостью и отдал Хоглу в жены Ассеру.
Таким образом, этот кровавый день принес счастье многим, однако же ему было суждено окончиться неурядицей.
Пока горели костры, в лагере было шумно, и во все время странствования не проходило ни одного вечера без какой-нибудь ссоры или кровавой рукопашной схватки. Часто наносились раны и смертельные удары, когда оскорбленный прибегал к мести врагу, когда бесчестный покушался на чужую собственность или отрицал обязательства, которые поклялся исполнить.
В подобных случаях было трудно водворить спокойствие и привлечь преступника к ответу, потому что непокорные отказывались признавать судьей кого бы то ни было. Кто чувствовал себя обиженным, тот сговаривался с другими и старался добиться удовлетворения посредством грубой силы.
В этот торжественный вечер Гур и его гости слышали сначала просто шум, к которому все привыкли. Но когда неподалеку вместе с поднявшимся неистовым ревом толпы показался яркий свет факелов, вожди стали опасаться за безопасность лагеря. Они встали, чтобы положить конец возникшему беспорядку, и скоро сделались свидетелями зрелища, которое одних привело в гнев и ужас, а других преисполнило горечью.
Радость победы опьянила толпу. Она горела нетерпением выразить благодарность божеству, и толпа финикиян, находившихся в числе чужеземцев, в живом воспоминании о жестоких религиозных обрядах своей родины, зажгла большой костер в честь своего Молоха и собиралась уже бросить в пламя нескольких пленных амаликитян как самую желанную этому богу жертву.
Очень близко от того же места израильтяне поставили на высоком деревянном столбе глиняное изображение египетского бога Сетха, которое один из его еврейских поклонников взял с собою при выходе из Египта в виде защиты для себя и своего семейства.
Многие сотни евреев плясали вокруг этого изображения с пением и ликованием. Их усердие не могло бы быть искреннее, полет их душ не мог бы подняться выше, если бы они собрались здесь, чтобы воздать достойное благодарение Богу своих отцов.
По возвращении в лагерь Аарон тотчас же собрал народ для хвалебных гимнов и благодарственных молитв; но во многих потребность, по старой привычке, видеть изображение бога, к которому они желали вознестись душою, была так сильна, что при одном взгляде на глиняного идола они пали на колени и отвратились от истинного Бога.
При виде служителей Молоха, уже связавших обреченных на жертву амаликитян, чтобы бросить их в огонь, Иисус Навин разгневался и, встретив сопротивление этих ослепленных людей, приказал трубить в трубы и с помощью своих юных воинов — которые беспрекословно ему повиновались и вовсе не разделяли взглядов чужеземцев — прогнал их в лагерь без пролития крови.
Настойчивые увещания старого Нуна, Гура и Наасона отклонили от греха евреев, неблагодарность которых истинному Богу делала их вдвойне достойными наказания. Однако же многим из них тяжело было примириться с тем, что пылкий старик разбил дорогое для них изображение божества, и если бы не его белые как снег седины и не уважение к его сыну и внуку — многие подняли бы на него руку.
Как после всякой опасности, которую милость Всевышнего приводила к хорошему концу, Моисей уединился, а у Мариам появились слезы на глазах при мысли о той горести, которую должна была причинить ее великому брату весть о таком отпадении народа от истинного Бога и о такой тяжкой неблагодарности.
Веселая уверенность Иисуса Навина тоже омрачилась. Он без сна лежал на циновке в шатре своего отца и мысленно оглядывался на случившееся.
Его воинственную душу возвышала мысль о единой всемогущей непогрешимой силе, которая управляет всем, в том числе и жизнью людей, и от всех созданий неумолимо требует послушания. Что все зависит от единого, бесконечно великого и могущественного Существа и по мановению его возникает, приходит в порядок или останавливается, в этом убеждал его каждый взгляд на природу. Для него, вождя небольшого войска, его Бог стал верховнейшим и прозорливейшим из всех вождей, единственным, для которого победа всегда была несомненна.
Какое преступление — оскорбить такого властителя и за его благодеяния отплатить отпадением!
И, однако же, народ на его глазах совершил этот неслыханный грех, и теперь, когда Навин припоминал предыдущие обстоятельства, заставившие его вмешаться в дело, в его сознании зародился вопрос: каким образом можно оградить народ от гнева Всевышнего, как открыть глаза неразумной толпе, чтобы она поняла Его чудное, всеохватное величие?
Но он не находил ответа и не видел никакого средства, когда вспоминал о царившем в лагере духе неповиновения и своеволия, угрожавшем его народу погибелью.
Своих воинов ему удалось привести к послушанию; как только труба созывала их и он сам становился во главе вооруженных бойцов, они подчиняли его воле свою собственную упрямую волю. Неужели нет никакого средства и во время мирной, будничной жизни удерживать их в границах, которые в Египте обеспечивают существование даже самых слабых, незначительных людей и защищают их от нападения со стороны своевольных и более сильных?
Подобные размышления не давали ему заснуть до утра; и когда звезды погасли, он вскочил, приказал трубить в трубы, и вновь сформированные отряды собрались, как и вчера, беспрекословно и в полном числе.
Во главе их он пошел через узкую горную долину. Пройдя целый час среди темноты, воины почувствовали освежающую прохладу, которая обыкновенно предшествует утру.
Затем на востоке забрезжил утренний свет, небо начало светлеть, и среди яркого великолепия утренней зари торжественно восстала перед взорами путников гигантская величественная громада священной горы.
Близко и осязательно явственно выдавалась она вперед со своими бурыми скалами, утесами и расселинами, и вокруг ее семизубчатой короны летала пара орлов, широкие крылья которых обдавал мерцающим золотым блеском свет молодого дня.
Благочестивый трепет заставил всех притихнуть, как перед Алусом, и каждый, от первого до последнего, с безмолвным благоговением поднял руки для молитвы.
Затем воины бодро пошли вперед, весело перекликаясь, а им навстречу летели с громким щебетанием небольшие птички, предвозвещавшие близость проточной воды.
Это радовало сердце; к тому же величественный вид горы Синай, вершина которой, касающаяся неба, была теперь окутана голубоватым туманом, наполнял души людей, выросших на плоских равнинах Гесема, благоговейным удивлением.
Теперь они осторожно подвигались вперед, поскольку не исключалось, что остаток разбитых амаликитянских войск может скрываться в какой-нибудь засаде.
Но врага не было ни видно, ни слышно, единственными следами жажды мести сынов пустыни были попадавшиеся евреям разрушенные дома, срубленные великолепные пальмы в долине и опустошенные сады.
Поэтому пришлось убирать с дороги стройные стволы деревьев, чтобы они не мешали идти вперед, и, когда эта работа была окончена, Иисус Навин через каменистое ущелье, спускавшееся в долину к ручью, выбрался на первый уступ горы, чтобы с высоты увидеть неприятеля в случае его приближения.
Он шел возле красных гранитных нагромождений, испещренных зеленоватым прожилками диорита, по крутой тропинке, пока не достиг ровной площадки, высоко поднимавшейся над оазисом, на которой светлый источник, зеленые кустарники и горные цветы украшали все окрест.
Здесь он остановился, чтобы отдохнуть, и, оглянувшись, увидел в тени нависшей скалы высокую человеческую фигуру.
Это был Моисей.
Полет мыслей увлек его так далеко от настоящего и всего, что его окружало, что он не заметил приближения Иисуса Навина; а воин не решился помешать Божьему человеку в его размышлениях. Он терпеливо ждал; наконец Моисей поднял голову и приветствовал его с ласковой благосклонностью.
Они вместе стали обозревать оазис и пустынные каменистые долины горной страны, расстилавшейся у их ног. Они видели также маленький участок Тростникового моря, омывавшего западный склон горы и мерцавшего изумрудно-зелеными водами.
Они говорили о народе и о величии Бога, Который привел их сюда таким чудесным образом. А в это время с севера двигался необозримо длинный ряд путников, которые, следуя изгибам горной долины, медленно направлялись к оазису.
Иисус Навин открыл Божьему человеку свое сердце и рассказал, какие вопросы задавал себе в бессонную ночь, не находя на них ответа. Моисей слушал его спокойно и затем, запинаясь, отрывистыми фразами, ответил:
— Своеволие в лагере — да, конечно, оно портит мой народ! Но нам в руки Господь дал силу разбить это неповиновение в куски. Горе тому, кто начнет противиться! И они почувствуют эту силу, высокую, как эта гора, и непоколебимую, как ее твердый камень!
Произнеся эти гневные слова, Моисей замолчал. Оба они некоторое время безмолвно смотрели вдаль; затем Иисус Навин спросил:
— Как называется эта сила?
— Закон! — твердо и громко отвечал Божий человек и своим жезлом указал при этом на вершину горы.
Затем он кивнул своему собеседнику и оставил его, а Иисус Навин продолжал обозревать окрестность и заметил на желтых подошвах долин темные тени, двигавшиеся туда и сюда. Это были остатки разбитых амаликитян, искавших новое место жительства.
Некоторое время он еще наблюдал за ними и, убедясь, что они удаляются от оазиса, в задумчивости стал спускаться в долину.
«Закон!» — повторял он себе снова и снова.
Да, именно этого недоставало переселенцам! Пусть строгости закона будет предоставлено преобразить эти орды, убежавшие от рабства, в народ, достойный Бога, который оказал ему предпочтение перед всеми другими народами земли.
Здесь размышления военачальника были прерваны. Человеческие голоса, рев и блеяние стад, лай собак и твердые удары молотка донеслись до него со стороны оазиса.
Там евреи ставили палатки; это было мирное дело, при котором никто не нуждался в военачальнике.
Иисус Навин лег в тени густого куста тамариска, над которым гордо поднималась высокая вершина пальмы, и с наслаждением дал отдых своему усталому телу, сознавая, что теперь народ в безопасности: во время войны о нем будет заботиться его меч, а во время мира — закон. Этого вполне хватало, это укрепляло надежду… Но нет, нет, это было не все, это не могло быть последним словом! Чем больше он думал, тем глубже чувствовал, что этого недостаточно для людей, находящихся там, внизу, которых он, как братьев и сестер, заключил в своем сердце. Его высокое чело омрачилось снова, и, встревоженный новым сомнением, он покачал головой.
Нет, и опять нет! Тем, которые сделались для него столь дорогими, закон не мог дать всего, чего он желал для них. Было необходимо еще что-то другое, для того чтобы сделать их будущность такой достойной и прекрасной, какой он видел ее внутренним взором еще на своем пути к рудникам.
Но что это было, как называлось это другое?
И его мозг начал усиленно работать, чтобы найти это слово; и, тем временем как он с закрытыми веками позволял своим мыслям перебегать и к другим народам, которые он встречал на войне и в мирное время, чтобы при сравнении с ними своего народа отыскать то, чего недоставало последнему, — им овладел сон. И во сне он увидел Мариам и прелестный образ девочки, похожей на Казану того времени, когда она, чистое, невинное дитя, так часто выбегала к нему навстречу, а за нею следовал белый ягненок, которого его отец много лет тому назад подарил своей любимице.
Каждое из видений подавало ему подарок и требовало, чтобы он выбрал тот или другой из этих двух даров.
В руках Мариам была тяжелая золотая скрижаль, вверху которой стояло начертанное пылающими буквами заглавие: «Закон» и которую она предлагала ему с мрачной серьезностью. Девочка подавала ему одну из тех прекрасно округленных пальмовых ветвей, которые он часто поднимал в качестве вестника мира.
Вид скрижали наполнил душу Иисуса Навина благоговейным трепетом, а пальмовая ветвь ласково манила его, — и он выбрал ее. Но едва он взял ее в руку, образ пророчицы растаял, подобно туману, рассеянному утренним ветром. С тревожным изумлением смотрел Иисус Навин на то место, где прежде стоял этот призрак; удивленный и обеспокоенный собственным странным выбором, он, однако же, чувствовал, что не ошибся, и спросил девочку: какое значение имеет ее подарок для него и для народа?
Тогда она кивнула ему, указала вдаль и промолвила три слова, нежное благозвучие которых глубоко проникло в его сердце. Но как ни старался он уловить их смысл, ему это не удавалось, и когда он стал просить ребенка объяснить эти слова, то проснулся от звука своего собственного голоса и, разочарованный и задумчивый, вернулся в лагерь.
Впоследствии он часто пытался припомнить эти слова, но каждый раз тщетно. Вся великая сила его любви и его души была навсегда и неизменно посвящена народу; а его племянник Эфраим, сделавшись могущественным вождем своего колена и заслуживая то уважение, которым он пользовался, основал свой собственный дом. В этом доме старый Нун видел подраставших правнуков, которые обещали его благородному племени долгое существование.
Дальнейшая богатая деяниями жизнь Иисуса Навина и история завоевания им нового отечества для своего народа известны каждому.
Там, в обетованной земле, много столетий спустя родился в Вифлееме другой Иисус, который всему человечеству даровал то, чего сын Нуна тщетно искал для еврейского народа.
Три слова, произнесенные устами ребенка, которых не мог понять Иисус Навин, еврейский военачальник, были: «любовь», «милость», «искупление»!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Роман «Josua» — в русском переводе «Иисус Навин» — опубликован в 1890 году. Несомненно, это произведение — дань библейской археологии, которой Георг Эберс интересовался в течение всей своей научной и литературной деятельности.
«Иисус Навин» повествует о знаменательном событии в истории еврейского народа, связанном со становлением общееврейской религии и будущего еврейского государства, — об исходе израильских племен в Ханаан [44], так называемую «землю Обетованную».
Поскольку роман открывает сцена начала исхода евреев из Таниса [45] — тогдашней столицы Египта, следует хотя бы вкратце осветить предшествовавшие этой акции события, в результате которых евреи обосновались на землях нильской дельты. Для этого необходимо обратиться к первым книгам Ветхого Завета, излагающим сведения о библейских патриархах. К счастью, и у нас миновали времена непререкаемого господства «теории» абсолютной мифичности библейских текстов и персонажей, пришла пора осознания истинной сущности Библии как величайшего исторического и литературного памятника, источника духовного обогащения человека.
Согласно ветхозаветному преданию, родоначальником проживавших в Египте двенадцати племен (колен) Израилевых является Иаков, сын Исаака и уроженки месопотамского города Харрона красавицы Ревекки. Иаков появился на свет вторым, «держась своей рукой за пяту»[46] первенца — близнеца Исава.
По-еврейски «Иаков» означает «пята», или «подошва». В древности, когда ни в одном из языков еще не существовало общепринятого набора имен, родители именем новорожденного обычно выражали или мысль о сопутствующих его рождению событиях или отражали в имени какие-либо физические характеристики младенца. Так, «Исав» значит «волосатый», ибо он уродился «весь, как кожа космат», а имя Ревекка означает «узы», «оковы» в значении «пленяющая красотою».
Любимец матери, Иаков, описывается как человек «кроткий, живущий в шатрах», в отличие от Исава — охотника, «человека полей», к которому благоволил отец. Ревекка опасалась, что простодушный и неопытный в житейских делах Исав легкомысленно промотает родовое имущество, и прирожденный хозяин домовитый Иаков останется ни с чем, поскольку у древних народов только первородный сын являлся единственным наследником всего имущества, продолжателем семейных традиций. Она постоянно размышляла о том, как добыть заветное первородство для своего любимца.
И вот однажды, когда Иаков варил себе чечевичную похлебку, с охоты пришел усталый, проголодавшийся Исав и попросил дать ему поскорее поесть. Хитроумный Иаков воспользовался случаем и выменял у брата за эту пресловутую похлебку право на первородство, а вместе с ним и право на плодородные земли. Позже Иаков с помощью матери, обрядившей его в козлиные шкуры, обманул ослепшего к старости отца и вместо брата получил-таки его благословение.
Вернувшийся к вечеру Исав узнал, каким бесчестным способом его лишили наследства, и пригрозил убить Иакова. Отцовское благословение являлось мистическим актом, который уже невозможно было отменить, а то, что оно получено обманным путем, не имело никакого значения.
Опасаясь за жизнь Иакова, Ревекка посоветовала сыну бежать в Харрон и пожить у ее брата Левна, «пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему». Исаак тоже одобрил этот план и, благословляя на дорогу, посоветовал сыну взять «себе жену из дочерей Лавана». Ночью Иаков тайком ускользнул из лагеря и как бедный странник побрел пешком в Месопотамию.
В Харроне Иаков женится на двух своих двоюродных сестрах, отработав Лавану за каждую по 7 лет. От них и от двух наложниц у него рождаются 12 сыновей и одна дочь. Он видит вещий сон, в котором Бог велит ему возвратиться на родину. Иаков со всем своим семейством послушно отправляется в Ханаан.
Вступив в отчую землю, Иаков часть своего заработанного у Лавана скота отправляет со слугами вперед, надеясь смягчить гнев Исава, который, как донесли лазутчики, вышел навстречу брату с четырьмя сотнями слуг. Как-то под вечер Иаков переправил всех своих домочадцев и слуг на противоположный берег мелководного потока на ночевку, а сам остался в покинутом лагере один. «И боролся Некто с ним до появления зари». «Некто» так и не одолел строптивого Иакова, который крикнул ему, будто равному себе: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». На рассвете Некто благословил Иакова как законного наследника Исаака, сказав: «Отныне: имя тебе будет не Иаков, а Израиль[47], ибо ты боролся с Богом».
Помирившись с Исавом, — при встрече братья растрогались до слез, — Иаков разбил свой стан близ Сихема [48], одного из древнейших городов Ханаана, известного с начала IV тысячелетия до н. э.
Далее история израильтян напрямую связана с одиннадцатым сыном Иакова — Иосифом [49], получившим прозвище Прекрасный. В юности Иосиф был предметом особой привязанности отца, как «сын старости его». Смышленый и находчивый, однако порой не в меру язвительный и даже высокомерный отрок восстановил против себя почти всех старших сводных братьев своим особым положением в семье.
Однажды, когда кочевавшие со стадами братья в поисках обильных пастбищ отошли слишком далеко и долго не посылали о себе вестей, встревоженный Иаков послал Иосифа узнать, что с ними происходит. Братья воспользовались благоприятным случаем и порешили раз и навсегда избавиться от отцовского любимчика. И только заступничество старшего из братьев, Рувима, спасает Иосифа от немедленного умерщвления. С Иосифа снимают его нарядный цветной кетонет [50] и бросают в высохший колодец, где он обречен на мучительную смерть. На счастье, в это время мимо проходил караван направлявшихся в Египет богатых купцов-исмаильтян [51]. Алчные братья продали Иосифа в рабство, разорвали в клочья его кетонет, измазали обрывки в крови тут же заколотого козленка и послали их отцу, который решил, что любимого сына растерзал хищный зверь.
Долгих 14 лет пробыл Иосиф в Египте рабом. После этого он по божественному внушению растолковал загадочные сны фараона. Поначалу владыке приснилось семь тучных коров, которые пожрали семь тощих коров, а затем семь налитых зерном колосьев изничтожили семь внезапно выросших пустых, иссушенных ветрами колосьев. Иосиф растолковал оба сна так: Египет ожидают семь урожайных и сразу вслед за ними семь неурожайных лет, грозящих стране жестоким голодом. Мало того, Иосиф надоумил фараона, как предотвратить беду. Обрадованный фараон ему же и поручил реализовать эту идею: он назначил тридцатилетнего Иосифа своим наместником, «поставил его надо всею землей египетскою». Кроме того, фараон дал ему в жены Асенефу, дочь влиятельного жреца из города Он (греч. Гелиополис), обеспечив Иосифу таким путем поддержку могучей жреческой касты. Такое возвышение иноземца-семита в египетском государстве, по мнению ученых, могло произойти только в эпоху гиксосской оккупации, поскольку и сами гиксосы принадлежали к семитским народам. Они, по-видимому, говорили на языке, близком к одному из наречий древнееврейского языка. Из надписей на погребальных скарабеях известно, что их предводители носили типично семитские имена. Переняв все внешние атрибуты фараонов, вожди гиксосов правили Нижним Египтом (правители Верхнего Египта полтора столетия были их покорными данниками), подавляя огнем и мечом любые проявления недовольства.
В течение семи изобильных лет новоявленный правитель неукоснительно взимал одну пятую часть урожая зерновых и складировал, когда же настали неурожайные годы Иосиф стал продавать запасенное зерно египтянам и жителям соседних стран. Вскоре голод пришел и на земли Ханаана. Сыновья Иакова дважды приезжали за зерном в Египет. Только во второй приезд Иосиф открылся им, убедившись окончательно, что братья искренне раскаялись в совершенном злодеянии. Он отпустил их с миром, просил передать предложение отцу переселиться со всем своим родом в Гесем (Гошем) — восточную часть области нильской дельты, где переселенцы могли бы на тучных пастбищах вести привычную им пастушескую жизнь. Гиксосский фараон разрешил использовать для переезда царские колесницы, и весь род Иакова в количестве шестидесяти шести человек переселился в Гесем.
Перед смертью Иаков благословил всех своих сыновей на основание двенадцати родов — «колен израилевых», называемых по их именам. Поэтому поселившихся в Египте израильтян зачастую именуют «союзом двенадцати племен». Иосиф приказал по египетскому обычаю набальзамировать тело отца, с почестями доставил его в Ханаан и торжественно похоронил.
Иосиф умер в возрасте ста десяти лет. Перед смертью он выразил заветное пожелание: если израильский народ когда-нибудь возвратится в Ханаан, то пусть заберет его останки и похоронит рядом с Иаковом.
На смерти Иосифа библейская история израильтян внезапно обрывается и возобновляется только спустя почти 400 лет, начинаясь событиями, связанными с личностью пророка Моисея…
После изгнания гиксосов фараоны XVIII династии сделали своей столицей город Фивы, и земли нильской дельты превратились в отдаленную по тем временам захолустную окраину. Израильтяне же продолжали вести в Гесеме привычную им пастушескую жизнь, причем обо всем этом четырехсотлетнем периоде их существования Библия повествует крайне скупо, отмечая, что тем временем «сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Занятые возрождением былого могущества своей державы фараоны долго не обращали никакого внимания на мирных скотоводов. Никто и не собирался их как-либо притеснять, тем более, что сама израильская диаспора все более и более подпадала под влияние египетской культуры и даже признавала культ египетских богов (Иисус Навин увещевает израильтян: «Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте…») От окончательной ассимиляции их, по всей вероятности, уберегли привязанность к языку, обычаям и традициям предков.
С воцарением Рамсеса II идиллическая обособленность гесемской земли кончилась. Стремясь упрочить могущество Египта путем покорения Малой Азии, Рамсес в качестве плацдарма для вторжения на Восток избрал дельту Нила вместе с землей Гесем. На месте Авариса он решил построить новую столицу — город Раамсес (Танис). Кроме того, готовясь к захватническому походу, он возвел город Пифом, состоящий по сути дела из складов провианта и военной амуниции. Благодаря археологическим изысканиям точно установлено местонахождение обоих этих городов.
Год начала строительства Раамсеса стал для израильских скотоводов годом начала их бедствий. Вместе с фараоном прибыли его вельможи, а вслед за ними — многочисленная рать чиновников. В жилища пастухов врывались воины и сборщики налогов, они бесцеремонно забирали зерно и скот, нещадно избивая сопротивлявшихся насилию. Кроме того, для осуществления грандиозного строительства в Раамсесе требовалось много рабочих рук, и фараон принудил израильтян к рабскому труду. В представлении должностных лиц, с презрением относившихся к примитивным пастушеским народам (в Библии прямо говорится: «мерзость для египтян всякий пастух овец»), израильтяне были людьми Востока и в случае войны вполне могли переметнуться на сторону врагов, ведь во времена позорной оккупации они являлись верноподданными слугами гиксосов.
Фараон повелел поставить над израильтянами надсмотрщиков и изнурять их не только строительными, но и полевыми работами, поскольку бесчисленную ораву чиновников и слуг необходимо было кормить. Однако чем больше египтяне угнетали еврейский народ, «тем более он умножался и тем более возрастал». Тогда разгневанный владыка призвал двух израильских повитух — их и было-то всего две на весь Гесем — и строго приказал им умерщвлять при родах всех младенцев мужского пола. Но израильтянки и не подумали выполнить этот бесчеловечный приказ, а призванные держать ответ за ослушание смело заявили фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рожают». Отпустив повитух с миром, фараон повелел своим палачам силой отнимать у родителей и топить в Ниле всех без исключения мальчиков-евреев.
В период этих жесточайших репрессий у супружеской четы Амрами и Иохаведы из колена Левия родился третий ребенок, к сожалению, обреченный на смерть сын. Иохаведа решила во что бы то ни стало сохранить сына. Три месяца она скрывала его у себя дома. Когда же малыш подрос и стал лепетать и плакать так громко, что соглядатаи фараона могли его обнаружить, она замыслила хитроумный план: положила малыша в осмоленную асфальтом тростниковую корзинку, отнесла корзинку к тому месту на берегу Нила, где ежедневно купалась одна из дочерей фараона, спрятала в тростниках и ушла. Дочь же ее Мариам осталась поблизости и наблюдала, что произойдет дальше с малюткой-братом.
После купания царевна в сопровождении прислужниц, прогуливаясь вдоль берега, услышала детский плач и велела обыскать тростник. Ей тотчас принесли корзинку с плачущим малышом. Дочь фараона склонилась над ним и приласкала мальчика. Она сразу догадалась, что нашла израильского ребенка, а так как в глубине души осуждала бесчеловечный указ отца, то решила взять дитя под свое покровительство. Мариам подошла, словно ничего не зная, предложила найти для мнимого найденыша «кормилицу из евреянок». Получив согласие, Мариам привела к царевне Иохаведу. Таким образом, кормилицей Моисея [52] — так нарекла своего приемного сына царевна — стала его родительница.
Выросший при дворе Моисей получил чисто египетское воспитание и образование; он жил в роскоши, будто от рождения принадлежал к царскому роду. Он даже получил звание египетского жреца, а по свидетельству Иосифа Флавия, успешно командовал египетскими войсками в войне против Эфиопии.
Однажды Моисей — к тому времени ему исполнилось сорок лет — стал невольно свидетелем того, как на строительных работах надсмотрщик-египтянин жестоко избивал еврея. В гневе он убил египтянина и закопал его труп в песок, чтобы скрыть убийство от фараона. И, хотя свидетелями убийства были только израильтяне, на третий день фараон о нем узнал. Опасаясь царского гнева, Моисей бежал в расположенный на Синайском полуострове город Мадиам. Там возле колодца он заступился за обиженных пастухами дочерей влиятельного священнослужителя мадиамского Иофора. Иофор принял беглеца в свой дом и выдал за него дочь.
Сорок лет прожил Моисей у Иофора. Тем временем Рамсес II умер; при его наследнике Марнепта (Марнептахе) тяготы евреев еще усилились, «и услышал Бог стенание их», и призвал Моисея к освободительной миссии.
На склоне горы Хорив [53], где Моисей как-то пас стада тестя, неожиданно увидел он терновый куст, объятый пламенем, но не сгорающий [54]. Едва удивленный Моисей вознамерился было приблизиться к полыхающему кусту, как «воззвал к нему Бог из среды куста». Бог повелел Моисею, не мешкая, возвратиться в Египет и вывести оттуда страждущих израильтян «в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». В знак особого доверия Бог впервые назвал себя: «Я есмь Сущий» (Яхве) и разрешил Моисею огласить это свое имя перед сынами Израилевыми. Усомнившегося было в своих способностях Моисея Бог наделил даром чудотворства, а его старшего брата Аарона [55] сделал «устами» новоявленного пророка, так как сам Моисей не обладал даром красноречия. Бог предрек также, что фараон сразу не позволит евреям удалиться «в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу… Но Я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку Мою, и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того он отпустит вас».
Разумеется, фараон отказал Моисею и Аарону в просьбе совершить служение Господу в пустыне, безусловно, догадываясь, что израильтяне собрались уйти не на три дня, а навсегда. Царя не убедила даже эффектная победа Аарона при состязании его (с помощью Бога) с египетскими магами в чудотворстве, когда посох Аарона превратился в змея, немедля пожравшего тех змей, в которых маги не замедлили превратить свои посохи.
Вот тут-то Бог и наслал на державу фараона «казни египетские». Было их десять, и следовали они одна за другой с небольшими промежутками, дабы дать возможность фараону всецело осознать всю меру вины своей перед израильтянами. Сначала нильская вода приобрела цвет крови и смрадный запах, сделавшись негодной для питья; затем страну заполнили громадные отвратительные жабы; третьей «казнью» стали несметные тучи мошкары; четвертой — мучительно жалящие людей и животных «песьи мухи». Далее последовали: пятая «казнь» — моровая язва, шестая — воспаление кожи с нарывами, седьмая — всепобивающий град, восьмая — нашествие саранчи, девятая — падение на землю осязаемой тьмы, когда египтяне и в дневное время совершенно «не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня». Само собой, все эти напасти не коснулись Гесема: Бог отводил их от израильтян. После начала каждой казни фараон просил Моисея избавить страну от беды, обещая уважить его просьбу, однако после того, как по молитве Моисея очередное бедствие прекращалось, владыка Египта изменял своему слову, ибо Господь снова «ожесточал сердце его», намеренно усугубляя напряженность ситуации.
Наконец, строптивый монарх и его начавший роптать народ подверглись самой жестокой «казни»: в одну ночь «Господь поразил всех первенцев в земли египетской от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». На сей раз устрашенный фараон отпустил израильтян на служение Господу в пустыне, разрешив им взять с собою весь домашний скот.
Сценой ночного выхода евреев из Таниса начинается «Иисус Навин». Есть смысл уточнить время его действия, поскольку в романе оно не указано. Преобладающее большинство ученых ранее придерживалось, да и теперь придерживается мнения, что исход имел место во второй половине XIII века до н. э., поскольку крайне сомнительно, чтобы израильтянам удалось вырваться из египетского рабства при жизни Рамсеса II. Вероятнее всего, это случилось при его преемнике фараоне Марнепта… В его царствование Египту приходилось защищать западную границу от постоянных набегов ливийцев, а восточную от нападения индоевропейских народов, которые покинули Балканы, вторглись в Малую Азию, сокрушили хеттов и захватили северо-восточное побережье Средиземного моря. Марнепта успешно отразил агрессию, однако Египет был настолько обессилен, что ему в течение продолжительного периода не удавалось восстановить свою былую мощь. Поэтому Эберс не без веских оснований соотнес исход с последним годом царствования Марнепта, умершего или погибшего в 1215 году до н. э., тем более, что ко времени написания романа мумия Марнепта еще не была найдена — ее обнаружили только в 1898 году.
Главный герой романа Иисус Навин [56] происходил из колена Ефремова и первоначально именовался Иосия, вернее — Осия [57]. Он впервые упоминается в Библии как руководитель сражения израильтян с амаликитянами — многочисленным и воинственным народом, населявшим земли между Египтом и Палестиной, а Эберс этим эпизодом по существу завершает свое произведение. Таким образом, писатель сознательно выводит основное действующее лицо за рамки канонического библейского текста, что позволяет ему дать простор воображению и не только создать психологически убедительный полнокровный образ обаятельного человека, мужественного воина и патриота, будущего вождя своего народа, но и органически вписать этот легендарный библейский персонаж в среду таких вымышленных героев, как командир царских лучников Горнехт, его прелестная дочь Казана, отважный Эфраим и иные действующие лица. Кроме того, начав роман после завершения «египетских казней» и практически окончив его рафидимским сражением, Эберс удачно свел до минимума включение в его канву многих библейских чудес. Те же чудеса, которые происходят в указанном промежутке времени, представлены как вполне объяснимые явления. Например, десятая «казнь», избиение младенцев, по версии Эберса — пандемия моровой язвы, не щадившей и взрослых. Важнейший эпизод — переход через Красное море — также трактуется несколько иначе, чем в ветхозаветном тексте, согласно которому Моисей поднял свой жезл, воды расступились, «и пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Опираясь на библейский текст, дословно гласящий, что «гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь», Эберс изображает не просто сильный ночной ветер, а неистовую бурю, налетевшую к тому же не с востока, а почти с севера, ее приближение накануне видел Эфраим с высоты сторожевой башни. Буря отогнала воду от берега на значительное расстояние, обнажив оконечность мелководного залива, где морская вода осталась только в углублениях песчаного дна. Когда же ветер переменился, воды хлынули обратно и поглотили нагонявшее беглецов войско египтян.
Из библейских персонажей наиболее ярко выписана фигура Моисея. Пусть в изображении Эберса великий пророк не столь впечатляющ, как прославленное изваяние Микеланджело. Выдающийся вождь, законодатель, религиозный реформатор, Моисей предстает перед нами и как непримиримый исполнитель роли Всевышнего и одновременно как обычный человек со всеми присущими человеку слабостями — сомнениями, страхами, мучительными поисками истины. Тем не менее всей своей жизнью и деятельностью он постоянно утверждает величие духовных идеалов и неисчерпаемость творческого потенциала человека.
Не менее колоритно изображена и Мариам-пророчица. Ее литературный образ также не соответствует библейской трактовке. Ветхозаветная Мариам минимум на 50 лет старше сорокалетнего Иосии. У Эберса же она молодая, привлекательная женщина. Решительная и властная Мариам находит в себе силы и мужество отказаться от Иосии, которого сама призвала в стан соплеменников и сама же оттолкнула от себя, не сумев сломить его волю. Надменная и холодная, беспощадная даже к себе, пророчица явно проигрывает в сравнении с Казаной. Мужество женственно-обаятельной египтянки зиждется не на стремлении к власти над своим избранником, не на стремлении первенствовать в семейном союзе, а на всепоглощающем чувстве любви и взаимного уважения. Казана любит Иосию светло и самозабвенно; жертвуя своим достоинством, она идет на сделку с омерзительным ей Сиптахом безоглядно, идет как на смертную муку, надеясь спасти обреченного на верную гибель любимого. Только о нем, о его судьбе, о его благе помышляет она, уходя из жизни…
1
Гороскоп — в древнем Египте жрец, наблюдающий за звездами.
(обратно)2
Аммон-Ра (сокрытый, потаенный) — в египетской мифологии бог солнца, «царь всех богов», с ним связано обожествление фараона, почитавшегося как сын Аммона-Ра во плоти.
(обратно)3
Гесем — «земля дождя»
(обратно)4
Апоп — в египетской мифологии огромный, обитающий в глубине земли змей, олицетворяющий мрак и зло, извечный враг бога Ра.
(обратно)5
Шу («пустота», «свет») — в египетской мифологии бог воздуха, разделяющий небо и землю. Обычно изображался человеком, стоящим на одном колене с поднятыми руками, которыми он поддерживает небо над землей.
(обратно)6
Систрум (систр) — древнеегипетская трещотка, состоящая из скобы, на которую нанизаны металлические пластинки; использовался при отправлении культа Изиды.
(обратно)7
Нейт — богиня войны и охоты, как богиня воды и моря она мать бога — крокодила Себека, а также всех крокодилов вообще. Связана с заупокойным культом. Нейт изображали в виде женщины в короне Нижнего Египта, часто — кормящей грудью двух маленьких крокодилов.
(обратно)8
Рененут — богиня жатвы, охранительница собранного урожая.
(обратно)9
Гор — бог неба и солнца, борец со злом. Изображался как ребенок на руках Изиды или как воин с ястребиной головой.
(обратно)10
Пастофоры — высшая категория непосвященных жрецов, которые обычно несли святыни.
(обратно)11
Мезу, или Meсу (т.е. «рожденный») — египетская форма имени Моисей.
(обратно)12
Согласно Геродоту, первые кварталы чужеземцев — тирский и финикийский возникли в городе Мемфисе. Позднее они появились и во многих других городах древнего Египта. Еврейский квартал Таниса был одним из самых обширных.
(обратно)13
Марнепта (точнее, Марнептах) — тринадцатый сын Рамсеса II, вступил на престол в возрасте 40 лет и правил с 1225 по 1215 год до н. э.
(обратно)14
Питом (Пифон) — построенный Рамсесом II город-крепость, целиком состоящий из обширных складов продовольствия и военной амуниции.
(обратно)15
Египетская богиня любви, изображаемая со шнурами в руках, связывающими сердца влюбленных.
(обратно)16
Ваал (Баал) — семитское буквально «хозяин», «владыка» — древнее общесемитское божество плодородия, вод, войн, которое представляли живущим и действующим в определенной местности. Почиталось в Финикии, Палестине и Сирии. Затем культ Ваала через финикийцев и карфагенян распространился на запад, в Египет, Испанию и другие страны.
(обратно)17
Сет — египетский бог пустыни, оазисов, чужих стран, наделенный чудовищной силой, отсюда — бог бурь и землетрясений, воплощал в себе злое начало.
(обратно)18
В египетской мифологии девять изначальных богов: Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Озирис, Иэида, Сет, Нефтида; эти боги считались первыми царями Египта.
(обратно)19
Нард — нардовое благовонное масло, добываемое из корневищ валерианы, произраставшей на склонах Гималаев; высоко ценился в Египте.
(обратно)20
Ашера (Асирит, Асирту) — древнеснрийская богиня, в западносемитской мифологии — мать богов и людей, владычица всего сущего.
(обратно)21
Здесь в первоначальном значении — непосвященный или лишенный посвящения по каким-то причинам.
(обратно)22
Iоsuа — собственно Iohoshua, Иешуа — «тот, кому помогает Иегова».
(обратно)23
Еврейское название Таниса.
(обратно)24
Дворец царя. Само имя фараон (древнеегип. пер.) значит «высокие ворота», «высокий дом».
(обратно)25
Один из титулов фараона.
(обратно)26
Исида, Изида (егип. «Исет» — «трон», место) — богиня плодородия, воды и ветра, мореплавания, покровительница рожениц, символ женственности и семейной верности. Исида входит в девятку изначальных египетских богов: дочь Геба и Нут, сестра Озириса (и его супруга), сестра Нефтиды и Сета, мать Гора. Когда Сет убил Озириса, разрубил (по одной из версий мифа) его тело на 14 частей и разбросал эти части по всему Египту, Исида собрала их воедино, оплакала и погребла, согласно ритуалу.
(обратно)27
Нечто вроде адъютантов.
(обратно)28
Атум, Тум — в египетской мифологии бог солнца, творец всего сущего, один из древнейших, возглавляющий девятку изначальных богов. Во многих текстах Атум называется заходящим солнцем. Изображался человеком с двойной короной на голове — символом власти над Верхним и Нижним Египтом.
(обратно)29
Бедуины, кочевавшие в пустыне примыкающего к Египту Аравийского полуострова.
(обратно)30
Согласно ветхозаветным преданиям, у библейского патриарха Иакова (Израиля) было 12 сыновей: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Йссахар, Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иосиф, Вениамин. Перед смертью Иаков благословил каждого из сыновей на создание своего колена (племени). Так возникли 12 колен Израилевых, получивших название по именам их основателей. Колено Иосифа раскололось на две племенные группы, которым начало положили его сыновья Ефрем (Эфрем) и Манасия.
(обратно)31
Мицпа от евр. «надзирать», «наблюдать». Когда Иаков после 20 лет службы ушел от своего тестя Лавана (см. послесловие), забрав весь заработанный им скот, Лаван на третий день нагнал зятя, и они после довольно продолжительного спора об имуществе пришли к соглашению; родичи Иакова в знак согласия воздвигли Мицпу — холм из камней, и Лаван сказал: «Сегодня этот холм между мною и тобою свидетель… да надзирает Господь надо мною и тобою, когда мы скроемся друг от друга». И они порешили не переступать этого памятника-свидетеля ради причинения зла друг другу.
(обратно)32
Еврейское название египетского города Бубастиса.
(обратно)33
Тростниковым в древности называли Красное море (от древнеевр. Ям-Суф — «море Тростника»), поскольку тростник в изобилии рос в болотистых лагунах и поймах западного рукава Красного моря.
(обратно)34
Оборонительные крепостные укрепления (валы, рвы, насыпи, стены и т. д.).
(обратно)35
То же, что гарем у нынешних египтян-мусульман.
(обратно)36
Местность на северо-западном берегу Суэцкого залива. Ваал-Цефон, скорее всего, не гора, а возвышенность, соответствовавшая местоположению современного города Суэца (Цефон по др.-евр. — «темная страна», север), на которой находился храм Ваала, а возможно, маяк или сторожевая станция (пост) египтян.
(обратно)37
Пи-Гахироф (др.-егип. — «место травы», тростника; др.-евр. — «устье пещер») — рыбацкое селение на восточном склоне Ваал-Цефона.
(обратно)38
Адонаи, Адонаи (евр. «Господь мой») — одно из обозначений Бога в иудаизме.
(обратно)39
Или — «Боже» на сирийском языке. Одно из имен Бога также и у евреев.
(обратно)40
Мигдол на древнееврейском и египетском языках значит «укрепленная башня».
(обратно)41
Сур (древнеевр. «ограда», «стена») — город между Палестиной и Египтом; по его имени названа и пустыня, в которую вошли сыны Израиля после перехода через Красное море.
(обратно)42
Дофка (древнеевр. прогон скота) — крепость в пустыне Син, один из станов израильтян.
(обратно)43
Амаликитяне — согласно ветхозаветным преданиям, могущественный и воинственный кочевой народ, обитавший между Палестиной и Египтом.
(обратно)44
Название происходит от издревле населявших эту страну ханаанских племен, родоначальником которых считается Ханаан, сын Хама и внук патриарха Ноя. Позднее Геродот дал ей имя Палестина от еврейского слова «пелешат» — «земля Филистимлян» — народа, занявшего в XIII веке до н. э. южное побережье Ханаана.
(обратно)45
Танис (евр. Поан) — позднейшее название города Раамсеса, построенного Рамсесом II на месте разоренной столицы гиксосов Авариса, куда великий фараон перенес свою столицу из Фив.
(обратно)46
Здесь и далее по тексту курсивом в кавычках приведены дословные тексты из Ветхого Завета.
(обратно)47
Израиль — «богоборец»; с той поры потомки Иакова зовутся израильтянами.
(обратно)48
Сихем — «плечо»; с этим городом отождествляется современный иорданский город Налбус.
(обратно)49
Иосиф — «Бог да умножит».
(обратно)50
Прототип древнегреческого хитона.
(обратно)51
Исмаилиты, или исмаильтяне, в мусульманской традиции считались родоначальниками всех северных арабов; иногда они отождествляются с бедуинами.
(обратно)52
Моисей (евр. Моше) — «вытащенный из воды».
(обратно)53
Хорив — «сухая», или «пустынная».
(обратно)54
Так называемая «неопалимая купина». Такое растение и теперь изредка встречается в полупустынях Синая. Оно называется диптам, или куст Моисея. Это своеобразное растение выделяет летучее эфирное масло, которое легко воспламеняется на солнце и горит голубовато-красным огнем.
(обратно)55
Аарон — «осиянный». Ко времени исхода ему исполнилось 83 года.
(обратно)56
Иисус — Бог (Яхве) — помощь; Навин — патрономическая форма («отечество») от имени Нун.
(обратно)57
Осия (евр. hosua) — форма без имени Яхве, первоначально соответствовавшая имени jehosua — Иосия.
(обратно)

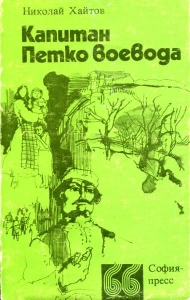



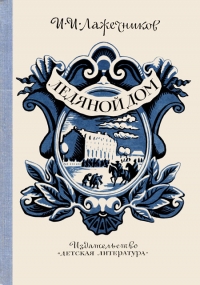
Комментарии к книге «Иисус Навин», Георг Мориц Эберс
Всего 0 комментариев