Юрий Чирков А было все так…
Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует.
М.А. Булгаков. Театральный романОб этой книге и ее авторе
Пятнадцатилетним подростком, обвиненным в подготовке покушения на секретаря ЦК КП(б) Украины Косиора и… товарища Сталина, попал Юрий Чирков, автор этой книги, на Соловки. Получил он за «преступление» три года. Правда, тем, кто отсиживал срок, потом добавляли еще, так что на круг выходило и десять лет, и двадцать, иногда и более. Практически же осужденный обречен был нести свой крест пожизненно, ибо тем счастливчикам, кому удавалось выжить и вырваться на свободу, ненавистная статья (или «букет» статей) оставалась клеймом на всю оставшуюся жизнь: она предопределяла, где пребывать человеку, где работать, чем заниматься…
Ничего этого семиклассник Юра Чирков в 1935 году еще не знал. Ни он, ни другие, постарше и позрелей, попав на Святой остров, не могли тогда предсказать, что станут Соловки судьбой тысяч и тысяч советских людей, что именно отсюда пойдут ветвиться лагеря: они перебросятся на континент, охватят Север, Сибирь, а потом и Восток, невидимыми нитями опояшут страну, каждого человека, независимо от того, за колючей проволокой он или за ее пределами. Цинично и страшно звучат в книге слова наркома Ежова о том, что все население страны делится на три категории – заключенных, подследственных и подозреваемых.
Соловки, так называемый СЛОН – Соловецкие лагеря особого назначения, стали самыми первыми в системе ГУЛАГа. (Может быть, в этом и состояло их особое назначение?) С 20-х годов на этой прекрасной обетованной северной земле, издревле обжитой трудолюбивыми монахами, кощунственно опробовалась универсальная система борьбы с инакомыслием. Как это происходило, мы уже знаем из книг Александра Солженицына, Олега Волкова, из воспоминаний чудом уцелевших лагерников-соловчан, таких, как академик Дмитрий Лихачев. Существует уже и документальный фильм талантливого режиссера Марины Голдовской «Власть соловецкая».
Многие лучшие люди страны – ее совесть, ее надежда в лице видных историков, писателей, богословов, философов, военачальников, инженеров, дипломатов – перебывали здесь, здесь и остались навсегда, унеся с собой и свою культуру, и свое духовное богатство – то, что каждая нация призвана собирать по крупицам веками, хранить пуще золотого запаса и приумножать. Вынув камни из основания нашей культуры, мы затормозили духовное развитие народа.
Вот чем оказались Соловки в нашей судьбе – общей и каждого в отдельности. И именно потому любой голос, донесший из дальнего далека лагерей крупицы правды, нам особенно дорог: мы должны знать, с чего все это начиналось.
Каждого, кто прочтет эту книгу, многое удивит, многое опечалит, многое заставит задуматься о прожитом, о судьбе уходящих поколений. У автора книги поразительная память на лица, имена, факты. Да и возраст, в котором он предстает перед читателем, тот самый, когда все воспринимается особенно остро, поначалу даже оптимистично. Попав в лагерь, он решает каждый день закладывать что-то «в голову и сердце» – прочитать редкие книги (благо соловецкая библиотека – истинный клад!), подготовиться к экзаменам за среднюю школу, самообразоваться, наконец, тем более что вокруг полно таких гуманитариев, которыми не всякий столичный университет может похвастать. И каждый готов помочь: один – в изучении немецкого, другой – по истории, третий – по математике…
Автор показывает, как постепенно Соловки заполняются представителями разных партий, «не поладивших с большевиками», а потом и самими большевиками; как трусливо и подло ведут себя нищие духом, лишенные веры и идеалов; как стоически держатся многие представители интеллигенции, особенно ее старшее поколение. «В бригаде ягодников, – рассказывает Ю. Чирков, – кроме меня, все были старики, в основном литераторы и священники». И как прекрасен Павел Флоренский, который даже тут, в условиях Соловков, успевает заниматься наукой, искусством, читать лекции и размышлять о бытии!
Духовность, любовь к искусству, жизни, людям – вот что помогало им выстоять. Им и прикоснувшемуся к ним пятнадцатилетнему Юре Чиркову. Страсть к знанию, жизнелюбие, сострадание к ближнему, заложенные сподвижниками Флоренского в подростка, на всю жизнь стали для него путеводной звездой.
Поразительно: в книге Ю.И. Чиркова нет жалоб, быт зэков изображен в своей повседневности почти как нормальная жизнь. Автор не рассказывает, как им было плохо. Книга впечатляет сильней оттого, что в ней чаще описаны дни «везучие», когда удавалось молодому зэку прочитать хорошую книгу, встретить интересного человека, получить из дома посылку.
Конечно, воспоминания – вовсе не роман. Здесь нет психологически разработанных сцен, это скорее – мгновенно наблюденные лица и факты; однако многие страницы, зарисовки, эпизоды в передаче Ю.И. Чиркова не уступают перу и осмыслению большого мастера. Невозможно, например, забыть крошечную сценку – описание встречи нашего героя с мамой, на холодном берегу, под надзором солдата… Как удар под сердце, это уже на всю жизнь в памяти.
Не удержусь, хоть вкратце (эта тема мне особенно близка!), упомянуть и о самых молодых зэках – моложе самого Чиркова. Их автор встречал во время пересылок – это «дети врагов» или уже сами «враги», как те описанные в книге пионеры, что палили из мелкокалиберки в газетный листок и попали в портрет товарища Сталина.
В одном месте автор с удивлением описывает невероятное количество лозунгов, которые он обнаружил на Соловках. Может быть, и нам бы стоило удивиться, если бы мы сами, на опыте собственной жизни, не знали, что те самые лозунги и на свободе всю жизнь сопровождали нас. Но зачем же они в лагерях? – спросит читатель. Затем, видимо, что и лагеря (вернусь к собственной неотвязчивой мысли) являлись мерилом новой, нарождающейся нравственности и морали, которые потом станут выдаваться за социалистическую нравственность и социалистическую мораль. Чирков очень точно показывает, как именно там, на Соловках, и именно тогда, в 20—30-е годы, закладывались основы сталинского социализма, а его принципы от тех самых лозунгов до системы лагерных стукачей, до надгляда, насилия и прочего отрабатывались на живом, на человеческом материале.
Однажды, сидя в карцере, автор задал себе странный вопрос. Уже не о своей собственной жизни или жизни сокамерников, а о том мире, который их окружает. Об уничтожении, например, настенной живописи в монастыре и чудесной мраморной часовни или соловецких чаек, которых здешние монахи столетиями приручали к себе, а конвоиры изничтожали, давя сапогами гнезда и маленьких птенцов… И молодой зэк сам себя спрашивает: «Проявление варварства по отношению к живой природе и искусству в Соловках – это частный случай, аномалия или норма нашего времени?» Он так и не находит ответа на мучивший его тогда вопрос. Но мы-то этот ответ знаем.
Не случайно так подробно я остановился на первой главе книги – «Соловки». В ней – ответы на многие вопросы, которые будут возникать при чтении книги; в ней – ключ к пониманию, почему подросток, попавший в непривычную среду «преступников», не просто выжил, а вырос высоконравственным, духовно богатым человеком, стал подлинным интеллигентом, ученым, профессором, автором многих книг и научных трудов.
К слову сказать, сам автор – Юрий Иванович Чирков – замышлял эту книгу из трех частей: «Соловки», «Ухта», «Красноярский край». Ему не удалось до конца осуществить задуманное. Осталась незавершенной вторая часть книги, в черновиках – третья. Дописала рукопись, довела ее до публикации жена Ю.И. Чиркова – Валентина Максимовна Чиркова: на протяжении многих лет она делила с ним все невзгоды судьбы, все тяготы ссыльной жизни, нужду и унижения. И об этом вы узнаете, когда дочитаете до конца книгу.
Напутствуя воспоминания Ю.И. Чиркова в большую читательскую жизнь, я бы хотел завершить свое предисловие простой в общем-то мыслью, глубину которой осознали пока далеко не все. Сейчас, когда в мечтах о «сильной руке» еще пребывают многие из нас, а насилие, диктат воспринимаются ими как эффективный метод наведения порядка, только правда, явленная во всей своей беспощадности, в том числе и в таких произведениях, как книга Юрия Чиркова, как смелые дерзкие публикации ученых-новаторов, журналистов, общественных деятелей, способна, может быть, спасти нас.
Анатолий Приставкин
Часть 1 СОЛОВКИ
ПЕРВЫЕ МИРАЖИ
Не ходить на четвереньках – это Закон.
Разве мы не люди?
г. Уэллс. Остров доктора МороВосходящее солнце розовым окрашивало неподвижную воду бухты. По берегу тянулась полоса тумана, и над ней как бы парили башни и стены Соловецкого кремля. Сияли на солнце белые колокольни, поднятые над стеной. И это видение отражалось в зеркале бухты Благополучия – преддверии зловещего и таинственного лагеря-тюрьмы, куда нас доставил 1 сентября 1935 года бывший монастырский пароходик, названный «Ударником».
Что делается на этом таинственном острове? В этапе мне говорили, что в Соловках и необычайные люди, и отборные преступники: шпионы, бандиты, контрабандисты, члены Промпартии и многие «осколки Российской империи».
Как я буду жить здесь три года, более 1000 дней? Какая будет работа? Будут ли книги? Смогу ли учиться, чтобы сдать экзамены за среднюю школу? С какими «железными масками» я здесь встречусь?
Ожидание необычного, детское любопытство перекрывали все другие чувства. Поэтому я с позиции своих пятнадцати лет не смотрел так мрачно, как мои взрослые спутники, уныло столпившиеся на борту «Ударника», хотя со времени моего ареста 5 мая 1935 года я видел столько страшного, отвратительного, пережил так много стрессов, что другому хватило бы на всю жизнь.
Помню, как меня не арестовали, а похитили из дому после возвращения из школы, заманив на Лубянку по доносу, а родители всю ночь искали сына по московским моргам. Помню первый допрос, продолжавшийся до трех часов ночи, когда мне предъявили фантастическое обвинение в попытке взрыва мостов, в подготовке покушения на секретаря ЦК КП(б) Украины Косиора (потом, три года спустя, расстрелянного как врага народа) и даже в организации покушения на самого Сталина. А ночи на Лубянке, в камере, когда один из соседей будил всех по нескольку раз в ночь страшными воплями (ему снился расстрел)? А набитая до предела камера № 68 в Бутырках, где 150—160 человек вместо 24 по норме не могли разместиться не только на нарах, но и под нарами на полу? А лозунг, написанный (и возобновляемый) заключенными на стене пересыльного корпуса: «Входящий, не грусти! Уходящий, не радуйся!»? И наконец, после месячного мучения в арестантских вагонах и пересыльных тюрьмах страшные Соловки, где творились такие дела, что даже Лига Наций хотела вмешаться. Но тем не менее я смотрел на божий мир бодро, с никогда не ослабевающим интересом.
Первый день сразу начался хорошо. Из порта до пересыльного пункта нас вели без собак. Можно было сходить с дороги и идти по траве. Было тепло. Не верилось, что близко Полярный круг.
Барак пересыльного пункта (перпункт), где вновь прибывшие проходят карантин, был большой, с трехэтажными нарами. Наш этап разместился на нижних нарах, и только я забрался на третий этаж. Расстелив на досках пальто, улегся отдыхать. Стало тихо. Уставшие от бессонной ночи на пароходе, люди спали.
Сквозь дрему я услышал тонкий жалобный плач. Отец Василий, священник из Рязани, с зеленоватой от старости бородой, стоял в углу на коленях, молился и плакал. Я не мог вынести и спустился утешить старика. Оказалось, он плакал от радости, что умрет не где-нибудь в тайге, а на земле, Зосимой и Савватием освященной.
Обследуя зону перпункта, я повстречался с аккуратным маленьким старичком в сером картузе и валенках. Он вежливо поздоровался и спросил, не из Владимира ли я?
– Земляками интересуюсь, – застенчиво пояснил он. – А тут все больше москвичи да ленинградцы. Ну иностранцев много. А я в Москве часто бывал у Ивана Дмитриевича, у Сытина. Книжками его вразнос торговал, офеней работал. Да вот на островах уже три года мыкаюсь. Ногу сломал на Секирной горе, а теперь легкую работу дали: дневальным на перпункте. Сегодня вам воду привез, а с завтрашнего дня хлеб да еду вам возить буду. Работа нетяжелая, да и народ новый вижу – интересуюсь, как на воле живут.
Я засыпал вопросами словоохотливого старичка. Ответы он давал обстоятельные и посвятил меня во многие тайны соловецкой жизни.
Офеня рассказал, что в Соловецком архипелаге 14 островков и самый большой из них – Святой[1], на котором мы. До материка 60 километров. Зимой море вокруг замерзает. Пароходы ходят только с мая по ноябрь. А зимой связь самолетом – начальство да почту возят.
Народу на острове много, но большинство заключено в кремле. Там есть секретные изоляторы, называются СИЗО. В них особо охраняемые политические, которых никто не должен видеть. Остров усиленно охраняется. Если кто убежит из кремля или другого лагпункта, то его поймают на острове или у острова. 60 верст по морю без лодки не одолеешь, да и лодку самолеты обнаружат, и катера догонят. Ходкие катера, «кавасаки» называются, у японцев купили. Поэтому с Соловков убежать невозможно.
Большинство заключенных из кремля выводят на работы: на лесозаготовки, на ремонт дорог и мостов, а кого заставляют собирать морские водоросли. Йод из них здесь в Йодпроме делают. Работы эти тяжелые, но кто выполняет задание, дают 800 граммов хлеба, а кто на 125 процентов вытянет – кило хлеба и еще премблюдо – пирожок с картошкой.
Старые работают в хозлагобслуге: сторожами, истопниками, дворниками, дневальными по камерам, да и так, куда пошлют, вот теперь ягоды собирают по лесам. На этих работах, кто задание выполнит, хлеба дают 600 граммов. А еще есть ненаряженные, на которых работ не хватило. Те получают 400 граммов. Доходят, конечно. (Я не понял, куда доходят.) Кормят всех два раза: утром хлеб выдают и завтрак – кашу жидкую. Обед вечером, после работы: тут черпак супу или щей. Кто норму выполнит – второе блюдо дают: когда кашу, когда винегрет, когда картошку с куском рыбы.
– А вот вам совет мой: утром весь хлеб не съедайте. Оставьте кусочек да его с собой на работу возьмите, а то десять часов работать натощак ох как трудно. В середине-то дня так есть захочется, а вы тот хлебушек и покушаете. Хоть двести грамм, хоть сто съедите, а очень это приятно и полезно.
Как я сравню с тем, что раньше-то было, когда меня в 1932 году привезли, голод такой был! Не приведи господь, как жив остался! Днями хлеба не давали, а работать заставляли, и работа такая была: один яму копает, другой же ее засыпает потом. Это значит, чтобы чувствовали, что не к теще приехали на блины, а на тяжелое наказание. Урки людей ловили да ели. А сейчас хорошо живем. В 34-м порядок навели. Кормят достаточно, кто работает, я вот 600 грамм получаю и рад. Хлеб хороший пекут. А кто на политрежиме, те, как господа, – не работают, а едят хорошо.
Что такое политрежим, рассказать он не успел. Его отозвали. Я узнал об этом позднее.
Конец дня был ознаменован происшествием. Стоя у ограды, я услышал резкий гудок. Он повторился три раза. Затем по дороге промчались несколько конных стрелков. Стук копыт, пригнувшиеся фигуры вызвали ощущение тревоги. Через некоторое время над лесом взлетел самолет и повернул в сторону солнца, окруженного большим белым кругом.
– Буря будет, – сказал незаметно подошедший офеня, – как солнце в круге, так и буря ночью. Это самая верная здесь примета.
Офеня потрогал бородку и шепотком сказал:
– Побег обнаружен. Электростанция гудит – сигнал береговой охране дает, а самолет полетел море просматривать. Сейчас у нас проверка будет.
Нас проверяли и вечером, и ночью, и утром, пересчитывали, перекликали по «установочным данным» (фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок и т. д.). Днем нас повели под усиленной охраной в баню, и там мы узнали, что побег был из политизолятора и беглеца еще не нашли.
Это был знаменитый побег Павла Борейши, о котором потом говорили долгое время.
Рассказывали, что Борейша был высокий, крепкий парень, с доброй улыбкой и ясными глазами, воспитанный на героических традициях гражданской войны, активный комсомолец и зубастый рабкор.
Когда наступили голодные 30-е годы и толпы колхозников, спасаясь от голодной смерти, кинулись в Киев, где хлеб все же выдавали, хотя и по карточкам, Борейша стал переполняться горем народным.
Страдания справедливого Павла усугубила встреча с делегацией комсомола из Австрии. Борейша немного говорил по-немецки и был в группе контакта. Один из австрийских гостей дивился, что в Киеве так пусто в магазинах, а в Австрии и Германии советское масло и яйца продаются по демпинговым ценам, то есть значительно дешевле местных цен, разоряя местных торговцев, а дешевым украинским зерном кормят свиней.
Борейша впервые услышал это пружинистое слово «демпинг». Он тогда пошел к знакомому руководящему товарищу за разъяснениями, и тот разъяснил: «Для индустриализации нужна валюта. Любой ценой. Поэтому вывозим в Европу продукты. По дешевке. Потом сильными станем – все с них обратно сдерем. Без жертв мировую революцию не сделать».
Павлу полегчало, но тут его направили с агитбригадой в рейд по селам. Он не только видел брошенные хаты и трупы на дорогах, но и обезумевшую от голода колхозницу, съевшую своего двухлетнего ребенка.
Это был 32-й год. Борейша написал статью об увиденном «Людоедство и демпинговые цены». Статью, конечно, признали крамольной. Павла арестовали и приговорили к восьми годам. Он бежал из материкового лагеря в 34-м году, был вскоре пойман, получил добавку с отбыванием срока в Соловках.
Летом 1935 года он описал свою историю в заявлении на имя Сталина. Это заявление он давал читать многим в целях отработки текста, посылаемого на высочайшее имя. В результате его перевели в секретный изолятор на строгий режим.
Бежал Павел во время прогулки. Прогулочные дворики изоляторов походили на узкие ящики: дощатый забор высотой в три метра с колючей проволокой наверху отделял дворики от двора кремля. Над двадцатью четырьмя двориками был перекинут мостик, где ходил часовой. С мостика просматривались одновременно четыре-пять двориков, и, когда часовому надоедало ходить, большинство двориков оставалось без надзора. Прогулка летом длилась два часа. За это время Павел, находившийся в ближайшем от кремлевской стены дворике, сумел незаметно перелезть через забор, влезть на кремлевскую стену, спуститься со стороны Святого озера (там стена была пониже, имела много выступов) и добежать до леса.
Собаки напали на его след перед вечером и привели погоню к ночи на побережье. В море ни самолет, ни катера не обнаружили беглеца, а ночью начался шторм, бушевавший двое суток.
Борейшу нашли неделю спустя в маленькой бухточке на западном берегу острова рыбаки, разбиравшие выброшенный бурей лес. Павел был привязан к большому бревну. Штормом, шедшим с запада, его выбросило на берег и завалило плавником. Рассказывали, что у него был разбит череп и переломаны все кости.
Карантинная неделя на перпункте заканчивалась. Это была спокойная, безработная, но голодная неделя. Ежедневные проверки да медицинская комиссия по определению трудоспособности – вот и все беспокойство.
На голодный желудок хорошо думалось. Мысли были ясные, строгие, как и осенние утра. Вспоминалось многое из последних месяцев и из ранних детских лет.
С болью думалось о маме и папе и вспоминалось десятиминутное свидание перед отправкой. Две орущие и плачущие толпы, разделенные коридором из двойной решетки. С одной стороны, заключенные, с другой – родственники. Между решетками ходит тюремщик. Дрожащий от сдерживаемых слез подбородок папы и спокойно каменное лицо мамы с отчаянной тоской в глазах.
– Все будет хорошо, – кричал я. – Три года – срок маленький, я буду учиться и не потеряю времени! Я не испорчусь! Берегите себя! – перекрикивал я шум и плач прощающихся.
– Тебя били на допросах?
– Нет, мамочка!
– Будь честным!
– Буду, буду!
– Пиши, нам будет плохо без писем.
– Обязательно. Разрешают два письма в месяц.
– Ты вернешься раньше. Адвокат мне сказал, что детей в лагерь не посылают, ведь тебе только пятнадцать лет. Я назначена на прием к Вышинскому. Если он не поможет, я буду добиваться приема у Калинина и у Сталина.
– Мамочка, не надо. Тебя посадят! – в ужасе закричал я.
Вспоминая свидание, я еще на перпункте тщательно подготовил текст письма. Нам сказали, что письма разрешат отправлять после перевода в кремль. Размер письма – одна тетрадная страница. Текст должен быть таким разборчивым и осторожным, чтобы цензура не задержала.
Я очень хорошо помню это первое письмо, написанное так аккуратно, как я никогда не писал ни дома, ни в школе. Я писал, что здоров и мне здесь нравятся и природа, и старинные величественные постройки, упоминание о которых свидетельствовало, что я буду жить не в палатках и не в землянках.
Далее я писал, что умываюсь и чищу зубы два раза в день, а по утрам делаю гимнастику и обтираюсь. Сделал из старой рубашки три носовых платка. Буду продолжать учиться, чтобы по окончании срока сдать экзамены за среднюю школу, и просил как можно скорее выслать мне программы за 8—10-е классы, тетради, карандаши, циркуль, теплые вещи, лук, чеснок, сахар, черные сухари, сало, то есть никаких торгсинских излишеств.
Я полагал, что цензура не задержит такое деловое письмо, и самое главное, из этого письма дома поймут, что я здоров, полон энергии, надежды и хочу учиться.
На перпункте не было книг, газет, радио. Но был словоохотливый офеня – соловецкий старожил. Этот любознательный старичок узнал многое о Соловках. Даже читал журнал «Соловецкие острова», издаваемый культурно-воспитательной частью лагеря в 20-е годы «для внутреннего употребления». В журналах печатали стихи, очерки и даже романы с продолжениями. Авторами сих творений были заключенные.
История лагеря началась с 1920 года, когда приехал в Соловки большой начальник, член коллегии ВЧК Г.И. Бокий, закрыл монастырь, разогнал монахов и открыл первый советский концлагерь, который получил экзотическое название «СЛОН», что расшифровывалось: «Соловецкие лагеря особого назначения».
Первые сотни заключенных являлись в основном крупными чиновниками империи, офицерами, аристократами, не выступавшими активно против Советской власти (активных расстреливали). Эту компанию позднее пополнили представители революционных партий, не поладивших с большевиками. Затем привозили нэпманов.
В конце 20-х годов идиллическая обстановка в лагере, обусловленная преобладанием интеллигенции и аристократии, закончилась. Стали все больше привозить уголовников (урок), которые терроризировали «политиков» и «беляков». Ужесточился режим. Заставляли работать, невзирая на возраст и болезни. Ухудшилось питание.
Соловецкие руководители включили в низовые начальники много «бытовиков» (уголовники, совершившие «бытовые» преступления: кражу, изнасилование, хулиганство и т. п.). Вот эти «начальники» свирепствовали вовсю. Заставляли переливать воду из одной проруби в другую, а потом измеряли уровень, обвиняли в невыполнении нормы и сажали на штрафной паек, летом сажали в муравьиные кучи, привязывали на ночь к столбам на корм комарам и т. п. Даже Горький приезжал с комиссией по расследованию, но помог мало.
После 1933 года положение изменилось. Соловки включили в систему Беломорско-Балтийского комбината (ББК НКВД), владения которого распространялись от Петрозаводска до Мурманска. Главной задачей этого «комбината», насчитывающего более 100 тысяч заключенных, было строительство, а затем эксплуатация канала, соединяющего с Белым морем Онежское озеро, а следовательно, и Балтийское море. В лагпунктах ББК заготавливали лес, строили дороги, разрабатывали недра.
Хотя Соловки с этих пор считались 8-м отделением ББК и формально подчинялись начальству ББК (Фирину и Френкелю), осталось и непосредственное подчинение Москве, особенно по части секретных изоляторов.
Из восемнадцати человек, с которыми я встретился на перпункте в Бутырках и совершил путешествие из Москвы в Соловки, большинство были люди пожилые. Крупные инженеры, профессора, иностранные специалисты. Их специально привезли для работы в проектном бюро. Ближе по возрасту был молодой инженер Валя Тверитинов (срок – тоже три года), который обещал мне помочь подготовиться за среднюю школу.
Еще в тюрьме я принял железное решение: каждый день я должен что-то закладывать в голову и в сердце. Последние дни пребывания на перпункте я изучал с инженером Питкевичем геометрию, инженер Шведов, недавно вернувшийся из эмиграции, восхищал рассказами о Париже. Авиаконструктор Павел Альбертович Ивенсен рассказывал о межпланетных ракетах, первые из которых уже были испытаны под Москвой Цандером и Королевым.
Наконец нас перевели в кремль и распределили по колоннам. Колонна, по лагерной терминологии того времени, не архитектурная деталь, а подразделение лагпункта. В лагпункте «Кремль» в конце 1935 года было три колонны. Я и отец Василий попали во вторую колонну, в самую плохую камеру № 11.
В канцелярии второй колонны объявили, что завтра подъем в 6 часов 30 минут, в 7 часов 30 минут разнарядка, то есть распределение на работы. Сегодня день свободный. Сдав заготовленное еще на перпункте письмо домой, я помчался осматривать кремль.
Чуден был кремль, освещенный слабым сентябрьским солнышком. Безлюдны чисто подметенные дворы, сияют беленые стены корпусов, прогуливаются важные большие чайки (особый соловецкий вид), на клумбах еще цветут астры. В сквере между управлением лагпункта «Кремль» (бывший настоятельский корпус) и громадой Преображенского собора желтели старые березы и липы, краснела рябина, а над всеми деревьями и корпусами вздымался огромный серебристый тополь.
Широкие вымощенные гранитными плитами тротуары пересекали сквер по диагоналям. Навстречу друг другу шли два хорошо одетых старика с большими бородами.
– Как почивали, Ваше превосходительство?
– Благодарю, Ваше преосвященство, хорошо почивал! – обменялись старики столь необычным в советское время приветствием.
Все было странно, призрачно. Я был в прошлом веке!
Целый день я бродил по безлюдным, безмолвным площадям и закоулкам кремля, карабкался на галереи, соединяющие церкви, поднимался по деревянным шатким лесенкам, ведущим к каким-то замурованным нишам. Подходил к огромным башням и трогал их подножие – огромные, мертвенно холодные, замшелые валуны.
Несколько корпусов выделялись щитами, закрывавшими окна. Эти ряды слепых окон были страшны. Я догадался: тут секретные изоляторы. Глухие заборы с колючей проволокой наверху отделяли корпуса СИЗО от кремлевских дворов. Я представил, как тоскливо годами не видеть неба, солнца томящимся в темных камерах.
Покорила мое сердце мраморная часовенка для водосвятия в виде беседки в сквере среди лип и рябин. По обеим сторонам гранитных ступеней стояли две старинные пушки на лафетах. Я с удовольствием сел на лафет, облокотившись о ствол орудия.
В середине часовня-беседка была украшена странными пестрыми рисунками. Мне объяснили, что художник-кубист хотел средствами изобразительного искусства передать содержание написанного на своде лозунга: «Кто духом бодр и сердцем молод, в руки книги, серп и молот!» Лозунг этот поразил воображение и прочно засел в памяти наряду с другими нелепостями лагерной пропаганды.
Обилие лозунгов – большинство в стихах – удивляло. Сначала они резали глаз, потом не воспринимались и не нарушали обаяния величественной старины. Веселенький лозунг висел в громадной столовой, бывшей монастырской трапезной: «Чтобы другим ты снова стал, тебя трудлаг перековал! Перевернул земли ты груды и ешь заслуженно премблюдо!» Над главными воротами кремля, из которых выводили на работу, лозунг гласил: «Через труд – к освобождению!» Этот лозунг был самым распространенным, и я потом его встречал в самых разных типах трудовых лагерей, даже в Освенциме, где он тоже висел над воротами и звучал по-немецки: «Arbeit macht frei!»
Над входом в библиотеку лозунгов не было. Библиотека! Книги! На третий этаж я взлетел единым духом и вошел в читальню. Обстановка была обычная для читальни и потому поразительная для лагеря. За большими столами сидели и читали газеты и журналы опрятно одетые преимущественно пожилые мужчины. Было тихо, спокойно. Я прошел в дверь с надписью «Абонемент». За барьерами стояли стеллажи с книгами, я смотрел на них с жадностью.
Записаться мне в этот день не пришлось, так как была нужна справка от воспитателя колонны.
Вторая колонна, 11-я камера, бывшая чоботная и портная палата монастыря, – огромное сводчатое помещение, построенное в 1642 году, – мое обиталище. В камере стоят три ряда двухэтажных нар, называемых вагонками, которые образуют много купе, как в железнодорожном вагоне третьего класса, один общий стол, несколько табуреток и скамеек. У некоторых старожилов собственные полочки, шкафчики, скамеечки. Кое-где над изголовьем висят фотографии.
На нарах копошатся, сидят, лежат серые стриженые люди. Здесь живут 80 заключенных, надолго или навсегда оторванных от родных и близких, от привычных условий, лишенных многих благ жизни. Это в основном старики, раздражительные или равнодушно отупевшие. Они непригодны для тяжелой физической работы, не имеют дефицитных специальностей и предназначены для так называемых общих работ – куда пошлют.
В камере преобладают гуманитарии: литераторы, историки, латинисты, доктора философии из Праги и Варшавы, журналисты, партийные работники. Представлены попы и офицеры царской и белой армий, переквалифицировавшиеся в конторских служащих.
Мое спальное место оказалось на втором этаже у окна. Ближайшие соседи мне не понравились.
Рядом лежал грязный, плешивый старик с красным носом. Он был молчалив, неопрятен, очень прожорлив и при этом «ненаряженный», то есть, по лагерной терминологии, безработный, а следовательно, получал паек – 400 граммов хлеба и в обед только первое блюдо: так звучно именовалась баланда, где на пол-литра воды приходилось несколько граммов крупы и кусочков картофеля. Поэтому он бродил по кремлю в поисках объедков с большим закопченным котелком. Вечером этот котелок висел на гвоздике, вбитом в свод потолка над изголовьем, что значило: хозяин спит.
Первые дни мы не общались. Единственные слова, произносимые им, были: «Простите великодушно». Так говорил он всякий раз, тяжело взбираясь на второй этаж нар. Я отгородился от него чемоданом, чтобы во сне он не дышал на меня и не задевал своим грязным одеялом.
В один из выходных дней я читал биографию Ломоносова, написанную Меншуткиным.
– Простите великодушно, – вдруг сказал сосед из-за чемодана, – что это вы читаете?
Я ответил.
– Меншуткин был учителем моего кузена, – задумчиво произнес сосед.
– А кто ваш кузен? – скорее из вежливости, чем из интереса, спросил я.
– Он академик и был в чести у Советов. Слышал, что умер года два или три уже. Мы с Меншуткиным познакомились в Неаполе еще в 1900 году.
И он начал рассказывать о путешествии по югу Франции, Италии, Египту. Я слушал как зачарованный: образная речь, интересные обобщения и сравнения, яркие описания природы и быта тех стран показали высокую культуру, обширные знания.
– Это было свадебное путешествие. – Он помолчал и добавил: – Моя жена в ссылке, я от нее не имею вестей уже два года.
– А дети ваши?
– Наши дети погибли в 1918 году – тиф. Я последний из нашей фамилии. Да, простите великодушно, я вам не представился: князь Гедройц Альфред Казимирович, полковник лейб-гвардии гусарского полка. Род наш происходит от Ягеллонов. Знаете Ягелло, великого князя Литовского и короля Польского, разгромившего тевтонов под Грюнвальдом? А жена моя – урожденная княжна Паскевич, правнучка Ивана Федоровича, фельдмаршала, у которого в бригаде служил в юности Николай I.
Старик вдруг замолчал, снял с гвоздика котелок и начал молча хлебать суп из голов ржавой селедки.
Вот таков мой сосед справа. Последний из Ягеллонов, опустившийся, добитый, доживающий на четвереньках.
Сосед по нарам слева через проход на моем этаже – долговязый, худой, голубоглазый, лет тридцати – тридцати трех. Имеет собственный тулуп, носит его на дворе нараспашку, а в камере завертывается в него, когда спит. Похож на раскольника, в лице что-то исступленное. Такой и на костре будет двуперстие вздымать. Знакомство состоялось с ним при посредстве книги Челпанова «Введение в философию» – популярнейшей в России книги в начале века.
– Вы, Юра, после Челпанова возьмитесь за Гегеля. Для начала прочитайте «Историю философии», а затем «Философию истории», – порекомендовал «раскольник», увидев, что я конспектирую Челпанова.
Мы разговорились. Михаил Петрович Бурков, студент Московского, а затем Ленинградского университета, был добрейший человек, готовый поделиться, помочь, посочувствовать. При этом был очень вспыльчив и несдержан в гневе, особенно с начальниками любых рангов. За это часто сидел в КУРе (колонна усиленного режима). Преимущественно «ненаряженный», поэтому всегда голодный, но ни от кого не принимающий «доедков».
Сосед снизу, подо мной, Татулин, коммунист с 1912 года, типографский наборщик из Ленинграда, не любит Буркова. «Белая кость, интеллигент», – ворчит он.
– Вчера мне на кухне котлы мыть довелось, дак я два котелка остатков налил, пришел в камеру, ему хотел налить, а он мне: «Благодарю вас, мне не требуется». Хотел ему, беляку, в морду выплеснуть, да пожалел баланды, сменял на десять спичек…
Сидит Татулин с 1934 года по статье 58, пункты 10, 11: что-то не так сказал на партсобрании.
Михаил Петрович не «беляк», но отец его был кадровый офицер. Генерал-майор Бурков командовал отдельной бригадой в Казани в мирное время, что обозначало на жаргоне того времени период до мировой войны и революции.
Бурков очень любил стихи, много знал на память, хорошо читал – без пафоса и завывания, а как-то просто в разговорной манере с оттенком грусти, а иногда с удивлением. До ареста он жил неустроенно. Из МГУ его выгнали из-за соцпроисхождения. Помощи от родных не было (или родных к тому времени не было – он не говорил об этом). Работал повсюду: грузчиком, геодезистом в экспедиции, счетоводом, рабочим в депо. Из депо поступил в Ленинградский университет, но не успел окончить филологический факультет, как на его пути встретилась собачка. Бурков шел по Дворцовой набережной и жевал теплый еще пирог с требухой (такая роскошь в 1934 году уже стала продаваться в ларьках Ленинграда). Он видел, как на дорогу выбежала хромоногая собачка, как переехала ее большая черная машина, идущая ему навстречу. Михаил Петрович очень любил животных, жалобный визг раздавленной собачки привел его в ярость. Он швырнул недоеденный пирог в машину. Жирная требуха расползлась на ветровом стекле. Машина остановилась, Буркова вдруг окружили, схватили, посадили в другую машину, которая шла следом. Был декабрь 34-го года, Михаилу Петровичу угрожал расстрел, но обошлось десятью годами (статья 58, пункт 8). Внизу под Бурковым было место японца Катаоки. Это был классический японец: невысокий, коренастый, большеголовый, с крупными зубами, выступающими из широкого рта. Карикатура на японского милитариста, да и только. Он работал парикмахером, был весьма опрятен и ни с кем не дружил. Ко мне он проявил внимательность и, расспросив по обычной схеме (статья, срок, откуда, сколько лет), сказал: «Совсем марчишка» (в японском языке нет звука «л») и разрешил сидеть на его постели. О Катаоке говорили, что он японский шпион, офицер. Рассказывали всякие чудеса о его ловкости и силе. Как-то его за провинность посадили в КУР с урками. Начальство рассчитывало, что его там изобьют, однако он избил пять или шесть урок (и не простых, а соловецких), и, когда дверь открыли, Катаока будто бы сказал: «Заборери хуриганы, режат и прачут». Хулиганы, действительно, лежали на полу и жалобно стонали.
Несколько первых дней после перевода в кремль я ремонтировал дорогу в порт. Работали под конвоем, руководил Готард Фердинандович Пауксер, швед по национальности. Он заведовал озеленительными работами в Москве и сел за растрату. В лагере находился на привилегированном положении. Высокий, стройный, в сером красивом плаще, в золотых очках, с папиросой в золотых зубах, с тросточкой в руке, он обходил работы, брезгливо сторонясь заляпанных грязью людей, и отрывисто покрикивал: «Работать, работать!»
Какая огромная разница была между ним и нами. Я смотрел на него и думал, что даже в такой однородно-бесправной массе заключенных могут быть бесконечные различия в положении, что неравенство – основная особенность этого странного и страшного мира. Я освобождался от этого ощущения только тогда, когда входил в читальный зал. Как бы я ни уставал, после обеда я два-три часа проводил в библиотеке. Для регулярных занятий у меня не хватало пороху, да и программы не были еще присланы. В первые дни я читал газеты, брал журналы.
В один их этих дней Ивенсен тоже зашел в читальню и стал быстро просматривать подшивки летних газет. Вдруг он вскочил, подошел ко мне с развернутой подшивкой «Комсомолки» и показал фотоснимок планера. Под снимком было написано: «Планер „Чайка“ конструкции П.А. Ивенсена». В статье-отчете о соревнованиях в Коктебеле было написано, что «Чайка» заняла первое место. Павел Альбертович светился от счастья. Планеризм – его песня, как и его друга Королева, будущего генерального конструктора космических ракет, который будет арестован в 38-м году «за продажу чертежей в Германию», но доживет до реабилитации и всемирной славы.
В библиотеке выписывалось более шестидесяти названий газет и около сорока названий журналов, многие из которых я раньше и не видывал. Мне хотелось со всеми познакомиться. Читальным залом заведовал краснощекий старик с рыжей бородой – самарский архиепископ Петр Руднев (в миру Николай Николаевич), а кабинетом журналов и технической литературы – сотрудник Наркоминдела Веригин, худой, бледный, с вкрадчивыми манерами и глуховатым, тихим голосом. Я удивлял и того и другого своими просьбами:
– Дайте мне «Вапаус» и «Дер Эмес», – просил я Руднева.
– Ты что, умеешь читать по-фински и по-еврейски? – спрашивал удивленный архипастырь.
– Я хочу посмотреть, как они выглядят, – говорил я смущаясь.
– Сергей Кириллович, выдайте мне журнал «Мировое хозяйство и мировая политика» и последний номер «Сорены» («Социалистическая реконструкция и наука»), – просил я Веригина.
Тот в отличие от Руднева никогда не удивлялся и, давая журналы, вежливо рекомендовал:
– В «Мировом хозяйстве» интересная статья Варги, а в «Сорене» прочитайте статью Серебровского.
Я листал журналы, пробегал статьи о положении в Абиссинии и политике Муссолини в арабских странах, об экономической политике Рузвельта и успехах Народного фронта во Франции. Большие статьи я чередовал с заметками и карикатурами в журнале «За рубежом». Было интересно. В память врезывались события, деятели, страны. На карикатурах Иден в виде тонущего рыбака тянулся к сладкоголосой Лорелее – Гитлеру, сидящему на вершине Рейнской скалы – и причесывающему чуб. Сарро, показывая чудеса дипломатической акробатики, скакал сразу на двух лошадях, генерал Араки пел с Герингом дуэт:
– Wir lieben vereint, – Wir hassen vereint…[2]Литвинов изобличал в Лиге Наций «ось Берлин – Рим» и ее представителей – Риббентропа и Гранди, представленных Борисом Ефимовым в виде сиамских близнецов. Со страниц веяло предгрозовой напряженностью, охватывающей, казалось, весь мир.
После четырех дней работы на строительстве дороги меня послали в бригаду ягодников. Сбор ягод считался одним из лучших видов общих работ. Ходить по лесу без конвоя и собирать ягоды – удовольствие какое! Но когда моросит холодный дождь и надо ползать десять часов среди мокрых кустов, чтобы набрать восемь килограммов черники, когда ягоды вываливаются из мокрых, озябших пальцев, а через намокшую телогрейку по спине противно ползут струйки дождя, тогда все отвратительно. Даже Байзель-Барский, журналист, член какой-то зарубежной компартии, большой юморист, не может рассмешить промокших ягодников, восклицая: «Я очень зол! Я сейчас съем ягоду!», намекая на генерального комиссара госбезопасности Наркомвнудела Генриха Григорьевича Ягоду. Проклятые ягоды не оставляют ни днем ни ночью: как только закрываешь глаза, первый сон – сбор ягод.
Норму мы не выполняли и получали 400 граммов хлеба и обед без второго блюда. Я здорово похудел, хотя и ел ягоды, и был, как говорил японец, «зерено-синий».
В бригаде ягодников, кроме меня, все были старики, в основном литераторы и священники. Наиболее интересным был Петр Павлович Сивов, окончивший два класса сельской школы, коренастый, седоватый мужичок с хитрыми глазками. Ягод он набирал больше всех и в перерывах говорил только на отвлеченные темы, проявляя значительную начитанность, изрекая весьма оригинальные суждения.
Как-то раз, усевшись на ствол упавшей елки и аккуратно разложив на клеенке кусок хлеба, баночку с солью, бутылочку с водой и миску с ягодами, он сказал:
– Не уважаю я Александра II. Добрый был царь, но вред народу принес великий. Нельзя было сразу отменять крепостное право: все зло от этого.
Интеллигенты всполошились и напали на мужика. Начался диспут. Свой тезис Сивов защищал примерно так:
– Мужик-то он разный. Из ста мужиков – треть лентяев, треть неумеек егозливых, треть старателей неразворотливых, а умников да хозяев разворотливых на сотню только три-четыре наберется. Вот и надо было сначала умных и хозяйственных освобождать, потом старателей, а уж потом, когда поумнеют да от лени избавятся, и другие трети освобождать. Интеллигенция тоже виновата: со своей колокольни на свободу смотрит. Думают, умники, что мужику нужна такая же свобода, как и им. А свобода-то она и для мужиков тоже разная, у каждого своя. Одному свобода на печи спать день-деньской, другому свобода хозяйство благоустраивать без помех, третьему свобода – это возможность отбирать да захватывать, что у кого заработано добра, эта свобода самая опасная. Вот как мужиков-то освободили, пьянство началось поголовное, разбой, леность, безобразие: хочешь работай, хочешь не работай. Заставлять некому – свободу дали. Пей да гуляй. Отец сказывал про это. Он сам крепостной был, но не одобрял царя за такое освобождение. Вот и сейчас-то умных мужиков власти извели, и добро у них отобранное лентяи извели…
Тут священник Правдолюбов, человек осторожный, прервал диспут и укорил Сивова за многоглаголение.
Самый противный звук – это когда в предрассветной мгле гудит электростанция. Нет сил открыть глаза, но надо быстро одеться и бежать в столовую, получать жиденькую кашку иногда со следами мяса. Для опоздавших кашу в котле разводят водой, а кто получает в первых десятках, сразу после снятия пробы начальством, бывает, и кусочек мяса попадается.
Ходили легенды, что в прошлом году украинскому академику Рудницкому попал кусок граммов пятьдесят настоящего мяса. Он тогда был сторожем, его сменили как раз перед открытием столовой, и получал он первый. Вот старик был рад!
В столовой народу мало. Холодно и темно, едва виден лозунг над раздаточным окном: «Перевернул земли ты груды и ешь заслуженно премблюдо!»
Пока стоял в очереди, вспомнил сон: был дома и помогал маме открывать первую раму. Очень я любил, когда с легким треском распахивается окно первый раз после зимы.
Весна! Выставляется первая рама — И в комнату шум ворвался, И благовест ближнего храма, И говор народа, и стук колеса.[3]Приятный сон. Солнечно так было; может быть, сегодня будет что-нибудь хорошее, может, письмо придет или мясо в каше попадется.
Подошла моя очередь, повар опрокинул в миску черпак с жидкой кашкой, и что-то большое, тяжелое шлепнулось в миску.
– Мясо! – вырвалось у меня.
Повар ахнул, потянул к себе миску.
– Неразрезанный кусок, – буркнул он.
– Не надо, – прошептал я.
У повара шла борьба между лучшим и хорошим.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
– Пятнадцать.
– Недавно привезли?
– Да.
– Пятьдесят восьмая?
– Да.
– Ну бери. Твое счастье.
Я шел, как говорят, не чуя ног. В куске было граммов сто, а может и больше, почти месячная норма! Определенно у меня начиналась полоса удач. В камере я попросил у соседа нож, разрезал кусок и с ужасом увидел, что это комок прелой ячневой крупы, загаженной крысами.
В тот же день я простудился и пошел в медпункт. В тот день прием вела доктор Владимира Антоновна Крушельницкая. Хрупкая фигура в белом халате, нежное одухотворенное лицо – белая лилия среди бурьяна, да и только. Она была из знаменитой семьи украинских просветителей Крушельницких. Ее отец Антон Владиславович, известный украинский писатель, и брат, историк и писатель, сидели в политизоляторе. Саломея Крушельницкая – ее тетя, певица с мировым именем – пела тогда в Венской опере и гастролировала по всему миру.
Доктор Крушельницкая отнеслась ко мне очень сердечно.
– Юра, вы простужены. Я освобожу вас на два дня от работы. Но что же дальше? Вы так ослабли, наступает зима. Вам надо работать под крышей. Я поговорю с заведующим лазаретом Титовым, может быть, он пристроит вас на работу в лазарете.
Доктор Леонид Тимофеевич Титов был известный в Москве детский врач и, кроме того, староста французской католической церкви, расположенной около Лубянки. В Соловках он имел большой вес, так как успешно лечил детей соловецкого начальства и умело правил лазаретом.
Лазарет был расположен в здании иконописной палаты, потом перестроенной для монастырской тюрьмы. После закрытия тюрьмы, при Александре II, это здание надстроили и приспособили для лазарета, где лечили монахов и богомольцев.
Я пришел на прием с великим трепетом. В прихожей стояли огромные напольные часы. Рядом в кресле сидел могучий старик с окладистой седой бородой – привратник. Я назвал себя. Привратник нажал кнопку, и через несколько минут по лестнице сбежал полный улыбающийся старичок с седой эспаньолкой и усиками. Он сказал привратнику что-то по-английски, и затем его добрые грустные глаза обратились на меня. Это и был Титов.
Беседовал со мной Леонид Тимофеевич больше часа. Кроме обычных вопросов (статья, срок и т. д.), он спрашивал, что я люблю читать, был ли в Третьяковской галерее и Музее изящных искусств, как учился в школе, какие оперы написал Глинка и др. Он был приятно удивлен, что я люблю Тютчева и Блока. В заключение мне была обещана должность уборщика в хирургическом отделении. Работа трудная и даже неприятная, как сказал Титов, но в тепле и к тому же в обед и ужин в лазарете можно есть непорционную еду, а на официальный паек уборщик получает 600 граммов хлеба и обед по второй категории, то есть со вторым блюдом на обед. Я сразу же согласился.
За эти дни я еще более ослаб. Температура держалась. Крушельницкая предложила освобождение от работы, и я много спал днем, но есть хотелось постоянно. Со дня отправки письма прошло уже 14 дней, и можно было ждать посылку.
Утром по пути в столовую я прочитал вывешенный под аркой список счастливцев, которым прибыли в субботу посылки, и с радостью увидел: в списке был В.Ф. Тверитинов, с которым вместе ехали из Москвы, вместе ели мои продукты, щедро переданные мне родителями перед отправкой на этап, вместе собирались заниматься математикой. Он был старше меня всего на десять лет, и все его звали Валей.
Валя работал уже с неделю в проектно-сметном бюро (ПСБ) в должности техника, и, хотя получал килограмм хлеба и премблюдо, он еще не наелся. При встрече он как-то сказал, что хочет подарить мне целую пайку, но пока еще не может отложить в запас ни кусочка. «Вот если бы посылка пришла…» – многозначительно говорил он.
И вот посылка ему пришла! Днем она будет получена, и Валя даст мне хлеба, и колбасы, и сахару, и, может быть, даже кусочек сала. Я медленно ел воскресный завтрак – жидкую овсяную кашу и представлял кусочек твердой копченой колбасы, пахнущей дымком, темно-коричневый срез с желтыми кусочками сала. Колбасы он даст мне, наверно, граммов сто, сахару не меньше десяти кусочков – можно будет выпить три-четыре стакана сладкого чаю с колбасой.
Я хотел, было, сразу же помчаться к Вале, но усовестился и пошел только перед обедом. Валя укладывал что-то в тумбочку. Пахло табаком и… колбасой – той самой копченой колбасой, которая грезилась мне. Увидев меня, Валя заметно смутился и быстро захлопнул тумбочку. Мне тоже стало очень неловко, и я почувствовал, что краснею.
– Знаешь, Юра, я посылку получил, только мне ничего, кроме табака да теплых вещей, не прислали, – сказал Валя, смотря в сторону и наматывая себе на шею пушистый шарф.
– Еще свитер прислали, носки, варежки. – Он поднял подушку и вынул синий свитер. Из свитера выкатилось большое темно-красное яблоко.
– Да, еще яблоки послали. Хочешь, я тебе это дам? – Валя протянул мне яблоко.
– Нет, не надо. Что ты! Ешь сам, – сказал я, не поднимая глаз.
– Съедим его вместе! – решительно сказал Валя, отрезая ножом кусок яблока. Я покачал головой и вышел из камеры. Сказать что-либо я был не в силах.
КОВЧЕГ
Держать его в тягчайших монастырских трудах, скованным три года под крепким присмотром.
Ведомости соловецких колодников. 1730 годВ соловецком лазарете чистота и порядок были близки к образцовым. Пол во всех помещениях мыли три раза в день. Столько же раз очищались плевательницы и места общего пользования, протирались подоконники, тумбочки, дверные ручки и т. д. Это все функции уборщиков. Кроме того, надлежало топить печи и помогать санитарам раздавать завтрак, обед и ужин, а также мыть посуду. Рабочий день начинается в 7 часов утра и заканчивается в 8 часов вечера, то есть продолжается практически без перерыва тринадцать часов.
Такие разъяснения я получил от своего непосредственного начальника-санитара бородатого студента Юры Гофмана в первый же час, вступив в должность уборщика хирургического отделения. Отделение занимало весь второй этаж и кроме пяти палат включало перевязочную, операционную, три коридора и уголок отдыха, а также широкую лестницу, спускавшуюся в прихожую, где сидел бородатый привратник, он же Иван Иванович Вильсон, он же сэр Джон, главный представитель в СССР известной по процессу начала 30-х годов английской фирмы «Метро-Виккерс».
Юра Гофман с немецкой обстоятельностью показал мне, как на половую щетку надевается тряпка и как она смачивается в ведре; через сколько метров ее надо снимать и прополаскивать. Затем показал различные тряпки для разных помещений и разных объектов. Одна для дверных ручек, другая для прикроватных тумбочек и т. п. В заключение он предупредил, что начальник санчасти нередко определяет качество уборки при помощи своего носового платка. А профессор Ошман и того придирчивей.
Я с ужасом смотрел на сотни квадратных метров сверкающего крашеного ярко-желтого пола, и мне они казались обширными, как городская площадь. Мой предшественник, крепкий мужик, лежал в этом же отделении с приступом аппендицита. Он сочувственно покивал мне и в утешение сказал, что сегодня он в палате сам протрет стол и крышки тумбочек.
Я стал мыть полы с соблюдением всех правил, но до завтрака вымыл только лестницу и один коридор. Затем надо было мыть руки, переодевать халат и идти на кухню с санитаром за завтраком. После раздачи завтрака Гофман сказал, что я ужасно копаюсь, вышел из графика, скоро будет обход, а пол не мыт, плевательницы полны и т. д. Я занялся плевательницами, урнами, затем, задыхаясь от спешки, вымыл большую палату для заключенных. Юра Гофман вымыл посуду и прибрал перевязочную. На счастье, день был неоперационный, а из четырех спецпалат занята только одна, где лежали какие-то вольные. Когда начался обход, я домывал последний коридор у спецпалат. Утренняя уборка заняла больше трех часов. При этом мне помогали. Совершенно ослабший, я сидел в уголке отдыха и смотрел на свинцовые облака, сеявшие первый снег. До обеда надо было протереть еще 20 подоконников, много дверных ручек и несколько шкафов.
После раздачи обеда Гофман завел меня за ширму в коридоре. На столе стояла полная тарелка мясного красного борща, кусок хлеба и одна мясная котлета.
– Ешь, а то свалишься, – сказал Гофман. Я принялся за борщ, такой вкусный, такой домашний… Доев борщ, я потянулся к котлете, но вспомнил, что порционные блюда есть нельзя, и отдернул руку.
– Ешь, это тебе стрелок отдал. Ему нельзя. У него завтра операция.
И котлета была великолепная.
– Хороший у вас повар, – благодарно сказал я.
– Да, Алексей Иванович – повар классный! Раньше у Льва Давидовича (Троцкого) поварил, а до того у генерала Крымова, – сказал Гофман. – Язва желудка у него, Леонид Тимофеевич лечит – вот он и старается.
После обеда, во время мертвого часа, опять мытье пола, плевательниц, тумбочек. После раздачи ужина все повторилось снова. Закончился мой первый день уборщика часов в десять, и, как я добрался до камеры и вполз на нары, я не помню. Только утром я понял, что допустил ужасную оплошность. Я был так задерган днем, что забыл получить лагерный обед! И талон пропал, а я бы мог его отдать соседу…
Прошло несколько дней. Я написал домой, что работаю в лазарете и мне тепло, и сытно, и легко, хотя мне было очень трудно. Я уже каким-то чудом справлялся с обязанностями за счет улучшения питания и некоторой рационализации. Я прибил на щетку планку, в два раза расширявшую полосу захвата тряпки, и мыл все коридоры «широкозахватной» шваброй, а обычной, узкой, – в палатах и лестницу. Дверные ручки мыл в ватных рукавицах (их давали сторожам), смоченных в растворе аммиака, а плевательницы очищал в резиновых перчатках и потом «купал» в баке с кипятком. Гофман одобрял мою работу, но я чувствовал, что долго не протяну.
Первое письмо из дому очень подбодрило меня. Мое письмо получено! Мама писала, что это первый радостный день за все ужасные месяцы. Мне выслана посылка и подготавливается вторая, где будут программы за 8—10-е классы.
Однажды в разгар поломойства меня остановил Леонид Тимофеевич. Он весьма похвалил меня за старательность и изобретательность, но сказал, что больше не может видеть, как я надрываюсь. Потеребив эспаньолку, он предложил место санитара на третьем этаже, в терапевтическом отделении. Я очень обрадовался, но Леонид Тимофеевич грустно произнес:
– Физически там легче, но опаснее: во-первых, палата туберкулезников, во-вторых, камеры для душевнобольных.
– Мы думаем, Юра, как лучше устроить вас, – сказал Леонид Тимофеевич на прощание.
И вот я санитар. Это работа сменная. Одну неделю дежурство днем, другую – ночью. Без выходных дней по 12 часов в сутки. Основные обязанности: раздача питания и лекарств, измерение температуры, исполнение несложных процедур (горчичники, банки, клизмы). Мой сменный санитар – спокойный, вежливый молодой поляк Дудкевич из Львова. Учился на медицинском факультете (как потом оказалось, он член Коммунистической партии Польши). Уборщик – громадный мрачный мужик, лет сорока, Лемпинен (не то финн, не то эстонец), малограмотный, но свое дело знает. Терапевтическое отделение меньше хирургического, но имеет трех психических больных, которых обслуживает только Лемпинен. Поэтому он находится на этаже круглые сутки и ночью спит в коридоре за ширмой на раскладушке. Заведующий отделением профессор Удовенко из Киева, консультанты – профессор Тюрк (терапевт) и профессор Коротнев (кажется, невропатолог).
Первую неделю я был в дневной смене и, хотя уставал, но это было несравнимо легче, чем работа уборщика. Лемпинен был исполнителен, никогда не начинал разговора, но на вопросы отвечал, хотя не всегда понятно. Я в первый же день с ужасом увидел, что он доедает то, что остается на тарелках больных туберкулезом (у них был плохой аппетит). На мой вопрос, знает ли он, что это опасно, Лемпинен отвечал:
– Мало есть хуже чахотка.
А когда я спросил, кто сидит в психкамерах, он пробурчал:
– Одна человека – собака, другая – человека кушал, еще другая – нет. Спрашивать нельзя!
Санитар Дудкевич в конце недели сказал, что в одной камере для психов – людоедка Харитина, в другой – бывший офицер Телегин, а третья пока пустая: пациента отправили в политизолятор, фамилия неизвестна.
За неделю я перезнакомился со всеми больными, из которых мне особенно запомнились туберкулезник украинский писатель Плужник и Борис Вахтин из Ростова, бывший краском, как он сам себя называл, муж Веры Пановой. Она рассказывает о нем в «Огоньке», №11, за 1988 год, в публикации «О моей жизни, книгах и читателях». Плужник расспрашивал меня, сочувствовал, но утверждал, что если я не умру и не испорчусь, то мне эти три года дадут очень много. Вахтин после расспросов мрачно сказал:
– От плеча до бедра раскроить за это. Я растерялся, но он еще более мрачно буркнул:
– Не тебя.
В день окончания моей дневной смены я получил первую посылку. Она задержалась, так как более недели море штормило и пароходик не ходил. Получение посылки – интересная процедура. Список вывешивается под аркой, ведущей из первого во второй двор. За посылками надо идти с мешками, мисками и т. п., так как ящики и вся тара изымаются: консервы вскрываются, с конфет сдираются обертки, от папирос отрываются мундштуки, одеколон выливается. Все это – во избежание передачи нелегального и запрещенного.
Вскрытие ящиков производит заведующий почтово-посылочной экспедицией, бывший директор «Интуриста», Месхи, полный, брюзгливый грузин, «27-й бакинский комиссар», как называл он себя до ареста. Сидит он не по 58-й статье, а за бытовое разложение и растрату. О показательном процессе писали газеты в 33-м году. Он длился три месяца, так как были сотни свидетельниц – работниц «Интуриста» (говорят, в гареме Месхи было более трехсот женщин).
Присутствует при выдаче посылок цензор Волчок: узкое лицо, тонкие губы, злой, колючий взгляд. Он бывший комиссар дивизии. Сидит за воинское преступление. И Месхи, и Волчок – привилегированные заключенные. Живут за кремлем в доме с вольнонаемными, имеют хорошие пайки, принадлежат к лагерному начальству.
В процессе выдачи посылок – волнения, просьбы, вопли. Кому-то послали пирог, а цензор его ломает на мелкие куски; кто-то собирает высыпанные на стол сухофрукты. Моя посылка была собрана точно по моей просьбе: большие куски сала и масла (цензор режет их только пополам), пиленый сахар, чеснок, лук, чай и сухари высыпает в мои мешочки. Шерстяные вещи, карандаши, конверты, тетради отдаются без задержек.
Завтра я выхожу на ночное дежурство, а сегодня из посылочных продуктов я устраиваю чай для соседей. Соседи деликатно отказываются. Я упрашиваю. В спор вступает Катаока. Он молча отрезает каждому по тонкому ломтику сала, выдает по четыре кусочка сахара и по сухарю, остальное убирает в мою коробку, затем разливает по кружкам чай, кланяется по-японски и говорит: «Спасиба, зераем счастя».
Ночная смена в лазарете. Уже дан отбой. Палаты затихли. Лемпинен хорошо натопил и спит за ширмой. Печи монастырской кладки действуют по принципу: «фунт дров – пуд жару». Топки печек устроены в глубоких нишах, а ниши закрыты дверцами. За дверцами лежат на подсушке дрова, растопка, щетки, тряпки, кочерги. В коридоре поэтому ни мусора, ни барахла – очень разумно все строили монахи.
Я тихо гуляю по коридору в чистом белом халате, в суконных больничных тапочках. Тепло, спокойно, выключены верхние лампы. Я мечтаю. Вдруг что-то мертвой хваткой схватило мою правую ногу ниже колена, прервав мою прогулку.
На полу справа нечто невообразимое держало меня за ногу, стоя на трех конечностях, почти касаясь грудью пола и вывернув вверх лицо с оскаленным ртом и мертвыми глазами. Голое истощенное тело, трупный запах, усиливающаяся хватка. Я отчаянно закричал, закрыв глаза, и кричал так громко и ужасно, что не только Лемпинен проснулся, но и выскочили из палат некоторые больные, а со второго этажа прибежали Гофман и дежурный врач. Лемпинен освободил меня от железной хватки мертвеца, схватил его на руки и куда-то унес, а меня отпаивали валерьянкой, совали в нос нашатырный спирт.
Оказалось, что Лемпинен в спешке раздачи ужина забыл повернуть ключ в двери, и, когда все стихло, психбольной № 2 неслышно вышел из камеры, спрятался в печную нишу за дверь, а затем решил со мной пообщаться. По рассказам Леонида Тимофеевича и других, этот сумасшедший был фронтовой офицер царской армии – Василий Георгиевич Телегин, георгиевский кавалер, награжденный Брусиловым. В начале 30-х годов работал лесничим. Когда бывших офицеров стали вылавливать, его арестовали, дали десять лет и отправили в ББЛаг (Беломорско-Балтийский лагерь), в Сегежу. Он бежал. По следу пошли собачники. Телегин спрятался в торфяном болоте, погружаясь почти с головой в холодную торфяную жижу, но собаки его обнаружили и сильно порвали, да и стрелки побили. Он потерял рассудок, его отправили в Соловки. Телегин был тихий сумасшедший, дар речи он потерял, иногда лаял или выл и постепенно доходил. Лемпинен звал его Васькой.
Утром, во время смены дежурств, на меня обрушилось новое испытание. Начался приступ у людоедки Харитины. Эта еще молодая сильная женщина начала вопить, биться в двери. Лемпинен пошел ее усмирять и вернулся с окровавленным лицом. Харитина вопила на весь лазарет. Леонид Тимофеевич приказал завхозу образовать отряд для ее подавления. И вот Лемпинен, завхоз, дворник, дежурный лекпом и я с веревками и матрацами ворвались к ней в камеру, где она, совершенно голая, кинулась на Лемпинена, но он, как щитом, прикрылся матрацем, и все навалились на нее, стали привязывать к койке, прибитой к полу и стене.
Сила Харитины была необыкновенная, нас пятерых она отшвыривала, сбрасывала с себя, кого-то покусала. Наконец ее привязали. У всех дрожали руки, а Харитина хрипло выла, на губах ее кипела пена. Ей сделали внутримышечное вливание наркотика, и она стала засыпать.
В Соловках в то время находилось около ста женщин, которые в голодные 32-й и 33-й годы были обвинены в людоедстве или соучастии. Мужчин в таких случаях расстреливали, а женщинам давали по десять лет и упрятывали подальше. В Соловках они находились на закрытом режиме на островке Малая Муксолма. Харитина была одна из них, но, как помешанная, содержалась в лазарете.
Пришел Дудкевич и сказал, что это только начало, потому что дни менструаций у нее сопровождаются приступами бешенства. С меня было довольно. Я снял свой разорванный в битве халат и пошел к Титову.
– Лучше я в лесу замерзну, чем еще день проработаю здесь, – грустно заявил я Леониду Тимофеевичу и ушел из лазарета.
Я не мог идти спать в камеру и пошел бродить по кремлю, уже запорошенному снегом. Кончается октябрь. Скоро будет полгода со дня ареста. Всего полгода! А казалось, что прошло много лет. И сколько же было пережито за это время. Я пошел в парикмахерскую к Катаоке, попросил постричь меня и рассказал все приключения этой ужасной ночи. Катаока хохотнул и обобщил:
– Ты приехар марчишкой, а скоро самурай будешь.
Меня перевели в хирургическое отделение! Леонид Тимофеевич провел воспитательную работу с санитаром Комарницким – сменщиком Гофмана, и он согласился поменяться со мной. На следующий день пришел в колонну Гофман и увел меня на дневное дежурство в хирургическое отделение.
Я был доволен. Дни пошли быстро, без надрывов, перенапряжения и сюрпризов. Одно огорчало меня: мало оставалось времени для систематических занятий. Я взял в библиотеке все нужные мне учебники, но занимался пока только алгеброй и геометрией. В дневную смену отвлечься было невозможно, и к вечеру я очень уставал. Оставались только дни после ночной смены, особенно если ночь была спокойной и удавалось поспать.
И вот в одну из таких ночей, 11 ноября, когда не было тяжелых больных, а в общей палате был свободный диван (в лазарете вместо коек были большие монастырские жесткие диваны, выкрашенные в белую краску), я положил два матраца, подушку, разулся и с удовольствием улегся. В перевязочной устроился на ночлег дежурный по лазарету лекпом Поскребко, большой, толстый белорус. Уснул я крепко. Проснулся от сильного встряхивания и еще сквозь сон увидел, что в палате включен полный свет, встряхивает меня перепуганный Поскребко, а за ним стоят трое в плащах и форменных фуражках. Я решил, что меня арестовывают, и окончательно проснулся.
Оказывается, дежурный по управлению Михайлов решил проверить порядок в кремле и одним из первых объектов выбрал лазарет. Он попал в самую точку. Через несколько минут все дежурные были собраны в уголке отдыха. Извлечен был и Леонид Тимофеевич. Михайлов не без ехидства рассказал, как он подошел ко входу в лазарет, долго стучал и видел через стеклянные двери, как в прихожей пробудился сэр Джон, как он спрашивал: «Кто беспокоит?», пока, наконец, не разглядел фуражки и шпалы на петлицах; как на втором этаже ответственный дежурный по лазарету храпел так, что лампа, висящая над ним, качалась; как в хирургическом отделении дежурного санитара (это меня!) будили четверть часа, так ему славно спалось на двух матрацах.
Все сидели понуро и молчали. Резюме было такое: привратника перевести сторожем внешней охраны, санитару дать пять суток штрафного изолятора и отправить на общие работы. Поскребко – десять суток ШИЗО, заведующему лазаретом – выговор, со всех снять зачеты[4] за четвертый квартал 1935 года.
Леонид Тимофеевич вдруг быстро заговорил по-французски, обращаясь к Михайлову. Тот нахмурился и резко сказал:
– Мы не в Париже, говорите по-русски, а лучше подайте на мое имя рапорт.
С тем грозное начальство удалилось, и все разошлись по своим местам уже не спать, а думать горькие думы.
Зачетов мне не было жалко: подумаешь, три недели за квартал! К тому же я в них не верил. Другое дело ШИЗО – просидеть пять дней, получая 200 граммов хлеба и кружку холодной воды в сутки, а потом ослабшему – на общие работы зимой. Ужас! Однако по ходатайству Титова наказание было смягчено. Все остались на местах. В ШИЗО попал только Феодул Поскребко, получив вместо десяти лишь пять суток. Зачеты же срезали у всех, кроме сэра Джона, поскольку ему, как шпиону, таковые не полагались, и его сон на посту остался совершенно безнаказанным.
Потом я спросил у Леонида Тимофеевича: «Кто такой Михайлов и почему вы обратились к нему по-французски?» Оказалось, что Михайлов хорошо знает французский, был военным атташе советского посольства в Париже, успешно делал карьеру, но влюбился в русскую эмигрантку, попросил разрешения жениться на ней и был немедленно отозван. Его отправили в Соловки, где он занимал второстепенный пост – начальника аттестационной комиссии, назначавшей заключенным зачеты за ударную работу и хорошее поведение. Леонид Тимофеевич, оказывается, знал семью возлюбленной Михайлова и слышал об этой истории. Он сказал Михайлову в ту ночь:
– Пожалейте ребенка ради Мари!
На другой день Леонид Тимофеевич был с рапортом у Михайлова, долго беседовал с ним и хорошо характеризовал меня:
– Он такой домашний, старательный мальчик, но слабенький, сильно устает, ему ведь только пятнадцать лет. Если его так сильно накажут, он погибнет.
Я действительно в то время был худощав, малоросл, носил очки, и, как говорили некоторые окружающие, мое выражение лица и манеры ассоциировались с маленьким Домби – известным персонажем романа Диккенса «Домби и сын». В результате беседы и умело написанного Титовым рапорта наказание было существенно смягчено.
Среди больных хирургического отделения находился худой высокий старик – Антонович. В мертвый час он обычно сидел в уголке отдыха и нередко рассказывал очень интересные истории о войнах. Кадровый офицер, он имел много ранений, был в германском плену, бежал и снова воевал. Перед революцией его произвели в полковники. Сидел он недаром, а за многочисленные переходы границы (кажется, 14 раз). После ареста коллегия ОГПУ приговорила его к расстрелу, но в связи с 10-летней годовщиной Октябрьской революции была объявлена амнистия, и расстрел заменили предельным сроком заключения – десятью годами. Отсидел он уже около восьми лет, но выглядел еще бодро и сохранял офицерскую выправку. Был очень деликатен и сдержан. Несмотря на сильные боли в послеоперационный период, не стонал, не требовал обезболивания и вообще старался не беспокоить окружающих.
В эти же дни в общей палате находился бандит и убийца Федя. У него было растяжение связок (или вывих). Главной приметой Феди была роскошная борода. Черная, в мелких завитках, она начиналась почти от маленьких хитрых глазок и широко распространялась по могучей груди. Для полноты впечатления не хватало кистеня за поясом, хотя и костыли в руках Феди выглядели достаточно разбойно.
Меня Гофман предупреждал, что Федя опасен:
– Чай будешь наливать ему в кружку, а он на тебя плеснет и скажет, что у него рука дрогнула. Тебе ожог, а ему развлечение.
Рассказывали, что весной он пришел в лазарет с травмой. Пораненную его руку обрабатывал лекпом Поскребко и причинил Феде боль. За это Федя здоровой рукой трахнул лекпома в зубы, затем в ухо. В результате Поскребко лишился зуба и очков, а Федя получил 20 суток ШИЗО.
Однажды после мертвого часа Федя подозвал меня и стал расспрашивать (статья, срок и т. д.). Узнав, что я попал в тюрьму после седьмого класса, он восхитился моим высоким образованием. Потом поинтересовался, почему у меня такие длинные и тонкие пальцы. Я объяснил, что с семи лет учился играть на рояле. Федя задумчиво сказал:
– С такими пальцами ширмач из тебя хороший выйдет.
Я не понял и спросил. Федя сочно захохотал и сказал, что хоть я ученый, но недоученный.
– Я тебя поучу, слушай стих:
Рыщет урка в ширме у шарманщика, Корешок на шухере стоит, Ширмачу не светится Таганка…– Юра! – вдруг закричал всегда спокойный Антонович со своей койки. – Скорей ко мне! Я подбежал. Антонович четко сказал:
– Как вам не стыдно! Слушать эту мразь…
– Ax, падло, со мной, значит, ему и поговорить нельзя? Да я тебе в пасть костыль вобью! – взвился Федя и метнул в Антоновича костыль.
Тот, не вставая с койки, поймал костыль и, со страшной силой ударив его об пол, переломил. Разъяренный Федя вскочил с койки, опираясь на другой костыль, и выхватил из-под матраца большой нож. Интеллигентные больные замерли от ужаса, а кое-кто закрылся с головой одеялом. И тут могучий бас пророкотал потрясающе властно:
– Федор, уймись, ты меня знаешь.
– Знаю, ваше благородие, – тихо сказал Федя. Ярость его угасла. Он, сгорбившись, сел на койку.
К Феде шел широкоплечий седой человек, с крупной головой, тяжелым подбородком, в пенсне под густыми бровями. Это был новый больной с приступом аппендицита. Он был в застиранном лагерном белье, но имел вид «каменного гостя». Молча он отобрал у Феди нож и, обратившись к Антоновичу, сказал:
– Mein lieber Herr Oberst, man muss das Ubel im Keim ersticken[5].
– Vous avez raison[6], – ответил по-французски Антонович и добавил по-немецки что-то про виселицу. Я собрал обломки костыля и вышел из палаты.
Весь инцидент продолжался 4—5 минут, но взрыв страстей был столь силен, что глубоко врезался в память. Особое впечатление произвел выход «каменного гостя», усмирившего Федю.
Потом мне рассказывали, что это был ротмистр конногвардейского императрицы Марии Терезии полка австрийской армии Вальда-Фарановский. Работает конюхом в конюшне управления. Любит и понимает лошадей. Сидит по статье 58, пункт 6 (шпионаж) и 136 (убийство). Где-то на материке зарубил топором много урок. Об этом эпизоде с топором Вальда-Фарановский потом сам рассказывал подробно.
Попав в плен в 1916 году, он в 1917 году женился и после окончания войны остался в России. Работал на конном заводе заместителем директора, имел благодарности от Буденного. В 30-м году директором назначили проштрафившегося милицейского начальника, не знавшего не только азов коневодства, но и азов культуры. Обращение на «ты» к подчиненному, сопровождаемое грязной руганью, – известный стиль руководства тех лет – выводил корректного гвардейца из равновесия, и он захотел в Польшу, к которой отошло после 18-го года Прикарпатье – его родина.
После обращения в польское посольство его арестовали, более года держали под следствием, затем дали десять лет за шпионаж и отправили строить Беломорско-Балтийский канал.
Через год нелегкий жребий привел ротмистра на штрафной лагпункт, где кроме тяжелой работы заключенных донимали урки, а начальство намеренно не вмешивалось.
Заметив в поведении ротмистра независимость и неуступчивость, урки организовали травлю: то в очереди в столовой у него «нечаянно» выбивали из рук миску с баландой, то клали под подушку дохлую крысу и т. п. Однажды он оставил ночью на полу валяные опорки (обычно аккуратный гвардеец клал их под матрац на нары), урки нагадили в них, а утром в спешке ротмистр сунул в них ноги. Едва сдержав себя, он прорычал на весь барак: «Поймаю – убью. С огнем играете». В ответ раздался злорадный хохот. Пришлось босиком идти по снегу в каптерку получать кордовые ботинки и без завтрака бежать в выводной двор, где конвой принимал заключенных и уводил их на работу.
Вечером урки что-то затеяли: шептались, смеялись, поглядывая в его сторону. Ночью Вальда-Фарановский спал очень чутко и услышал, как к его месту (в углу на втором этаже нар) подходят. Он напрягся, уперся ногой в стену и, когда на него кто-то прыгнул, оттолкнулся от стены и рухнул в проход между нарами, опрокидывая и прыгнувших на него. Тотчас же выскочив на середину барака, под светившую у потолка «дежурную» лампу, он схватил тяжелый табурет, ударил по голове подскочившего урку и бросился к печке, у которой стояли кочерга и тяжелый колун,
Урки кинулись следом, один побежал по верхним нарам. Ротмистр успел схватить колун, разрубил голову одному, перебил ключицу другому, а спрыгнувшего на него с верхних нар сбил с ног и раздробил руку, державшую нож. Остальные урки разбежались по нарам, но он успел ударить по спине еще одного и пошел, подняв топор, на главаря, жирного, рослого рецидивиста, насильника, убийцу, грабившего всех политических в бараке и отвратительно издевавшегося над слабыми и больными. «Не убивай!» – закричал тонким голосом главарь и рухнул на колени, закрывая голову руками. Колун взлетел и с хрустом разрубил череп. Стало тихо. Вальда-Фарановский, не выпуская колун из рук, вышел из барака и пошел босой в комендатуру.
В комендатуре старший дежурный дремал, двое стрелков играли в домино. Явление босого, в окровавленном белье, с колуном привело их в такой страх, что никто из них не смог сразу расстегнуть кобуру, а то бы могли с перепугу пристрелить ротмистра. Он бросил колун на пол, сел на лавку и сказал:
– В пятом бараке урок побил.
– Сколько? Кого? – спросил уже пришедший в себя дежурный.
Получив четкий ответ, комендант сказал:
– Этих не жалко, но тебя-то шлепнут.
– Мне все равно, – тихо сказал Вальда и закрыл глаза.
Комендант с помощником пошли на место побоища, а Вальда сидел абсолютно спокойный и отрешенный от всего и почему-то видел перед собой тихий Зальцбург, дворец архиепископа и снежные вершины Альп.
Убито было трое, вскоре умерло еще двое, у шестого отняли руку. Следствие было скорым. Обитатели пятого барака показали, что урки их терроризировали и грабили, а Вальду-Фарановского хотели ночью связать и вставить в задний проход горящий факел. Вот такой веселый фейерверк задумали! Наверное, в ответ на его угрозу: «С огнем шутите!»
В результате ротмистр получил десять лет по 136-й статье (то есть фактически добавку в два года), грозную славу и передислокацию в Соловки, где он стал конюхом, имел при конюшне отдельную комнатку, с удовольствием занимался породистыми выездными конями начальства и читал преимущественно мемуары о мировой войне.
Лазаретная жизнь шла своим чередом. Выписали Федю.
– Юра, – высказался он на прощание, – друзья-то твои о тебе заботятся, а совет добрый не дадут. Детский паек тебе полагается. До семнадцати лет ты – малолетка. Подай заявку в часть снабжения и пей молочко!
Ушел без операции ротмистр. Вскоре за ним ушел Антонович. Положили на операцию грыжи грузинского епископа, или католикоса, Батманишвили, тихого старичка, переводившего Данте на грузинский язык; потом – Азисхана Ходжаева, младшего брата бессменного, с 1925 года, председателя СНК Узбекистана Файзулы Ходжаева; промелькнули какие-то венгры и поляки. Больные сменялись быстро. Профессор Ошман не только артистически оперировал, но и очень искусно долечивал в послеоперационный период.
Шел мрачный, ветреный ноябрь, я получил еще посылку. Опять устроил с соседями чаепитие. Князь Гедройц был грустен. Он мечтал получить посылку от жены, хотя более года от нее из ссылки не было известий. Навигация заканчивалась, и надежды старика угасали. После чаепития я дал ему еще сахару, свой талон на обед и пайку хлеба, талоны и хлеб доктора Федоровского, который в эти сутки дежурил по лазарету и по закону «снимал пробу» со всех блюд, приготовленных знаменитым лазаретным поваром. Столь обильные дары подняли настроение Гедройца, и он уже предвкушал, как съест вечером три обеда, а потом до отбоя будет пить чай с сахаром и хлебом.
В этот вечер в отделении были тяжелые больные, и я задержался в лазарете до отбоя, сдавая дежурство Юре Гофману. Когда я поднялся на нары, князь тяжело дыша, доедал остатки из своего огромного котла.
Ночью я проснулся от толчка. На моих ногах сидел Катаока и держал Гедройца за руку, щупая пульс. Гедройц умер ночью. Обнаружил это Катаока. Установив смерть, я вызвал санитаров, и старика унесли в морг. Утром было вскрытие. На оцинкованном столе, с бортиками и желобком для стока крови, лежал худой, костлявый старик с огромным вздутым животом.
Федоровский разрезал брюшину, обнаружив вздутый кишечник и желудок. Профессор Ошман велел осторожно проколоть желудок и кишки, чтобы выпустить газы. Из проколов брызнула жидкость, и ужасное зловоние заполнило мертвецкую. Все вышли на воздух, оставив открытыми форточку и двери.
Вскрытие установило смерть от инфаркта, который был вызван чрезвычайным переполнением желудка. Кроме того, у него был сильнейший склероз сосудов и легких.
В этот же день последним рейсом «Ударник» доставил Гедройцу посылку. В списке под аркой он был третьим номером. Я едва сдерживал слезы и чувствовал свою вину за вчерашние чересчур обильные дары. Катаока меня утешал, убеждая, что из-за этих даров старик весь вечер был сытый и довольный и для него такая легкая смерть – избавление. Все равно было очень грустно.
История с посылкой Гедройца тронула многих, и ее часто пересказывали как пример жестокосердия судьбы.
В одно из ночных дежурств в перевязочной, где сидят дежурные, появился Леонид Тимофеевич в парадном халате и сказал, что сейчас доставят в спецпалату двух заключенных из политизолятора и я должен закрыть дверь и никого не выпускать из отделения в коридор. Титов сбежал вниз, а я замер у лестницы за столбом. Внизу послышались шаги, и почти бесшумно по лестнице стала подниматься процессия: впереди шел Титов, за ним трое тюремщиков несли человека с запрокинутой головой. Обращенное к потолку лицо с запавшими глазами казалось безжизненным. Следом несли второго, далее виднелись фуражки начальства и седая голова профессора Тюрка Густава Адольфовича.
Леонид Тимофеевич, увидев меня, сделал страшные глаза, и я шмыгнул за дверь. Все прошли в спецпалату, перед которой поставили часового. Затем начальство ушло. Вскорости ко мне пришел Леонид Тимофеевич и, видя, что я сгораю от любопытства, тихо сказал:
– Они выдержали 36 суток голодовки и добились своего. Жизнь в них чуть теплится.
– Кто они? – также тихо спросил я.
– Они люди с сильной волей. Они терпели 36 дней, пока их организм пожирал сам себя, и не сдались, хотя в любой миг могли прервать голодовку.
Титов подергал эспаньолку и добавил еще тише:
– Их не только уговаривали каждый день снять голодовку, но и подносили ко рту белые сухарики, шоколад, сыр. Они все перенесли.
Остаток ночи я думал о непреклонности этих таинственных людей и примерил к себе их поведение. Мне захотелось испробовать голодовку, проверить свою силу воли и выдержку. Испытывал же себя Рахметов – герой Чернышевского. Только испытания Рахметова казались мне теперь детской игрой по сравнению с 36-суточной голодовкой, по существу, с медленным самоуничтожением.
Прошло несколько дней, состояние больных в спецпалате улучшилось, их кормили через каждые три часа. Сначала молоком с сахаром и маслом, потом добавили белые сухари, затем – бульон. Еду из кухни передавали тюремщику, а тот относил в палату, где первые дни почти все время был профессор Тюрк. Когда у меня началась дневная смена, в режиме спецпалаты произошли изменения: уборщику разрешили заходить в палату для уборки, выноса уток и судна, санитару разрешили измерять температуру и вносить еду, но все это в присутствии тюремщика и с запрещением разговоров.
Шел уже шестой день после снятия голодовки, когда я впервые увидел их в палате. Больные еще были очень истощены, но уже пытались садиться на койках. Через несколько дней часового сняли. Леонид Тимофеевич сказал, что они снова хотели возобновить голодовку, если им не ослабят режим.
Оказывается, они начали голодовку из-за того, что их лишили газет. Когда они проголодали 12 суток, то решили, что получение газет через голодовку – это слишком дорогая цена, и потребовали перевести их из изолятора на открытый политрежим. Им сразу же разрешили газеты, но было уже поздно, и голодовка пошла под лозунгом: свобода или смерть, и никакие уговоры и искушения, о которых рассказывал Леонид Тимофеевич, не могли поколебать их решение.
Надо сказать, что времена тогда были сравнительно либеральными. С политзаключенными (то есть членами революционных партий) еще считались. Многие их них в свое время участвовали в революционном движении, сидели в царских тюрьмах или были в ссылке вместе со Сталиным, Молотовым, Бухариным и другими руководителями ВКП(б) и государства. Поэтому по согласованию с Москвой власть уступила голодающим. Им разрешили открытый политрежим, то есть пребывание вне изолятора, без привлечения на работы, с сухим пайком, включавшим и мясо, и масло, и сыр, и другие прелести для политических ссыльных, как в дореволюционные годы, с правом посещения библиотеки и т. п.
Когда в лазарете их изоляция продолжилась, они решили начать голодовку снова. Начальство опять уступило, охрану сняли, и они могли уже без охраны выходить из палаты. Победители ощутили подъем духа и начали быстро поправляться.
Первая моя беседа с ними произошла на десятый день. Я пришел взять посуду после обеда. Они стали расспрашивать меня: как зовут, откуда, статья, срок, папа, мама и др. Они показались мне деликатными, интеллигентными, остроумными. Первый, которого тащили по лестнице в ту ночь, с тонкими чертами лица и нервным тиком, представился:
– Виктор Харадчинский.
Ему было лет тридцать-тридцать пять. Второй, с более резким взглядом и мефистофельским профилем – Гройсман был примерно тех же лет.
Они с удовольствием беседовали со мной, рассказывали, как их угнетал режим изолятора, особенно тишина. В коридорах – толстые войлочные дорожки, надзиратели ходят в войлочных туфлях, чтобы неслышно подходить к глазкам в дверях камер. Окно закрыто щитом. Верхний край щита на 30—40 сантиметров отступает от стены, но неба в эту щель не видно. Кроме летних месяцев, камеру круглосуточно освещает электричество. Переписка запрещена. Единственная радость – книги и газеты. Дают одну центральную газету на два часа в день, потом отбирают. Книги из библиотеки обменивают один раз в две недели. Можно заказывать по списку. Разрешают пять-шесть книг на заключенного. Прогулка продолжается один-два часа. Самые чувствительные наказания: лишение прогулки на срок десять дней, лишение газет и книг. Последнее – самое страшное. Кроме того, существует карцер, но мои собеседники это удовольствие не испытали.
Охрана – из войск НКВД, кроме того, есть вахтеры, которые приносят и раздают еду, книги, убирают помещения и т. п. У них в СИЗО № 2 вахтер Климкин – бывший палач. Страшный садист. Он за что-то проштрафился и был послан в Соловки на «низовую» работу.
Когда они начали голодать, Климкину пришлось выносить парашу, что его очень раздражало. Бывший палач ворчал:
– Вот подушки на лица вам надавлю, да и задушу вас. Я вашего брата сколько передушил да перестрелял. Десять лет этим делом занимаюсь.
Когда Харадчинский спросил, за что его лишили такой почетной работы, Климкин побагровел, выругался, вышел из камеры и с тех пор, заходя к ним, не разжимал губ.
Гройсман утверждал, что Климкина держат «для надобности», которая может настать. Он оказался пророком.
Харадчинский рассказывал о голодовке как средстве борьбы за человеческое достоинство. До революции политзаключенные часто пользовались этим средством, которое тогда действовало безотказно и повергало в трепет тюремное начальство. С момента первого ареста в 1929 году он объявлял голодовки несколько раз, но с каждым разом успех достигался все более дорогой ценой.
– Хоть польза в том, что проверяем себя на прочность воли, – улыбаясь, подвел итог трактату о пользе голодовок Виктор.
Когда я сказал, что тоже хочу испытать себя на «прочность», Харадчинский пришел в восторг и дал ряд добрых советов, которые мне через год пригодились.
Во время одной из бесед Гройсман спросил, знаю ли я, какие революционные партии были в России до революции. Я перечислил ряд партий и дал им краткую характеристику. Политики удивленно переглянулись.
– Здорово! – сказал Гройсман. – Только, к сожалению, Юра, вы мою партию не назвали! – Я растерянно развел руки.
– Поалей Цион[7], – важно произнес Гройсман, а Харадчинский добавил, указывая на Гройсмана:
– Один из лидеров.
О себе Харадчинский сказал, что он социал-демократ (эсдек). Гройсман усилил впечатление, спросив:
– Кто был лидер эсдеков до 23-го года? Я ответил:
– Кажется, Мартов[8].
– Виктор – его племянник, – веско произнес Гройсман. – Он был с дядей на первом заседании избранного народом Учредительного собрания, когда его разогнали большевики, а когда Мартов стал членом ВЦИК первого состава, Виктор стал его секретарем.
Мне еще не приходилось беседовать с лидерами политических партий, и я остаток дня переваривал эту информацию.
На другой день я задал политикам много вопросов, в том числе, что такое «цион». Гройсман оживился.
– «Цион» по-русски произносят «сион». Это священный для евреев холм в Иерусалиме, где стояли храм единого бога Яхве и дворец царя Давида. Это символ единства для евреев, разбросанных по всем континентам, не имеющих своего государства, гонимых тысячи лет, но уцелевших как нация и творящих мировую историю.
У меня возник дерзкий вопрос.
– Тогда не понимаю, – обратился я к Гройсману, – почему же вы, один из лидеров Поалей Цион, да и другие евреи сидят в лагерях?
Харадчинский оглушительно захохотал и сказал:
– Юра, вы зрите в корень!
Дни шли быстро, нагруженные однообразной работой и заполненные разнообразными впечатлениями. 25 ноября прошел мой день рождения. Из части снабжения сообщили, что детский паек мне назначен с 1 декабря. Так реализовывался совет Феди. Знакомые посмеивались: «Террорист на детпайке». Но смех смехом, а подспорье было значительным. На день полагалось: 10 граммов масла, 10 граммов мяса или рыбы, 20 граммов крупы, 15 граммов сахара, 7 граммов сухофруктов и 150 граммов молока!
Как-то, сдавая дежурство, Гофман сказал таинственно:
– Юра, тебя забирает в ученики Ошман.
Я обрадовался: быть учеником у такого известного профессора, замечательного хирурга!
Ошман был действительно замечательный хирург. За месяцы моей работы в лазарете не было ни одной неудачной операции. В азербайджанском мединституте он заведовал кафедрой хирургии, и слава его была велика.
Весной 1935 года его уговорили отпраздновать 60-летие. Сначала праздновали в институте, а на другой день – среди домашнего покоя. В дом к Ошманам пришли несколько особо близких друзей, в том числе премьер Бакинской оперы Леонид Федосеевич Привалов. Дочь Ошмана – студентка консерватории – играла на рояле, Привалов пел, все было очень мило, пока не появился незваный гость: доцент кафедры, человек льстивый, необразованный, но большой хитрец и доставала.
Кланяясь и извиняясь, незваный гость сказал, что не мог не поздравить любимого шефа в домашней обстановке и не вручить самый дорогой для него подарок. Тут он протянул Ошману нечто большое, величиной с самовар, завернутое в плотную бумагу. Ошман растерялся, машинально взял обеими руками за середину свертка, тот раскрылся снизу, и на пол выпал бюст Сталина, который разбился на несколько кусков.
Наступило жуткое молчание.
– Надо убрать, потом склеить, – пробормотал потрясенный профессор. Доцент вдруг зарыдал.
– Вы разбили самое дорогое, что я имел, – причитал он сквозь слезы.
Сын Ошмана вдруг схватил доцента за плечо и крикнул:
– Ты нарочно подсунул отцу разбитый бюст. Я видел, как он развалился прежде, чем упал на пол.
Доцент молча сбросил его руку, повернулся и вышел. Следом ушли перепуганные гости. Ночью всех арестовали. Сначала предъявили всем статью 58, пункты 8, 10, 11 (терpop, контрреволюционная агитация и организация), но до суда дело не дошло, а ОСО (Особое совещание) дало профессору и его жене по три года, детям и гостям – по пять лет. Всем – за контрреволюционную деятельность. Доцент стал заведующим кафедрой.
Соловецкое начальство давно заказывало хорошего хирурга, и так было довольно присылкой Ошмана, что разрешило этой уважаемой семье жить вместе в одной комнате в поселке вольных. Сын – инженер-химик – был устроен в проектно-сметное бюро (ПСБ), Нина – в театр, где с восторгом встретили известного баритона Привалова. Другие участники ошмановского юбилея не попали в аристократические Соловки, а остались мыкать горе в материковых лагерях.
В первый разговор со мной как учеником Ошман очень четко обрисовал круг моих обязанностей. Во-первых, я должен содержать в образцовом порядке операционную, осуществлять стерилизацию белья и инструментов к операции, после операции приводить в порядок инструменты и оборудование. Во-вторых, выучить названия всех хирургических инструментов, порядок проведения операции. Для этого мне необходимо присутствовать на всех операциях. В-третьих, я должен помогать при перевязках. Научиться обрабатывать раны, накладывать повязки, гипс и проч. В-четвертых, изучать анатомию. В-пятых, иметь ключ от шкафа, где хранится спирт, и выдавать его для нужд перевязочной и операционной.
В день операции надо начинать подготовку с 7 часов утра и к 20 часам заканчивать уборку. На другой день стерилизация белья с 8 часов утра, затем с 11 до 14 – работа в перевязочной, после 14 часов – занятия анатомией и др.
– Вы будете работать много, упорно. У вас не будет свободного времени. Ничто так не развращает, как безделие, – закончил первую беседу Ошман.
Наступили очень тяжелые дни. Особенно трудно было выстаивать по три-четыре операции, а потом убирать операционную и мыть инструментарий сначала в теплой воде с нашатырным спиртом, потом в денатурате. Тут и начиналось самое противное. В дверь операционной заглядывали и санитары, и некоторые больные, прося «капельку спирта». Я это сделать не мог. Ошман взял с меня клятву, что ни капли спирта – никому. (Раньше спиртом мыл инструменты лекпом Демин, он был свиреп, у него боялись просить, хотя сам он прикладывался.) Санитары и даже Гофман стали сердиться и перестали угощать меня лазаретным супом.
Однажды было всего две операции. Ошман отпустил всех и сидел, внимательно смотря, как я убираю окровавленное белье со стола. Потом он встал у стола на свое место, а мне велел занять место Федоровского у инструментов. Затем профессор стал отрывисто командовать:
– Скальпель. Пеан. Кохер. Кохер. Пинцет с тампоном. Тампон. Тампон. Зонд.
Так продолжалось минут тридцать, пока не закончились все резервные инструменты. Ошман был доволен.
Прошло недели две. Я уже во время операций давал общий наркоз, накладывая на лицо оперируемых маску с эфиром. По вечерам я зубрил анатомию, а засыпая, видел во сне операции, стерилизации, ампутации, а самое главное – меня преследовали просители спирта.
Я опять похудел, позеленел и перестал ходить в библиотеку. Повстречав меня у столовой, заведующий библиотекой Г.П. Котляревский поинтересовался, почему меня давно не видно среди читателей. Я рассказал о своих трудностях и заботах.
– Да, – сказал Котляревский, – знаю я Ошмана. Для него порядок – все, а сотрудники – ничто. Может, хотите работать в библиотеке? У нас вам будет легче и учиться сможете.
Котляревский очень одобрял мое стремление к концу срока подготовиться к экзаменам за среднюю школу.
Оказывается, младший библиотекарь Игорь Шилов закончил свой трехлетний срок и оформляется на отъезд на волю. Вот о зачислении меня на его место и говорил в КВЧ (культурно-воспитательной части) Котляревский.
Через несколько дней нарядчик в колонне объявил мне о переводе в библиотеку. Прощаясь с лазаретом, я очень благодарил Леонида Тимофеевича за эти спасительные месяцы и сравнил лазарет с Ноевым ковчегом.
– Да, Юра, и в моем Ноевом ковчеге семь пар чистых спасаются среди семи пар нечистых. Только пока этому конца не видно. Желаю вам спастись. – И он, сложив ладони и устремив взор ввысь, прочитал по-латыни молитву.
Прощание с Леонидом Тимофеевичем было грустным, но он меня понимал.
Ошман был недоволен. Он пожал плечами и ничего не ответил на мои объяснения о причине перехода в библиотеку. Другие врачи простились со мной очень душевно.
Мне казалось, что я проработал в лазарете уже не один год, а на самом деле всего около трех месяцев. Я очень уставал, но это компенсировалось встречами с интересными людьми. Кроме описанных мне довелось видеть еще несколько «железных масок» из СИЗО и много хороших людей из обыкновенных заключенных. Наверно, у большинства из них остались дома дети или внуки, и мой детский вид вызывал у большинства из них добрые чувства. В заключение церемонии прощания я сказал «гуд бай» сэру Джону, а он, похлопав меня по плечу, проговорил:
– Юра, you are a bright boy now![9]
ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ
И ночи зимние так весело летят, И сердце так приятно бьется! А если редкий мне пергамент попадется, Я просто в небесах и бесконечно рад. Гете. ФаустБиблиотека в лагере – это обычно несколько полок с затрепанными, замызганными книгами, чаще всего Панферова, Сейфуллиной, Павла Низового, Гладкова.
В Соловках же было две библиотеки: лагерная и монастырская.
Монастырская библиотека находилась в ведении соловецкого музея и насчитывала около двух тысяч книг и рукописей. Среди уникальных изданий первопечатников Федорова и Мстиславца находилась и не менее уникальная летопись Соловецкого монастыря, в которой отмечались все события этой знаменитой обители в течение почти 500 лет. В летописи были представлены сведения об освоении дикой природы острова, о строительстве зданий, о создании системы каналов, связывающей сотни озер и регулирующей их уровень, об урожаях и надоях, о числе паломников и даже об узниках соловецкой монастырской тюрьмы, начиная с игумена Троицкого монастыря Артемия, прибывшего на смирение в 1554 году, и советника Ивана Грозного протопопа Сильвестра. Из числа особенно известных узников XVIII века были граф Петр Андреевич Толстой и князь Василий Лукич Долгорукий – вельможи высших рангов при Петре I – и последний атаман Запорожской сечи Кальнишевский.
Лагерная библиотека насчитывала около 30 тысяч томов и несколько тысяч переплетенных журналов по всем отраслям знаний. Эта библиотека создавалась с начала образования Соловецких лагерей особого назначения (СЛОН) в 1920 году. Фонды библиотеки сначала складывались из книг, привезенных первыми тысячами заключенных. Многим из них посылали книги из дому. После умертвий или освобождений хозяев эти микробиблиотеки передавались в лагерную библиотеку с экслибрисами и гербами, с дарственными надписями и заметками на полях. Можно было встретить автографы Менделеева и Тургенева, фельдмаршала Милютина и Пржевальского, графа Витте и барона Будберга, Комиссаржевской и Боборыкина… Так создавался, например, фонд иностранной литературы, насчитывающий более 1800 томов, изданных в лучших издательствах Лондона, Парижа, Лейпцига, Берлина.
Я имел удовольствие видеть прижизненное лондонское издание «Орлеанской девы» Вольтера, прижизненные лейпцигские издания Гейне, Уланда, второй том «Отверженных» Гюго, принадлежавший Тургеневу, с его заметками на полях книги на русском и французском языках, экземпляр «Пана Тадеуша» с дарственной надписью Мицкевича графу Тышкевичу и другие ценные книги. В иностранном отделе были книги на 26 языках, в том числе на арабском и японском, но преобладали французские, немецкие, английские.
С 27-го года в библиотеку поступали книги советских издательств. Особенно много книг, журналов и газет стало поступать с начала 1934 года.
В 1935 году заведовал библиотекой Григорий Порфирьевич Котляревский. Недоучившийся, как Сталин, семинарист. Он пошел в революцию, стал членом РСДРП, затем РКП(б), ВКП(б), комиссарил во время гражданской войны, был заместителем начальника политотдела Черноморского флота.
В 1929 году Сталин совершал рекламную поездку на крейсере «Червона Украина» по Черному морю. В прессе эта поездка была подана очень гладко. На самом деле не обошлось без инцидентов. Сталину не понравилась программа матросской самодеятельности. Он оценил ее как политически вредную (много украинского элемента и не показано творчество других народов). Затем кто-то из его свиты нашел в библиотеке среди старой периодики газету десятилетней давности, где был помещен снимок Ленина с Троцким. Кроме того, во время волнения, когда Сталин гулял по палубе, около него упала вентиляционная труба, что сильно испугало вождя. После окончания поездки комиссар крейсера, ряд работников политотдела и штаба Черноморского флота были арестованы.
Котляревскому, кажется, удалось избежать в трибунале обвинения в терроре, но все же он получил десять лет по каким-то пунктам 58-й статьи. Однако в Соловках его прежние революционные заслуги учитывались и должность в масштабе Соловков для заключенного была весьма знатная. Григорий Порфирьевич был очень живой, хитроватый, с чувством юмора, говорил гладко, убедительно, любил приводить латинские пословицы.
Заведующий иностранным отделом библиотеки профессор Алексей Феодосьевич Вангенгейм был тоже (еще до революции) членом РСДРП, лично знаком с Лениным. Организатор, затем до 34-го года начальник Гидрометеорологического комитета при Совнаркоме СССР, он был хорошо образован, прекрасно знал французский и немецкий языки. Во время мировой войны – начальник метеослужбы 8-й армии, потом – Юго-Западного фронта в чине полковника. За организацию газовой атаки против австрийцев награжден золотым оружием. С начала революции сразу же встал на сторону Советской власти и после плодотворной государственной и научной деятельности был осужден на десять лет по статье 58, пункты 7, 10, 11, то есть за групповое вредительство, контрреволюционную агитацию.
Причины для ареста были серьезные. Во-первых, Алексей Феодосьевич нарушил указание Сталина. В Ленинграде в 1933 году в Таврическом дворце собрался организованный Вангенгеймом I Всесоюзный геофизический съезд, на который были приглашены зарубежные ученые из многих стран. Вступительную речь при открытии съезда Вангенгейм решил произнести по-французски, о чем было указано в пригласительных билетах. Примерно за час до открытия съезда Вангенгейму позвонили от Сталина и передали его указание произнести вступительную речь по-русски. Алексей Феодосьевич очень удивился и сказал, что программа съезда согласована во всех инстанциях, опубликована в пригласительных билетах и какие-либо замены недопустимы. Так не принято поступать. В трубке некоторое время помолчали, затем телефон отключился. Вступление было произнесено на французском. Съезд прошел блестяще, но руководство оставило его без внимания.
Вангенгейм, по роду службы часто бывавший в Совнаркоме, ЦК ВКП(б), в Главнауке, почувствовал: отношение к нему в верхах изменилось к худшему.
Через несколько месяцев началась подготовка к подъему стратостата «Осоавиахим». От Гидрометкомитета требовали обеспечения полета прогнозами погоды по вертикали. Эти требования были чрезмерными, так как единственным средством исследования верхних слоев тропосферы и нижних слоев стратосферы были весьма несовершенные тогда шары – радиозонды Молчанова. Как известно, полет окончился катастрофой вследствие обледенения стратостата. И это была вторая причина для ареста. Вангенгейм был арестован и обвинен в умышленном неверном прогнозировании условий полета. Одновременно были арестованы еще несколько руководящих ученых-метеорологов в Москве и Ленинграде.
В конце 1935 года Алексей Феодосьевич уже адаптировался и успешно работал в библиотеке. По внешнему виду он напоминал известный портрет А.И. Герцена художника Николая Ге: коротко стриженная седая голова, седые усы и бородка. Носил серую стеганку, серые ватные брюки, обмотки и грубые кожаные ботинки.
Библиотеки-передвижки, посылаемые в другие лагпункты Соловецкого архипелага, а также в СИЗО № 2 и № 3, комплектовал Пантелеймон Константинович Казаринов – президент Сибирского отделения Географического общества, профессор Иркутского университета. У него также было десять лет за подготовку к вооруженному восстанию, вредительство и т. п. Это очень деликатный, кроткий человек лет пятидесяти, с хорошей улыбкой на тонком румяном лице, что при густой седоватой шевелюре выглядело весьма оптимистично.
В числе библиотекарей была и дама лет шестидесяти – Ольга Петровна, заведующая кафедрой иностранных языков Военной академии имени Фрунзе. Ей по должности подходила статья 58, пункт 6 – шпионаж, срок – десять лет. До реабилитации она, конечно, не дожила. Эта очень шустрая, капризная старушка жила в женском бараке за кремлем, но проводила часов двенадцать – четырнадцать в библиотеке. В библиотеке жили только заведующий и оба профессора. Они помещались в небольшой комнате, в башенке, выходящей на Святое озеро.
В штате состоял и переплетчик Какалин. Тихий, пожилой, он целый день любовно реставрировал потрепанные книги, переплетал журналы.
Колоритная фигура в библиотеке – дневальный отец Митрофан. Монах, архимандрит, настоятель какого-то небольшого монастыря на Урале, он получал по пять-шесть посылок в месяц от своих бывших прихожан и использовал это обилие продуктов не для помощи сирым и убогим, коих было в кремле достаточно, а для найма. Почти всю работу по уборке обширных помещений библиотеки, доставке воды и прочее за него выполняли какие-то тощие, бледные старички. Он за это давал им зацветшие сухари, свои талоны на обед и другое, что ему не по вкусу. Он был хром, чернобород, увертлив, льстив и удивительно необразован. В частности, он не верил, что земля шар, а доказывал, что это бесовское наваждение. Вот таков коллектив соловецкой лагерной библиотеки.
После прощания с лазаретом я появился в библиотеке, и Котляревский представил меня сотрудникам, хотя все были со мной знакомы. Григорий Порфирьевич объяснил мне систему классификации книг (по Кеттеру), правила обработки поступивших книг, заполнения каталожных карточек и абонементов. Затем он привел меня в кабинет журналов и технической литературы, закрыл дверь и, сделав таинственное лицо, сообщил, что дает ряд рекомендаций.
Рекомендации сводились к следующему. Все работники библиотеки – люди пожилые, нервные, их надо уважать. Особенно Ольгу Петровну и Алексея Феодосьевича. У них характер тяжелый. Они были против приглашения мальчика. Говорили, что он будет неаккуратен, небрежен в работе, шумен и т. п. Так вот, я должен вести себя так, чтобы сразу почувствовалось, что я не такой. Далее, дневальный отец Митрофан может заставлять меня делать за него работу. Так я это делать не обязан и должен вежливо отказываться. В разговорах с ним следует быть осторожным. Он человек лукавый.
В заключение Григорий Порфирьевич сказал, что, если в течение месяца все мной будут довольны, он организует мой переход на жилье из колонны в библиотеку. Я буду спать в этом кабинете, а на день убирать постель в шкаф. Кабинет открыт пять часов в сутки, а остальное время это будет моя комната, где я могу заниматься, читать и вообще жить.
Кабинет, как моя комната, мне очень понравился. Два больших окна с темно-зелеными гардинами были выше кремлевской стены, и из них открывался вид на Святое озеро и леса за ним. Сейчас этот пейзаж черно-белый – зима. А летом я буду видеть синь озера, все оттенки зеленого на лугах и лесах, бледно-голубое или золотистое летнее небо Севера. В кабинете в центре стоял закрытый зеленой тканью стол, вокруг него стулья, над ним большой плафон с восемью лампочками. У стены напротив окон высился большой шкаф с журналами, у каждой из боковых стен стояли диван, маленький столик и еще шкаф, в котором будут мои вещи. Над маленькими столиками на кронштейнах висели лампы. Один из них занимал заведующий кабинетом дипломат Веригин, за другим обычно работал профессор Павел Александрович Флоренский – крупнейший ученый и философ с мировым именем. На стенах висели портреты Чарлза Дарвина, Павлова, Марра. И еще важная деталь: в том корпусе, где помещались библиотека и театр, имелось паровое отопление, то есть было тепло и сухо.
В библиотеке я работал с удовольствием. Первый день, обрабатывая новую партию книг, привезенных самолетом, я выполнял наиболее простую операцию: наклеивал на обложки книг бумажные квадратики для записи шифра и инвентарного номера, а на внутреннюю сторону обложки – кармашки для формуляров. Пантелеймон Константинович Казаринов вписывал в инвентарный журнал данные о каждой книге и наносил на нее шифр и номер.
Работали не спеша. Я старался, чтобы ни одна капля клея не попала на книги, чтобы квадратики были точно приклеены в левом верхнем углу на расстоянии одного сантиметра от края. Пантелеймон Константинович обсуждал почти каждую книгу. Особенно его обрадовала монография Лиддел Гарта о мировой войне, на которую, конечно, будет большая очередь. Я попросил меня тоже записать в эту очередь. Пантелеймон Константинович рассмеялся и протянул мне нарядно изданный «Остров сокровищ» Стивенсона:
– Это вам будет интереснее.
Я обиделся и сказал, что прочитаю и ту и другую. Пантелеймон Константинович отодвинул книги и стал меня экзаменовать по истории мировой войны.
– Скажите, пожалуйста, что явилось причиной мировой войны?
– Убийство эрц-герцога Фердинанда.
– Кто его убил?
– Гавриил Принцип, террорист из «Младо Боснии»
– Что было потом?
– Австрия предъявила ультиматум Сербии, обвиняя ее в укрывательстве террористов, а Россия заступилась за Сербию.
Я ответил затем, какие страны входили в Антанту, какие в Тройственный союз, как немцы устремились на Париж, а русские армии ударили с востока и т. п.
– Скажите, Юра, – спросил незаметно подошедший Вангенгейм, – какую позицию заняли вожди социал-демократов?
– Они в основном выступили на стороне своих правительств.
– А большевики?
– Они были против войны.
Оба экзаменатора и экзаменуемый были довольны.
Я и в школе любил экзамены, а в Соловках получал от этого еще большее удовольствие. Во-первых, я проверял свои знания, во-вторых, если не знал ответа, то сразу же просил рассказать об этом. И мне рассказывали. В большинстве случаев понятно и интересно.
За неделю я освоил все виды работы в библиотеке. Изучил систему классификации книг, свободно ориентировался в лабиринтах стеллажей и легко мог найти по шифру любую книгу или по книге ее место на стеллаже. В свободное время много и пока бессистемно читал, утоляя голод на этом книжном пиршестве. То я листал тома «Всемирной географии» Элизе Реклю, то ахал, читая первый том «Христа», написанного Николаем Морозовым в Шлиссельбурге, или впивался в чудесную книгу «История Тома Джонса, найденыша» Филдинга.
В книгохранилище была одна комната, всегда закрытая на замок. Надпись на дверях: «Архив». Однажды я заметил, что дверь в архив открыта, и заглянул внутрь. Маленькая комната без окон, со стеллажами по стенам была заполнена книгами, толстыми папками, журналами. Григорий Порфирьевич, сидя у маленького столика, просматривал какую-то папку. Заметив меня, он нахмурился и молча указал на дверь.
Мне было очень неприятно. В конце дня Григорий Порфирьевич объяснил, что в архив могут входить только он и Вангенгейм, так как там находятся особо ценные книги и литература, запрещенная для показа. Как известно, запретный плод сладок, поэтому мне очень захотелось попасть в архив.
Накануне Нового года Котляревский обрадовал меня. Его коллеги подвели итоги моей деятельности и досрочно дали «добро» на жительство. Начальник колонны тоже разрешил мне перебраться в библиотеку после Нового года. Я очень хотел покинуть свою противную одиннадцатую камеру, где всегда спертый воздух, где от многолюдства (80 человек) не было спасения ни днем ни ночью, где все тускло и только глухая стена во всю ширь, от верхних нар до потолка, изукрашена пейзажами города будущего. Ввысь вздымались коричневые и красные прямоугольники домов и фабрик, десятки красных труб изрыгали в небо толстые струи черного дыма и ни одного деревца, ни одного зеленого пятна. Под самым потолком, опираясь на дымовые тучи, лозунг извещал: «Владыкой мира будет труд!»
Центр этой вдохновляющей картины приходился как раз напротив моего места. И сколько раз я встречал и провожал очередной трудовой день, глядя на эту футурологическую живопись!
На Новый год назначили генеральную проверку по кремлю. Началась она примерно в 22 часа и продолжалась часа четыре. На генпроверку приходили все заключенные, закрепленные за данной колонной. Во вторую колонну, следовательно, пришли повара, работники контор, театра, библиотеки, музея. Пересчитывали, опрашивали. Наконец прибыл начальник лагпункта «Кремль», жирный, краснолицый, принял рапорт начальника колонны и, приказав не распускать строй до отбоя, отправился в другие колонны. Мы стояли, томились, мерзли, кое-кто упал в обморок. Наконец около двух часов ночи раздался гудок электростанции – отбой. Пошел третий час нового, 1936 года.
Пошли приятные, интересные дни. Именины сердца, да и только! Хорошие книги, интеллигентные коллеги. Интересные люди среди читателей. В библиотеке, несмотря на январские морозы, тепло. Стены толстые, батареи горячие. Электричество светит ярко, и полярная ночь не страшна. Присланные в посылках продукты еще не съедены. Я жестко их нормировал. Три килограммовых куска сала распределил на три месяца равномерно. Каждый кусок по корочке разделен на количество дней месяца (по 33 грамма в день), то же – и с другими продуктами. Должно хватить до 1 мая. Детский паёк тоже подспорье.
Другие библиотекари также нормируют свои дополнительные рационы. Кстати сказать, общего стола они не образуют. Каждый ест свое. Иногда Казаринов печет на керосинке оладьи и угощает всех. Каждому по оладушке. Вангенгейму это не нравится. Он всегда отказывается. И со своей стороны никого не угощает. Он очень одобрил меня, когда увидел разграфленный на порции мой кусок сала в стенном холодильнике. Григорий Порфирьевич сказал, усмехаясь, что страхи Алексея Феодосьевича оказались напрасными. Он убедился: Юра умеет расходовать продукты и не будет никого обременять просьбами о подкормке в зимнее время. Мне было несколько неприятно, но, пожалуй, это лучше – никому не быть обязанным и никого не обременять.
Навестил одиннадцатую камеру. Принес отцу Василию сахару. Старик совсем плох, но другие священники ему немножко помогают. Буркова не застал. Положил ему под подушку бутерброд с салом. Камера после моего кабинета показалась мне ужасной. Когда я вечером разложил на диване в кабинете постель и улегся читать Филдинга, я очень порадовался и вспомнил, как один бельгийский инженер (A.M. Трейгер), приехавший в нашем этапе, говорил: «Ваши люди очень счастливые. Они все время радуются: ночью не арестовали – радость на весь день, утром в трамвай удалось втиснуться – радость на все утро, по карточкам селедку выдали – радость на неделю». Вот и я нахожусь в лагере, оторван от семьи, от свободы, а радуюсь часто – и частностям и мелочам, но в наших условиях некоторые мелочи вырастают до факторов жизни.
В один из дней первой недели работы в библиотеке мне испортил настроение архиепископ Петр (он же Николай Николаевич Руднев), заведующий читальным залом на общественных началах. Я уже упоминал, как озадачивал его в первые посещения библиотеки, когда просил посмотреть газеты на иврите и прибалтийских языках. Так вот, после закрытия читальни этот архипастырь выразил мне порицание за переход из лазарета в библиотеку. Он полагал, что я должен был остаться у Ошмана, чтобы максимально освоить основы медицины. Специальность медика всегда даст кусок хлеба с маслом, особенно в лагерях, утверждал Руднев, и приводил примеры, как переквалифицировавшиеся в лекпомов попы спасались в лагерях от тягот общих работ.
Я напомнил, что мне осталось меньше двадцати восьми месяцев, что после освобождения я сдам экстерном за среднюю школу и поступлю в университет, что мой тезис: сначала общее образование, потом специальное, что я хочу быть широко образованным человеком, а не узким специалистом, что… Руднев прервал меня:
– Какая наивность! Неужели ты думаешь, что тебя пустят в университет? Что тебе разрешат сдать экстерном? Да у нас и экстерната в средней школе нет! Ты начитался «Каторги и ссылки»[10]. Это при царском режиме революционерам разрешали экстерном сдавать за гимназии и университеты. Пойми, что если ты один раз прошел по этапу, то это значит ходить тебе еще много раз. Газеты ты читаешь регулярно, а разве не чувствуешь, что ладаном пахнет? После Кирова сколько пересажали? Вот и подумай!
Я крепко задумался, но все же решил, что в первую очередь – общее образование с упором на иностранные языки и другие гуманитарные предметы, тем более что меня все сильнее стали интересовать вопросы истории развития общества, философии и религии. Мне хотелось самому разобраться в хаосе событий в макромасштабе и их влиянии на судьбы людей. При этом надо форсировать занятия, пока я в таких благоприятных условиях, и немедленно составить план.
Шла вторая неделя работы в библиотеке. Я уже работал на абонементе, выдавал книги читателям, с интересом присматриваясь к ним и их формулярам, а они с интересом смотрели на меня, спрашивали меня по обычной схеме с дополнительным вопросом, сколько мне лет. Некоторые шутя спрашивали, почему я не в детской колонии, один я в Соловках или с родителями и т. п.
Один из первых, кто обратил мое внимание, был Измаил Фирдевс[11]. В абонементе было написано: национальность – татарин, должность – сторож, в графе статья – 58, пункты 2, 4, 6, 8, 10, 11. Такой набор статей назывался «букет». Список, по которому он брал книги, включал труды по истории, марксизму, литературоведению, мемуары и поэзию. Я поинтересовался у Григория Порфирьевича, кто это Фирдевс. Григорий Порфирьевич хитро усмехнулся: «Прочитай у Сталина „Марксизм и национально-колониальный вопрос“. Я сразу же кинулся к стеллажу, где стояло множество томов вождя. Вождь писал: „Я думаю, однако, что идейно скорее Фирдевс руководил Султан-Галиевым, чем обратно“[12]. Султан-Галиев[13] тесно взаимодействовал со Сталиным в Наркомнаце в первые годы революции, потом он стал идеологом пантюркизма[14] и панисламизма[15] и боролся за объединение тюркоязычных народов и их независимость от РСФСР. Фирдевс был крупной политической фигурой в этом движении, и, в частности, его обвиняли в связи с басмаческим движением в Средней Азии[16]. Опять политический лидер! Сколько же их в Соловках?
Как-то Казаринов и я подбирали передвижку для СИЗО № 2, когда ввалился огромный, костлявый мужик в полувоенной одежде с большим тяжелым мешком за спиной. Не здороваясь, он буркнул: «Принимайте» – и стал вынимать из мешка связки книг. Я догадался – это палач Климкин. Харадчинский был прав. Глаза у него были оловянно-тусклые, руки длинные, кисти широкие, костлявые. Такими руками только душить или скручивать головы. Климкин выложил 28 связок. «Это значит 28 камер или 28 заключенных?»– думал я. В одних стопках было по две-три книги, в других восемь – десять и более. В каждой пачке был список-заказ, дополнявший основной список, по которому проводилась предварительная подборка передвижки.
После ухода палача Пантелеймон Константинович стал вычеркивать из журнала принесенные книги, а я их расставлял и одновременно допытывался о числе читателей в СИЗО № 2 и кто это может быть. Пантелеймон Константинович односложно отвечал нараспев: «Любопытной Варваре нос оторвали». Потом все же сказал, что скорее всего это 28 камер, так как в больших связках бывает и по два списка, написанных разными почерками. Говорят, что есть и семейные камеры, где вместе сидят муж и жена или мать и дочь, и он шепнул страшную фамилию – Николаевы. Я сразу вспомнил Николаева, застрелившего Кирова, из-за чего целый год продолжались аресты десятков тысяч людей по обвинению в терроре. В том числе и я попал под эту метлу.
– Вы знаете, что Климкин – палач? – спросил я Пантелеймона Константиновича.
– Говорят, – равнодушно сказал он и добавил: – А здесь их несколько. Например, Вася Донцов, который приходит к Григорию Порфирьевичу. Он раньше у него на флоте был, а потом перешел в палачи. Как-то рассказывал об этом. Довольно гадко. Он шизофреник. Еще Корженевский – тот убивал только начальников, но однажды по ошибке или спьяну прикончил какого-то деятеля, а на него через неделю освобождение из камеры смертников пришло или помилование даже. Произошел конфуз, и Корженевскому дали десять лет по 193-й статье[17]. Здесь он воспитателем[18] работает в третьей колонне.
На третьей неделе блаженства в библиотеке календарный план учебы был готов. Он включал пять разделов: 1. Математика и физика. 2. Немецкий язык. 3. История. 4. География. 5. Литература. Математика и физика по программе средней школы – закончить к Х.37 года. Немецкий язык: в течение 1936 года научиться свободно разговаривать и читать классиков (Шиллера, Гете и др.). История: проработать основные работы по древней истории и по истории средних веков (Моммзена, Шлоссера, Виппера, Бемона и Моно и др.). История России: проработать Соловьева и Покровского в сопоставлении. История развития русской общественной мысли от декабристов до наших дней: основные мемуары деятелей XIX – XX веков. Составить сводную картотеку событий мировой истории (форма карточек прилагалась). География: в основном страноведение плюс экономическая география (по программе средней школы, плюс карта мира – до конца 1936 года). Литература: прочитать сколько возможно лучших произведений русской и зарубежной литературы (вести список с комментариями на все время пребывания в Соловках). В плане были подразделы по каждому предмету с указанием срока проработки материалов и источников.
На перспективу: в 37-м году начать изучать дифференциальное и интегральное исчисления. Углубить курс физики. Изучить французский язык, начать английский язык. Включить курс политики и политэкономии, в том числе конституции буржуазных стран.
Я обратился к коллегам с просьбой дать оценку моему грандиозному плану. Коллеги выслушали мой доклад, просмотрели разделы, представленные в виде форм, и сидели молча. Григорий Порфирьевич крутил бородку, Вангенгейм гладил бородку и тоже молчал. Казаринов, наконец, спросил, сколько лет я собираюсь сидеть в Соловках? Я отвечал, что мне осталось около 27 месяцев.
– А сколько часов вы будете спать в сутки? Я отвечал:
– Шесть-семь часов.
Мой план был дружно признан нереальным. Вангенгейм возмущенно говорил:
– Планиметрия—до 31 января. Что же, за 20 дней всю планиметрию?
Котляревский спросил:
– Кто будут преподаватели?
Я тихо сказал, что по математике и физике прошу профессора Вангенгейма, по географии профессора Казаринова, а к нему я буду обращаться по вопросам истории. Котляревский дипломатично добавил, что языками прекрасно владеет Ольга Петровна, но Юра не хочет ее беспокоить, и ему надо найти немца, коих здесь предостаточно.
– Я думаю, что товарищи профессора согласятся?
Профессора согласились, но Вангенгейм сказал, что он не допустит такого галопа. Я был в восторге.
На следующий день Вангенгейм спросил, как я представляю себе занятия? Мне казалось, что вначале он будет давать задания по учебникам, а я буду сдавать, предварительно попросив разъяснения по непонятным вопросам. А первое занятие я предполагал провести по геометрии. Я начну с первой теоремы и буду их доказывать, сколько вспомню. Алексей Феодосьевич согласился, и экзамен-инвентаризация начался. «Первая теорема: сумма смежных углов равна 2d», – начал я, рисуя смежные углы… Вангенгейм выдержал только 12 теорем и сказал, что на сегодня хватит.
Казаринов занимался со мной на другой день. Он подготовил немую политическую карту мира и попросил написать названия всех стран и колоний. Я бодро начал писать, расписал всю Европу, Азию, Северную Америку, но в Центральной пропустил Сальвадор и Коста-Рику, а в Южной – Боливию. Очень затруднила меня Африка. Египет, Англо-Египетский Судан, Абиссинию, Марокко, большую итальянскую колонию Ливию и Южно-Африканский Союз я нанес, а дальше поплыл. Пантелеймон Константинович велел нанести тогда цветом: красные – английские, синие – французские колонии, что, в общем, я выполнил довольно верно. Пантелеймон Константинович сверил мою карту с настоящей, удивился большому числу попаданий в цель и пошел показывать карты Вангенгейму.
С этих дней занятия пошли по моему календарному плану, к обоюдному удовольствию учителей и ученика.
Кто же будет преподавать немецкий язык? Я спрашивал многих читателей, но безуспешно. Те, кто работали, к вечеру так уставали, что им было не до занятий. Сторожа, свободные днем, говорили, что не знают, как преподавать. Учебников по иностранным языкам в библиотеке не было. Наконец я попросил католического священника из АССР немцев Поволжья – Каппеса. Он был большим книголюбом и относился ко мне с симпатией. Выслушав мои сетования, Каппес задумался и сказал, что знает удивительного преподавателя, который кроме русского и немецкого владеет итальянским, испанским и английским, а из древних языков – латынью, греческим и еврейским. Он передаст мою просьбу, но он не уверен в положительном ответе.
Любопытство мое было возбуждено. Через день Каппес зашел с таинственным видом и шепнул: «Он согласился с вами поговорить. Придет в восемь часов и скажет, что пришел по моей просьбе». Я едва дождался вечера. Уже с открытия, с шести часов, я всматривался если приходил незнакомый читатель. Когда старые монастырские часы ударили восемь раз, вошел некто невысокий, худощавый, похожий лицом на канцлера Брюнинга, в узких очках в железной оправе. Коротко остриженная седая голова, черное пальто, в руках шапка. Я сразу догадался, что это ОН. Он подошел к барьеру, поздоровался и сказал: «Алоиз Николаевич Каппес просил меня поговорить с вами».
Разговор состоялся в сквере. Было тихо, морозно. На первый вопрос: «Почему вы хотите изучать немецкий?» – я ответил, что хочу изучить несколько языков, но начинаю с немецкого, поскольку его изучал в школе, люблю немецких поэтов, хочу читать их в подлиннике, особенно «Фауст» Гете. Вопрос, чем понравился мне Фауст, был труден, но я попытался объяснить, что искания Фауста, его стремление найти смысл, и цель жизни очень мне понятны. Я тоже ищу, тоже стараюсь познать мир. И мне нравится поэтичность «Фауста». Мой учитель заметил, что перевод Холодковского несколько суховат, холоден. Последний вопрос был: «Чем вы руководствуетесь в своем поведении?» Последние недели я как раз много думал об этом и сразу ответил: «Не делай никому того, чего не хочешь, чтобы другие делали тебе». Мы шли несколько минут молча, затем он сказал: «Мы начнем заниматься с выходного дня. Послезавтра в пять часов я буду в библиотеке. Договоритесь, чтобы заведующий разрешил. Меня зовут Петр Иванович Вайгель, я работаю в рыбпроме сетевязом и там же живу. До свидания».
Котляревский был рад, что я наконец нашел немца, и разрешил заниматься в моем кабинете в нерабочее время. В библиотеке Петра Ивановича знали как читателя, особенно Вангенгейм, который выдавал ему книги почти на всех языках, но более интересного о нем не знали. В формуляре у Петра Ивановича было записано: национальность – немец, образование – высшее, а вот букет был большой: 58, пункты 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, то есть вооруженное восстание, связь с мировой буржуазией, шпионаж, вредительство, диверсии, контрреволюционная агитация и контрреволюционная организация.
На первом же уроке Петр Иванович объявил порядок занятий. Во-первых, ни одного невыполненного урока, во-вторых, на уроках ни одного слова по-русски, в-третьих, темы занятий: грамматика, чтение и учение наизусть стихотворений в объеме сначала до 20—30, затем 30—50 строчек за урок, далее разговорная речь, через урок – диктант. Каждое занятие состоит из трех частей: прием домашнего задания, ознакомление с новым материалом для следующего задания, беседа.
Занятия пошли весьма успешно. Два раза в неделю Петр Иванович приходил в точно назначенное время. Урок длился 1 час 20 минут. Стихи Шиллера запоминались прекрасно. Мы начали с небольших стихотворений и быстро добрались до больших баллад Шиллера «Der Taucner», «Der Ring des Polykrates»[19] и других, включающих 150—300 строчек. Стихи учить необходимо для закрепления знаний, утверждал Петр Иванович. Если сомнение в роде, падеже, ударении или времени, в построении фразы – достаточно вспомнить это слово в контексте стихотворения, и сразу все будет ясно. Впоследствии я часто применял этот способ и с благодарностью вспоминал своего учителя.
Петр Иванович Вайгель был человек выдающийся. Он родился в католической семье немца-колониста в Саратовской губернии. В детстве проявил большие способности, блестяще окончил гимназию в Покровске (ныне Энгельс) и продолжил образование в Геттингенском университете, окончив теологический и филологический факультеты, стал священником, потом окончил в Ватикане специальный миссионерский факультет Грегорианского университета. Был миссионером в юго-западной Африке, затем – в Южной Америке, в Парагвае (где его предшественники организовали когда-то государство) и верховьях Амазонки между Бразилией и Перу. Там его застала мировая война, о которой он узнал почти с годичным опозданием.
В период миссионерской деятельности в Амазонской сельве он много раз погибал, то подстреленный отравленной стрелой, то в опрокинутой крокодилом лодке, то укушенный змеей и т. п. Но он все вынес и пользовался великим уважением у туземцев, обращал их в христианство, лечил и учил, особенно детей. Вернувшись в Рим, он трудился в одной из конгрегации Ватикана, получил сан прелата. В 1930—1931 годах в Ватикан доходили жалобы на притеснение католиков в СССР. Конгрегация по вопросам восточных церквей решила послать прелата Вайгеля обследовать положение католиков в АССР немцев Поволжья. В результате переговоров Петр Иванович получил визу и прибыл в 32-м году на свою родину. Патер – администратор епархии Бауитрог рассказал ему о событиях последних лет. Петр Иванович посетил приходы, ужаснулся разорению ранее процветавших немецких колоний и понял, что его, как очевидца, обратно не выпустят. Он попытался связаться с посольствами. В 1932 году в ночь под рождество он и местные католические священники были арестованы и обвинены во всех грехах, начиная с подготовки вооруженного восстания. В результате Петр Иванович, Каппес и ряд других патеров оказались в Соловках, где вместо миссионерской деятельности прелат вязал сети, подобно апостолу Петру, только не у Тивериадского или Генисаретского озера, а у Белого моря. Из Ватикана ему (по статусу Красного Креста) один раз в два месяца посылали продуктовые посылки.
Все эти детали биографии Петра Ивановича я узнавал порциями. Сначала о его высоком положении сказал мне Каппес, когда я спросил, чем могу оплатить труды учителя. На полном раблезианском лице Каппеса отобразился ужас и возмущение. «Gott erbarm!»[20], – вопил он. – Петр Иванович прелат! Его Святой Престол послал! Сам папа Его Святейшество Пий XI принимал его! И вы будете платить ему! Его труды бесценны!» Я был поражен. Потом Петр Иванович в разделе «Беседа и разговорная речь» рассказывал мне фрагменты из биографии. Он был очень скромен и никогда не говорил о своем ордене или о фиолетовой рясе. Лишь некоторые католические священники знали об этом. И он огорчался, когда они просили у него благословения и хотели поцеловать руку. Благословение он давал, а руку затем прятал за спину.
Дни летели, до предела нагруженные и упорядоченные. Я, как сухой песок впитывает влагу, усваивал каждый день массу информации по моему учебному плану. Читал беллетристику только перед сном, с 23-х часов. С этого времени я расслаблялся, пил чай, укладывался и начинал читать. Вангенгейм дважды делал мне замечания, что на ночь за счет сна читать вредно, но я отбился, сказав, что товарищ Сталин всегда на ночь просматривает свежие издания художественной литературы. Пример вождя подействовал на Вангенгейма. Раз в месяц я проверял выполнение плана и показывал Петру Ивановичу. Когда я первый раз показал это, он заметно удивился и сказал: «Sie haben Grips im Kopf!»[21]. Я почувствовал, что даром времени не теряю.
Выяснилось еще одно приятное обстоятельство. За работу в библиотеке полагалось «премвознаграждение» – аналог зарплаты. Мне полагалось три рубля в месяц. Григорий Порфирьевич получал 18 рублей. Килограмм сахару в ларьке стоил 4 рубля 80 копеек, так что я мог дополнительно покупать еще 600 граммов сахару в месяц. Вот какая роскошь!
В библиотеке в начале 1936 года числилось свыше 1800 индивидуальных абонентов, около ста абонементов СИЗО № 2, № 3 и примерно 30 коллективных абонементов, представлявших маленькие лагерные пункты, разбросанные по архипелагу. Особо активных читателей было около двухсот. Многих я уже знал в лицо и помнил их номера. Котляревский показывал мне наиболее известных деятелей с оттенком гордости за библиотеку, имеющую столь именитых читателей. Профессоров было множество: и совсем старых, как академик Рудницкий, и молодых, как Кикодзе – элегантный профессор Тбилисского университета. Однако все ученые отдавали пальму первенства Павлу Александровичу Флоренскому, выдающемуся математику, химику, инженеру, философу, богослову и протоиерею.
Труды Флоренского в области физики и математики предвосхитили многие идеи и теории, развитые во второй половине XX века его учениками, и в том числе академиком Иоффе, академиком Семеновым (Нобелевским лауреатом). Его книга «Столп и утверждение истины», где он стремился к построению конкретной метафизики, была признана крупнейшим вкладом в философию и принесла ему докторские степени многих европейских университетов, в том числе Грегорианского при Папской академии в Ватикане. До ареста он сотрудничал в МГУ и ряде институтов, преподавал в духовной академии философию, а также являлся консультантом председателя ВСНХ Серго Орджоникидзе. В Соловках он работал в проектно-сметном бюро, где разрабатывались проекты на далекую перспективу. Он был очень скромен, даже застенчив, здороваясь, снимал шапку и низко кланялся, носил довольно длинную бороду и такие же узенькие очки в железной оправе, как и Петр Иванович Вайгель – мой учитель немецкого языка.
Харадчинский и Гройсман часто приходили в библиотеку. Я набирал по их спискам 20—25 книг, а они в это время расспрашивали о моих делах. Часто заходили два Флоринских. Один из них был весьма несимпатичный – бывший заведующий протокольным отделом НКИД, другой – молодой, высокий, голубоглазый Лев Андреевич – студент Ленинградского политехнического университета. В будущем мы съедим с ним не один пуд соли. Мне нравился также Александр Дмитриевич Гедеонов – милый, образованный, тактичный летчик времен мировой и гражданской войн, сын генерал-лейтенанта, начальника Топографического управления Генштаба империи и внук директора Императорских театров Гедеонова. Хорошим читателем был Владимир Алексеевич Маклаков, младший брат двух известных деятелей России: старший, Василий Алексеевич, был депутатом Государственной думы и послом Временного правительства во Франции; средний брат, Николай Алексеевич, был министром внутренних дел в 1913—1915 годах (расстрелян в 1918 году). Примерно два раза в месяц появлялся Андрей Юльевич Руднянский – сторож на маяке, – из венгерских революционеров, избранный по рекомендации Ленина на II конгрессе Коминтерна секретарем Исполкома Коминтерна.
Самый молодой из активных читателей был Георгий Лукашов (1915 год рождения, специальность – техник коммунхоза, статья 58, пункты 8, 11: террор (срок 5 лет). Он был всего на четыре года и шесть месяцев старше меня. Его арестовали в конце 1933 года вместе с группой рабочих и техников, проводивших ремонт водопроводной сети под Большим театром. Их обвинили в «намерении взорвать Большой театр». Лукашов много читал, и подбор книг его был близок моим интересам. Мы познакомились. Он жил тоже во второй колонне в камере сотрудников проектного бюро, где он одно время работал чертежником. Мы вместе стали прорабатывать курс всеобщей истории средних веков и философию истории Гегеля, обсуждали, спорили, экзаменовали друг друга. Весной я попросил Петра Ивановича разрешить Лукашову заниматься вместе со мной немецким. Добрый Петр Иванович согласился. Сначала он познакомился с новым учеником отдельно, через несколько недель мы уже образовали целый класс. Учитель смеялся и говорил, что по правилам немецких университетов два слушателя – это уже аудитория. Дружба с Лукашовым восполняла отсутствие сверстников, хотя, по существу, мне всегда было интереснее общаться с пожилыми людьми, обогащенными знаниями и опытом, коих среди читателей было немало.
Появление в библиотеке новых читателей было всегда очень интересным. Как-то зимой 1936 года в библиотеку пришел высокий, заросший седой щетиной старик в прогоревшей каракулевой шапке и изодранном бушлате – типичный обитатель шалмана. Оглядевшись по сторонам и сняв шапку, он как-то очень приятно улыбнулся, поклонился и произнес несколько нараспев: «Соблаговолите записать меня в читатели».
При записи заполнялись стандартные формуляры (по общесоюзной форме) – этакие своеобразные анкетки, дополненные вопросами о статье и сроке. Взяв чистый формуляр, я в тон сказал:
– Соблаговолите для этого ответить на ряд вопросов.
Старик изобразил полную покорность и готовность.
– Фамилия?
– Бобрищев-Пушкин[22].
Выбиравшие книги читатели, как по команде, уставились на старика. Я тоже смотрел на него во все глаза.
– Вы участвовали в защите по делу Бейлиса? – спросил Финкельштейн, бывший председатель Московской коллегии адвокатов.
– Да, – сказал с неудовольствием старик, – защищали Бейлиса мой отец, Плевако и я.
– Ваш предок был декабрист? – продолжил я интервью.
– Ах, молодой человек, каких только предков мне не дал Бог, – загадочно сказал Бобрищев-Пушкин. – Ведь наш род от Радши происходит. XII век как-никак.
Когда я дошел до вопроса о партийной принадлежности, он сделал какое-то удивительно глупое лицо и прошептал:
– В кадетах ходил.
Было видно, что его развеселила эта дурацкая анкета, необходимая для записи в читатели, и он для развлечения «придуривался». «Специальность, профессия, род занятий» – гласил один из следующих вопросов.
– Все будете записывать?
– Да, – кивнул я, процедура записи становилась забавной.
– Адвокат – раз, актер – два-с. Помню, в Афинах в эмигрантские времена даже Ричарда III играл. Литератор – это будет три, шахматист, играющий на деньги – четыре, ненаряженный[23] – пятая и, наверно, последняя специальность.
– Адрес?
– Шалман первой колонны. Оставались дополнительные вопросы:
– Срок?
– Десять лет.
– Статья?
– Не ведаю, меня же не судили, – сказал старик.
– Что же мне записать?
– Запишите: из-за Маршака.
–?!
– Видите ли, – пояснил Бобрищев-Пушкин, – вскорости после моего возвращения в Россию прочитал я маршаковского «Мистера Твистера», но у меня неискоренимая адвокатская привычка: несправедливо обвиняемых защищать, ну и написал я в защиту мистера Твистера пародию в маршаковском стиле.
И он громко нараспев стал читать:
Дети, не верьте, все врет вам Маршак, Мистер Твистер совсем не дурак, Быть не могло этой глупой истории Ни в «Англетере» и ни в «Астории»…Остальное было понятно.
Шалман, где жил Бобрищев-Пушкин, помещался над каптеркой и занимал второй этаж хозяйственного корпуса. Это была огромная камера человек на 200. Народ там был самый разный: немецкие эмигранты-антифашисты, представители славянских народов, несколько финнов – нарушителей границы, афганцы, уйгуры, казахи, а также «друг степей – калмык» – прокурор Калмыцкой АССР, выбравший себе звучный псевдоним Роковой. Общей особенностью этой интернациональной компании была их «ненапряженность и занехаянность» Они не получали помощи ни от родных, ни от Международного Красного Креста, сидели на «диетпайке» (400 граммов хлеба и баланда), носили обноски лагерной одежды «третьего срока пользования». В шалмане был всегда какой-то банный шум, исходящий от скопища людей и усиленный резонансом от сводов потолка. В спертом влажном воздухе тускло мерцали под потолком лампочки, освещая мрачную картину соловецкого дна.
Однажды Бобрищев-Пушкин появился в библиотеке в необычном виде. Он был одет в бушлат и ватные брюки первого срока, на ногах у него были не кордовые ботинки, а новые серые валенки и только шапка была прежняя, прогоревшая. Гордо подбоченившись, он пропел: «In Sammet und in Seide schmuckt war er angetan!»[24]. И пояснил, что Агапов приказал одеть его в первый срок, что каптер немедленно исполнил.
Все были поражены. Обмундирование первого срока и валенки выдавались либо ударникам, перевыполнявшим норму на тяжелых работах, либо начальству из заключенных. Мы порадовались за старика и удивились добросердечности Агапова – грозного начальника Соловков.
Спустя день менять книги пришел Агапов-урка и шепотом спросил, видел ли я Бобрищева. Я стал описывать его новый наряд.
– Моя работа, – сказал, посмеиваясь, Агапов. – Встречаю старика около шалмана. Скрючился он на ветру, замерз, рванье не греет. Говорю ему строго: «Отец, топай в каптерку и скажи, что Агапов приказал одеть тебя в первый срок. Немедленно. Я Агапов. Понял? Повтори». Повторил старик распоряжение мое и в каптерку, а я в первую колонну и из окна смотрю. Минут через пятнадцать выходит старик весь в первом сроке. Только об этом никому, а то еще разденут старика.
Достоянием общественности сия анекдотическая история стала спустя несколько недель, но за это время новые одежды уже утратили новизну, и покушений на них со стороны начальства не было. До Агапова-начальника слух о проделке Агапова-урки не дошел.
В одно из посещений библиотеки Бобрищев-Пушкин, увидев, что я читаю книгу «Конституции буржуазных стран», спросил, какая из них мне больше по нраву. Я объяснил, что прочитал пока только австрийскую и начал бельгийскую, поэтому не имею данных для сопоставления. Тогда старик перегнулся через барьер и сказал: «Лучшая из них та, которая дает право обвиняемому отказаться от дачи показаний, то есть если человек не хочет давать показания, то вся мощь государственного аппарата не может заставить его. Это великое право защиты личности от государства». Я был озадачен: такое право показалось мне фантастическим, поскольку известно было, как в процессе следствия выбивались показания. В тот раз я не успел прочитать много конституций, так как книгу эту вскоре в связи с подготовкой новой Конституции Сталиным изъяли, но потом я установил существование такого конституционного права в некоторых странах.
Старый юрист еще не раз озадачивал меня. Летом 36-го, когда шел процесс Зиновьева – Каменева и других бывших лидеров, он присел ко мне на скамейку в сквере и спросил, знаю ли я, что в кодексе Юстиниана написано: «Всякое сомнение в пользу обвиняемого»? Я не знал. Бобрищев-Пушкин рассказал мне о кодификации римского права, выполненной в VI веке византийским императором Юстинианом, и об основном положении справедливого судопроизводства – презумпции невиновности. Согласно законодательствам зарубежных стран, обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана объективными, неопровержимыми доказательствами. Он же сам не обязан доказывать свою невиновность. Генеральный прокурор Вышинский, учитывая выдвинутый Сталиным тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к коммунизму, разработал теорию о значении признания обвиняемого в ходе следствия, согласно которой признания обвиняемого достаточно для установления его виновности. Поэтому целью следствия стало любой ценой получить признание обвиняемого, что значительно проще, чем поиск объективных доказательств вины.
– Этот мерзавец Вышинский старается выслужиться, искупить свое меньшевистское прошлое до 1920 года. Его теория и до пыток доведет. А «Тот», – Бобрищев показал пальцем вверх, – освободится от всех конкурентов и критиков, всех заставит признаться в том, что потребуется.
И он, превратившись в Ричарда III, произнес:
Неверный путь. Но нет уже помех, Я в кровь вошел, и грех мой вырвет грех, И слезы жалости мне не идут, Зарезав братьев, я расчистил путь.– Как нарушена законность, в какую бездну беззакония падает наше самое справедливое в мире государство, – с горечью воскликнул он. – Я уверен, что настанет время, когда об этом будет известно народу, но нас уже не будет.
Я перепугался и поднес палец к губам.
– Вы правы, Юра, – сказал он, – мне-то ничего не страшно, я скоро умру, а вам могут и неприятности быть.
В другой раз мы говорили о Павлике Морозове. Бобрищев-Пушкин задумчиво произнес:
– Помните «Детство» Горького? Как его дед говорил: «Доносчику первый кнут». Я думаю, что со временем этот печальный феномен будет изучаться историками и психологами как характерный показатель морали общества нашего времени.
Он помолчал и добавил из своего любимого «Ричарда III»:
Как долго будешь, Англия, в смятенье? Сама себя терзаешь в исступленье Брат брата убивал по воле подлеца, Сын по приказу убивал отца, Не дай, о Боже, видеть торжество обмана, Междоусобий затяни ты рану И с Белой розой Алую соедини.Эти слова выражали стремление Бобрищева найти путь примирения между старой интеллигенцией и Советской властью, за что он ратовал в эмиграции, являясь активистом «Смены вех» – эмигрантского течения, способствовавшего возвращению в СССР многих эмигрантов.
За интенсивными занятиями незаметно прошла зима. Наступил апрель, в кремле днем с крыш капало. Сверкали на солнце большие сосульки. Дни стали длинными. Подошла православная пасха. Отец Митрофан суетился больше обычного. Сортировал свои продуктовые запасы, что-то откладывал, куда-то относил. Вечером пасхальной ночи, когда я уже укладывался, он с таинственным видом сообщил: «Юра, Григорий Порфирьевич разрешил в кабинете нам собраться, заутреню отслужить и разговеться. Я на ночь останусь тут, а потом приготовлю все и тебя разбужу». Я спросил, кто же будет на заутрене. Отец Митрофан сообщил, что прибудут архиепископы: Новгородский – Аркадий Остальский, Самарский – Петр Руднев; епископы: Ставропольский – Лев Черепанов, Тамбовский – Николай Розанов – тот толстый старик с бородой, которого я увидел в сквере в первый день пребывания в кремле. Еще хотели пригласить епископов Костромского и Омского, но они работали сторожами и не могли оставить посты. А протоиерея Правдолюбова, хоть и митрофорного, Руднев не захотел. Не по чину ему с архиереями.
Тайная заутреня началась в полночь. На столике под портретом Дарвина стоял складень с иконами, горели три восковые свечки; стол в центре кабинета был закрыт большой (не лагерной) белой простыней, а на столе чего только не было. Крашеные яйца, копченый сиг, кетовая и паюсная икра, открытые банки со шпротами, гусиной печенкой, паштетом, банки с медом и вареньем, коробка с шоколадными конфетами, а в центре стола настоящий свежий, покрытый глазурью кулич и бутылка с красной жидкостью. Вино? Невероятно! Все архипастыри были в сборе, стояли лицами на восток, к Святому озеру, и тихо пели. К моему удивлению, пришел и Григорий Порфирьевич Котляревский. Мне показалось, что он смущен. Службу вел архиепископ Новгородский. Его бледное красивое лицо светилось экстазом, глаза были полузакрыты. Другие архиереи сосредоточенно молились.
Резкий стук в дверь читального зала прервал заутреню. Котляревский побледнел и, властным жестом остановив панику, прошептал: «Все немедленно в шкаф. Тихо идите в читальню и подходите к двери на лестницу, а я открою дверь из библиотеки. Как только они войдут в библиотеку, тихо открывайте дверь и вниз по лестнице без шума». В дверь продолжали стучать. Григорий Порфирьевич исчез, а отец Митрофан и Руднев схватили простыню-скатерть и со всем содержимым всунули в шкаф, куда я убирал постель. Остальский в это время засунул под бушлат складень с иконами, кто-то убрал свечи, все оделись и тихо прокрались к двери, ведущей из читальни на лестницу. В это время раздался громкий голос Котляревского: «Входите, гражданин начальник, здравия желаю» – и тонкий голос Михаила Моисеевича Мовшовича – начальника КВЧ. Отец Митрофан открыл засов, и архиереи, подобно обвалу, ринулись вниз. Сзади бежал тучный епископ Тамбовский, топая, как слон.
Отец Митрофан закрыл дверь и, тихо стеная, шмыгнул в кладовку, а я погасил свет и нырнул под одеяло. Из библиотеки неразборчиво доносились голоса. Прошло не меньше получаса, пока стук закрываемых дверей не возвестил об уходе незваных и опасных гостей. Вошел Григорий Порфирьевич, он был бледен, но улыбался. Он рисковал больше всех. Даже если бы его не посадили в штрафной изолятор, то теплое место он бы потерял. Одновременно возник из кладовки замерзший и перепуганный отец Митрофан. «Ироды! – тихо восклицал он – филистимляне! Сколько добра загубили!» – стенал он, разворачивая простыню. Вид был печальный. Роскошные яства перемешались. Масло от шпротов попало в мед и в варенье, икра залита сгущенным молоком, конфеты и яйца были перемазаны и помяты, вишневое варенье, как кровь, протекало через простыню на пол. Бутылка с жидкостью была цела.
– Это вино? – спросил я.
– Кровь это Христова! – в голос завопил обезумевший архимандрит.
Котляревский оборвал вопли и велел немедленно вытащить сей винегрет вон. Так закончилась соловецкая пасха.
Котляревский утром рассказал, что, когда Мовшович дежурит по управлению и ночью совершает обход кремля, он нередко заходит в библиотеку. Свежие книги посмотрит, отдохнет в тепле. А тут как на грех его дежурство пришлось на пасхальную ночь. Он, конечно, слышал топот убегающих архиереев, но тактично не подал виду. Отец Митрофан, разобрав к утру свалку яств, принес каждому к завтраку ломтик кулича и яичко. Вангенгейм отказался от пасхальных даров, сказав, что он никогда никаких авантюр не поддерживал. Котляревский подмигнул мне и кротко промолвил: «Авантюра авантюрой, а кулич отличный».
Культурно-воспитательная работа в Соловках была поставлена неплохо. Этому способствовал ряд обстоятельств. В системе ГУЛАГа с начала 30-х годов внедрялась модная идея «перековка», то есть перевоспитание преступников в лагерях посредством ударного труда и внедрения в сознание элементов социалистической культуры. Вследствие этого обстоятельства в каждом низовом подразделении были «воспитатели», а в структуре управлений – культурно-воспитательная часть (КВЧ), главная задача которой – перековка преступников в полноценных строителей социализма – осуществлялась путем поощрения ударного труда (сокращение срока заключения, улучшенное питание и обмундирование и т. п.), организации художественной самодеятельности, проведения бесед, наглядной агитации (лозунги, плакаты), издания газет.
Поскольку Соловки вошли в систему Беломорско-Балтийского комбината (ББК), то в них вовсю развернулась воспитательная работа. Везде кричали лозунги и плакаты о могучем действии перековки. В столице ББК Медвежьей горе выходила газета «Перековка», где печатались статьи о рецидивистах, ставших ударниками, получивших значок «Отличник ББК» и досрочно освобожденных, о проститутках и ворах, которые обрели новую жизнь, став замечательными звездами самодеятельности. В Соловках также издавалась газетка «Голос перековки», но редактору ее было труднее, так как 80 процентов заключенных имели более высокий культурный уровень, чем воспитатели, а ударники были в основном из заключенных по 58-й статье, которых рекламировать не полагалось.
Работа КВЧ в Соловках в основном сосредоточилась на развитии самодеятельности. Важнейшим обстоятельством, способствовавшим этому доброму делу, было изобилие профессионалов и любителей. К 1936 году соловецкий театр был заметным явлением. В театре было две труппы: драматическая и оперно-опереточная. Кроме того, три оркестра, симфонический, струнный и духовых инструментов; затем концертная бригада, цыганский ансамбль и агитбригада. Основной состав во всех театральных подразделениях состоял из заключенных, занятых на различных работах или ненаряженных. Они репетировали по вечерам, обретая второе дыхание в любимом деле. Звезды имели поблажки. Перед постановками и концертами их освобождали от работы, они получали премблюдо, право на дополнительные письма домой.
Для заключенных театр был источником радости, его любили, им восхищались. Помещение, отведенное под театр, перестроили из жилого корпуса, и оно находилось в том же здании, что и библиотека. В партере было около трехсот мест, в обширном фойе устраивались иногда выставки. Хорошо оборудованная сцена, осветительные установки – все это было как в настоящем театре. Декорации конструировались и расписывались театральными художниками. Для изготовления реквизита и костюмов существовала специальная маленькая мастерская. Начальство щедро субсидировало театр, гордилось им, и все начальники и другие вольные непременно посещали премьеры. Вольные обычно занимали первые ряды, а большое начальство – ложи. Два раза в неделю в помещении театра показывали кинофильмы.
Драматической группой руководил известнейший режиссер Александр Степанович Курбас – наш Лесь, как называют его сейчас на Украине, ставя в его честь мемориальные доски и присваивая его имя улицам и театрам. Он погиб в лагерях, как и большинство других, реабилитированных посмертно. В 1916 году Курбас организовал «Молодой театр» в Харькове, который прославился постановкой спектакля «Царь Эдип». Руководя столичным театром, Лесь получил звание народного артиста УССР. В то время «народных» можно было перечесть по пальцам. Его называли украинским Мейерхольдом, но его новаторство было не формально-декорационное, а направленное на раскрытие образа и подтекста. Гастроли театра в западноевропейских странах прошли с огромным успехом. В 1934 году Курбаса арестовали, кажется, за встречу с украинскими националистами во время зарубежных гастролей и прислали в Соловки. Я видел поставленные им спектакли: «Аристократы» Погодина (о перековке в лагерях), «Интервенцию» Славина, остроумную французскую комедию «Школа налогоплательщиков», где бывшие эмигранты прекрасно играли французов начала 30-х годов, комедии Лабиша «Путешествие Перишона» и «Птички».
Ставил он и Островского, и даже Сухово-Кобылина «Свадьбу Кречинского».
Оперно-опереточной труппой руководили двое: Леонид Федосеевич Привалов – премьер Бакинской оперы, хороший тенор, друг и одноделец профессора Ошмана, получивший пять лет из-за бюста Сталина (Привалов дожил до реабилитации), и князь Андронников, родственник известного в Петербурге авантюриста князя Андронникова – приятеля Распутина. Курбас, как режиссер, тоже помогал этой труппе. Привалов поставил оперу Рубинштейна «Демон» и сам пел в заглавной роли. Тамару пела рижская певица Лилихалик, Гудала – бывший полковник Глущенко, Синодала – инженер Равич из ЦАГИ. Андронников поставил «Периколу» и сотворил оперетту «Мирандолина» по мотивам «Хозяйки гостиницы» Гольдони, использовав музыку ряда популярных оперетт. «Мирандолина» имела огромный успех. На эти спектакли приезжали даже начальники ББК из Медвежьей горы.
Женские роли в спектаклях всех трупп исполняли дочь профессора Самарцева, дочь профессора Ошмана – Нина, жена расстрелянного председателя Совнаркома Татарской АССР Мухтарова Анна Вячеславовна Бриллиантова и др. Они же участвовали в концертной бригаде, где выступали и Привалов и другие звезды вокала. Ярким участником этой бригады был профессор Московской консерватории Николай Яковлевич Выгодский, пианист-виртуоз.
Симфоническим оркестром дирижировали Щербович и Вайн. Щербович – первая скрипка оркестра Большого театра – часто выступал и как солист. Струнным ансамблем руководил Осипов. Духовым оркестром управляли преимущественно военные дирижеры.
Агитбригаду возглавляли братья Валаевы – Рустем и Ростислав. Они писали тексты в прозе и в стихах по заказу КВЧ, отмечая в сатирической форме нарушения и нарушителей лагрежима, хваля наши достижения и проч. Распевали или рассказывали со сцены по этим текстам два довольно старых одессита – Фрид и Брискин, или крупный бандит, участвовавший в ограблении ЦУМа весной 1935 года – Аркашка Зингер. Он сидел вместе со мной в камере № 68 в Бутырках.
Цыганский ансамбль был экстра-класса. Во-первых, в него входили только виртуозы из Марьиной рощи, во-вторых, руководил ансамблем сам цыганский король – Гога Парфенович Станеску. В начале 30-х годов правительство стало добровольно-принудительно прикреплять цыган к земле, чтобы покончить с безобразием кочевой жизни, нарушавшей паспортный режим СССР. В Москве в Марьиной роще жило много цыган, там был общесоюзный цыганский центр, и во главе его стоял выборный старшина, который романтично назывался цыганским королем. После паспортизации в 1933 году многие тысячи цыган были арестованы за бродяжничество и высланы из Москвы, другие успешно устроились на какие-то работы, но центр был разгромлен, и король умер. Тогда цыгане тайно провели выборы нового короля, избрав Станеску, огромного цыгана средних лет, довольно образованного и одаренного хорошим голосом. Станеску правил около года, но в одну зимнюю ночь был взят со своим двором и штабом. Им предъявили большой «букет», в том числе шпионаж в пользу Румынии, дали кому восемь, кому десять лет и отправили в Соловки. Здесь хитрый король организовал прекрасный ансамбль цыганской песни и пляски, в коем сам пел и дирижировал. Большинство цыган были ненаряженными, но все получали много посылок, жили в одной камере, официальным старостой которой был король Гога Парфенович.
Концерты или спектакли бывали два раза в месяц. В библиотеку всегда присылали хорошие билеты, и мы не пропускали ни одной премьеры. Особенно хороши были новогодние концерты в 36-м и 37-м годах. Умный, острый конферансье Андреев – веселый толстячок – умело вел концерты, иногда вставляя довольно рискованные остроты в адрес начальства. Андреева в 33-м году, когда в Соловках было голодно, чуть не съели урки в подвале под Преображенским собором. Его уже затащили в подвал, засунули в рот кляп и обсуждали, как его убить и разделать, но в это время на них напала опергруппа. Поэтому Андреев вошел в соловецкий фольклор не только как конферансье, но и как «сто обедов для людоедов».
В число артистов-любителей принимали и совершенно незнакомых ранее с театром; но двух бесспорно способных актеров в труппу не привлекали, несмотря на их просьбы. Это были два самозванца: император Николай II и его сын цесаревич Алексей. Они в течение ряда лет играли роли высочайших особ в уральских и сибирских деревнях, взимая обильную дань с верноподданных. Мужичок, выдававший себя за царя, малограмотный, хитрый, имел сходство с изображенным на дешевых портретах монархом. Цесаревич – провинциальный артист по фамилии Замятин – был образован, сравнительно молод (около 30 лет), красив, и при желании в нем могли найти некоторое сходство с Алексеем. Идея самозванства родилась у Замятина, когда он случайно в поезде разглядывал соседа – бородатого мужика и узрел великое сходство с царем. Конечно, не с царем на троне, а с царем-изгнанником, который в рабском виде, таясь, странствует по родимой России.
Замятин умело расположил цареподобного мужичка в свою пользу, выяснил некоторые обстоятельства его житья-бытья и, посмеиваясь, сказал тихо: «Вы очень похожи на государя. Известно это вам?» Мужичок в свою очередь посмеялся и сказал, что несколько лет тому назад в Екатеринбурге его даже арестовать хотели из-за этого сходства. Замятин сошел с поезда вместе с мужичком в Оренбурге, хотя ему надо было ехать дальше, и в ближайшей нэпманской харчевне раскрыл мужичку блестящие перспективы самозванства. Зимой они ходят по деревням, по богатым домам, играют в царя-изгнанника, получают немалое подаяние, расплачиваясь за него наградными грамотами, сулящими после восстановления монархии немалые льготы помогавшим в тяжелые годы монарху и его наследнику. Летом компаньоны будут жить в свое удовольствие на собранную за зиму дань на благословенных курортах юга.
К концу дня высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. В ближайшие дни Замятин организовал печатание на хорошей бумаге грамот, в которых указывалось, что великие государи – император и самодержец всероссийский Николай II и цесаревич Алексей – жалуют верноподданного нашего, нам, великим государям, помощь немалую оказавшего в годы смуты тяжкие. Далее оставлялось пустое место для вписывания, кого и чем жалуют. Ниже стояли скопированная Замятиным подпись Николая и придуманная им же подпись Алексея. Начинался 1929 год.
В течение трех лет компаньоны успешно гастролировали, хотя уже при раскулачивании и обысках у некоторых «верноподданных» оказались в тайниках жалованные грамоты, и ОГПУ искало самозванцев. В 1932 году богатые крестьяне были уже ликвидированы и деревни превратились в колхозы, где и сами-то мужики пояса затягивали потуже. Первая же попытка собрать дань с горожан окончилась провалом. Компаньоны получили по десять лет и приехали в Соловки, где не пользовались никаким решпектом. Николай II стал сторожем, цесаревич трудился на общих работах. Для полноты соловецкого паноптикума присутствие самозванцев было просто необходимым.
СОЛОВЕЦКОЕ ЛЕТО
Увы, что нашего незнанья И беспомощней и грустней? Кто смеет молвить: до свиданья Чрез бездну двух или трех дней? Ф.И. ТютчевЛето 1936 года началось рано и сопровождалось усилением напряжения как во внутренней политике, так и в международных отношениях. Происходила поляризация сил. 7 марта Германия ввела войска в демилитаризованную Рейнскую зону, расторгнув Локарнский договор, как бы в ответ в апреле во Франции на выборах одержал победу Народный фронт. Австрия ввела всеобщую воинскую повинность и усилила сближение с Германией. Япония после февральского военного путча усиливала Квантунскую армию и т. п. Внутри страны ужесточался режим. Доходили слухи, что разогнали «Общество старых большевиков» и «Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев», закрыли их печатные органы и арестовали руководителей. Из писем, присланных с воли и написанных эзоповским языком, просачивались сведения об усилении арестов в Москве, Ленинграде, Киеве и многих других городах.
В июне умер Горький. На процессе 36—37-го годов официально было объявлено, что он был отравлен, как Куйбышев и Орджоникидзе, троцкистско-зиновьевской бандой, а через 20 лет выяснится, что Орджоникидзе застрелился, как и вторая жена Сталина Аллилуева, а Куйбышев и Горький умерли от болезней. В Соловках в связи со смертью Горького ожили воспоминания о его поездке на Соловецкие острова в 1929 году, которая была вызвана трагическими событиями в СЛОНе.
В 20-х годах в зарубежной прессе, особенно эмигрантской, нередко упоминали об ужасах в Соловецких лагерях. В 28-м году эта тема привлекла внимание международной общественности в связи с письмом, написанным кровью на досках, обнаруженных в штабелях пиломатериалов, привезенных английским лесовозом из Соловков. Писали о находке между досок отрубленной кисти левой руки с оригинальной татуировкой, которая, как выяснилось при расследовании, принадлежала исчезнувшему несколько лет назад английскому моряку. Кровавые письма вещали об истязаниях и молили о спасении. Общественность ряда стран потребовала расследования. Были организованы комиссии. Для успокоения общественного мнения в 1929 году в Соловки был послан Горький. Говорили, что эту акцию предложил Сталин.
В соловецком эпосе это событие излагалось примерно так.
К приезду высокого гостя Соловки привели в пристойный вид: побелили здания в порту и внутри кремля, обновили лозунги, насадили цветы, выдали новую одежду тем, кто был в состоянии работать, а «доходяг» перевезли в глухие лагпункты, скрытые в лесах большого острова или на других островках архипелага. Доходягами называли тех, кто был настолько изможден физически, да и духовно, что дошел до предела расчеловечивания. Убирали с глаз и известных общественных деятелей, с которыми Горький мог встречаться в прошлые годы.
Вначале все шло гладко. Горький любовался Соловками. «Словами трудно изобразить гармоническое, неуловимое сочетание прозрачных нежных красок Севера… Над морем густо-зеленые холмы, и на фоне холмов кремль монастыря… как постройка сказочных богатырей» – писал потом Горький. Ему показали электростанцию, док, мастерские, ботанический сад, систему каналов, соединяющих озера между собой и морем, уникальную монастырскую библиотеку. Он, конечно, знал, что все это сотворено монахами, как и чудесные постройки кремля, но делал вид, что верит в рассказы о преобразующей деятельности соловецкого начальства, и щедро хвалил:
«Хорошо-то как! Молодцы, замечательное дело творите! Опишу, опишу!»
Потом Горький захотел посмотреть Секирную гору. Начальство не смело перечить и предоставило гостю экипаж, свита разместилась на дрожках и поехали. На Секирной горе Горький и церковь знаменитую посмотрел, и маяк, и пейзажами полюбовался, особенно серебряной гладью озера Красного, изукрашенного зелеными островками. И захотелось ему к этому озеру проехать, благо было до него всего километра два. Тут-то и произошла беда.
На перекрестке дороги Горький повстречал колонну лагерников-лесорубов. Они шли попарно. Каждая пара несла на плечах тяжелое бревно. Согнутые спины, опущенные головы, рваная одежда, лапти на ногах. Сбоку колонны шли стрелки. При виде начальства колонна остановилась, головы поднялись. Остановился и экипаж Горького. Он сидел, опираясь на трость, и растерянно смотрел на серые истомленные лица.
– Алексей Максимович, здравствуйте! – закричал кто-то из колонны.
Несколько пар бросили бревна и устремились к экипажу.
– Погоняй, что встал! – закричал начальник управления кучеру.
– Погодите, – сказал Горький, вставая в экипаже во весь рост.
– Это Горький, Горький! – кричали в колонне. – Горький! Спасите нас! Мы погибаем!
– Спокойно, товарищи. Говорите кто-нибудь один. – сказал глухо Горький. Стало тихо.
– Алексей Максимович, вы меня не узнаете? Мы с вами вместе сидели в тюрьме в 1905 году, – спокойно сказал, сняв шапку, седой иссохший старик. – А потом вы меня в своей газете печатали. Много нас здесь, прошедших через царские тюрьмы, а эту не переживем.
Он закашлялся, сплевывая кровь. Горький стоял в экипаже и тихо плакал.
– Надо ехать, – прошептал начальник и толкнул кучера. Экипаж рванулся.
– Напишите заявление! – крикнул, оборачиваясь, Горький.
– Кому? На деревню дедушке? – крикнул старик и стал поднимать бревно.
Сытые лошади шустро везли экипаж. Горький вытер слезы и сказал:
– Светло-то как, а по часам-то в Москве уже ночь.
В очерках о Соловках все было в розовых и голубых тонах, и встреча у Секирной горы Алексеем Максимовичем не упоминалась.
Лето 1936 года в Соловках было очень теплое. Во время перерыва я уходил читать в сквер и садился на лафет пушки, стоявшей у часовни для водосвятия. Там красиво, спокойно и хорошо заучивались немецкие стихи, запоминалась хронология исторических событий, и с особенным вкусом читались «Пармская обитель» Стендаля и романы Гюго. К сожалению, из кремля выйти на природу было невозможно. Я с грустью смотрел на Святое озеро из окна кабинета и думал, что короткое лето пролетит незаметно, и потянутся серые осенние дни, переходящие в зимнюю полярную беспросветность. Но грустить было некогда. План самообразования надо было выполнять.
Летом заключенные в кремле чувствовали себя свободнее. Прекращались тяжелые работы по очистке от снега дорог и заготовке дров. Больше было ненаряженных. Организовывались шахматные турниры (в Соловках было много сильных шахматистов: Бестужев-Рюмин, Ясенев– Круковский, Хабленко и др.), устраивались диспуты. Один из диспутов на тему «Теория омыления и диалектический материализм» пародировал широко известную в то время книгу Н.И. Бухарина «Теория отражения и диалектический материализм».
В кремле появился горный инженер Грицай, широко образованный специалист. Его отправили в Соловки за анализ рекорда Стаханова, в 1935 году выполнившего 1400 процентов нормы на добыче угля на шахте «Центральная-Ирмино». Грицай доказывал, что сам факт перевыполнения нормы на 1400 процентов указывает на абсурдность этого рекорда. Если норму можно перевыполнить в четырнадцать раз, то что это за норма? А если «норма» – это действительно большой объем тяжелой работы, выполняемой забойщиком, и она перевыполнена в 14 раз, то, значит, на рекордиста работали также и помощники. И Грицай приводил данные, сколько шахтеров работало «на подхвате» у рекордиста. Грицай рассказывал о многочисленных арестах среди горняков, критически относящихся к таким рекордам. Горный инженер с интересом просматривал статьи о стахановском движении, заполнявшие журналы того времени.
В библиотеке читатели неоднократно устраивали мне блицэкзамены по любым вопросам. Как-то в кабинете научной литературы вечером, когда я заменял заболевшего Веригина, несколько читателей стали экзаменовать меня по текущей политике. Называли фамилию политического деятеля, а я должен был сказать, из какой страны и кто он. Если я правильно называл страну и должность деятеля, я получал два очка. Я набрал 88 очков из 100, назвав в том числе кардинала Пачелли – статс-секретаря Ватикана, Пьера Лаваля – французского премьера и Вильгельма Пика, ставшего в 1935 году председателем Коммунистической партии Германии.
Публике игра понравилась, мне стали задавать более сложные вопросы по оценке ситуации. Наконец один весьма почтенный деятель спросил, что я думаю по поводу поездки Функа на Балканы. Я ответил немецкой пословицей: «Feuer fangt von Funke an»[25]. Старики затрясли бородами, молодые аплодировали. «Словно Христос среди учителей», – раздался голос самого знаменитого из соловецких ученых профессора Павла Александровича Флоренского, который незаметно подошел и стоял, прислонившись к двери, слушая экзамен. Войдя в кабинет, он пояснил, что есть известное полотно В.Д. Поленова на сюжет из жизни Христа, где его, еще мальчика, экзаменуют в храме учителя и удивляются его знаниям[26]. После этого экзаменаторы стали прогнозировать перспективы моей биографии, то нарекая мне блестящую ученую карьеру, то предсказывая пост министра иностранных дел. Тут вмешался профессор Яворский, известный украинский историк: «Все может быть, если он доживет до…» Все замолчали, а один деятель сказал: «Юра, я составлю вам гороскоп».
Гороскоп был действительно составлен. Для составления гороскопа я должен был сообщить только дату, день и час рождения, дату крещения и день именин, координаты места рождения. Гороскоп имел вид чертежа на ватмане (из ресурсов ПСБ), где в центре реконструировано положение звезд и планет в день моего рождения с поправкой на час суток и склонение, исходя из координат места рождения, в правом и левом верхних углах были еще какие-то чертежи и цифры, а внизу краткий текст, излагающий содержание. Согласно гороскопу, я родился под знаком Стрельца, следовательно – любомудр, в делах и науках удачлив, но вызываю зависть окружающих, что у меня будет две законные жены и т. п. Также указывалось, что жизнь моя разделена на две части и если не прекратится на 33-м году, то может продлиться до 88 лет, не то до 1988 года, но это было слишком далеко и, во всяком случае, обещало еще очень долгую жизнь, в чем я далеко не был уверен. Мне неблагоприятны числа 5 и 11 и соответственно эти даты. Были отмечены тяжелые годы, начиная с 38—39-го и далее с интервалами шесть-семь лет, пик неприятностей наступает в пределах двух смежных лет. Было указано еще много деталей, в том числе такие приятные, как «любовь женщин будет вам сопутствовать», и «общее изменение фона вашей жизни произойдет в год, следующий за девятым високосным годом, считая от года рождения». Это опять указывало на 33-й год моей жизни. К сожалению, через полгода при обыске гороскоп был отобран как нечто непонятное, а следовательно, опасное для лагерного режима.
Из указанных в гороскопе чисел оба «работали». Обычно неприятности мои приходились на 5-е и 11-е числа. Так, например, арестован я был 5 мая 1935 года, то есть 5.V.35. Налет на лазарет дежурного по управлению Михайлова был ночью 11 ноября, то есть 11.XI. Вспоминая прошлую жизнь, я нашел еще ряд случаев, происшедших 5-го и 11-го, и стал относиться с почтением к моему гороскопу. Петр Иванович, посмотрев на чертеж гороскопа, произнес из Шиллера:
Und der Mensch versuche die Gotter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnadig bedecken mit Nacht und Grauen…[27]И очень интересно изложил идею о непредвидении будущего, о непредсказуемости событий как величайшем благе, связанную с представлением о свободе воли – одним из важнейших положений философии и теологии.
Второй человек, узревший гороскоп, был Георгий Лукашов, с которым я подружился в конце зимы. Он очень внимательно проанализировал гороскоп и отметил, что первый тяжелый год – 1938-й совпадает с годом окончания моего срока.
– Вот это будет генеральная проверка, – серьезно сказал Жоржик. – Может быть, дадут второй срок или добавят.
– Но дважды за одно не отвечают. На этом стоит юстиция! – возразил я.
– Но юстиция по-русски значит справедливость. А где же у нас справедливость? Если подойти справедливо, то 70—80 процентов соловчан не должны быть даже арестованы, а не то, что получать сроки!
Это было очевидно. Через 20 лет все те, кто остались в живых, были реабилитированы, и многие были реабилитированы посмертно.
Июль ознаменовался двумя событиями. Во-первых, началась гражданская война в Испании. Сигнал «по всей Испании безоблачное небо», переданный в эфир мятежными генералами, означал сгущение туч над Соловецким архипелагом. Опытные политики прогнозировали усиление режима и в лагерях, и в стране в целом. На этом тревожном фоне особенно поразительным было известие о разрешении свидания с мамой. Сначала мне об этом официально (под расписку) объявили в колонне, а через несколько дней я получил письмо, где мама писала, что при помощи Крупской ей разрешили свидание продолжительностью десять часов с правом использовать все часы в одни сутки или растянуть на пять дней по два часа в день. Мама, конечно, выбрала второй вариант.
Мои коллеги и знакомые очень удивлялись. Свидание в Соловках – событие небывалое. Я не мог удовлетворить их любопытство, так как мама не писала, каким путем она решила столь трудную задачу. Упоминание о Крупской ничего не проясняло, так как жена Ленина в то время не была в милости у Сталина и не имела веса ни в государственных, ни в партийных кругах.
За два дня до свидания мне объявили, что меня вывезут на Морcплав—базу Соловецкого лагеря на материке, где я буду находиться в изоляторе, в отдельной камере все пять дней. Из камеры под конвоем меня будут выводить на свидания к маме. С Морсплавом я был знаком, поскольку по пути в Соловки наш этап пробыл две недели в этом «благословенном» месте. Навек запомнились серые голые гранитные глыбы на которых стояли лагерные бараки, клумбы, где рос вместо цветов чахлый овес, двойное ограждение из колючей проволоки. Справа за проволокой виднелся причал и серое, мрачное море. По сравнению с зелеными лесами и лугами, голубыми озерами и бухтами соловецких островов различие огромное. Мрачное место для свидания.
В день отплытия на свидание произошла заминка. В назначенный час я пришел в канцелярию колонны, но мне сказали, что конвоир за мной не пришел, и они ничего не знают. Я в ужасе вернулся в библиотеку. Коллеги очень сочувствовали. Но что они могли? Профессор Вангенгейм вдруг стал обувать «выходные» ботинки. «Иду к начальнику кремля, – пояснил он, – пусть обеспечит конвой сам, или я от него позвоню в управление. Предупрежу, что они срывают мероприятие, разрешенное Москвой». Вангенгейм пошел к начальству кремля, а я – в канцелярию колонны. Вскоре раздался первый гудок «Ударника» – того маленького пароходика, на котором я прибыл в Соловки. Первый гудок пароход давал за час до отхода. Время шло, а никаких известий не было. Наконец в колонну позвонили, чтобы мне выписали пропуск на выход из кремля в порт, а сопроводительные документы уже давно на корабле. Раздался второй гудок. Я схватил пропуск и побежал к проходной. Выпустили меня без задержки, и я помчался в порт. Третий гудок застал меня уже в порту. У трапа снова задержка. Часовой не имеет указаний, а мой пропуск действителен только на вход в порт, а не на выезд из Соловков. Я стал кричать изо всех сил, зовя капитана, коменданта порта и всякое другое начальство. Но рабочий день кончился, все начальники отсутствовали, кроме дежурного по управлению, который услышал мои крики и вышел в порт. Им был, к счастью, Михайлов, тот самый грозный начальник, который обнаружил меня спящим на дежурстве в лазарете, бывший военный атташе в Париже. Выражение его лица показывало, что он узнал меня. Я объяснил ситуацию. Михайлов прошел на борт и через несколько минут вышел с капитаном. Раздалась команда: «Пропустить!» Я влетел на корабль, следом подняли трап. «Спасибо!» – крикнул Михайлову. Он не ответил, но слегка улыбнулся и кивнул головой. Никто не знал, что пройдет немного больше года и все соловецкие начальники, в том числе и Михайлов, будут арестованы и расстреляны, как и многие ответственные работники НКВД.
«Ударник» медленно выходил из бухты. Солнце стояло низко и освещало кремль с северо-запада. Светло-голубое небо, отражаясь в почти такой же поверхности моря, смыкалось с ним незаметно, без линии горизонта. Был полный штиль. Я стоял на корме и не мог наглядеться на тающий в безгоризонтном просторе темнеющий силуэт монастыря.
Свидание с мамой, самым близким человеком, – что может быть радостнее?! Однако когда время встреч строго дозировано, когда за столом сидит тюремщик и вслушивается в разговор, когда с каждым днем приближается конец, тогда свидание превращается в болезненную нервотрепку.
В первый же день свидание состоялось с двух до четырех часов. Мама приехала накануне и устроилась на житье в поселке. Она выглядела очень похудевшей, и ее прекрасные густые волосы сильно поседели, но лицо было спокойным, добрым, только очень напряженный взгляд выдавал ее состояние. Меня привели в отведенное нам помещение из внутренней двери, через минуту мама вошла из внешней двери. Посредине комнаты стоял длинный тонконогий непокрытый стол. Нас посадили по концам стола примерно на расстоянии двух метров, тюремщик сел посредине и объявил: «Свидание начинается. Во время свидания запрещается передавать друг другу вещи, записки. Запрещается говорить на иностранных языках. Запрещается говорить о недозволенном. В случае недозволенных разговоров надзиратель имеет право прервать разговор. При нарушении правил свидание будет прекращено».
Мама привезла огромный шоколадный торт собственного изготовления. Самый любимый из всех тортов. И спросила, как можно его передать. Тюремщик задумался.
– После свидания его расковыряем. Если недозволенного в торте нет – отдадим ему, – наконец сказал он.
– Что же может быть в торте? – удивилась мама.
– Нож может быть, спирт, патроны, – стал перечислять страж, загибая грязные пальцы.
– Можно я его сама здесь при вас разрежу?
– Не положено, – мрачно ответил стрелок.
– Тогда я на минуту выйду к начальнику, – сухо сказала мама. И через несколько минут вернулась с начальником.
– Вот, – указала мама на торт.
Начальник вынул нож и передал его маме. Мама достала из сумочки чистый платок, обтерла нож и разрезала торт на четыре части.
– Порядок, – важно сказал начальник и передвинул торт на мою сторону.
Я начал рассказывать о здоровье, о климате, о получении посылок. Тюремщик, потерпевший поражение в борьбе за право «ковырять» торт, ослабел и не прерывал нас. Разговор все же был какой-то неживой. Мама тоже сухо и осторожно рассказывала о посещении Андрея Ягуаровича (так за глаза звали Вышинского). Вдруг тюремщик сказал, что осталось пять минут. У мамы задрожали губы, но она справилась с болью, и мы простились.
Меня поместили в одиночной камере. Мне никто не мешал обдумывать ситуацию. Наконец я придумал несложный маневр. Я буду имитировать чтение стихов и в стихах расскажу больше, чем можно. Кроме того, монотонное чтение стихов вгонит в сон надзирателя. Приняв такое решение, я с удовольствием принялся за торт, который услаждал меня в продолжение пяти дней.
На другой день я сказал маме, что выучил много больших стихотворений Некрасова и хочу, чтобы она проверила, правильно ли я читаю.
Это тот Некрасов, который написал «Полным-полна коробушка», – пояснил я тюремщику.
Тот важно кивнул:
– Знаю.
Я подмигнул маме и начал читать монотонно:
Старики преученые всюду, Обучают наукам меня, Книги дивные я не забуду, Их впервые увидел здесь я.Мама вступила в игру и тоже стала читать:
Надя, Костина дочка, любезно Приняла вашу бедную мать И сказала: ее обижают, Заставляют с детьми лишь играть.Я понял, что речь идет о Крупской, которой была оставлена незначительная должность председателя общества «Друг детей» (ОДД). Со стороны наше бормотание стихов походило на какой-то нудный бред, но мы, освоив «технику», передали друг другу много полезной информации. Надзиратель задремывал, просыпался и даже на шесть минут проспал конец тайма.
Остальные три дня свидания проходили с десяти до двенадцати. Мама сказала, что, увидев меня своими глазами, поверила оптимистичному тону моих писем, и ей стало несколько спокойнее. Я продолжал убедительно рассказывать о прелестях соловецкого быта, в особенности о замечательном театре. Чем бы еще убедить маму, что моя эпопея закончится хорошо? И тут мне пришел в голову простейший расчет: Сталин старше меня на 40 лет, следовательно, вряд ли этот гнет долго продлится. И я спросил маму:
– Сколько получится, если вычесть из 919—879?
– Сорок, – сказала с недоумением мама.
Я скосил глаза на портрет вождя. Мама побледнела, и я догадался, что она поняла.
Последний день свидания прошел очень тяжело. Мама заметно нервничала и сказала, что ей невыносимо ждать еще два года, что она продолжит хлопоты о сокращении срока хоть на год, хоть на полгода. Окончились последние два часа. Мы простились. Я уезжал на «Ударнике» в 20 часов, и мама хотела провожать меня, выйдя на мыс, который огибают корабли, берущие курс на Соловки. Она будет махать большим белым платком.
Примерно за полчаса до отхода конвой доставил меня на борт корабля. Капитан разрешил стоять на корме. Мама, очевидно, была уже на мысу, но мне из порта мыс был не виден. Наконец «Ударник» выполз из порта, взял курс на мыс, и я сразу же увидел маленькую фигурку, взмахивающую белым платком. Я тоже без устали махал платком. Корабль прошел метрах в тридцати от скалы, где стояла мама, развернулся на Соловки, и скоро мама исчезла на фоне скал. Я бросил свой платок в море и заплакал, чувствуя, что никогда не увижу маму.
На другой день я появился в библиотеке, но был в таком подавленном состоянии, что никто не стал расспрашивать меня о свидании. В конце дня Котляревский, человек добрый и даже сентиментальный, завел меня к архиву, куда я давно стремился, попросил поработать в архиве и отобрать материалы по списку для начальника управления. Он предупредил, что закроет меня на замок, а через час выпустит. Я понял эту добрую затею Григория Порфирьевича. Он хотел отвлечь меня от горьких мыслей раритетами архива.
Я быстро подобрал несколько старых номеров «Большевика» и «Коммунистического интернационала» и стал смотреть книги из шкафа, на котором была наклеена надпись «Антиквариат». Вот там-то я и увидел роскошные редкие издания, которым и цены не было. Первым мне попался том «Божественной комедии», иллюстрированный Доре, затем «Орлеанская дева» Вольтера – прижизненное издание. Великолепное многотомное издание «Живописная Россия», но тут я вспомнил о журнале «Соловецкие острова» и сразу увидел их толстые погодичные сборники с Никольской башней на обложке.
Быстро пролистав подшивку за 26-й год, я нашел несколько интересных стихотворений и рассказов, в том числе о прибытии на Соловки полка охраны СОП (Соловецкий особый полк), в связи с попыткой вооруженного побега на захваченном заключенными пароходе. На другом стеллаже я нашел стенографические отчеты партийных съездов, начиная с VI (в июле 1917 года); раскрыл том со стенограммой Х съезда (1921 год) и был поражен резким тоном выступающих ораторов от различных фракций по вопросу о нэпе и критикой доклада Сталина по национальному вопросу. Это было поразительно. Не укладывалось в сознании, что Великих Вождей – Ленина и Сталина – могли запросто критиковать, да еще так резко. Заглянул я и в материалы II конгресса Коминтера (июль—август 1920 года) и ахнул, увидев на групповой фотографии нового состава ИККИ вместе с Лениным и Зиновьевым нашего Андрея Юльевича Руднянского – тогда секретаря Исполкома Коминтерна, а ныне сторожа маяка в Соловках и нашего активного читателя, помогающего Вангенгейму в иностранном отделе библиотеки. Да, в архиве много интересного, тут можно сидеть месяцами, а не какой-то час!
Когда Котляревский выпустил меня, оказалось, что я провел в архиве более двух часов. Я очень благодарил шефа за доставленное удовольствие. Он же просил об этом не распространяться и сказал, что допустил меня в эту обитель тайн для поднятия моего подавленного настроения. Григорий Порфирьевич придумал правильно. Это лекарство помогло войти в обычную колею: работа – ученье.
Котляревский выхлопотал мне через Михайлова и начальника КВЧ разрешение на второе дополнительное письмо, и с августа я уже посылал домой три письма в месяц, радуя родных. Я закончил планиметрию и боролся со стереометрией и тригонометрией. Успешно прорабатывалась физика, заканчивался курс географии. По-немецки я уже довольно бегло беседовал с Учителем, с другими немцами, с Жоржиком Лукашовым. План подготовки за 8-й класс уже был выполнен, и заканчивалась по основным предметам подготовка за 9-й класс.
Среди читателей время от времени возникали новые раритеты, которые тоже вносили некий вклад в познание мира, особенно в познание добра и зла. В августе в библиотеку заявился невысокий, чернявый, суетливый человечек средних лет, пытавшийся объясниться на какой-то многоязычной смеси, утяжеленной скверной дикцией и шепелявостью. Уловив в этой вавилонской смеси некоторые немецкие слова, я четко спросил: «Was wollen Sie? Sprechen Sie langsam und deutlich»[28]. Человечек взмахнул руками и как пулемет затараторил по-немецки, брызгая слюной и отчаянно жестикулируя.
Это был член КПГ и даже секретарь одного из берлинских райкомов, один из организаторов убийства Хорста Весселя – автора нацистского гимна. После 30 января 1933 года Купферштейн и его жена Элиза, тоже активистка КПГ, бежали во Францию, в Германии их заочно приговорили к смертной казни. Они были переправлены в СССР. Здесь супруги работали в Коминтерне, а потом Купферштейн съездил в АССР немцев Поволжья и вернулся, настроенный критически.
Вскоре Купферштейн, писатель-антифашист Георг Борн и кто-то из русских журналистов сидели в ресторане (очевидно, в «Национале»), и Купферштейн рассказывал антинацистский анекдот, сочиненный известным журналистом-антифашистом, лауреатом Нобелевской премии мира Карлом фон Осецки. Сей журналист был убийственно остроумен, и анекдоты его приводили фюрера в ярость.
Упомянутый анекдот звучал так: «Как известно, господь бог очень любит немцев. Так вот он решил осчастливить немецкую нацию, внедрив в немцев три прекрасных качества: честность, ум, членство в нацистской партии, но бог счел, что три качества на одного немца слишком много, и каждому из них подарил только два из трех. Таким образом, если человек умный и нацист, то он нечестный, а если честный и нацист, то неумный. Когда же он честный и умный, то он не член нацистской партии». Все посмеялись от души новому анекдоту Осецкого.
На другой же день Купферштейна арестовали и в числе многих обвинений предъявили «нацистскую пропаганду», убеждая, что Купферштейн хотел нацистский анекдот применить к нашей советской действительности. Купферштейн был очень оскорблен, что ему, антифашисту-еврею, инкриминируют «нацистскую пропаганду». Он не подписывал протоколы допросов, объявлял голодовки, требовал прокуроров и т. п. Наконец его послали в Соловки и посадили в СИЗО. Элиза, его супруга, начала искать мужа, а узнав причину ареста, развила такую деятельность, так надоела всем властям, что ее тоже отправили в Соловки, не указав ни статьи, ни срока. Когда супруги встретились, их, очевидно, за заслуги перед международным революционным движением перевели на открытый политрежим.
В кремле много было и других деятелей зарубежных компартий. Приходили часто в библиотеку два шахматиста-венгерца, Шаш и Барно. Невзрачный, щупленький деятель польской компартии Бараба не общался с другими поляками, также и секретарь ЦК КП Западной Украины Корбутяк не общался со своими земляками. Но они не общались и с Андреем Юльевичем Руднянским, одним из наиболее видных и образованных деятелей международного революционного движения, приземлившихся в Соловках. Руднянский был секретарем Исполкома Коминтерна – высшей международной инстанции для всех компартий мира. Лет сорок спустя в музее Ленина в Ташкенте я видел в одной из витрин удостоверение члена Коминтерна от какой-то азиатской страны, подписанное Руднянским.
Украинское землячество значительно пополнилось в 36-м году. Кроме соловецких старожилов – украинского академика Рудницкого, профессора Матвея Яворского (историк), Грушевского (историк) и националистов разных оттенков, от бывших коммунистов – последователей Скрыпника и Затонского до сторонников Петлюры и Коновальца, в последний год прибыло много украинской интеллигенции, в том числе группа неоклассиков. Неоклассицизм возник в начале XX века как художественное течение, противопоставлявшее декадентству строгость стиля античной литературы и искусства.
В начале 30-х годов в литературных кругах Киева были хорошо известны имена неоклассиков: Зерова, Лебедя, Филипповича, Рыльского. Наиболее маститым из них был профессор Зеров, великолепный латинист и поэт, переведший на украинский «Энеиду» и множество стихов Горация и Вергилия. Лебедь был весьма остроумный критик и теоретик украинского литературоведения. Третий неоклассик – Филиппович был в большей мере профессор, чем поэт, а Рыльский, тогда еще не академик, не герой и не депутат, в силу ли широты мышления или, как говорил Лебедь, «гибкости спины» хотя и ходил в неоклассиках, но писал в разных жанрах, сочетая лиризм с социальными заказами.
В 1935 году всех неоклассиков посадили, обвинив в заговоре, терроризме, попытке отторжения Украины и т. д. Люди они были видные, обвинение серьезное, дело шло под присмотром самого наркома внутренних дел Украины Балицкого. На первом этапе следователи установили общеизвестные истины, что обвиняемые знакомы и что они соглашаются с ярлыком «неоклассиков». Обвиняемые согласились с этим легко, а затем им было предложено признать и все остальное; тут-то и нашла коса на камень. Следователи считали, что согласие с таким неприличным ярлыком, как «неоклассики», – это уже есть признание в контрреволюционной деятельности, а признание общности взглядов – подтверждение существования заговорщической организации. «Нам все известно, – посмеивались следователи. – Неоклассики! В классики захотели при жизни, а какая инстанция это вам разрешила? „Энеиду“ переводили, рабовладельческий Рим пропагандировали, от Муссолини задание получали?..
Первым стал сдавать младший неоклассик – Максим Рыльский. Он признал, что пропагандировал в своих стихах буржуазный национализм и был уже готов согласиться на отторжение Украины и назначение себя и других неоклассиков в правительство самостийной Украины, как вдруг его вызвал сам Балицкий, предложил ароматный чай и сообщил о прекращении дела, немедленном освобождении и направлении для отдыха на правительственную дачу. Мило пошутив на тему о сложности жизни и бдительности, нарком выразил надежду, что товарищ поэт и впредь будет писать такие же хорошие стихи.
Совершенно сбитый с толку, Рыльский находился как в тумане. Его моментально оформили, выдали вещи, побрили и вывели за заветные ворота. Но тут произошла неувязка: поэта выпустили из внутренней тюрьмы НКВД раньше, чем за ним приехала машина, чтобы отвезти на дачу, и он вышел в шумный жаркий город. Сил ему хватило только дойти до ближайшего столба. Голова кружилась, ноги не держали. Сердобольные киевляне окружили бледного человека, едва державшегося за столб. Посыпались вопросы, советы, предложения о помощи. Первым до его сознания дошел вопрос, откуда он? «Отсюда», – сказал он, показывая на известный дом. Добрых киевлян как ветром сдуло, но тут подъехала машина, и его забрали отдыхать на дачу.
На даче высокопоставленный руководитель украинской культуры поздравил его с высокой оценкой, которую дал товарищ Сталин его последним стихам, где было посвященное ему стихотворение. Просматривая, как обычно, по ночам новые книги, Иосиф Виссарионович, прочитав отмеченное секретарем стихотворение о Великом вожде, наложил резолюцию: «Автора поощрить, может быть, из него со временем выйдет новый классик украинской литературы».
Как известно, прогностические резолюции Иосифа Виссарионовича оправдывались полностью, и младший неоклассик стал не только классиком при жизни, а также и депутатом, академиком, героем, а его коллеги, получив по десять лет, прибыли в Соловки, где часто вечерами под монастырскими сводами звенела латынь Вергилия и Горация. Их реабилитировали посмертно.
В конце лета в библиотеке появился еще один интересный человек – Петр Семенович Арапов. Его выпустили из-за плохого здоровья из СИЗО, где он находился более двух лет, заработал цингу и потерял половину зубов. Политрежим и политпаек в лагере ему не полагались, так как Арапов не только не принадлежал к революционным партиям, но, наоборот, воевал в гражданскую войну на стороне белых и был адъютантом, а потом начальником конвоя у своего дяди барона Врангеля. Араповы – старинная русская фамилия; среди членов ее были и генералы, и сановники, и историки. В библиотеке была книга А.М. Арапова «Летопись русского театра». Родственные связи Араповых – пензенских помещиков—были очень широки, включая Столыпиных, Римских-Корсаковых, Лермонтовых, Апраксиных и т. д. По врангелевской линии также было много знатной родни, а известный путешественник адмирал Врангель был прадедом Петра Семеновича.
Петр Семенович имел прекрасное образование: окончил Пажеский корпус, был выпущен корнетом в конногвардейский полк перед мировой войной. В эмиграции он учился в Пражском и Венском университетах, слушал лекции в Сорбонне и Оксфорде, знал в совершенстве русский и французский языки, а также итальянский, немецкий, английский.
В детстве в Италии, где его отец был послом, он подружился с Эдуардом, сыном герцога Виндзорского. Этот мальчик в 1936 году стал английским королем Эдуардом VIII. Перед революцией Арапов входил в окружение князя Феликса Юсупова и даже участвовал в подготовке покушения на Распутина, но в день убийства старца дежурил по полку. Великий князь Дмитрий Павлович хотел просить командира полка заменить Арапова, но Юсупов отклонил это предложение, и с Распутиным Юсупов, Пуришкевич и Дмитрий Павлович расправились втроем. Петр Семенович очень детально рассказывал об этом захватывающем происшествии.
Арапов был прекрасный рассказчик. В процессе повествования он перевоплощался то в одного, то в другого персонажа. Его большие серые, необычайно выразительные глаза резко контрастировали с беззубым ртом и изможденным лицом, но когда оно освещалось мягкой сдержанной улыбкой, оно было одухотворенным и очень симпатичным. Все знавшие последнего главнокомандующего белыми армиями говорили, что Петр Семенович весьма похож на него, особенно в белградский период деятельности Петра Николаевича.
Я как-то спросил Арапова, похож ли самозванец на Николая II. Петр Семенович сдержанно улыбнулся и сказал: «Самозванец похож на плохой портрет государя, и это способствовало „узнаванию“ его мужичками, но глаза, глаза Николая II, они несравнимы. В них обаяние, скорбь, обреченность».
Петр Семенович бывал в библиотеке ежедневно. Я очень хотел познакомить моего Учителя с Араповым и понемногу уговорил замкнутого прелата. Петр Семенович согласился охотно, сказав, что с удовольствием поговорит с ним на всех языках. В назначенное время, после очередного урока. Арапов постучал в дверь кабинета и, получив приглашение, вошел, слегка поклонившись. Я представил их друг другу. Петр Семенович начал разговор по-немецки, а затем перешел на итальянский. У прелата сквозь обычную невозмутимость лица светилось удовольствие, и его бледные щеки даже чуть порозовели, а я наслаждался музыкальностью итальянского языка. Разговор закончился по-французски. Они понравились друг другу. Потом Учитель сказал с бледной улыбкой, что у них есть общие знакомые: кардиналы Ледоховский, Фаульгабер и поэт Вячеслав Иванов. Арапов же с большим уважением говорил, что он бы хотел перед смертью исповедаться у моего Учителя.
Арапов сидел давно, кажется, с 29-го года. Он еще принимал участие в похоронах Врангеля в Белграде в 1928 году и рассказывал, как гроб с его прахом был замурован в стене русской церкви в Белграде и закрыт доской со скромной надписью: «Петр Николаевич Врангель». После смерти Врангеля главнокомандующим РОВС[29] стал генерал Кутепов, который исчез в Париже в 1930 году. Я очень хорошо помню статьи в «Известиях», посвященные этому событию. На Западе господствовала версия о его похищении и тайной переброске в Москву, поскольку он энергично принялся укреплять РОВС и усиливать агрессивность этой еще очень опасной организации. Наша пресса отвергла эту версию. Так вот Арапов утверждал, что видел в конце 30-го года Кутепова на Лубянке. Они по недосмотру тюремщиков встретились в коридоре, когда Петра Семеновича вели с допроса, и узнали друг друга. Арапова сразу поставили лицом к стене и завернули на лицо рубашку, а Кутепова моментально увели. На следующем допросе Арапова неожиданно спросили, с кем он встретился? Петр Семенович ответил недоуменно: «Не знаю». Больше следователь к этому не возвращался, но Арапов был уверен, что видел Кутепова: лицо Александра Павловича было настолько характерно, что ошибиться было невозможно. Лишь года два спустя Арапову стало известно об исчезновении Кутепова.
Как-то уже осенью, обрабатывая новые книги вместе с Араповым, мы разговорились о крымской эпопее, и он рассказал об эвакуации Севастополя, об отплытии на французском крейсере вместе с Врангелем, о галиполийском «сидении» белой армии, о передислокации в Болгарию, а затем в Сербию, о царе Борисе болгарском и короле Александре I сербском (с 1929 года – король Югославии), о трудном положении и распрях, разъедающих белую эмиграцию. О его участии в деятельности, как он говорил, самой активной части РОВС. Он несколько раз был в России как связник-инспектор. В последний раз под фамилией Семенов.
Я много думал о судьбе Арапова, и у меня возник деликатный вопрос, не дававший покоя. Однажды я спросил, надеется ли он получить освобождение после конца срока.
– Нет, меня не выпустят.
– Не надеетесь ли вы на освобождение в результате войны?
– Нет, тогда меня заблаговременно расстреляют.
– Нравится ли вам жить в условиях лагеря?
– Ни в коей мере.
Тогда я задал тот деликатный вопрос, который хотел выяснить: «Зачем же вы живете?» Петр Семенович рассмеялся и сказал, что он мне ответит, но в свою очередь задаст такой же вопрос. Я согласился, и тогда Арапов серьезно и грустно сказал:
– Я не могу покончить жизнь самоубийством. Это тяжкий грех, запрещенный церковью. Церковь предоставляет мне свободу воли в выборе: совершить грех или не совершать. Я дважды чуть не совершил этот грех: в первый раз, когда меня брали, я выстрелил в сердце, но пуля прошла левее, и меня вылечили в тюрьме; во второй раз я пытался повеситься на спинке кровати в камере на Лубянке, но и здесь мне помешали. После этого я долго размышлял и молился и принял твердое решение не выбирать легкий путь ценой тяжкого греха. Я религиозный человек, Юра!
Мой ответ на аналогичный вопрос Арапова был краток:
– Я моложе вождя на 40 лет, и это мой главный шанс.
– Юра, вспомните сиракузскую старуху, – возразил Петр Семенович.
К своему стыду, я, не зная о сиракузской старухе, попросил разъяснений и услышал о ней следующий рассказ.
– В Сиракузах долгое время правил тиран Дионисий. Когда он умер, все ликовали, и только одна очень старая женщина горько рыдала. Когда возмущенные граждане стали ее упрекать за скорбь о тиране, она объяснила, что пережила трех тиранов и каждый был хуже предыдущего, самый жестокий из них был Дионисий. «Поэтому я не его оплакиваю, а плачу от ужаса перед будущим тираном», – горестно заключила старуха.
Вот так мой шанс был разбит исторической аналогией. Я не согласился с Петром Семеновичем и был совершенно уверен, что режим ужесточается вопреки государственным и народным интересам. Об этом говорит прошедший процесс, когда по второму кругу судили Зиновьева, Каменева, добавив к ним других неугодных вождю бывших деятелей революции. Очевидно, эта тенденция будет усиливаться до смерти Сталина, а его преемник может сильно ослабить взведенную до предела пружину как в интересах народа, так и в своих собственных.
Меня интересовали основные причины поражения белой армии, я спрашивал об этом многих военных специалистов и комиссаров. Об этом же я спросил и Арапова. Он задал контрвопрос:
– Сколько было под ружьем красноармейцев в 1919—1920 годах?
– Около пяти миллионов, – ответил я.
– А у Деникина в период наступления было 140 тысяч, у Врангеля в Крыму – 60 тысяч. Следовательно, первая причина – соотношение сил было не в пользу белых. Вторая причина – крестьяне: разобрав помещичьи земли и разгромив усадьбы, они боялись наказания и изъятия. Они не представляли, что потом даже их собственная земля отойдет к колхозам и совхозам. Третья причина – среди участников белого движения были большие разногласия, а кроме того, защита «единой неделимой России», начертанная на белом знамени, не получила поддержки ни у поляков, ни у прибалтов, ни у пытающихся стать самостоятельными народов. В первую очередь украинских самостийников. Ведь Деникин воевал на два фронта: против Красной Армии и против петлюро-махновских отрядов.
Примерно так же мне отвечали и бывший комиссар Котляревский, и заместитель начальника ПУРа солидный Дворжец, и профессор Вангенгейм; только они еще добавляли немаловажную деталь: надежду красноармейцев на скорейшую мировую революцию, о чем очень хорошо написал Бабель в знаменитой «Конармии» (в 1939 году его арестовали и расстреляли).
Между Араповым и Вангенгеймом нередко возникали споры по двум темам. Первая тема была связана с различной трактовкой событий мировой и гражданской войн, вторая тема касалась будущего. Однажды разговор зашел о недавно введенных в армии званиях. Арапов сказал, что если ввели звания полковников и маршалов, то скоро введут и звания генералов. И будет вместо комбрига, комдива и комкора, как при царе: генерал-майор, генерал-лейтенант и т. п. Вангенгейм очень возмутился и стал доказывать ненужность и невозможность этого, ссылаясь в том числе и на «замаранность» слова «генерал», вызывающего у советских людей отрицательные ассоциации.
– Вы еще скажете, что могут ввести в армии погоны! – кричал Вангенгейм.
– Думаю, что введут, – спокойно ответил Арапов. В спор вмешался Котляревский и поддержал Вангенгейма, сказав, что погоны – ненавистный символ царского офицерства. Он рассказал, как во время революции солдаты срывали с офицеров погоны, а сопротивлявшихся убивали.
– Да и нет надобности менять знаки различия ни в армии, ни на флоте. Уже все давно привыкли к кубарям, шпалам и ромбам, – продолжал Котляревский.
– Погоны красивее, – смеялся Арапов, – а красивый мундир – большая приманка для юношества.
– Погоны в Красной Армии – это такой абсурд, что просто удивительно, что это стало темой спора, – сказал Вангенгейм сердито.
– Главное в том, что погоны – это традиционный знак офицерства, а традиции русской армии, патриотизм и другие аксессуары необходимы для поднятия духа армии, – доказывал Арапов.
– Поверьте старому комиссару, – завершил спор Котляревский, – погоны, аксельбанты и прочая мишура никогда не испоганят форму красного командира.
В конце августа произошло нечто необычайное: в Соловки приволокли баржу с арбузами! Их было так много, что не только все вольнонаемные и стрелки охраны накупили их во множестве, но и нам их стали продавать в «неограниченном» количестве. Во втором дворе кремля, на площадке среди круглого цветника, между входом в столовую и входом в опергруппу, поставили две телеги арбузов, стол, весы и открыли торговлю по рублю за килограмм. За день все арбузы не распродали – дорого это было для заключенных. Во-первых, у большинства не было переводов, во-вторых, большинство были ненаряженные, а работающие на постоянной работе получали «премвознаграждение» в размере от трех до двадцати рублей. Через два-три дня цену на арбузы снизили до пятидесяти копеек за килограмм. Я купил два арбуза накануне выходного дня и был счастлив.
Суеверные соловчане шептали, что эта роскошь не к добру. Ночью непроданные арбузы лежали пирамидой и в лунном свете выглядели как отрубленные головы.
Возрастающее напряжение ощущалось всеми, особенно после чтения центральных газет, обсуждавших реакцию народа на процесс и приговор к расстрелу бывших соратников Сталина. «Изверги! Агенты империализма! Продались фашистам. Хотели распродать родину. Разоблачить их! Уничтожить!» – таковы были отклики. Мудрые соловчане видели за этими эмоциями подъем новой большой волны арестов: сначала родных и близких осужденных, затем их знакомых, потом знакомых их знакомых и т. д. Развертывание гражданской войны в Испании тоже усиливало напряженность. Казалось, что это уже прелюдия мировой войны.
В библиотеке появилась еще одна дама – Варвара Ивановна Брусилова. Знаменитая Варенька, невестка генерала Брусилова – героя мировой войны. Варвара Ивановна находилась в заключении уже давно. В Соловках она была с 34-го года. В кремле сблизилась с доктором Гинзбургом, очень шустрым эсером, и за это ее отправили на голгофу. Голгофой назывался бывший скит Соловецкого монастыря на острове Анзер. Возвращения в кремль Брусилова добилась голодовкой и, когда она появилась в библиотеке, напоминала отощавшую черную галку, так как была одета в черное, покрыта черным платком, скрывавшим ее голову, остриженную во время голодовки.
Лето заканчивалось, началось пожелтение листьев, в лесах было полно грибов и ягод, но почти все пропадало – собирать было некому. Режим усиливался. Многих, имевших пропуска на выход из кремля для участия во внешних работах, переводили в ненаряженные или выводили на работы с конвоем. Маломощные бригады стариков собирали лишь крохи из лесных даров и то только для вольных.
Однажды утром я увидел в увядающем цветнике странную фигуру. Некто в пальто с поднятым меховым воротником, в шляпе и желтых туфлях стоял, держа себя рукой за нос, в глубокой задумчивости. Через час он появился в библиотеке и оказался анархистом-коммунистом, учеником Кропоткина – Владимиром Абрамовичем Макарянцем, тридцати лет, сыном довольно известного до революции московского адвоката. Он был совсем «свежий», арестованный летом в ссылке и только что привезенный в кремль, минуя перпункт. На вопрос старожилов: «Что нового на воле?» – он кратко ответил: во-первых, воли нет, а есть четыре состояния: тюрьма – лагерь – ссылка – ожидание ареста; во-вторых, из ссылки политических начали отправлять в лагеря без предъявления нового обвинения, в-третьих, ему ОСО дало пять лет, прикрепив стандартную формулировку «КРД», что его, как «старого» революционера, очень обижало, так как он вступил в партию анархистов в 1917 году четырнадцати лет от роду.
Такое известие произвело на всех тягостное впечатление, а Макарянц еще усилил тягость, добавив про слух о новом приказе, запрещающем голодовки. Требования голодающих не будут удовлетворяться: или снимай голодовку, или умирай, а если не умрешь, получишь наказание за факт объявления голодовки. Сказав все это, новичок схватил себя за нос, сел в читальне в углу и впал в транс. Петр Семенович, грустно улыбнувшись, сказал: «Кончилось соловецкое лето. Переживем ли зиму?» – и голос его дрогнул.
ТЯЖКАЯ ЗИМА
Предзимье было долгим. Рано начал выпадать снег, чередуясь с дождем. Я усиленно занимался, используя буквально каждую минуту. Даже утром, когда посетителей мало, я читал по-немецки. В числе новых поступлений был Гашек «Приключения бравого солдата Швейка». Я раньше читал по-русски, но по-немецки было интереснее и сочнее. Как-то мой Учитель увидел эту книжку, и на лице отобразилась брезгливость. Он назвал Швейка образцом антихудожественной литературы, поделкой из отбросов общественных отношений, смесью низменных чувств и аморальных поступков. Я никогда еще не видел его столь недовольным и даже как-то обиженным. Мне было неприятно, но и несколько смешно. Я подумал, что уважаемый Учитель, возможно, бросил бы сей томик в костер, но не улучшил бы этим погрязшее в пороках человечество. Швейка я все же дочитал.
Петр Иванович очень хотел посмотреть летописи Соловецкого монастыря и переписку князя Курбского с Иоанном Грозным. Эти раритеты находились в музее, и их публике не показывали. В музее было два хранителя: заведующий Ванаг – очень злобный горбун, бывший прокурор, и милейший Завитневич – биолог. Вот с Завитневичем я и договорился устроить в выходной день экскурсию для Учителя. В музее мне довелось быть несколько раз, и я был уверен, что доставлю Петру Ивановичу большое удовольствие. Действительно, музей, созданный монахами, был весьма интересен. Во-первых, были великолепные гербарии и мастерски выполненные чучела всех представителей флоры и фауны Соловецкого архипелага, во-вторых, были детальные карты всех островов, системы каналов, макеты построек, в-третьих, чудесная надвратная церковь, выполняющая функции домашней церкви архимандрита-настоятеля.
Иконостас поразил Петра Ивановича тонкой резьбой, мотивы которой не повторялись ни на одной колонне. Это огромное золотое кружево было сотворено из липового дерева. Иконы, написанные столь свежими красками, что не верилось в их допетровскую древность, составляли пять ярусов. Две иконы были петровских времен. На одной, помещенной на левой дверце в алтарь, была изображена святая Елизавета с лицом царевны Лизоньки – любимой дочери Петра, на правой стороне Георгий Победоносец, с силой пронзающий змея, гневными глазами напоминал самого Петра I. Завитневич пояснил, что икона справа была написана к приезду Петра в Соловки в 1702 году. В алтаре еще сохранилась узорная сень над престолом. Стены церкви были расписаны и увешаны иконами в богатых окладах. Общее впечатление портили стоявшие посреди церкви две кареты – экспонаты музея. Одна, большая, пышная, – для царя; другая, скромная, на прекрасных рессорах, – для архимандрита.
Древние рукописи очаровали Учителя, он как-то изящно и нежно перевертывал страницы летописи, всматривался в миниатюры и заставки, некоторые строки он читал вслух, разбирая церковнославянский язык. Переписку Грозного с Курбским он читал молча и, казалось, был подавлен гневом, злостью и грубостью, насыщавшими пожелтевшие строки. В это время в хранилище вошел профессор П.А. Флоренский, сопровождаемый горбуном Ванагом. Я ранее несколько раз рассказывал своему Учителю про Флоренского, о котором он был наслышан в Риме в Грегорианском университете. Учитель высоко ценил знаменитый труд Павла Александровича «Столп и утверждение истины», который римский папа Бенедикт XV оценил как крупнейший вклад в теологию и философию.
Я представил Учителя и профессора друг другу и с интересом наблюдал, как два знаменитых человека преодолевают свою застенчивость. Петр Иванович нашелся первый и обратился к Павлу Александровичу по-латыни, упомянув о какой-то пословице. Флоренский ответил по-латыни и перешел на немецкий. Вайгель ответил по-русски и упомянул о прекрасном иконостасе и некоторых иконах, затем разговор перешел на рукописи, и Павел Александрович попросил Ванага показать рукописи Авраамия Палицкого – келаря Троице-Сергиевой лавры, руководителя ее обороны в Смутное время. Ученые мужи углубились в рассматривание рукописи, оживленно обмениваясь замечаниями и впечатлениями.
Посещение музея было последним приятным событием начала зимы. 25 ноября, в день моего рождения, закончилась навигация – это всегда тяжело воспринималось соловчанами. В начале декабря сняли начальника КВЧ Мовшовича, что очень встревожило Котляревского. Через несколько дней он мне сказал: «Скоро библиотеку разгонят. У нас у всех, кроме вас, Юра, и архимандрита, большие „букеты“, да и у активистов тоже. Режим усиливается, на воле аресты, у Дворжеца жену арестовали – он ходит как в воду опущенный, а ведь она член партии с 1912 года!» Дворжец был заместителем начальника ПУРа республики, член партии с 1905 года. Сидит за то, что работал у Троцкого, когда тот возглавлял Реввоенсовет. Арест его жены, работавшей в аппарате у Землячки, – плохой знак для партработников-соловчан.
Нас посетил новый начальник КВЧ по фамилии Пендюрин. В сравнении с прежним это какой-то дворник малограмотный. Котляревский и другие библиотекари встали навытяжку, а я в то время, когда они зашли, был на лесенке у верхних полок и, когда Котляревский крикнул: «Внимание!», я сел на верх лесенки. Наш заведующий стал докладывать, называя фамилии сотрудников. Когда до меня дошла очередь, начальник спросил меня: «Ты чего лыбишься?» Я сделал глупое лицо и спросил: «Что такое лыбишься? Я не понял, объясните, пожалуйста». Начальник молча отвернулся и спросил: «Запрещенку куда ложите?» Котляревский повел его в архив. Вангенгейм упрекнул меня за непочтительность к начальству. Кстати сказать, у меня при виде «начальников», особенно раздутых от важности «унтеров Пришибеевых», непроизвольно появлялась улыбка, по мнению окружающих, очень саркастическая, что доставляло мне множество неприятностей.
Из архива начальство пошло по всем помещениям и даже заглянуло в жилую комнату. После его ухода бледный Григорий Порфирьевич сказал, что начальник не понимает, зачем столько книг собрали и зачем столько заключенных здесь «ошивается». Осмотрев жилую комнату, он процедил: «Как тараканы в конурку залезли. В колонне жить надо». Ушел начальник, не сказав «до свидания», а вошел не поздоровавшись. Прежний начальник так не поступал.
Через несколько дней пришли представители 3-й части и опечатали архив. Григорий Порфирьевич, предчувствуя это, предоставил мне в последнее время пастись в архиве. Я просматривал старые журналы, в том числе «Соловецкие острова», стенограммы съездов, любовался антикварными произведениями, стараясь побольше запомнить и сохранить в голове и сердце.
Новый, 1937 год мы встретили еще в библиотеке, а накануне состоялся прекрасный новогодний концерт – последний в истории соловецкого театра. Все исполнители, предугадывая это, играли так, как перед смертью, отдавая все свои силы и вдохновение залу. Как пел Привалов, как исполнил Брамса и Рахманинова (2-й концерт) Выгодский! Все были растроганы, очарованы. (Кстати, Рахманинов, как белоэмигрант, был запрещен для исполнения, и его подали как Чайковского.) Какие миниатюры новогоднего содержания разыгрывали комики-эстрадники и артисты оперетты! Конферансье Андреев смешил публику до слез, в том числе и руководство лагеря, восседавшее в «правительственной» ложе. Экспромты Андреева были весьма смелыми и острыми. Например, он передал разговор двух чаек: соловецкой, прилетевшей на зиму на юг Европы, и французской. Соловецкая чайка так хвалила Соловки, что французская захотела туда полететь весной. Соловчанке стало жалко француженку: «Ах! Ты болезная, да ты же иностранка, тебе же пе-ша пришьют (подозрение в шпионаже) и нас подведешь под монастырь (под монастырем расстреливали), не придется полетать над монастырем, да и кого смотреть – монахов нет, Монахов[30] есть». Француженка огорчилась и прощебетала: «Ну ваши Соловки к монаху». Начальство тут не смеялось. На другой день Андреев получил трое суток ШИЗО.
Второго января пришел начальник колонны и объявил о переезде всех жителей библиотеки в колонну. Мне опять досталась 11-я камера во второй колонне, где кишело 80 человек и место было близко от прежнего, тоже рядом с Бурковым, но с другой стороны. Опять перед глазами была стена с нарисованным социалистическим дымным городом. Словно и не прошел год, и никуда я не уезжал, и не было у меня ярко освещенного кабинета с зелеными гардинами, с чистым воздухом, тишиной и книгами. Буркову и Лукашову я сказал, что если Котляревского и других библиотекарей уволят, то я тоже демонстративно уйду. Они одобрили мое решение. Катаока, по обыкновению, посмеялся и сказал что-то про самурайский дух.
В этот же день пришел начальник КВЧ Пендюрин, которого я называл Пень-дурин, и объявил о назначении нового заведующего. Им оказалась мадам Орлова Ираида Петровна – бывший работник НКВД, отбывающая срок в Соловках по 193-й статье (воинское преступление). Говорили, что до ареста у нее на петлицах красовалось по ромбу, означавшему, по аналогии с царскими рангами, генеральский чин.
Была создана комиссия из работников КВЧ, 3-й части и новой заведующей, которая проверяла допустимость книг для лагерной библиотеки, а также их наличие. Библиотеку закрыли, и только СИЗО регулярно снабжали книгами. Мы все работали по обслуживанию комиссии: переносили и сортировали книги, проверяли наличие и т. п. К концу недели уволили старушку Ольгу Петровну, которая до ареста заведовала кафедрой иностранных языков в Академии имени М.В. Фрунзе. В начале следующей недели Орлова уже приняла библиотеку и объявила об отставке Котляревского и Вангенгейма. Остались профессор Казаринов, я, переплетчик и архимандрит – дневальный. В штат были приняты Удисман и Шепсман – оба бывшие работники НКВД, сидевшие по 193-й статье, оба необразованные, не знающие библиотечного дела, не любящие книги, как и Орлова. Казаринову и мне было дано задание: обучить новый штат.
Я сразу же заявил об уходе в знак солидарности с уволенными. Орлова была удивлена и рассержена.
– Ты не понимаешь, что говоришь, – закричала она. – На общие работы захотел?! На диетпаек? На 400 грамм? В снегу не барахтался давно?! Это тебя кто-нибудь подучил? Котляревский, наверно?
Я спокойно и, как мне казалось, презрительно ответил:
– Во-первых, не смейте обращаться ко мне на «ты»; во-вторых, никто меня не подучивал, я просто не хочу с вами работать.
– Вас не спрашивают, что вы хотите. В лагере за отказ от работы заключенных наказывают, – угрожающе прошипела Орлова и вышла из книгохранилища. Казаринов сидел бледный и очень постаревший, он тихо сказал:
– Напрасно вы так. Она добьется, чтобы вас послали в Филимоново или Исаково на торф, и всем вашим занятиям конец.
– Ну и черт с ней, – сказал я, оделся и вышел во двор.
Я был страшно зол и даже задыхался от бессильной злости.
Меня огорчала позиция Казаринова. Я чувствовал, что он боится Орлову, презирает эту вульгарную «начальницу», но хочет остаться в библиотеке. Мне же казалось справедливым проявить солидарность с Григорием Порфирьевичем и всем уйти одновременно. На другой день я не пошел в библиотеку и лежал на нарах, размышляя о дальнейшем, когда за мной пришел нарядчик и велел идти к начальнику КВЧ в библиотеку. Пень-дурин принял меня в архиве, листая «Орлеанскую деву» Вольтера с иллюстрациями в стиле французского распутства. Разговор сразу начался с угроз. Я спокойно и подчеркнуто вежливо отвечал, что в кремле больше половины заключенных не работает и если я буду вместо работы учиться, то это не будет нарушением режима, что ему как начальнику культурно-воспитательной части мое поведение должно импонировать: я за год выполнил программу 8-го и 9-го классов средней школы, то есть я не опускаюсь, а повышаю свой культурный уровень. Начальник смотрел мутно и молчал. Я тоже молчал. Наконец он тихо сказал: «Распустили вас. Скоро подтянем. А пока на торф пойдешь». Я повернулся и, не ожидая разрешения, вышел из архива, из библиотеки.
Гуляя по заснеженному кремлю, я продумывал текст заявления о голодовке. В камере Лукашова я аккуратно написал заявление, оставив место для даты. Скорее всего завтра утром меня увезут на Филимоново, и там я официально вручу заявление о голодовке начальнику лагпункта. Пока же я обошел некоторых знакомых и сообщил о предстоящей голодовке. Голодовку одобрили Бобрищев-Пушкин, Бурков, Лукашов. Не одобрили Арапов, Котляревский, Катаока и Шведов – инженер, вернувшийся из Парижа, мой соэтапник. У неодобривших общий тезис был: голодовка вредна для моего здоровья, поскольку я еще малолетка. Котляревский и Арапов указывали, что это может затруднить освобождение.
На другой день после завтрака я снова улегся на нары и стал ждать. И часа не прошло, как меня за ногу потянул нарядчик. Рядом стоял стрелок.
– Собирайтесь с вещами, – сказал нарядчик.
– Куда? Зачем?
– В Филимоново.
– Я не поеду.
– Поедешь, – сказал стрелок.
– Я умоюсь и схожу в уборную.
– Пять минут на все, – сказал нарядчик. Я вышел с полотенцем, но вместо уборной побежал в камеру Лукашова, сказав об увозе в Филимоново. Следом пришел Бурков. Я попросил его занять наблюдательный пост над лестницей в колонну. Лукашов на скорую руку организовал чай. Мои продукты хранились в камере у Лукашова. Кое-что из вещей я тоже перенес к нему еще вчера. В 11-й камере оставалась постель, одежда и чемодан с минимумом носильных вещей. К сожалению, я забыл, что под газетами на дне чемодана лежит мой гороскоп. Пришел Бурков и сообщил, что стрелки меня ищут по камерам, а нарядчик ругается. Я к этому времени закончил чаепитие и еду впрок, распрощался с моими друзьями и, пока стрелки были в 6-й камере, сбежал с третьего этажа в 11-ю камеру и влез на свое место. Постель моя была уже свернута нарядчиком и завязана веревкой. Я бросил в чемодан полотенце и умывальные принадлежности, надел бушлат и лег на нары.
Вскоре появились стрелки и нарядчик. Все кричали и торопили меня. Я, продолжая лежать, тихо сказал:
«Я не хочу в Филимоново и шагу не сделаю». Опытные стрелки взяли меня на руки, нарядчик нес вещи, и вся процессия, собравшая немало зрителей, спустилась во двор к саням. Меня усадили в сани, подложили под спину вещи, конвоир предупредил, что при попытке соскочить с саней он применит оружие, друзья замахали руками, и сани тронулись к воротам.
Был морозный серый день 11 января. Лошадь бежала шустро. Двенадцать километров до Филимоново мы проехали за час. Зимние пейзажи из-за недостатка света выглядели угрюмо. Филимоново – штрафной лагпункт, кучка неказистых бараков – тоже не веселило взгляд. Сани свернули к конторе. Вышел начальник лагпункта бывший штабс-капитан Торский. Он знал меня по библиотеке и, конечно, был предупрежден о моем наказании. Стрелок передал Торскому большой конверт с моими документами, возчик поставил к конторе мои вещи. Прошли в контору. Торский расписался в приеме заключенного, стрелок схватил расписку и умчался в кремль, а я остался в обшарпанном кабинетике Торского. Он начал проводить политико-воспитательную беседу, но я достал заявление, проставил дату, вручил его Торскому, сказав: «Я с сегодняшнего дня объявляю голодовку. Прошу зарегистрировать заявление и отвести меня в барак». Торский был поражен, но молча отметил заявление.
Я терпеть не мог интеллигентных людей, сидящих за так называемые бытовые преступления, а еще противнее, когда они выполняют функции лагерных начальников. Вот так брезгливо я относился к Торскому – внешне интеллигентному, с хорошими манерами, но мелкому подхалиму и трусу. Прочитав мое заявление несколько раз, он крикнул нарядчику, чтобы тот проводил меня в барак.
В бараке, наполовину не заполненном, я выбрал место на нижних нарах у окна. Устроил постель, улегся и начал продумывать события последних дней. Настроение у меня было отличное. Во-первых, я поступил так, как считал нужным, не соблазнился «чечевичной похлебкой», во-вторых, я имею возможность проверить силу воли и крепость духа. Я хоть в микромасштабах, но вступил в бой с мощной машиной власти и предъявил свои требования. Я требую, а не сгибаюсь. До чего же хорошо!
Требования мои в заявлении не носили политического характера, таким образом, заявление не содержало криминала и не могло быть использовано против меня. В заявлении указывались причины, побудившие начать голодовку. Во-первых, немотивированное наказание в виде ссылки на тяжелые и вредные работы на торфоразработках зимой, где обычно и взрослые не выдерживают работы на морозе по колени в торфяной жиже. В связи с этим наказанием запрещение дополнительных писем домой, что явится страшным ударом для моих родителей. Во-вторых, лишение возможности заниматься самообразованием (на Филимоново для этого нет условий), что противоречит идее повышения культурного уровня в целях перековки. Далее я кратко указывал причину, вызвавшую наказание, – желание перейти на положение ненаряженного, чтобы иметь больше времени для учения, памятуя, что Ленин говорил: «Главная задача молодежи – учиться, учиться и учиться».
Голодовка может быть снята при выполнении следующих условий: 1) возвращение в кремль и неиспользование на общих работах (статус ненаряженного); 2) разрешение одного дополнительного письма; 3) предоставление возможности пользоваться в библиотеке без ограничения литературой по всем отраслям знаний, необходимой для самообразования.
Вечером пришли в барак рабочие с торфоразработок, из леса. «Торфяники» выглядели ужасно: мокрые до колен штаны, хлюпающие кордовые ботинки, даже лица забрызганы торфяной жижей. Ближайшие по нарам соседи поинтересовались мной. Я сказал, что объявил голодовку и лежу, сберегаю силы. Какой-то добрый старичок принес мне кружку кипятку, приговаривая: «А при голодовке-то надо пить побольше, да водичку-то потеплее, от теплой водички спится крепче». Он был прав. Я выпил две кружки теплой воды и хорошо уснул.
На другой день с утра я тоже попил теплой воды и снова уснул. Проснулся я от звона колокольчика, в окно была видна пара красивых коней, запряженных в беговые санки, от которых шел высокий толстый человек в белом полушубке, а за ним семенил Торский. Я узнал Монахова, начальника 3-й части. По лагерной иерархии он был на одном уровне с начальником управления Агаповым. Я с удовольствием констатировал, что мое заявление заставило столь важную персону приехать ко мне в Филимоново.
Распахивая перед начальством дверь в барак, Торский перепуганно фальцетом закричал: «Внимание!» Несколько заключенных, свободных от работы, вскочили с мест и встали навытяжку. Я не шевелился. Монахов подошел ко мне.
– Почему не встаете?
– Я объявил голодовку.
– Почему объявили?
– В заявлении все написано.
– Почему же не встаете?
Я отвернулся и закрыл глаза. Начальство за что-то ругнуло Торского, ругнуло дневального за мусор перед печкой и вышло из барака. Я видел в окно, как Монахов что-то сказал Торскому, затем он сел в свои санки. Толстомордый кучер рванул лошадей, и все исчезло. Я в первый раз после объявления голодовки стал беспокоиться, заберут ли меня в СИЗО № 1, где обычно содержались объявившие голодовку лагерники.
Но и получаса не прошло, как пришел Торский и объявил, чтобы я собирался: сани уже поданы, конвоир ждет. И помчали меня сани в обратном направлении. По дороге я спросил стрелка, куда мы едем?
– В кремль, – сказал конвоир.
Сердце мое екнуло. Неужели я уже победил, голодовка окончена, и для порядка меня положат на несколько дней в лазарет. Сразу остро захотелось есть. Но было и некоторое чувство разочарования, что мне не представится возможность проверить волю. Уже показались кремлевские башни. Скоро развилка дороги. Налево – в кремль, направо – к управлению, где в подвале был СИЗО № 1 – следственный изолятор или «подразмах», как его называли в соловецком фольклоре. Сани свернули направо.
Название «подразмах» произошло таким образом. В первые годы существования СЛОНа в левом крыле здания управления на первом этаже помещался магазин для вольных, называвшийся «розмаг» – розничный магазин. Под этим магазином устроили небольшую тюрьму, куда помещали заключенных за нарушение режима. Когда в Соловках была попытка восстания заключенных, обвиненных в этом сажали «под розмаг» и там же «пускали в расход». Соловчане поэтому трансформировали название изолятора и стали говорить «под размах», что означало под расстрел. В «подразмахе» меня тщательно обыскали, перетрясли все вещи, забрали гороскоп и затем привели в большую камеру с топчаном и парашей. Форточка была разбита, и в камере было очень холодно – изо рта при дыхании валил пар. В углу пол был прогрызен крысами, что мне очень не понравилось. Я лежал и рассчитывал, какие и когда у меня будут развлечения: сегодня должен быть врач —оценить мое состояние, завтра кто-нибудь из начальства будет уговаривать снять голодовку, послезавтра, когда ощущение голода будет особенно острым, мне будут приносить сухарики и соблазнять. Дней на десять развлечений будет много, а потом пауза, и недели через две могут применить искусственное питание – особенно противную процедуру.
В конце дня пришел вольнонаемный начальник санчасти Радкевич, молодой и, судя по внешнему виду, культурный человек. Он детально порасспросил о причинах голодовки и в завершение беседы стал, как он сказал, «по долгу службы» уговаривать снять голодовку. Главный аргумент – вред для здоровья – я парировал, сказав, что работа зимой в мокром торфянике причинит еще больший вред. Он долго слушал сердце и поставил диагноз «острый невроз». Я обратил внимание Радкевича на разбитое стекло и холод в камере, на крысиные ходы, но сей милый доктор сказал, что это не в его компетенции.
Кончился третий день голодовки. Настроение по-прежнему было хорошим. Выпив воды, я устроился на ночь и крепко уснул. Сны, к сожалению, были в основном гастрономическими. То я был дома, и мама ставила на стол судак по-польски, то ел много жареной картошки с помидорами, а то я лежу, а на груди у меня большая гроздь черного винограда. Крайняя ягода совсем близко, касается лица, я хочу оторвать эту ягоду, но руки у меня недвижимы, я тянусь к ней губами, напрягаюсь и просыпаюсь. На груди сидит огромная крыса, почти касаясь лица усами. Я вскрикнул и вскочил во весь рост на топчане. Крыса метнулась в угол и исчезла в дыре.
Меня всего трясло от омерзения, потом началась рвота. Желудок был пуст, меня рвало желчью. Я понял, что меня нарочно посадили в эту холодную, крысиную камеру, чтобы сорвать голодовку. Была глубокая ночь. Тишина в изоляторе, в порту, в управлении. Ярко светит лампочка в нише над дверью. Крысы, значит, не боятся света, они будут во время моего сна залезать на топчан, может быть, под одеяло, будут кусать меня за лицо. Я не смогу спать, а без сна долго не продержусь.
Я взял кружку и стал стучать в дверь, в тишине ночи удары металла о металл гулко грохотали. Открылась форточка.
– Почему безобразите? – спросил из-за двери коридорный стрелок.
– Крысы! – крикнул я.
Форточка захлопнулась, стрелок отошел. Я стал стучать еще громче. Дверь открылась. Вошел старший по смене.
– Почему нарушаете порядок? Я объяснил заново.
– Не съедят вас крысы, а будете стучать – в карцер посажу, – и он стал закрывать дверь.
Я закричал во весь голос, требуя, чтобы заделали крысиные дыры.
– Я порву зубами вены и истеку кровью, вы будете отвечать.
Старший стоял в нерешительности и что-то говорил коридорному.
– Обратитесь днем к начальнику, – наконец сказал он. – Сейчас забьем в дыру бутылку. Тут только одна дыра.
Коридорный забил в дыру бутылку. Дверь закрылась.
Я сел на топчан и приказал себе успокоиться, выпил воды, обследовал все углы – других дыр не было. Тюремное одеяло, исхоженное крысой, вызывало омерзение, но под одним моим было бы слишком холодно, хотя я на ноги надевал бушлат и застегивал его на все пуговицы. Настроение опять улучшилось. Все надо перетерпеть, все надо перебороть. Вот я и переборол и крыс, и тюремщиков и могу спокойно спать. И я немедленно уснул и спал крепко и долго.
Проснулся я от шума отпираемой двери. Пришел начальник СИЗО и какой-то чин. Рекомендовали снять голодовку. Обещали заделать крысиные лазы. Пил понемногу воду, старался больше спать. Пятый день по сравнению с прошедшим был менее тяжелым. Меньше ощущался голод, голова кружилась, часто засыпал. Посетителей не было. Шестой день начался с посещения Радкевича. Выслушивание, выстукивание, проявление заботливости, рекомендации снять голодовку. Я поблагодарил за добрые пожелания, но заметил, что в это поверю, если будет вставлено стекло в форточку и заделаны крысиные лазы.
– Полагаю, вы помните Диккенса? – спросил я. Радкевич удивился.
– Так вот, вы мне напоминаете одну леди, которая вязала чепчики для африканских детей, но не хотела замечать голодных детей на улице у ее дома. Диккенс это назвал «телескопической филантропией».
Радкевич вспыхнул и резко сказал:
– Вы забываетесь!
– Да, я забылся, – ответил я, – говорил с вами как с врачом, а вы тюремщик.
Я отвернулся и больше Радкевичу не отвечал. Седьмой день был без посещений и приключений. Появился неприятный запах ацетона. Значит, начался распад тканей. Садиться на топчане уже очень трудно; в глазах темнеет, голова кружится сильнее. Стараюсь спать. На восьмой день пришел заместитель начальника управления и начальник 3-й части. Предлагали снять голодовку. Я спросил:
– С возвращением в кремль, без работы, с письмами и книгами?
– Не ставьте условий. У вас сердце не выдержит долгой голодовки. Снимайте голодовку.
– Спасибо. Я буду продолжать. Вы бы распорядились стекло вставить. Или это не в вашей власти?
Начальники переглянулись и вышли. К концу дня форточку застеклили и крысиный лаз замуровали.
Девятый день. Пришел фельдшер, принес белые сухари и кружку с теплым молоком. Как вкусно и сильно пахнет молоко!
– Надо есть, – фельдшер поставил мне на грудь тарелку с сухариками. Я резко повернулся на бок, тарелка упала и разбилась, сухари рассыпались. Фельдшер молча подобрал все с пола и ушел, захватив кружку с молоком.
Десятый день был трудным. Я не мог встать. В глазах потемнело, упал, ударился о стену. Сердце страшно колотилось. Казалось, топчан раскачивается и опрокидывается. Долго не мог прийти в себя. Завтра день смерти Ленина – нерабочий день, послезавтра день памяти 9 января – вольные тоже не работают[31]. Значит, два дня никаких изменений. Я уже изнемог от голодовки. Сколько еще? Гройсман и Харадчинский голодали 36 суток, на четырнадцатый или пятнадцатый день им стали принудительно вводить искусственное питание. Они с ужасом говорили об этой процедуре. Все равно. Отступать уже поздно, снимать голодовку нельзя. Этого себе не прощу, подорву веру в себя. Надо спать, спать…
В конце дня появились Радкевич с фельдшером. Слушали, считали пульс. Радкевич вышел и снова появился с Монаховым; его огромная фигура раздвоилась, закачалась, и я потерял сознание. Фельдшер привел меня в чувство нашатырным спиртом. Радкевич сказал:
– Сейчас принесут молоко с сахаром, попейте. Я покачал головой.
– Попейте, а потом в кремль, в лазарет. Я вопросил взором Монахова.
– Да, – кивнул он и показал мое заявление, – занимайтесь самообразованием, пока голова цела.
– Значит, мои требования удовлетворены?
– Не требования, а заявление, – буркнул Монахов. У меня опять потемнело в глазах, фельдшер сунул в нос нашатырь, а когда я огляделся, начальства уже не было, и фельдшер держал в руках кружку с молоком. Несколько глотков я выпил с жадностью, но больше не хотелось. Организм отвык от еды. Фельдшер рекомендовал через три-четыре глотка делать три-четыре минуты перерыва. Полкружки я осилил за 15 минут. Фельдшер ушел, оставив молоко и два сухарика, которые я должен размочить в молоке и, когда захочется, съесть. Итак, голодовка окончена. Я выиграл, проверил себя на стойкость, на «законном» основании могу есть и пить сладкое молоко и спокойно ожидать переезда в лазарет. Радоваться бы надо, но на меня напала глубокая депрессия, и радости не ощущалось.
Примерно через час за мной пришел фельдшер с двумя стрелками, и перенесли меня вместе с постелью в общую камеру. Из-за апатии я не сообразил, что меня должны отвезти в лазарет, а не в другую камеру, тем более общую, где сидели под следствием трое урок и несколько неуркообразных человек. Фельдшер сказал, что через два часа мне снова принесут молоко и сухарики, и рекомендовал спать. Но разве можно спать, когда в камере урки, да еще молодые! Это все равно, что пытаться уснуть в клетке с мартышками!
Приличные заключенные подошли ко мне с расспросами. Я очень кратко объяснил, что меня после окончания голодовки сейчас отвезут в лазарет, но тут один из них – Хохлов – сказал:
– Если бы сегодня в лазарет, то зачем переводить вас в общую камеру? Что-то крутят начальники.
Это логичное рассуждение очень испортило мне настроение. Я стал злиться, и апатия прошла. Может быть, вызвать начальство? Но сокамерники сказали мне, что уже вечер и начальники, от которых зависит перевод из СИЗО в лазарет, уже сидят за ужином и пьют водку, а завтра день смерти Ленина, послезавтра 9 января – нерабочие дни, так что сидеть мне здесь не меньше чем три дня. Я был в ужасе. Хохлов сказал:
– Бывали случаи, когда начальники обманывали голодовщиков: обещали удовлетворить требования, а затем после снятия голодовки и кормления не выпускали из СИЗО, надеясь таким образом сломать голодовщиков.
Я вспомнил, как Гройсмана и Харадчинского после снятия голодовки более недели держали в лазарете на режиме СИЗО, пока они не пригрозили возобновлением голодовки.
Утром всех разбудили урки. Один из них поймал большую крысу, держа ее за хвост, крутил над головой и, наконец, швырнул ее в дверь. Крыса, ударившись о железную дверь, отскочила и упала оглушенная на крышку параши. Другой урка сбросил ее внутрь и закрыл крышку. Вскорости камеру повели на оправку, я остался лежать и слышал, как вскоре раздались вопли. В уборной, когда открыли парашу, крыса выскочила и начала метаться, обдавая всех зловонными брызгами. Люди закричали, дежурный стрелок приоткрыл дверь, и огромная грязная крыса бросилась в щель на стрелка, пробежала на плечо и, спрыгнув, исчезла в коридоре. Испачканный и перепуганный стрелок там же начал искать виноватого, и урки были отправлены в карцер.
Днем 21 января для выяснения деталей этого криминала в камеру явился начальник смены. Я передал ему заявление на имя начальника 3-й части о продолжении голодовки до тех пор, пока меня не переведут в лазарет, принесенную мне манную кашу и молоко отправил обратно и начал снова голодать. Это был одиннадцатый день от начала голодовки. Утром следующего дня пришел сердитый помощник Монахова, сказал, что меня сейчас увезут в лазарет, и проворчал:
– Избаловались вы все здесь. Чуть что и голодовка! И вчера, и сегодня праздничные дни…
Я прервал угрюмого помощника, громко спросив:
– Разве у вас день смерти Ленина и 9 января считаются праздничными днями?
Как он испугался! Вспотел, молчал, злобно смотрел и так, не найдя слов для отбоя, вышел.
– Зря вы это, – сказал Хохлов. – Он при случае вам это припомнит.
Итак, 22 января утром меня доставили в лазарет в терапевтическое отделение. Все так знакомо, но что-то изменилось после отставки доктора Титова в декабре 36-го года. Профессор Удовенко на обходе очень внимательно осмотрел меня, назначил усиленное питание и велел взвесить. Старый знакомый Лемпинен унес меня на весы. Я весил 42 килограмма. Удовенко заверил, что через неделю он поднимет мой вес до 50 килограммов, а потом можно активничать.
И вот я лежу в теплой, чистой палате на чистом белье, довольный победным окончанием голодовки. Дудкевич и другой санитар – Ракович кормят меня через каждые три часа. Алексей Иванович (генеральский повар) сварил чудесный, ароматный бульон, и я пью его, заедая белыми сухарями. К сожалению, в лазарет к заключенным знакомых не пускают, но мне передали записки от многих. От Петра Ивановича я получил из ватиканской посылки прекрасный китайский чай. Другие передачи не приняли, да в них и нет надобности, но приятно, что много друзей.
Силы набирались быстро, на четвертый день я уже выходил в коридор и взвешивался, на шестой – спустился в хирургическое отделение к Юре Гофману. Мы с ним хорошо побеседовали после обеда. Гофман рассказал, что новый начальник лазарета – военфельдшер, человек грубый и глупый. Криком пытается утвердить авторитет. Жалко Леонида Тимофеевича. Всем заключенным по 58-й статье отменили зачеты. Ошман болен: стенокардические приступы мучают старика. На днях повесился Зенгиреев и вскрыл вены Курчиш. Запретили играть в театре нескольким артистам с большими «букетами». Олега Франковского – коллегу Гофмана по делу «о Голубой жирафе» – и еще нескольких инженеров и техников уволили из проектного бюро. Библиотека только на днях открылась. С читателями обращаются по-хамски, не хотят искать книги по списку, а предлагают выбирать из двадцати – тридцати книг, лежащих на барьере. Все ругают новую заведующую и ее помощников.
В кремле начальник лагпункта, к которому я явился в первый же день после выхода из лазарета, подтвердил, что имеется распоряжение не наряжать меня на работы. Жить я буду во второй колонне, в 12-й камере. Новая камера была значительно лучше и чище 11-й. Народ, ее населявший, в большинстве работал и был лучше обеспечен. К моему удивлению, старостой камеры был Торский, разжалованный из начальников лагпункта Филимоново. Он отвел мне крайнее место в переднем углу, на втором этаже. Там днем было очень светло, внизу – две табуретки и маленький столик.
Только я устроился, начался прием гостей. Поздравления. Сообщения о новостях, преимущественно печальных. Жалели повесившегося Зенгиреева. Он был доброжелательный, воспитанный молодой человек, работал счетоводом в части снабжения, то есть по лагерным стандартам занимал хорошее место. Срок у него был всего три года, статья легкая: 58, пункт 10 (контрреволюционная агитация). Арестовали его в начале 35-го года, когда железной метлой чистили Ленинград, так как его покойный отец был действительным статским советником. Зенгиреев был знаком с сыном А. Ахматовой, которого тоже в это время захватила метла. Повесился Сережа Зенгиреев ночью на чердаке, оставив письмо-завещание, где написал: «Мне осталось меньше года до конца срока, но я чувствую, что нас не освободят, а я так устал ждать свободы».
В библиотеке Орлова встретила меня весьма враждебно и хотела ограничить меня тремя книгами, но после короткого боя уступила, и я получил по списку более десяти книг, в том числе Соловьева и Покровского, которых я читал в сопоставлении. Сергея Михайловича Соловьева я читал с упоением, удивляясь способности замечательного историка создать «Историю России с древнейших времен» в двадцати девяти томах – монументальный труд, изложенный живым, сочным русским языком, а творение Покровского «Русская история в самом сжатом очерке» (однотомник страниц на 500) меня раздражало. Представьте «Войну и мир» в виде брошюрки объемом в 30—40 страниц, где пересказаны лишь отдельные отрывки, причем таким образом, чтобы внушить читателю отвращение к персонажам великого романа.
Мы больше не имели места для занятий немецким языком. Очевидно, и это имел в виду Петр Иванович, когда, встретившись после голодовки, он спросил: «Was erreichst du?»[32]. Да, достиг я победы в основном в моральном аспекте. В материальном стало голодновато. Паек ненаряженного плюс весьма небольшие посылочные ресурсы и все. Детский паек я уже не получал. Особенно беспокоило отсутствие места для занятий. Только красный уголок во второй колонне, но там нельзя разговаривать. Молча прорабатывать литературу там было можно, а вот вслух, увы, невозможно. Решили так: Петр Иванович будет приходить один раз в неделю, а мы будем начитывать литературу, выписывать сложные по построению фразы и идиомы, а Учитель будет объяснять. Я к тому времени свободно говорил по-немецки и читал беллетристику. Первый роман «Die Dame mit dem grunen Augen»[33] я прочитал еще в конце лета, а теперь осваивал Гете «Wahlverwandschaft» и «Wilhelm Meisters Lehrjahre und Wanderjahre»[34].
Обилие собственного свободного времени очень радовало. Я принялся составлять картотеку важнейших исторических событий. На больших карточках, принесенных из ПСБ, я начал в хронологическом порядке наносить по каждой из двенадцати стран Европы основные события, привязывая их к годам правления монархов. Особенно важные события заключались в красную рамку, что означало их мировое значение. Например, 1453 год – взятие турками Константинополя – конец Византии при Константине XII Палеологе. Занимался вместе с Жоржиком Лукашовым. Утром мы вставали в семь тридцать, после восьми часов (после ухода работяг) бежали в столовую за завтраком. Занимались науками до двенадцати часов, в двенадцать ели кисель, то есть заваривали в кубовой крутым кипятком крахмал каждый в пол-литровой кружке (очень невкусно, но согревает и дает впечатление сытости на час-другой). После крахмального объедения занимались немецким языком и историей до обеда. Вечером, около пяти часов, обедали, после обеда гуляли и остаток вечера читали в читальне газеты, журналы, книги, вечером пили чай с небольшими добавками из посылок и опять гуляли 20—30 минут в зависимости от погоды. На сон грядущий я читал и, засыпая, подводил итог сделанному за день.
Дни опять пошли быстро и упорядоченно. Я стал так быстро читать, что сам удивлялся. Вскоре к нам присоединился Катаока. Его выгнали из парикмахерской из-за конфликта со стрелком. Катаока был большой мастер и брил виртуозно, но стрелок дергался, несмотря на предупреждения мастера, и, когда получил царапину, вскочил и стал ругать Катаоку. Тот шагнул к стрелку и бросил ему в ноги бритву: «Брейся сам». Лезвие, ударившись о каменный пол, разлетелось на куски, стрелок убежал, потом явился с подкреплением и забрал японца в карцер. После этого Катаока стал ненаряженным и, сидя в красном уголке, прилежно изучал тонкости русского языка по словарям.
Зима шла к концу. Пережили все-таки. И вдруг событие: сняли портреты генерального комиссара госбезопасности, наркома внутренних дел Ягоды. Вскоре появились портреты назначенного на место Ягоды Ежова. Заключенные, особенно те, у кого срок кончался в 1937 году, беспокоились. Как-то в солнечный день в конце апреля соловчане из Иванова встретили вновь прибывших земляков, которые сообщили о многочисленных арестах старых ивановских рабочих-текстильщиков за участие в знаменитой стачке и походе на Москву в 1933 году. Ивановцы рассказывали, что массовое выступление голодающих рабочих очень напугало вождей. На умиротворение был послан Лазарь Каганович и в качестве решающего аргумента – войска НКВД. Лазарь выступил в каком-то театре перед представителями бастующих рабочих, но, очевидно, взял неверный тон, начал угрожать. Обозленные рабочие кинулись на сцену и довольно сильно помяли Лазаря, пока его отбивала охрана. Собрание приняло решение идти на Москву с красными флагами и лозунгами: «Хлеба! Мы голодаем!», «Даешь Советскую власть!» и др. Но пути были перекрыты войсками, стрелявшими в толпу. Войска оказались сильнее рабочих. Стачечный комитет был арестован и увезен в Москву.
Потом за разговоры на тему о стачке давали по пять лет, но основную массу рабочих не трогали. Теперь же, спустя четыре года, взялись и за простых участников забастовки.
Макарянц смотрел на происходящее очень пессимистически и изрекал мрачные прогнозы, после чего хватал себя за нос и впадал в транс. Бурков стал более обычного раздражительным и говорил, что всерьез подумывает о петле, так ему все кажется беспросветным. И другие знакомые хандрили и не радовались весне. Плохое настроение усугубилось, так как в конце апреля многих ненаряженных, ранее никогда не работавших или имеющих освобождение ценой голодовки или бывших политических, стали демонстративно наряжать на работу. Почти все отказывались. Нарядили 30 апреля и меня. Я отказался, ссылаясь на выголоданное разрешение.
Второго мая была генеральная проверка. Заключенные были построены по колоннам во втором дворе кремля. После проверки зачитали приказ, где было сказано: «За систематический отказ от работ и нарушение лагрежима заключить в колонну усиленного режима (КУР) на 3 месяца…» Далее шел длинный список нарушителей, куда попали Бурков, Катаока, Лукашов, Макарянц и я, а также еще человек 30. Всех во второй половине апреля наряжали на скверные работы (мести двор, наводить чистоту в уборных, очищать снег с крыш и т. п.), и все отказывались. Отправка в КУР была назначена на 3 мая.
Какой начался шум! Напряжение, накапливавшееся последние месяцы, прорвалось. Бурков кричал, что объявит сухую голодовку протеста, ему вторили Макарянц, Катаока, грузинский профессор Кикодзе, эстонцы, поляки и другие. Я тоже твердо решил объявить голодовку. Объявили отбой, колонны смешались, все обсуждали это событие как уже явное свидетельство «закручивания гаек» и окончание «соловецких вольностей».
Ко мне подошли Шведов, Вальда-Фарановский и еще некоторые из добрых знакомых. Ротмистр обратил внимание на подготовку этой провокационной, как он сказал, акции: сначала наряд на неприятные работы, потом строгое наказание. Три месяца КУРа – это предельный срок. Подобраны почти все, кто раньше объявлял голодовки и характеризуется строптивостью. Очевидно, что это провокация с целью вызвать массовую голодовку, а потом проявить непреклонность: хотите голодать – голодайте, пока не сдохнете. Поэтому не следовало бы поддаваться на провокацию. Я смеялся и говорил, что вот представился случай еще раз проверить силу воли в более трудных обстоятельствах.
Когда мы остались втроем, Шведов предложил прогуляться и погреться с южной стороны Преображенского собора. Там мои доброжелатели снова провели беседу, но не могли уговорить меня. Мне чувствовалось, что если я соглашусь, не объявлю голодовку и пойду в КУР, то задохнусь от ощущения униженности. В заключение Вальда-Фарановский загадочно сказал, что если я останусь в живых, то пойму, когда можно рисковать жизнью, а когда не следует, что при всех моих качествах я еще мальчишка и не способен хладнокровно, без эмоций анализировать ситуацию. Я привел в пример Буркова и Катаоку, больше всех кричавших о голодовке, на что мудрый ротмистр презрительно сказал: «Бурков заводится с полоборота и тогда не способен управлять собою, а Катаока тоже не пример, поскольку сам факт его ареста говорит: он неполноценный разведчик и самурай».
В конце дня я написал заявление об объявлении голодовки, чтобы завтра вручить его в КУРе. Некоторые оптимисты предвещали, что начальство не реализует приказ после возмущения на генеральной проверке. Однако приказ реализовали, и утром 4 мая целый этап отправился в КУР.
В КУРе начальником был бывший член ЦК КП Грузии Медзмарашвили, сидевший за бытовое разложение. Он принимал этап «строптивцев», отпуская какие-то грубые шуточки в наш адрес. Его толстое, обрюзгшее бледное лицо выражало глубочайшее презрение. Сложив руки на толстом животе, он вертел большими пальцами. Когда дошла очередь до Буркова, тот объявил о голодовке. Начальник КУРа не реагировал.
– Я объявляю голодовку! – закричал Бурков.
– Объявил и молчи, зачем кричишь, – засмеялся начальник, – нам больше хлеба останется.
– Объявляю сухую, – тихо сказал Бурков, сжимая кулаки.
Казалось, он сейчас бросится на толстого грузина. Медзмарашвили отвернулся. О голодовке также заявили Катаока, анархист Макарянц, я и еще шесть или семь человек. Я подал заранее написанное заявление.
Всех прибывших разместили в большом бараке с трехэтажными нарами. Старожилов было тоже много. Большинство попали в КУР за отказы от работы в апреле – мае. Народ здесь был из всех лагерных пунктов, разбросанных по архипелагу. Я выбрал место на нижних нарах, рядом устроился Катаока, наверх влез Бурков, где-то поблизости разместился Макарянц и китаец Ван-Фан-Ю—один из рекордсменов по голодовкам (в 36-м году он голодал около 70 дней при принудительном питании и едва не умер). Вскоре в барак явился начальник в сопровождении вахтеров. В их числе я увидел Хохлова – того подследственного снабженца из «подразмаха», проявившего ко мне участие в общей камере после прекращения голодовки. Он узнал меня и приложил палец к губам, очевидно, желая показать, что не надо с ним разговаривать.
Начальник КУРа громогласно объявил, что наши действия нарушают лагерный режим и мы будем наказаны, если не откажемся от голодовки. Все молчали. Тогда он закричал:
– Встать, собаки!
Все продолжали лежать. Желая настоять на выполнении приказа, начальник применил индивидуальный подход и обратился к Катаоке:
– Почему не встаете?
– Катаока Кентаро – человек, а не собака, – был ответ.
– Почему лежишь? – крикнул начальник мне.
– Почему вы кричите? – спросил я в ответ.
– Ах ты, разложившийся мальчишка! – зашелся в крике начальник.
– Не я разложившийся, а вы, – сказал я громко, – все знают, за что вас посадили, разложившийся коммунист.
Стало очень тихо. Лицо Медзмарашвили стало багровым, глаза его выкатились. Он тяжело дышал, с ненавистью смотря на меня. В этот момент с верхних нар Бурков столкнул ногой котелок с водой, облив начальника.
Скучным голосом Бурков из-под одеяла произнес:
– Не ставьте мне воду, я «сухой».
Оскорбленный начальник развернулся и буквально выбежал из барака вместе со свитой.
На другой день, 5 мая, несколько человек отказались от голодовки. Повезли в СИЗО № 1 всего восьмерых. Принимая голодовщиков, начальник СИЗО объявил, что никакие требования, указанные в заявлениях, удовлетворены не будут, поэтому лучше откажитесь сразу.
– Уговаривать вас никто не будет. Хотите помирать – помирайте.
Все молчали. Китаец неожиданно сказал:
– Моя голодовку снял, – и отошел в сторону. Не снявших голодовку стали разводить по камерам. Меня провели через большой коридор, затем открыли дверь в малый коридорчик, куда выходили двери трех маленьких камер.
Да, камера была на этот раз маленькая – одиночка. Топчан, прибитый к полу и к стене, широкий; крысиных лазов не видно. Окно с двумя решетками: ближняя, мелкоячеистая, закрывала оконную нишу, оставляя лишь узкую полосу на подоконнике. Вторая, обычная, стояла с внешней стороны рамы. Щит за окном висел с большим наклоном, поэтому в симпатичную свежепобеленную камеру попадало много света. Через несколько минут лязгнул засов соседней камеры. Голос Катаоки громко спросил тюремщика:
– Крысы нет?
Я тоже громко крикнул:
– Крысы нет!
Катаока весело захохотал, давая понять, что узнал меня по голосу и рад соседству. Вскорости стукнула дверь третьей камеры, но голосов не было слышно.
Я еще в кремле спрятал в подошву ботинка маленький гвоздик и теперь вытащил его и стал нацарапывать на стене за подушкой маленький календарь. Расчертил сетку из тридцати квадратов (6Х5), потом вписал в квадратики числа, начиная с 4 мая и кончая 3 июня. Пользуясь календарем, я не собьюсь в счете дней, а это всегда важно. К тому же мне интересно знать, на какой день, какие процессы будут происходить в моем подопытном организме. Я помнил рассказы Анатолия Клинге, который был близок к академику Павлову, об умирании академика. Павлов диктовал свои ощущения вплоть до потери сознания. Я хотел изучить на собственном примере, как разрушается организм, меркнет сознание и т. п.
Мы перестукивались с Катаокой по тюремной морзянке, а он стучал другому соседу, пока не установил, что рядом находится Бурков и состояние его плохое. Сухая голодовка – страшная голодовка. Организм быстро обезвоживается, и смерть может наступить уже на седьмой-восьмой день. Ко мне и Катаоке по утрам коридорный приносил воду в чайнике, и я пил примерно около литра в день.
Прошло четыре дня. Никто, кроме дежурного коридорного, не заходил в камеру, никто не уговаривал снять голодовку. Нас как будто забыли. Стояла глубокая тишина. Я старался спать и чувствовал себя спокойно. Каждый вечер зачеркивал дату прошедшего дня.
Пошел пятый день в СИЗО и шестой день голодовки. Я попил на завтрак полкружки воды и спокойно лежал, вспоминая немецкие стихи, выученные за этот год, потом стал вспоминать наиболее значительные книги, наиболее интересных людей. Надо вспоминать, тренировать память, вспоминать, вспоминать, ничего не забывать! Дел много. Скучать некогда. Вспоминать! Как «Межзвездный скиталец» Джека Лондона.
Воспоминания так поглотили меня, что я не услышал клацанья замка. Вошел начальник СИЗО и тихо пригласил меня следовать за ним.
– Куда? Зачем?
– Наверх. К начальнику.
– Я не смогу подняться.
– Вам помогут.
В камеру вошли два стрелка, подхватили меня под мышки и потащили по коридору, затем на второй этаж и, втащив в кабинет Монахова, посадили в кресло.
Монахов глядел хмуро и молчал.
– Опять голодовка? – наконец спросил он. – У вас до конца срока год остался, а вы нарушаете лагрежим! Вот заведем на вас дело как на злостного отказчика от работы.
– Я занимаюсь самообразованием – это тоже работа. Почему, когда большинство не работает, я только должен работать?
– Работы на всех у нас не хватает, но если посылают на работы, отказываться нельзя! А то принципиально отказываются: «Мы политзаключенные, члены революционных партий, нам не пристало в лагерях работать!» – кричал Монахов, потрясая бумагами, схваченными со стола.
Я подумал: очевидно, это чьи-нибудь заявления о голодовке. Монахов продолжал дальше:
– Мы эти голодовки выведем! Хватит! Либеральничали с вами, а вы нам на шею хотите сесть! Вот вы все где у меня сидите! – Монахов стукнул себя ладонью по толстой шее. – Хотите голодать? Голодайте, пока не умрете!
Стало ясно, что требования мои не удовлетворят, и глубокое безразличие охватило меня. Я тихо сказал:
– Поверил я вашему обещанию и поэтому снял первую голодовку. Вы нарушили его, и поэтому я объявил вторую. Если вы вызвали меня только за тем, чтобы сказать: «Голодайте, пока не умрете» – отправьте меня обратно в камеру. Буду голодать, пока не умру.
Монахов долго молча смотрел на меня. Я выбрался из кресла, начал пробираться к выходу из кабинета. Тогда он крикнул:
– Остановитесь! В последний раз удовлетворяю ваши просьбы.
Я не верил ушам своим, ноги у меня подкосились, и я сел на диван.
– Я не верю, – тихо сказал я, в глазах у меня потемнело, голос Монахова звучал как бы издалека. Он звонил начальнику лагпункта в кремль, повторяя пункты моего заявления.
Очнулся я от нашатырного спирта. Я лежал на диване Монахова. Радкевич, начальник санчасти, считал пульс.
– Вот и порядок, – мило улыбаясь, сказал Радкевич. – Отправим вас в лазарет, а там отдохнете.
Действительно, меня прямо из монаховского кабинета увели на дрожки. Вещи уже лежали там же. Радкевич сел рядом, поддерживая меня, и через несколько минут лихие кони доставили меня в лазарет. Через полчаса я уже лежал в терапевтическом отделении. Кровать стояла у окна, и с высоты третьего этажа открывался захватывающий вид на бухту Благополучия и просторное синее море. Остатки льда между маленькими островками штурмовал «Ударник», открывая навигацию. Было 9 мая 1937 года.
Я был на седьмом небе: во-первых, выиграл голодовку, во-вторых, ощутил радость весеннего простора после тесной камеры. После первой голодовки этого не ощущалось, так как в январе у Полярного круга и днем темно, а мрак и туман за окном лишают ощущения простора. А теперь простор, море, голубое небо, весна. Очевидно, «Ударник» привезет письмо и, может быть, посылку.
К вечеру «Ударник» пробился через льды. Все ждали нового этапа, новых вестей, писем и посылок. На другой день выдавали посылки. Находящимся в лазарете посылки доставляли в палаты. Я тоже получил очень хорошую посылочку, не зная, что это последняя. Ко мне пробилось несколько знакомых. Расспрашивали. Поздравляли. Я ждал в лазарете товарищей по голодовке, но их не было. Под утро 11 мая привезли Буркова в плохом состоянии. Восемь дней сухой голодовки не шутка! Его положили за ширмой в коридоре. Утром я вышел из палаты и, держась за стену, пошел навестить Михаила Петровича. Вид его был страшен. Желто-коричневая кожа обтягивала узкий череп, красные воспаленные веки чуть прикрывали мутные глаза. Тяжелый запах разложения доносился даже из-за ширмы. Я позвал Буркова, но он не реагировал и мутно глядел в потолок. Прибежал санитар Дудкевич и увел меня в палату, заверив, что Буркову уже лучше (он четыре раза пил воду и два раза молоко).
Днем мне передали записку от Лукашова. Жоржик писал, что в кремль привезли Катаоку. Он в 11-й камере, так как в лазарете нет места, но на три дня подучил лазаретный паек. Он снял голодовку без удовлетворения требований. Через несколько дней, когда я уже вышел из лазарета, Катаока рассказал, что слышал, как меня увели из камеры, и очень беспокоился. Долго ждал моего возвращения, стучал в стенку то ко мне, то Буркову, но никто не отзывался. Ночью почти не спал, а утром вызвал начальника СИЗО и объявил, что снимает голодовку и просит молока. К его удивлению, ему принесли чай и кашу, сказав, что ни молока, ни белых сухарей у них нет и больше не будет, так как голодовки запрещены и с голодовщиками они больше возиться не будут.
Макарянц появился в лазарете 12 мая. Накануне в камеру, где он содержался вместе с двумя украинцами, пришел начальник СИЗО под предлогом борьбы с крысами. Макарянц, как самый бывалый, спросил начальника, почему никто не приходит?
– А никто не должен приходить, – спокойно ответил, тот.
– А врач?
– А чем врач может вам помочь, если вы сами себя убиваете?
Один из украинцев переспросил:
– Так никто не придет, пока мы тут?
– Когда помрет кто, обязательно придут: тело вынести, – утешил начальник и пошел к выходу.
– Снимаем голодовку! – закричали те в один голос.
Начальник вызвал коридорного в камеру, сам ушел и вернулся с двумя бумажками.
– Тогда подпишите заявление о снятии голодовки.
Украинцы молча подписали, и через несколько минут их уволокли. Макарянц остался один.
На следующее утро в камеру пришел уполномоченный и спросил:
– Вы понимаете, что вы просите в заявлении?
– Да, я анархист-коммунист и требую перевести меня на политрежим со всеми вытекающими последствиями.
– Политрежим для заключенных уже отменен. Все вы осуждены по уголовному кодексу, следовательно, вы все, хоть анархисты, хоть эсеры, хоть меньшевики, являетесь уголовниками. Так что не требуйте невозможного. Даем вам последний шанс. Отправим вас в лазарет, будете в кремле ненаряженным, если снимете голодовку.
Макарянц подумал и согласился.
Последний, снявший голодовку, был инженер Загурский из первой колонны. Вот с такими вариациями закончилась эпопея с голодовками. Все поняли, что наше соловецкое начальство освободили от ответственности за голодающих и оно с готовностью продемонстрирует свою непреклонность даже ценой смерти объявившего голодовку. А доставить такое удовольствие начальству никто не хотел. С точки зрения желающего покончить жизнь, голодовка – слишком мучительный способ. Петля имеет больше преимуществ!
После выхода из лазарета и устройства в колонне я снова принялся за занятия. Однако, кроме истории, ничем заниматься не хотелось. Вскоре последовало очередное событие. В красный уголок пришел воспитатель и снял групповой портрет пяти маршалов, написанный маслом по известной фотографии. Поскольку недавно также сняли портрет Ягоды, а уж потом было сообщение в прессе, то пошли догадки, не арестовали ли кого-нибудь из маршалов. Догадки вскоре подтвердились. Было сообщено об аресте маршала Тухачевского, командующих военными округами Якира, Уборевича, крупных военачальников Корка, Эйдемана, Примакова, Фельдмана, Путны и о предстоящем суде над ними.
В это время меня навестил Вальда-Фарановский. Он рассказал, что 8 мая попросился на прием к Монахову и просил удовлетворить мои требования. Руководство Соловков, и в том числе Монахов, относилось с уважением к ротмистру. Во-первых, он был отличный конюх, и персональные лошадки начальников были в прекрасной форме, во-вторых, импонировала начальникам его решительность и храбрость в избиении урок. Монахов выслушал все доводы ротмистра, в том числе и о его попытках уговорить меня, и объяснил, что при сложившейся ситуации он не может допустить послабления. Тогда ротмистр заявил, что если я погибну, то многие, и он первый из них, объявят голодовки или другие эксцессы, а это будет хуже, чем допустить хотя бы временное послабление. Монахов уловил акцент на слове временное и сказал: «Это может быть возможно». Ротмистр предупредил меня, что начальство очень обеспокоено сменой руководства НКВД и ГУЛАГа и возможного перевода Соловков в ведомство тюремного управления Главного управления госбезопасности. Вероятно, в ближайшие дни для порядка будет издан новый приказ о наказании всех участников майской голодовки. Отвечать на это новой голодовкой – гибель. Ротмистр просил меня быть разумным.
В конце мая на очередной проверке зачитали приказ: «За нарушение лагрежима, выразившегося в объявлении голодовки, заключить в КУР на три месяца без права переписки и получения посылок и без вывода на работу заключенных…» Далее следовал перечень наказанных, где были все, объявившие в мае голодовки, в том числе и я. Учитывая ситуацию, все поименованные в приказе решили не разбивать голову о стенку и на другой день без эксцессов отправились в КУР.
СТОН
КУР окружен колючей проволокой с вышками по углам. Полная изоляция от соловецкого «света». Информации никакой. Книг мало – какая-то плохая передвижная библиотека. Начальник КУРа – толстый разложенец – болен. Его замещает временно Хохлов – мой знакомый по СИЗО № 1, когда я был в общей камере. Он бытовик, кажется растратчик, и поэтому может занимать административно-хозяйственные должности. Хохлов встретил нас приветливо и поместил в сравнительно хорошем и небольшом отсеке большого барака. Здесь нары двухэтажные, народ весь приличный, бытовиков и урок нет. Я устроился в углу на отдельной пристенной полке на втором этаже. Ближайшие соседи Катаока, инженер Загурский, Лукашов. Бурков еще в лазарете, но ждем его.
В этом же помещении находятся два эстонца. Молодой Дыклоп и его отчим Попов-Ребане – они родственники какого-то эстонского министра и сидят по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии, тут же прокурор Калмыцкой АССР Роковой, артист Цишевский, братья Миклашевские и многие другие знакомые. В другом отделении барака находятся бытовики, из них многие урки. Они пока нас не трогают, так как строгий режим охраняет нас. Стараюсь заниматься. У Загурского интересная книга: Тейлор «Двенадцать принципов производительности труда». Первый принцип – «отчетливо поставленные цели и задачи» – очень мне подходит.
Хохлов хранит в каптерке наши посылки. Он разрешил повару готовить из моих продуктов два-три раза в неделю кашу или макароны. Это существенное подспорье. А вообще-то в КУРе голодно, но не скучно. Мы «вошли» в режим, устраиваем шахматные турниры, викторины и т. п. Уже середина июня. Сегодня принесли газету «Красная Карелия», зачитанную, замятую, но содержащую решение Верховного суда: Тухачевского, Якира, Уборевича и других приговорили к расстрелу. Все читают про себя. Без комментариев. На другой день Хохлов объявил: «Завтра новое начальство придет принимать КУР. Они уже больше недели в Соловках. Лагеря больше нет. Есть Соловецкая тюрьма особого назначения – СТОН».
Около десяти часов во двор КУРа вахтеры втащили стулья, стол и установили их, углубив ножки в землю. Появился трясущийся Хохлов и застелил столы свежевыглаженными красными полотнищами. Затем у проходной встал как штык больной Медзмарашвили в черном кожаном пальто и таком же картузе. Хохлов и вахтеры построили нас, грешных, лицом к столу, но на расстоянии метров десяти – двенадцати от него. Хохлов еще раз проверил, нет ли где мусора, вахтеры проверили состояние барака. Погода благоприятствовала представлению: было тихо и солнечно.
Около одиннадцати часов за оградой раздался истошный крик: «Внимание!» Сейчас же начальник КУРа завопил: «Внимание!» Хохлов кинулся к проходной раскрывать ворота. Через проволочную ограду стало видно подходящее начальство. Впереди четким широким шагом шел высокий, толстый, в длинном коричневом пальто и в фуражке госбезопасности. За ним, отставая на шаг, шли двое, дальше еще трое – все в таких же кожаных пальто и фуражках. За ними семенили, потеряв всю важность, начальник Соловков Агапов, начальник 3-й части Монахов и еще кто-то из прежнего начальства. Замыкали шествие четыре стрелка.
Когда начальство стало входить в ворота, одна из створок двинулась навстречу, стремясь занять положение «закрыто». Новый начальник с силой откинул ее сапогом и что-то крикнул Медзмарашвили, стоявшему навытяжку с рукой у картуза. Тот кинулся, схватил створку и замер. Вся когорта вошла, разместилась на стульях, ворота закрыли, стрелки разместились между столом и воротами. Мы рассматривали новое начальство, отмечая невиданную доселе форму и строгий вид. Наши прежние грозные начальники в форме ГУЛАГа и без пальто выглядели, как мужики у парадного подъезда.
Шедший первым сидел в середине стола и оглядывал наши ряды. Вот он встал и представился:
– Я старший майор[35] госбезопасности Апетер – начальник Соловецкой тюрьмы особого назначения. Ваше подразделение отныне именуется не КУР, а КОН, то есть колонна особого назначения. Начальник КОНа младший лейтенант Краюхин осуществит прием заключенных.
Апетер сел.
Краюхин встал и объявил:
– Будет перекличка. Каждый вызванный должен выйти на шаг из строя и четко назвать все фамилии, имена, отчества, года рождения, а также статьи, по которым отбывает заключение, и срок наказания.
Он сел.
Другой чин, сидевший рядом с Агаповым, подвинул стопку папок, открыл верхнюю и произнес первую фамилию.
Дело шло быстро. Задержки возникали только тогда, когда опрашиваемый имел много фамилий, и какую-то из них не хотел назвать. Случались казусы. Вызвали Вахрамеева. Никто не отозвался. Повторили с добавкой: он же Иванов, он же Петров, он же Сидоров. Отозвался урка, которого звали Петров-Карабанов. Оказывается, сидел он последний раз под этой фамилией, а настоящую – Вахрамеев – скрывал. Потом мы его спрашивали, почему он выбирал такие простые фамилии. Вахрамеев смеялся и объяснял:
– Проверить труднее. Ивановых вон сколько! Да и Петровых с Сидоровыми навалом.
– А почему Петров-Карабанов?
– А это я сам подделал в паспорте. К Петрову добавил Карабана.
Таких многофамильных на этой проверке-приемке обнаружилось немало. Попал в их число и Катаока. Когда он на вызов вышел из строя, новый начальник спросил:
– Еще как?
– Зисабуро Кимура.
– Еще как?
– Техаси Камекичи.
– Еще как?
– Больше никак!
– Еще как? Забыли?
Катаока молчал, опустив голову. Сидящие за столом перешептывались. Катаока стоял перед столом злой как черт.
– Так вот, – насмешливо сказал Краюхин, – еще Касуги!
Катаока отошел налево в строй «принятых», и перекличка продолжалась. К нашему удивлению, назвали и фамилию Медзмарашвили. Мы со злорадством наблюдали, как бывший грозный начальник КУРа выбежал, перед столом пролепетал свои «бытовые» статьи и топтался в замешательстве, не зная, куда же ему идти. Обратно? Стоять за столом, во втором ряду вместе с бывшим начальством или…? Краюхин разрешил его сомнения, указав в сторону строя «принятых» заключенных. Толстяк Медзмарашвили побагровел и, заплетаясь ногами, пошел в строй.
Передача-приемка начальников дальше прошла без инцидентов. После окончания этой процедуры Краюхин спросил для формы:
– Вопросы есть?
Неожиданно из строя вышел Попов-Ребане (родственник эстонского министра) и твердо сказал:
– Вопрос такой. Вот вы сказали, что теперь вместо КУРа будет КОН, а знаете ли вы, что по-французски это означает женский половой орган? Нам такое название кажется обидным. Сидеть в КОНе, каково?
Лейтенант Краюхин растерялся и молчал, но Апетер сухо сказал, указуя на Попова-Ребане:
– В карцер на трое суток.
Начальство пошло к выходу. Стрелки увели эстонца-юмориста. Началось наше пребывание в КОНе – СТОНе.
Сидение в КОНе было нудным. Хохлов несколько облегчал существование, принося продукты из последней посылки, рассказывая новости, передавая газеты. Он остался старшим вахтером и был очень доволен, что новый начальник почти не бывает в избушке, где помещался убогий кабинетик начальника КУРа. Толстый грузин был разжалован и отправлен в кремль.
Мы, используя хорошую погоду, два-три часа проводили во дворе, где Катаока учил меня и Дыклопа приемам джиу-джитсу. Мы вдвоем нападали на японца, а он нас легко бросал на землю. Мы же учились падать так, чтобы не получать травм. В дождливые дни играли в шахматы. Я организовал что-то вроде семинара «Что хорошо знаешь сам – расскажи другим». Получались эти рассказы довольно интересными. В августе Хохлов шепнул мне, что ряд бывших соловецких начальников арестованы и что скоро нас переведут в кремль, а в этих бараках разместятся новые подкрепления стрелков.
В конце августа урок куда-то увезли, а через день нас перевели в кремль. Я попал в четвертую колонну, которая размещалась в том же корпусе, где была раньше резиденция начальника лагпункта «Кремль». Теперь резиденция нового начальства помещалась в трехэтажном корпусе второй колонны, реконструированном и отремонтированном. Библиотека еще работала, но часть книг, упакованная в большие связки, не выдавалась. В четвертой колонне нас поместили в большой, человек на 60, камере, где почти все верхние места были свободны. Инженер Шведов пригласил меня на верхнее место у окошка. Он занимал нижнее, а на соседнем сидел и что-то писал седоватый аккуратный человек с эспаньолкой и маленькими усиками – Захар Борисович Моглин, зять Л.Д. Троцкого.
Публика в этой камере была спокойная, урок не подселили. Обращало внимание отсутствие партийных деятелей и крупных советских работников. Зато имелось довольно много инженеров, бывших эмигрантов, тут же были все неоклассики, Бобрищев-Пушкин и даже встречались крупные царские чиновники. К последним относился инженер-путеец Костылев, занимавший видный пост в министерстве путей сообщения (то ли директор департамента, то ли товарищ министра в чине действительного статского советника). Он был уже весьма стар, но очень живой и веселый. За глаза его звали «Черномор», так как он имел и горб, и длинную узкую седую бороду. Костылев хорошо знал немецкий и французский. Поэтому Николай Федорович Шведов – мой первый соэтапник, – когда я стал жаловаться на потерю времени, порекомендовал Костылева в качестве учителя французского.
Черномор сначала удивился, потом согласился, добавив, что за успех не ручается, так как учебников нет, книг тоже (из библиотеки литературу на иностранных языках уже не выдавали). Я рассказал Костылеву о методе П.И. Вайгеля и результатах его применения. Черномор разгладил бороду и стал экзаменовать меня по немецкому. Я и склонял, и спрягал, и стихи Шиллера читал, и пословицы вспоминал. Он был очень заинтересован, мы начали занятия по французскому спряжением глагола «etre» и записали произношение сочетаний букв. Заниматься решили каждый день, благо других дел не было.
В первый же день после перевода из КОНа в кремль все побежали искать знакомых. Выяснилось, что часть обитателей кремля вывезена на другие лагпункты, чтобы освободить место для перестройки корпусов под тюрьму, другие, с большими «букетами», посажены в тюремный корпус № 1, переделанный из первой колонны. Те же, кто заканчивал срок в 1937 году, вывезены этапом (первый этап) на материк, в том числе и Лев Андреевич Флоринский – один из моих добрых знакомых, с которым нам впоследствии придется быть вместе. Бывшие библиотекари, в том числе Арапов, как «тяжеловесы» были под замком. Йодпром и Рыбпром и другие промыслы прекратили свою работу, заключенные были разбросаны по лагпунктам. Прекратило деятельность и проектно-сметное бюро, в завершение составив проект перестройки монастырских помещений в тюремные. П.А. Флоренский и другие видные сотрудники ПСБ, очевидно, были тоже под замком.
В кремлевских дворах было сравнительно малолюдно. Цветники во втором дворе уничтожены. Закрытые щитами окна первой колонны выглядели как ослепленные. Время от времени заключенных привлекали к работам в кремле: уборка строительного мусора, разгрузка и переноска кирпичей и т. п. Обычно для этого выводили две-три камеры. Как-то привлекли к работе цыганскую камеру. Цыгане не любили таких «привлечений», но режим был жестким, и отказываться они боялись. Так вот, эти труженики убирали строительный мусор, двигаясь как во сне. Особенно эффектно работал цыганский король Гога Парфенович Станеску. Этот огромный мужик тащил за веревку маленький банный тазик, где лежали два-три обломка кирпича. Двигался он медленно, наклонив могучую голову, с таким напряжением, словно тащил трактор.
Пришла очередь и нашей камеры. Нас выгнали во двор, окружили и повели к воротам. Это было уже интересно. Привели в порт. Предстояла разгрузка баржи с кирпичом. Бурков спросил конвоира: «Этот кирпич для постройки тюрьмы?» Стрелок подтвердил. Бурков сказал, что участвовать в постройке тюрьмы для себя – верх безнравственности. Я был с ним согласен. Мы заявили, что не будем участвовать в разгрузке. Местный начальник приказал выйти из строя отказчикам. Вышли Бурков, я, неоклассик Лебедь, Лукашов, Макарянц, Бобрищев-Пушкин и даже Костылев. Начальник опросил каждого о причине отказа, начав со стариков. Костылев сказал, что у него грыжа, Бобрищев – что у него две грыжи. Остальные – по причине аморальности участия в постройке тюрьмы. Уговоров работать не было. Стариков увели, а нам приказали встать лицом к стене. Остальные принялись за работу.
Примерно через час за отказчиками пришел конвой, который доставил нас прямехонько в СИЗО № 2, там всех развели по камерам. Я попал в двухместную камеру вместе с А.Д. Лебедем. К вечеру нам объявили приказ: десять суток изолятора за отказ от работы.
Режим в СИЗО уже стал не тот, что в 1935—1936 годах. Книг и газет не давали, на прогулку не выводили, кормили плохо, лежать днем не разрешали. В изоляторе было голодно и тихо, но не скучно. Лебедь оказался хорошим собеседником. Он мне и рассказал забавную историю об освобождении младшего неоклассика – Максима Рыльского. Кроме истории развития неоклассицизма как литературного течения Лебедь много и интересно рассказывал о гражданской войне на Украине, об инспирированных немцами выборах гетмана Скоропадского, о Симоне Петлюре, Махно и т. п. Я рассказал о Гройсмане и Харадчинском, сидевших в этом СИЗо, о палаче Климкине, о голодовках, о моем аресте-похищении. Десять дней прошли довольно терпимо.
За дни, проведенные в изоляторе, произошла смена погоды. Стояли пасмурные дни, листва с деревьев облетела. Плохая погода, наступление мрака и холода всегда нервировали соловчан, а тут еще неопределенность. Что будет с нами? Кого оставят в этой тюрьме особого назначения? Кого вывезут и куда? Вопросы, вопросы… Ясно было одно: все изменения к худшему. В газетах бушевал шквал ненависти и подозрительности. Термин «враги народа» упоминался почти во всех статьях. Создавалось впечатление о множестве «врагов» во всех звеньях госаппарата, на производстве, в литературе, армии и т. п. Все действовало угнетающе. Казалось, все руководство вместе с Великим сошло с ума. Газеты читали молча, без обычных комментариев, что уже стало и в Соловках опасным: были случаи ареста тех, кто вслух высказывал возмущение происходящим.
Как-то к вечеру небо прояснилось, похолодало, морозный ветерок повеял над кремлем, неся запахи моря. Я пригласил Лукашова на прогулку, и мы долго бродили среди оголенных деревьев сквера по подмерзающей шуршащей листве, обходили кремлевские дворики, шагали по гранитным плитам «царских» дорог. Мы долго говорили о предстоящем, пытались прогнозировать наши судьбы и события. Потом, вспоминая эту вечернюю прогулку по притихшему кремлю, я попытался отобразить в стихах ощущение того тревожного ожидания:
Был тихий вечер, солнце село, Заря сгорела без следа. На небосводе потемнелом Зажглась вечерняя звезда. Чуть слышно волны шелестели Внизу за каменной стеной. Давно уж чайки улетели, Их крик не нарушал покой. И месяц, из-за стен поднявшись, На башне шпиль посеребрил, А под ногами лист опавший Шаги неровные глушил. Тишь кралась призраком разлуки, Предчувствия сжимали грудь. Друг другу в клятве сжавши руки, Мы знали: ждет нас трудный путь. Наивным нашим идеалам Клялись быть верными всегда. Темнела ночь, сильней сияла Во мраке первая звезда! И мы решили: каждый вечер С тех пор, как, друг, нас разлучат, До дня веселой нашей встречи Звезду вечернюю встречать. Чтоб свет ее, спокойный, нежный, Нас осенив в суровый час, Соединил наш дух мятежный И укрепил духовно нас… Прошли года с последней встречи, Не счесть загубленных тюрьмой! И, словно траурные свечи, Мерцают звезды над страной. Но, как и прежде, каждый вечер Звезды встречаю я восход. Я верю: этот гнет не вечен, И справедливость все ж грядет! С тоской щемящей вспоминаю Я боль и радость прошлых лет, Но остров тот благословляю, Где в грудь запал мне звездный свет.В конце октября неожиданно выгнали всех обитателей открытых камер кремля на генеральную проверку. На проверке зачитали огромный список – несколько сотен фамилий – отправляемых в этап. Срок подготовки – два часа. Сбор на этой же площади. Началась ужасная суета. Одни бежали укладывать вещи, другие – прощаться со знакомыми. Через два часа большая часть этапируемых уже стояла с вещами. В это время из изоляторов вышли колонны заключенных с чемоданами и рюкзаками, которые направлялись не к Никольским воротам, где была проходная, а к Святым воротам, которые выводили на берег бухты Благополучия. Я подбежал к краю «царской» дороги еще до приближения колонн и видел всех проходивших мимо ряд за рядом по четыре человека в ряду. Мелькали вперемешку знакомые и незнакомые лица. На всех было одно общее выражение: собранность и настороженность. Все стали какие-то суровые, отчужденные.
В рядах проходящих мелькнуло лицо профессора Флоренского, вот высоко несет голову седобородый профессор Литвинов (оба из ПСБ). Показались Котляревский (в новой кожаной ушанке) и Вангенгейм (в черном пальто и пыжиковой шапке). Увидели меня. Кивают головами, а руки заняты чемоданами. Котляревский подмигнул и улыбнулся, но улыбка вышла невеселая. Шариком покатился бывший заведующий лазаретом Л.Т. Титов. Я его окликнул. Он повернул голову, улыбнулся растерянно, узнал меня, затряс головой. И мимо, мимо идут ряды. Я ждал своего Учителя. Включен ли он в этап? Уже прошли несколько польских ксендзов. Проплыло толстое раблезианское лицо Каппеса. «Wo ist mein Lehrer?»[36] – крикнул я. Поворотом головы Каппес показал в следующие ряды, и я увидел бледное, исхудавшее, скорбное лицо Учителя. Он улыбнулся и четко произнес: «Auf, bade, Schuler, unverdrossen die irdische Brust im Morgenrot»[37]. Прошли еще несколько добрых знакомых, но ни Арапова, ни Антоновича, ни Вальды-Фарановского среди них не было.
А ряды все шли. Более тысячи заключенных было вывезено из Соловков в этот пасмурный октябрьский вечер. Это был уже второй этап из Соловков, названный «большим». Спустя несколько дней в кремль пригнали несколько сотен заключенных из Анзера и других лагпунктов, разбросанных по Соловкам. В начале ноября их третьим этапом отправили на материк, добавив часть обитателей кремля, преимущественно троцкистов. С ними уехал и Захар Борисович Моглин, о котором у меня остались самые добрые воспоминания. Моглин, как он сам говорил, никогда не был троцкистом, хотя и был женат на дочери Троцкого. Он, смеясь, заявлял, что если уж наклеивать ярлыки, то он «богдановец», имея в виду яркого революционера А.А. Богданова (Малиновского), врача, философа, писателя, бывшего члена ЦК РСДРП(б), организатора Пролеткульта, первого директора Института переливания крови. На этом посту в 1928 году он и умер, экспериментируя на себе.
Моглин восхищался его многогранностью, энциклопедизмом и в то же время глубиной мысли. Богданов создал всеобщую организационную науку – тектологию, в которой он высказал многие идеи, развитые после в кибернетике (системный подход, моделирование, обратная связь и др.). Богданов доказывал, что мир можно представить как систему различных типов организации опыта (отсюда эмпириомонизм), и противопоставлял марксистской философии теорию равновесия, согласно которой развитие общества зависит главным образом от взаимодействия его с природой и только путем равновесного состояния в системе природа – общество достигается гармоничное развитие общества, а не от борьбы классов. Моглин развивал идеи Богданова на примере происходящего ныне отсутствия равновесия в обществе и нарушения связи общества с природой, критикуя и мичуринское положение: «Мы не можем ждать милости от природы» – как призыв к покорению природы, за что человечество ждет беда.
Моглин рассказывал также о себе, о гонениях, обрушенных на его семью, когда Троцкий в 1929 году уехал за границу, об открытом письме Льва Давидовича к Сталину, опубликованном в газетах многих стран, с протестом по поводу притеснений семьи его дочери. Это письмо еще больше раздражило Сталина. Репрессии усилились, и, не выдержав нервного напряжения, жена Моглина отравила себя газом. Захар Борисович тяжело перенес эту трагедию, но особенно замкнуться и тосковать ему не давали: время от времени отправляя его то в тюрьму, то в ссылку, то в лагерь.
После трех этапов кремль совсем опустел. 9 ноября было интенсивное северное сияние. В черном небе сходились и расходились не обычные многоцветные полосы, а багрово-красные дуги, что толковалось некоторыми как грозное знамение. Все ждали: будет четвертый этап или нет. Прошел страшный слух, будто второй этап был утоплен в море. Все это не способствовало хорошему настроению.
Ночью 11 ноября (одиннадцатого, одиннадцатого!) меня забрали с вещами. Куда? На этап? Нет, оказалось, из нашей колонны человек около двадцати отправили на тюремный режим в бывший СИЗО № 2. На этот раз я попал в четырехместную камеру. С малознакомыми и довольно скучными людьми. Все разговоры вертелись около двух тем: есть хочется и попадем в последний этап или нет. Книг и газет не было, поэтому дни тянулись долго… Однажды ночью нас повели в баню, что вызвало большое оживление и домыслы: наверно, в этап, а может, в связи с двадцатилетием Октября амнистию объявили? После бани нас перетасовали, и я попал в камеру вместе с интеллигентным пожилым человеком – ректором Киевского университета Михаилом Ивановичем Симко.
25 ноября я объявил своему симпатичному соседу, что сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 18 лет. Михаил Иванович, с которым мы уже просидели вместе три дня, очень взволновался и решил организовать пир из его посылочных ресурсов. Перед обедом он достал большую луковицу, шесть кусочков пиленого сахара и сухарь, вручил мне эти дары, а в суп себе и мне положил по половинке кубика мясного бульона. Я был очень тронут таким подарком и сказал Симко, что надеюсь на благополучный год, хотя… тут я вспомнил о гороскопе и рассказал об этой магии, в частности о неблагоприятных числах 5 и 11. Симко выслушал все это с величайшим интересом и рассказал о предсказаниях цыганки ему и его товарищу еще в студенческие годы, которые, к сожалению, пока оправдываются. За такими разговорами мы с аппетитом съели улучшенный обед.
Шли дни. Чтобы время не пропадало, я тренировал память и про себя читал стихи, доказывал теоремы, вспоминал законы физики и химии, а Симко—профессора истории – просил экзаменовать меня по истории. Симко рассказывал фрагменты из украинской истории, которую я знал слабо. Иногда Михаил Иванович рассказывал о революции и гражданской войне. Он был в 1918—1920 годах боротьбистом, а после самороспуска этой партии вступил в Компартию Украины. Его трактовка происходящих в те времена событий отличалась от трактовки Лебедя. Я слушал и вспоминал известную фразу: «Нет ничего правдивее истории и нет никого лживее историков».
Когда ночью в такой тюрьме, как СТОН, раздается лязг многих дверей, и по коридору топают, это либо пожар, либо ликвидация, но не тюрьмы, конечно, а заключенных. Вот такой зловещий шум я услышал сквозь сон в конце ночи 18 декабря 1937 года. Где-то далеко раскрывались двери и не закрывались. Из камер выводили. Сон слетел мгновенно. Михаил Иванович Симко сидел на постели и пытался улыбнуться. Он многозначительно кивнул красивой седой головой в сторону двери, и, словно повинуясь кивку, тихо открылась дверная форточка. Свистящим шепотом невидимый тюремщик вопросил:
– Кто на «С»?
– Я, – едва выдохнул Симко.
– Фамилию полностью, – шипел тюремщик, – имя, отчество? Год рождения?
И, наконец, несущий тревогу приказ:
– С вещами, быстро!
И форточка закрылась.
Симко страшно волновался, одеваясь и собирая вещи. Вдруг он сел на кровать и, держа в руке ботинок, сказал:
– Может быть, амнистия?!
– Ну тогда бы и меня позвали, – сказал я, – мне ведь осталось полгода, а вам восемь лет.
– Да, но я старый революционер, – хватался за соломинку Симко, – я кандидат в члены ЦК КПУ.
– Вы еще были и членом ЦК партии боротьбистов, и сегодня не 7 ноября, а двадцатилетний юбилей прошел без амнистии, – сердито сказал я.
Форточка снова открылась.
– Кто на «Ч»? – прошипели из коридора. Тут и мне приказали спешно собирать вещи. Через несколько минут мы уже шли по коридору, по лестнице вниз. Симко шепотом убеждал меня, что это амнистия, пока сопровождающий, уловив это слово, выразительно улыбнувшись, не сказал:
– Одна вам амнистия – восемь грамм.
На дворе корпуса стояли человек двадцать лицом к стене. Поставили и нас. Морозный воздух был таким вкусным, что не думалось о возможности расстрела. Нас и не расстреливали, а вывели из кремля. Было очень темно, тихо, только скрипел снег. Нас вели в окружении большого конвоя: стрелки с винтовками наперевес грозят штыками. Собачники ведут огромных овчарок. Куда? Никто не представлял. Идти было легко (вещи везли на санях) и даже приятно после долгого сидения в камере.
Примерно после двух часов пути выяснилось, что нас ведут в сторону Секирной горы. Это было плохим показателем. Секирная гора имела очень недобрую славу. В XV веке ангел на ее вершине высек розгами женщину, которая явилась на остров для соблазна монахов. В ознаменование чуда на вершине горы построили часовню, а в XIX веке – довольно большую каменную церковь, на вершине которой был устроен маяк. К церкви примыкал с запада деревянный двухэтажный корпус. В лагерный период там находился штрафной изолятор, знаменитый особенно тяжелым режимом. В соловецком фольклоре о том времени пели так:
На седьмой версте стоит Секирная гора, Там творились страшные дела: В муравейник нас сажали, Шкуру заживо снимали, Ох, зачем нас мама родила. Много, много видела Секирная гора, Под горой под той зарыты мертвые тела. Буря по лесу гуляет, Мама родная не знает, Где зарыты косточки сынка.Этап принимали перед церковью. Пересчитали, повели внутрь. Слабо светят «летучие мыши» – керосиновые фонари. Прошли через деревянный корпус, пристроенный к церкви. В нем, очевидно, живет охрана. Входим в церковь. Старший стрелок широким жестом показал: размещайтесь. Церковь пустая, по стенам двухэтажные нары – вагонка, в нише над дверью керосиновая лампа едва светит. Двери с лязгом захлопнулись. Я занял место внизу у стенки под окном и обнаружил разбитое стекло. В дыру врывался ветер. Кто-то зажег спичку, она сразу же погасла. Церковь продувалась насквозь. Печка была холодная. Вода в ведре промерзла до дна.
Кто-то постучал в дверь и попросил истопить печку и дать горячей воды. Слышно было, как за дверями засмеялись, а потом грубый голос спросил:
– Может, вам чаю внакладку надо?
– Печку топить не положено, – пояснил другой голос. Несколько заключенных закричали:
– Окна разбиты! В церкви мороз, как на дворе! Мы замерзнем!
За дверями опять смех. Кто-то из темноты крикнул:
– Товарищи, нас сюда на расстрел привезли! Завтра шлепнут!
И стало очень тихо. Только ветер посвистывал в разбитых окнах, обдувая вершину Секирной горы.
Я стал раскладывать вещи, устраивая гнездо. Все равно делать нечего. Если расстреляют, то все волнения и ожидания кончатся, если не расстреляют, то надо не замерзнуть и не простудиться. Я снял валенки. Портянками и грязным бельем забил два разбитых стекла. Надел все носки на ноги. Снял телогрейку, надел все рубахи, свитер и пальто. Телогрейку надел на ноги и застегнул на пуговицы. Ноги засунул в матрацную наволочку, затем подтянул ее до подбородка. Поверх шапки надел шарф, а шею закутал полотенцем. Чемодан, мешок и валенки были под головой. Таким образом, все вещи пошли на гнездо. Я закрыл лицо концом полотенца и стал согреваться, слушая, как посвистывает ветер, как копошатся товарищи, устраиваясь на ночлег (может быть, последний?), как кто-то оправляется (со страху?) на параше. Незаметно я уснул и спал крепко, хотя сквозь сон чувствовал, что замерзаю. Перед пробуждением последний сон был «на тему дня». Снилось: меня ведут по широкому распаханному полю, идти тяжело, едва передвигаю ноги, навстречу дует ледяной ветер, догадываюсь– ведут на расстрел и радуюсь: наконец все закончится. «Не жить, не чувствовать – удел завидный!»
Просыпаюсь от шума, кто-то стучит в дверь. Темно. В конце декабря и днем ночь. Полотенце от дыхания замерзло, твердое, но во мне еще сохраняется тепло, а ноги, завернутые в телогрейку, занемели. В дверь перестали стучать. Кто-то из стучавших закричал:
– Если расстреливать, то не тяните!
Голос из-за двери ехидно:
– Не торопись на тот свет, там кабаков нет. Когда надо, тогда и расстреляем.
Кто-то истерически зарыдал. Успокоился. Опять тишина. Но сон уже слетел. Стал вылезать из мешка. В церкви холод собачий. Хорошо, хоть ветер затих.
Подошел Симко:
– Юра, вы спите сном праведника. Можно позавидовать. А я почти глаз не сомкнул.
– А я после сна чувствую себя бодрее, хотя есть очень хочется. Наверно, кормить не будут.
– На пустой желудок на тот свет легче идти, – влез в разговор Жантиев – молодой красивый полуосетин-полурусский, похожий на демона студент.
Заключенные, скопившиеся в менее продуваемом углу церкви, начали шевелиться и шептаться. Никто не говорил в полный голос. От страха? От подавленности?
Заклацал замок, открылась дверь: «Дежурные, выносите парашу!» Эта традиционная тюремная команда прозвучала для нас так жизнеутверждающе! Нас приглашают выносить парашу как обычных заключенных! Значит, мы еще живем! Дежурные быстро вернулись, но никакой информации не принесли. Прошло время завтрака и раздачи хлеба, но ни хлеба, ни каши нам не дали. Все было тихо. Кто-то предложил выбрать старосту, но поддержки не получил. Истомленные ожиданием, люди бродили по церкви за пределами светового круга от фонаря. Все молчали. Время тянулось. Нервы напрягались.
Опять заклацал замок. Открылась дверная форточка.
– Староста, хлеб принимай! – крикнул тюремщик. Народ всколыхнулся.
– Старостой будет Симко Михаил Иванович! – крикнул я и, взяв свежеиспеченного старосту за руку, подтащил к двери.
Я знал опрятность Симко и был уверен: у него более чистые руки для приема хлеба. Тюремщик стал выдавать пайки через руки старосты. Хлеб был замороженный. Затем внесли ведро с чуть теплой водой. Симко своей кружкой налил каждому воды. Промерзший хлеб в промерзшей церкви дал немного калорий, но оживил заключенных. Начались разговоры. Люди обменивались впечатлениями об ужасной ночи, высказывали надежды и сомнения. Незнакомые стали знакомиться. Другие подходили к старосте и представлялись по всем правилам.
По составу наш этап был разношерстный во всех отношениях. По возрасту от восемнадцати до шестидесяти лет, по партийной принадлежности от коммунистов до дашнаков, по оставшемуся сроку заключения от большесрочников-тяжеловесов до месячников.
Оживление, вызванное раздачей хлеба и воды, спадало. День темный, как ночь, напоминал тяжелый бесконечный сон. Кроме холода и голода мучило отсутствие признаков хода времени: за окнами мрак круглые сутки (у Полярного круга в эти числа продолжительность дня практически равна нулю), подъем и отбой не объявляют, завтрак и обед не дают. Заключенные ходят по церкви до изнеможения, потом сидят, пока не замерзнут, потом снова топчутся по освещенному фонарем кругу. Один из украинцев – Гаевский – упал. У него начался сердечный приступ. Симко на правах старосты начал стучать в дверь, вызывая врача. Открылась форточка. Симко дрожащим голосом попросил врача, сказав, что с человеком плохо.
– Человеков у вас нет, а есть враги народа. Лечить еще вас! – проворчал тюремщик, захлопывая форточку.
Гаевскому помогали, как могли, совали в лицо лед, махали полотенцами, то есть делали то, что не требуется при сердечном приступе, но в результате влияния потока флюидов участия ему стало лучше. Его подняли на нары. Жантиев резюмировал:
– Не топят, на прогулку не выводят, врача не вызывают. Что ж, братцы, похоже, нас уже списали, а там дело техники.
– При чем здесь техника! – закричал староста-ректор.
– При том, что, может, ямы не готовы, может, лопат нет, может, патроны не привезли, – пояснил угрюмо Жантиев.
Симко в ярости кричал, что не потерпит паники, Жантиев его подначивал, а в результате мы получили кратковременное развлечение. По моим расчетам, был уже вечер, и я стал устраивать гнездо еще на одну ледяную ночь.
Спал я на редкость крепко и долго, а когда проснулся, то едва мог шевельнуться. Так все онемело. За окном по-прежнему мрак. Облака лежат на вершине горы. Звезд не видно, и фонарь у входа едва просвечивает сквозь облачный туман. Люди совсем истомились от неопределенности, холода и голода. Я лежу и вспоминаю детали своего гороскопа. Пока он оправдывается, и буду думать, что оправдается, и я переживу Секирную гору. А если я переживу, то и других товарищей по несчастью не расстреляют здесь. Начинаю выползать из гнезда. Почти никто не лежит. Закутанные во все какие есть одежки и тряпки, люди молча топчутся в освещенной части церкви. Тишина. Я громко объявляю: «Товарищи, внимание!»– и рассказываю о своем гороскопе и выводе из него для всех присутствующих.
Реакция на сообщение о гороскопе превзошла мои ожидания. Публика оживилась, посыпались вопросы, в которых звучала надежда. Действительно, утопающий хватается за соломинку! Я продолжал укреплять ростки надежд, отмечая даже потепление в нашей тюрьме. Действительно, параша ночью не замерзла, и за окном слышались звуки падающих капель. Такие оттепели зимой в Соловках бывают. И теперь это было очень кстати.
За разговором до нас не сразу дошла команда: «Парашу выносить!» А когда дошла, то Жантиев и Гаевский схватили ее и нырнули в теплый коридор казармы. Возвратились они, трепеща от радостного волнения.
– Хлеб будут раздавать, и ведро кипятка стоит, и у печки в коридоре лежат дрова, – говорили они, перебивая друг друга.
Вскорости раздали хлеб и принесли ведро довольно горячей воды. Как приятно было ее пить! Как она отепляла! Спустя час или два из коридора донеслись характерные звуки: растапливали нашу печку. Каждый подходил к печке, прикладывался к ней ухом и внимал поскребыванию, потрескиванию, доносившимся из печного нутра.
– Выгребают золу! Закладывают дрова! – восклицали слушающие.
Печку действительно затопили, но она была настолько проморожена, что тепло до ее поверхности не доходило. Топили печку долго, и, наконец, она стала немного греть. Все три ее стенки облепили иззябшие люди, стремясь впитать хоть крохи тепла. Настроение поднималось быстрее, чем температура печки. Разговоры оживились, некоторые даже стали смеяться над страхами и ожиданиями расстрела. Снова заклацала дверь. Принесли суп! Правда, суп был совсем холодный и пустой, но ведь кормят, но ведь печку топят, может, и не убьют.
И снова заклацала дверь, распахнулась, и кого-то втолкнули в церковь. Он упал, запнувшись о порог. Когда новенького подняли, увидели, что это Курчиш. Этого скандального человека в Соловках почти все знали. По национальности он латыш. По специальности – артист цирка. По статье – мошенник и фальшивомонетчик. Подделывал подписи, изготовлял бумажные деньги и т. п. Судя по его поведению, многие считали его шизофреником. Он неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством: вешался, вскрывал вены, а однажды, находясь в СИЗО № 1 под следствием за нанесение побоев воспитателю, прибил себя большим гвоздем за живот к полу под нарами. При этом он так умело оттянул кожу живота, что не повредил брюшины, а эффект был большой. Во-первых, он пробыл неделю в лазарете, во-вторых, о нем долго говорили, что доставляло Курчишу удовольствие, вроде аплодисментов за удачный трюк в цирке.
Курчиш внимательно оглядел нас, поднял с пола свои вещи и, не отвечая на вопросы, пошел в алтарь – самую холодную часть церкви. Там он занял боковой придел. Мы опять вернулись к утешительнице-печке, вспоминая истории, связанные с Курчишем. Вдруг он выскочил из алтаря, в три прыжка достиг печки и взлетел на ее вершину, отталкиваясь от плеч греющихся. Мы и ахнуть не успели, а он уже сидел на печке, поджав ноги, и хохотал, и каркал как ворон.
Так с вершины печки он и поведал нам, как его послали в начале декабря в Исаково копать глубокие траншеи. Работа для Курчиша была неприемлемой. Он вскорости симулировал эпилепсию и был отправлен в кремль, в лазарет. Там стал рассказывать о выкопанных траншеях. Из-за этих рассказов его вызвали на допрос, но он опять забился в припадке, был связан и доставлен на Секирную гору. Рассказывал он с ужимками, с хохотком и вдруг спрыгнул с печки, запел по-латышски, скрылся в приделе алтаря и больше не выходил.
Наступление ночи ознаменовалось тем, что нам через форточку из коридора крикнули: «Отбой!» В предшествующие дни такой команды не было. Вроде начал складываться привычный камерный режим. Но, с другой стороны, вспоминался рассказ Курчиша о траншеях. Кем они заполнены? Не осталось ли в них место для нас? В таких думах мы и засыпали. Сквозь надвигающийся сон я услышал звон разбитого стекла и приглушенный смех Курчиша. Раздались шаги. Я поднял голову и увидел подходившего к двери Курчиша. Он шел танцующей походкой, босиком, в одном белье и нес что-то на вытянутой руке. Хоть свет был слабым, но были видны на белье темные пятна крови.
Изо всех сил Курчиш стал стучать в дверь. Стук гулко раздавался под высокими сводами церкви и разбудил всех. Открылась форточка:
– Чего стучишь? Чего надо? – спросил тюремщик.
– Мясо тебе принес, – четко произнес Курчиш, протягивая руку.
– Какое мясо?
– Кусок человеческого мяса – бери! – закричал Курчиш, швыряя с ладони свое мясо в лицо стражу.
– Мне не надо, – голос тюремщика дрогнул, и он захлопнул форточку.
Курчиш уже двумя руками стал колотить в дверь, дико крича:
– Мало вам мяса, еще отрежу. Жрите, подавитесь, гады!
Тут дверь распахнулась. Курчиша вытащили в коридор, раздались два выстрела, и все стихло. Установилась глубокая тишина.
На следующий день, 21 декабря, после обеда, произошло еще событие. Вызвали с вещами повара, который заканчивал срок в феврале 38-го года. Этот малограмотный белорус перед отправкой на Секирную гору был посажен в СИЗО в наказание за «угрозу нанесения удара» черпаком стрелку, влезшему в кухню лагпункта в грязных сапогах. Куда вызвали повара? На этап? Но вроде навигация уже закончилась? Однако часа через три мы сквозь разбитые окна услышали басовитый тройной отходной гудок «Ударника», означавший закрытие навигации. Повар, очевидно, уехал на материк. Значит, был четвертый этап?
После 21 декабря окончательно сложился режим нашей заброшенной на Секирную гору группы. Утром вынос параши, затем нам давали ведро ледяной воды на «умывание» – каждому едва доставалось полкружки, после «туалета» мы получали пайку мерзлого хлеба и полкружки горячей воды, в середине дня – полмиски баланды и ложку каши, вечером – полкружки воды и – отбой. Печку топили. Около нее было градусов пять – семь тепла, но на окнах лед не таял. Непонятно было, зачем нас продолжают морозить здесь, но похоже было, что не расстреляют. Люди постепенно привыкали к этому убогому существованию, но меня очень угнетала неумытость и немытость.
Время тянулось ужасающе медленно. Симко попробовал читать лекции по истории, но людям это было нудно. Жантиев предложил рассказывать по очереди какие-либо случаи из своей жизни на такие темы: самое страшное, что я пережил, или самое смешное, что случилось со мной, и т. п. Первым рассказчиком выступил сам Жантиев. У него получилось неплохо, второй и третий рассказчики не могли связать двух слов, и их прервали. Я предложил тогда рассказывать на память что-либо из прочитанного и для примера согласился рассказать новеллы О, Генри или рассказы о Шерлоке Холмсе, Нике Картере, Нате Пинкертоне и привел с десяток названий. Первый из выбранных детективов назывался «Китайские идолопоклонники» из серии подделок под Конан-Дойля. Я довольно точно пересказал этот головоломный детектив и сразу же получил заказ на второй. За день я рассказал не меньше пяти детективов и двух новелл О, Генри и совершенно потерял голос, но зато день прошел быстро. После такого ударного дебюта я рассказывал ежедневно по пять-шесть часов. При этом уже не новеллы, а романы и даже серии.
Незадолго до Нового года я начал серию исторических романов Понсон дю Террайля «Молодость короля Генриха IV». Кроме Симко, этого автора никто не читал. Поэтому все слушали с великим вниманием. Со стороны, наверное, это выглядело забавно. Завернутые в одеяла поверх верхней одежды, обросшие бородой, исхудавшие, грязные слушатели сидят на нарах или стоят у печки. Рассказчик ведет повествование, меняя интонации, жестикулируя, видя перед собой коридоры Лувра, набережную Сены, сторонников Гизов с белыми крестами на шляпах. Близится Варфоломеевская ночь. Тысячи падут зарезанными, застреленными, утопленными. Разгул ненависти, убийств. Никого не щадить: ни детей, ни женщин! Таков был лозунг.
В ночь на Новый год мы попросили истопить печку и заварить чай. Нам, вопреки ожиданиям, разрешили такую поблажку. Стали организовывать общий стол. У Гаевского в заначке была пачка чая, у кого-то сохранилось в качестве НЗ немного сахару, запасливые украинцы пожертвовали остатки сухарей. Около двенадцати часов ночи нам подали ведро с заваренным чаем. Мы распределили каждому сахар и кусочки сухарей. Симко, как староста и самый старший по возрасту, провозгласил новогодний тост, и все отпили по большому глотку очень крепкого чая. Было еще несколько тостов, смысл которых подытожил Глеб Жантиев в последнем: «Слава аллаху, что мы еще живы!»
На другой день нас вывели в полдень на прогулку. Вот уж действительно новогодний подарок! Было сравнительно тихо. Слабый морозец почти не ощущался. Над площадкой, где мы прогуливались, вздымались кроны огромных сосен, слабо освещенные появившимся у горизонта солнцем. Снег был бел, чист, и мы кинулись отмывать наши грязные руки, а я мыл и лицо, очищаясь, наслаждаясь, надеясь. Прогулки по 30—40 минут стали ежедневными. Через несколько дней привезли воз сена для набивки матрацных наволочек, и нам стало мягче и теплее снизу. Еда улучшилась. Только стекол в разбитые окна не вставляли, и при ветреной погоде в церкви температура опускалась ниже нуля. Иногда в полуденные часы проглядывало солнце, очень радовавшее нас.
Проходил январь. И, несмотря на некоторое улучшение условий, настроение заключенных стало хуже. Напряжение, поддерживаемое ожиданием расстрела, уступило место апатии. Я едва дотянул бесконечную серию о похождениях Генриха Наваррского и был рад, когда Жак Клеман распорол живот Генриху Валуа, завершив последний роман «Цареубийца». Апатия, охватившая всех, усиливалась. Все друг другу надоели. Начались вялые ссоры из-за пустяков. Народ брюзжал и томился. В конце января нам объявили, что поведут в Савватьево в баню. Ура! От Секирной горы идти километра два-три по лесной дороге – чудесно! Да и знаменитое Савватьево посмотрим.
Первый скит в этом месте был основан святым Савватием – одним из основателей Соловецкого монастыря в начале XV века. В XIX веке там построили каменную церковь с примыкающим к ней трехэтажным келейным корпусом и двухэтажные дома для богомольцев. После революции в каменном корпусе был устроен политизолятор, а в деревянных домах жили тюремщики. В бытность моей работы в библиотеке в Савватьевский СИЗО отправлялись передвижки с лучшими книгами. Некоторые из его обитателей бывали на лечении в лазарете в спецпалатах.
Поход был удачный. Погода солнечная, не очень морозная. Савватьевский СИЗО с закрытыми щитами окнами выглядел мрачно, но баня была отличная, теплая, с обилием воды. Помылись мы знатно, смыв восьминедельную грязь. Вернулись освеженные, подбодренные. По дороге конвоир шепнул, что скоро нас отправят. Куда? И действительно, 16 февраля нам велели собираться. Сборы недолги, вытряхнули сено из матрацных наволочек да побросали в чемоданы тряпье, кружки, миски и в путь.
Шли мы почти до кремля, затем свернули налево на Анзерскую дорогу и дошли до Филимоново. До того самого Филимоново, куда меня увезли в январе 37-го года, и где я объявил первую голодовку. В солнечном свете и среди белых снегов Филимоново показалось мне куда приятнее, чем год назад. Все заключенные (около 200 человек) жили в том же большом бараке, где прошли первые сутки моей голодовки. В бараке оказалось полно добрых знакомых, с нар соскочили Катаока, Макарянц, Юницкий. Подходили, здоровались, спрашивали князь Дундуков-Корсаков, ксендз-декан из Каменец-Подольска Кобец, Оберемок и многие другие. В результате обмена информацией стало ясно: под Секирной горой в декабре расстреливали; последний (четвертый) небольшой этап (около 200 человек) отправили с последним рейсом 21 декабря (мы слышали гудки парохода) и, наконец, в кремле заканчивается переоборудование корпусов. Всех, кто еще оставался на лагерном режиме, из кремля выселили. Остальные сидят на тюремном режиме.
После Секирки Филимоново было курортом: знакомых много, работы нет – иногда лишь попросят желающих расчистить дорогу от снега, по этой дороге днем гуляют в пределах 500 метров. Повара хорошие, кормят неплохо: в супе даже картошка попадается, а каша густая овсяная – столовых ложки три или четыре на порцию. Кипяток до восьми вечера без ограничений. Можно чаек попить на ночь. Даже один раз в неделю приезжает ларек, и тем, у кого есть на счете деньги, можно подкупать продукты на пять рублей в неделю. Определенно: это нам награда за мучения на Секирной! Мы сходили в баню, нам сменили белье, что можно, постирали, побрились и стали похожи на людей. Снова общество интеллигентных людей, вежливость, остроумие, интересные беседы. Месяц, проведенный в Филимоново, вспоминается как последний светлый луч, на мгновение осветивший мрак.
В эти безмятежные филимоновские дни мне посчастливилось найти у одного деятеля учебник английского языка Нурока, изданный в 1879 году. Сей древний учебник был без транскрипции и поэтому совершенно непригоден как самоучитель. Нужен был хороший учитель. Я кликнул клич, и учитель появился. Сдержанный, сухой, обучавшийся в Англии, он с удовольствием взялся за дело, признав метод прелата Вайгеля. За неделю я выучил балладу о короле Джоне и архиепископе Кентерберийском, а по грамматике дошел до Past continius Tense. Транскрипцию мой учитель писал карандашом прямо под строчками в учебнике.
Чтобы не думать о предстоящем, уцелевшие соловчане развлекались, как эстеты перед нашествием варваров. Даже устраивались состязания поэтов. На одном из состязаний было предложено каждому участнику написать венок сонетов. Это трудное задание приняли к исполнению лишь двое: Рустем Валаев и Юрий Милославский. Валаев написал на тему «Наполеон», Милославский озаглавил свой венок «Москва». Слушатели были искушенные и критиковали авторов и по форме, и по содержанию довольно остроумно и тонко, отмечая каждую шероховатость. Мне больше понравился «Наполеон», но жюри присудило с перевесом в один голос «пальму» (это была большая еловая ветка) Милославскому. Валаев был по-настоящему огорчен.
Дней через двадцать после нашего прибытия в Филимоново на утренней проверке вызвали несколько человек с вещами. На другой день еще. И так каждый день по шесть—восемь человек стали отправлять в кремль. В конце марта подошел и мой черед. Нас привезли в кремль и препроводили в корпус, занимаемый ранее первой колонной. Во дворе кремля я с великой болью увидел варварство администрации СТОНа. Двор был гол. Все деревья, образующие сквер, были вырублены и выкорчеваны. Не пожалели ни огромный серебристый тополь, ни старые липы, любовно выращенные монахами у самого Полярного круга, ни сирень, ни редкие сорта роз – ничего не осталось в огромном пустом дворе. Только каре беленых корпусов с закрытыми щитами окнами да загородки прогулочных двориков. Не пощадили даже чудесную мраморную часовенку для водосвятия, где я любил сидеть на пушечных лафетах и читать. Все уничтожила злобная тупость тюремщиков,
В тюрьме после тщательного обыска, переписи вещей и душа нас одели во все тюремное. Грубое бязевое белье с огромными черными печатями «СТОН». Брюки и рубаха из кусков коричневого и синего молескина и такой же тряпочный картуз. На ноги – портянки и большие грубые башмаки. Затем нашу восьмерку разделили надвое и развели по камерам. В камере, расположенной на первом этаже, стояли четыре деревянные койки с ватными матрацами, простынями, подушками, одеялами. Стол у окна и параша. На стене висели «Правила поведения в тюрьмах ГУГБ НКВД СССР». Все было чистым, холодным, недобрым. Из-за щита на окне света было явно недостаточно, и я с трудом читал «Правила…», многочисленные пункты которых делились на четыре раздела:
1. Заключенные обязаны – много пунктов,
2. Заключенным запрещается – еще больше пунктов,
3. Заключенным разрешается – всего четыре пункта,
4. Наказания: карцер до пяти суток, лишение прогулки до десяти суток, лишение книг до трех месяцев.
В числе четырех пунктов «разрешается»: прогулка до 30 минут в день, пользование книгами из тюремной библиотеки, сидение на кровати, не опираясь на стену, во время между подъемом и отбоем, обращение с заявлениями на имя начальника тюрьмы.
Вместе со мной в камеру попали старый чех Ярослав Иосифович Боучек, который время от времени произносил: «Дай нам, боже, свободу славянскому народу», комбриг Комаров, долгое время сражавшийся с басмачами в Средней Азии, и какой-то журналист по фамилии Яблоков – невысокий человек с больший рыжей бородой и выпученными глазами. Все люди очень разные, угрюмые, усталые от тюрем и лагерей.
Что такое режим СТОНа, мы прочувствовали в первый же день. После обеда старый Боучек, прислонившись к стене, задремал. И минуты не прошло, как открылась форточка, и тюремщик прошипел: «Номер четвертый, сесть прямо!» Боучек слышал плохо и в бодрствующем состоянии, а тут он, спящий, и вовсе ничего не слышал. Надзиратель постучал ключом о форточку и повторил приказ громче. Я дернул Боучека за руку и разбудил. Надзиратель подозвал старика и стал его отчитывать, угрожая наказаниями. Бедный чех молча кивал головой. Однако тюремщику это показалось недостаточным. Через несколько минут пришел дежурный корпусной начальник и объяснил, что после подъема и до отбоя запрещается не только ложиться на кровать, но и прислоняться к стене и спинкам кровати, сидеть нужно с открытыми глазами, держа руки на коленях. Комаров с возмущением сказал, что это невозможно. Начальник, усмехнувшись, заявил: «В карцере посидите, сразу научитесь» – и, выходя из камеры, велел выучить «Правила».
Сидеть не дремля от завтрака до обеда и от обеда до вечернего чая было невероятно трудно. Мы старались следить друг за другом, чтобы не прислониться к чему-нибудь. Борясь со сном, приходилось вскакивать и шагать по камере, но шагать в тесной камере могли одновременно не более двух человек. Приходилось устанавливать очередность. На вечерней проверке мы попросили книги. Ответ нас не утешил: книги будут недели через две. Библиотека еще не работает. Но на прогулку нас выводили регулярно после завтрака в маленький дворик размером с нашу камеру, где мы топтались около 30 минут. Вот так потянулись однообразные, тяжелые дни с принудительным сидением с открытыми глазами под бдительным надзором тюремщиков, через каждые 10—15 минут подглядывающих за нами в глазок.
От такого сидения можно было сойти с ума. Мы начали развлекать друг друга. Комаров довольно интересно рассказывал о коварстве басмачей, Яблоков рассказывал о репортерских и театральных приключениях, и только старый чех Боучек хранил скорбное молчание. Вот теперь до меня полностью дошло страшное содержание понятия «сидеть в тюрьме». Не находиться, не пребывать, не быть, а именно сидеть! Сидеть бессмысленно, бездельно, бесчувственно. А дорогое время утекает, а жизнь проходит бездарно, бесследно. В лагере бытует пословица: «С каждым днем ближе к концу срока». Я обычно добавлял: «И к смерти», за что на меня нередко обижались. Но в нашей ситуации даже эта ущербная пословица не утешала. У меня, например, до конца срока оставалось около месяца. Но приближает ли меня каждый день к концу срока?
В конце апреля была очередная перетасовка. Нас всех вывели в дежурную и развели по разным камерам. Я попал в большую камеру на втором этаже. В ней семь мест, два окна, светлее и суше, чем в прежней на первом этаже. Из семи мест было занято только три. После обмена установочными данными выяснилось, что все заканчивают срок в 38-м году. Я – в мае, старик мордвин – в июне, молодой бакинец Рагимов – в июле, пожилой москвич Ларионов – в сентябре. Всем стало очень приятно от такого «системного» подбора сокамерников по принципу близкого окончания сроков. Все проходили по статье 58, у всех, кроме Ларионова, срок три года. Ларионов, бывший директор треста «Моссиликат», сидел с 1931 года по 58, пункт 7 (вредительство).
Через несколько минут дверь открылась, и вошли еще трое: грузин Самсонидзе, ленинградец Данилов и волгарь Данилин. Первые два заканчивали пятилетний срок в 1940 году, а Данилин осенью 1938-го, как и мы. Вот и собралось нас семеро малосрочников, в том числе пять, заканчивающих срок в ближайшие месяцы.
Настроение в этой камере было менее тяжелым. Во-первых, все малосрочники, во-вторых, кроме Ларионова и старого мордвина, относительно молодые (18– 35 лет). Все уже по нескольку недель или месяцев просидели на тюремном положении, несколько освоились с принудительным сидением на койке в течение дня, а некоторые даже умудрялись дремать с открытыми глазами, не прислоняясь к стене. Книги нам выдали на второй день, предупредив, что обмен будет каждую неделю. Однако читать весь день было трудно. Я должен был что-нибудь осваивать. Рагимов был культурный азербайджанец. Он окончил пединститут в Баку и учился в консерватории у знаменитого певца Бюль-Бюля. Я предложил ему заниматься со мной турецким языком, который Ашдар Рагимов знал в совершенстве.
Занятия турецким проводились тоже по методу П.И. Вайгеля: грамматика плюс стихи. Ашдар стихов знал мало. Он был певец. Поэтому я учил песенки, арии из оперетт, а также мудрые турецкие пословицы. Относительно КУРа, КОНа, Секирной горы отбывание срока здесь было более терпимым: кормили прилично, чистота лазаретная, книги есть, соседи по камере незанудные, но принудительное сидение было очень тягостным. Я часто забывался и, рассказывая что-нибудь, говорил громко. Сейчас же форточка открывалась, и дежурный тюремщик шипел мне: «Номер два, тише». Фамилии наши были засекречены, а чтобы нас могли различать тюремщики, на каждой кровати, на спинках, стоял порядковый номер.
Конец моего срока уже прошел, но никто ничего не объявлял. Я немного нервничал, но не подавал вида, так как на меня ориентировались другие малосрочники. И если меня не освободили, то, может, их тоже не освободят? Больше всех волновался Рагимов, срок которого заканчивался в июне. Тут на нас напала беда, отвлекшая от томительного ожидания.
Во время утренней оправки 11 мая нас вывели вместо большой в маленькую уборную, где было всего три очка, а времени на все процедуры для всей камеры давалось лишь 10 минут. За это время надо было оправиться, умыться, почистить зубы, а дежурным еще вылить и вымыть парашу. Если в это время не укладывались, надзиратель перекрывал кран, и хоть будь бедные заключенные в мыле, все равно воду больше не давали и выводили недомытых в камеру. Поэтому все заволновались, особенно Ларионов, у которого был геморрой. Бедный старик попросил у тюремщика разрешения сесть на ровик, где мыли парашу. Милостивое разрешение было дано, но когда Ларионов закончил свои дела, надзиратель перекрыл воду. Смывать было нечем, а надзиратель уже кричал: «На выход!» Ларионов, дрожа от страха, попросил дать воду для смыва. Надзиратель, смеясь, сказал:
– Убирай без воды, старик.
Я обозлился и крикнул:
– Дайте хоть швабру старику, руками убирать, что ли?
Надзиратель подумал и, обратясь ко мне, сказал:
– Вот ты и уберешь руками, молодой.
Я категорически отказался. Надзиратель побагровел и закричал:
– Неповиновение! Нарушение режима!
Ларионов кинулся к ровику и хотел убрать руками. Надзиратель оттолкнул старика с криком:
– Только он уберет, – указывая на меня.
– Вы не имеете права! – закричал я.
– Имею все права! – кричал надзиратель. Наконец он увел нас в камеру, пригрозив страшными карами. Кто убирал из ровика, неизвестно.
Перед обедом меня вызвали к дежурному начальнику корпуса и объявили приказ начальника тюрьмы: «Пять суток карцера за невыполнение приказа надзирателя и пререкания с ним». Я попытался объяснить, в чем дело, но начальник оборвал меня, сказав:
– В «Правилах» указано, что заключенный обязан выполнять все распоряжения администрации тюрьмы.
– Значит, если бы он сказал: «Съешь дерьмо», то следовало съесть, а потом обжаловать в установленном порядке. Ну, этого вы не дождетесь! – сказал я запальчиво и был отведен в карцер.
Карцерное отделение имеет «предбанник», где находятся надзиратель и две карцерные камеры. В «предбаннике» меня раздели догола, обыскали и велели надеть верхнюю рубашку и штаны прямо на голое тело, а ботинки обуть на босые ноги. Белье, портянки и шнурки от ботинок забрали. Затем меня ввели в карцер, и дверь захлопнулась на пять суток. Карцер сделали в виде лежачей бетонной трубы диаметром примерно 180 сантиметров и длиной около 5 метров. В середине был вделан в бетон железный стул – стоящая торчком двухтавровая балка с приваренной сверху железной пластинкой размером с дамский носовой платок. На стене сбоку узкая доска на шарнирах, открываемая с 12 ночи до 6 часов утра – время, отведенное для лежания. Остальное время можно стоять, ходить или сидеть на железном стуле. Окна в карцере не было, лампа над дверью светила круглые сутки, парашу я должен был наполнять пять суток без выноса.
Когда я вошел в карцер, меня сразу охватил влажный холод. Карцер не отапливался, а на дворе еще лежали сугробы. Дыхание выходило паром, стали мерзнуть голые ноги и тело, прикрытое лишь тонкой тканью. Я начал ходить и тут обнаружил, что железный стул мешает, острые углы пластинки-сидения зацепляют колени. Обходить стул трудно. Для этого надо подниматься на стенку трубы. Сидеть на стуле оказалось невозможно: стылое железо так холодило через тонкие штаны, что, казалось, сидишь на глыбе льда. Подкладывал под себя руки, но они тоже быстро коченели. Значит, только ходить, чтобы не простудиться насмерть, ходить 18 часов в сутки. И я ходил, останавливался на несколько минут и снова ходил. Вначале я читал шепотом стихи Тютчева, Пушкина, Фета, Блока, Гейне, Гете. Потом уже перестал. И все ходил несколько часов, спотыкаясь о проклятый стул, ударяясь об острые углы коленями. Голова кружилась, я уже несколько раз падал. Наконец надзиратель открыл замок на доске, вделанной в стену на шарнирах, и велел ложиться спать. Значит, наступила полночь, и я уже 10 часов нахожусь в карцере, а надо пробыть 120 часов!
Доска длиной 150 сантиметров и шириной 40 сантиметров стала моим ложем. Если лежать вытянувшись, ноги свисают. Если лечь свернувшись, узость доски не позволяет, да и до бетонной холодной стенки дотрагиваться страшно. Пытаюсь лежать на боку, натянув на голову рубашку, дыша вовнутрь. Так вроде теплее, но короткая рубаха оголяет поясницу. Дрожу от холода, опять начинаю ходить. Форточка в двери открывается. Надзиратель шипит:
– Лежать до 6 часов.
– Я замерзаю. Дайте одеяло, пожалуйста.
– Не положено.
Лежу. В полусне переворачиваюсь с боку на бок. Холод. Холод. Холод. Наконец клацает замок, входит надзиратель:
– Подъем!
Я вскакиваю с ужасного ложа. И доску запирают до полуночи. Вскорости приносят 200 граммов хлеба и кружку воды. Предупреждают, что это «суточная норма». Съедаю половину хлеба, отпиваю воды и снова шагаю, шагаю, шагаю.
Длинные, длинные сутки. Кажется, что прошло уже много суток. Силы иссякают. Уже много раз я ударялся коленями об острые углы дьявольского стула. Колени разбиты до крови. Кровь течет по ногам, проступает сквозь штаны. Несколько раз я падал. Все это завершилось глубоким обмороком. Надзиратель вызвал фельдшера. Меня привели в чувство и отправили в камеру. Я пробыл в карцере ровно трое суток, а казалось, больше недели.
В нашей камере на меня глядели с ужасом. Измученный вид, серо-зеленое лицо с запавшими щеками, ссадина на щеке от удара об стену, пятна крови на штанах. Сопровождавший меня фельдшер измерил температуру и разрешил в течение пяти дней лежать в постели. Я лег, расслабился и почувствовал такое наслаждение, словно мое иззябшее, избитое тело воспарило в теплом сухом воздухе. А тут и обед принесли. Все горячее, вкусное после карцерного пайка.
На другой день в камеру внесли восьмую кровать с постелью, и вскоре появился новый сосед. Высокий, краснолицый, с лицом монгольского типа, похожий на переодетого конвоира, и с таким же грубым голосом, он представился как бывший лейтенант Рудометкин, срок– пять лет по 58, пункт 10. Потом он рассказывал, что заработал эту статью из-за нового портрета Сталина, который красноармеец из его команды нес в красный уголок, но, проходя мимо уборной, решил облегчиться, а портрет прислонил к наружной стенке. Проходивший политрук, увидев портрет вождя в столь непочетном месте, чуть не рехнулся от такого кощунства. Красноармейца арестовали, а потом взяли и Рудометкина, который, согласно доносу, сказал в нецензурных выражениях, что Сталин тоже без уборной не обходится.
Рудометкин рассказал, как летом, вскоре после преобразования Соловков в СТОН, были созданы бригады по уничтожению гнездовий чаек. Находя гнезда, птенцов растаптывали сапогами, а во взрослых чаек стреляли. Остальных чаек добили после их возвращения весной 38-го года. Так был уничтожен эндемический вид «Соловецкая чайка» – птицы, прирученные монахами, в продолжение столетий гнездившиеся даже под скамейками в сквере. Все сокамерники были огорчены таким злодейством. Тут добавил горечи старый мордвин, который обычно молчал, но, взволнованный истреблением чаек, рассказал об уничтожении и настенной росписи в Преображенском соборе и Филипповской церкви. Я видел эти удивительные росписи, повествующие о житии Зосимы, Савватия и митрополита Филиппа. Особенно запомнилась сцена низвержения митрополита по указанию Иоанна Грозного, созвучная с событиями 37—38-х годов. Очень жалко было навсегда потерянных памятников нашей трагической истории.
Пять дней я наслаждался лежанием в дневное время, поздоровел, и карцер уже представлялся далеким кошмаром, как вдруг перед обедом пришел дежурный по корпусу и снова увел меня в карцер. На мои вопросы дежурный объяснил: «По приказу вам пять суток, а вы отсидели только три. Надо еще двое суток отбыть». И вот я снова в «трубе», и снова влажный холод охватывает мое едва прикрытое тело, и снова ударяюсь коленками о «стул».
Решаю, чтобы продержаться эти ужасные двое суток, занять мысли такими сложными проблемами, решение которых захватит меня целиком, вроде как у «Межзвездного скитальца» Джека Лондона. Буду, например, анализировать причины, которые вызвали уничтожение соловецких чаек, настенной росписи, чудесной мраморной часовни для водосвятия. Сразу же мысль заработала в заданном направлении. Ставлю вопрос о смысле проявления варварства по отношению к живой природе и искусству в Соловках. Ищу аналогичные явления вне Соловков и ужасаюсь. Вспоминаю разрушение храма Христа Спасителя. Я там был с папой и видел этот знаменитый памятник победы над Наполеоном в Отечественной войне, к созданию которого приложили талант крупнейшие мастера искусств. Вспоминаю лето 1929 года в маленьком городке, когда взорвали старинную церковь Благовещенья, перед этим сбросили колокола, выбросили старинные иконы. Вспомнил, как в 1918 году были проекты разрушения Зимнего дворца, взрыва Кремля и собора Василия Блаженного, вспомнил рассказы о безграмотных выдвиженцах, командующих фабриками, колхозами, стройками, об их просчетах, вызывавших аварии, которые приписывали старым специалистам, зачисляя их во «вредители».
Вспомнил рассказы иностранных специалистов, нанятых за большие деньги, которые поражались хаотическим планированием и безалаберностью в выполнении работ. Волевые решения, стремление любой ценой перевыполнять планы, невзирая на качество, крайне низкая культура производства, нечеткость, безответственность – все это возмущало иностранных специалистов, мешало им работать, и только баснословно высокое жалованье удерживало их в этом странном государстве, где все централизовано, все планируется и все выполняется кое-как с огромными затратами.
По существу, почти все отрасли хозяйства были нерентабельны и существовали лишь за счет крайне низкой стоимости рабочей силы, так как все «великие стройки» выполняются заключенными, а на предприятиях зарплата рабочих, инженеров и служащих во много раз ниже, чем в европейских странах. Эта низкая культура народного хозяйства являлась также следствием потери почти миллиона высокообразованных специалистов, эмигрировавших за границу в годы гражданской войны. В руководстве страны почти не было образованных людей. 3.Б. Моглин приводил интересную статистику: в первое десятилетие образовательный ценз руководителей государства был очень низким. Из массы губернского начальства и наркоматов с высшим образованием было 0,2 процента. А в сталинском Политбюро после 1930 года не было ни одного члена с высшим образованием. Сам вождь – недоучившийся семинарист, Калинин – рабочий, Ворошилов – слесарь, руководитель народного хозяйства страны Орджоникидзе по образованию фельдшер. Не имели высшего образования ни Молотов, ни Каганович, ни Киров, ни Микоян.
В таких горестных и страшных размышлениях прошли двое суток. Я практически не спал, был очень возбужден и почти не чувствовал ни холода, ни голода, ни времени. В результате я вернулся в камеру в менее угнетенном состоянии, но стал хуже спать, так как в мозгу прокручивались и сопоставлялись разные эпизоды из старательно стираемой ныне истории России – РСФСР – СССР. Я вспомнил слова Моглина по поводу перекройки истории революции и первых лет Советской власти, в результате чего уже сейчас школьники и студенты не знают, что до 1925 года Троцкий был председателем Реввоенсовета и членом Политбюро, что Бухарин и Дзержинский были «левыми коммунистами», причем Бухарин был редактором «Правды» и членом Политбюро до 30-го года, что в результате борьбы за власть устранялись и устраняются все яркие фигуры в руководстве и остаются лишь поддакивающие. К сожалению, поделиться с кем-либо этими печальными размышлениями было невозможно. Это было бы «смерти подобно», как говорил мой бывший шеф, заведующий библиотекой.
Вскорости лейтенанта Рудометкина из нашей камеры забрали и на его место привели польского журналиста Тадеуша Леоновича Геллера. Он очень оживил нашу камеру рассказами об европейских странах, где он был корреспондентом польского газетного концерна «Курьер Цодзенны». По национальности Геллер был еврей из Коломыи. Когда в Германии пришли к власти нацисты, евреев-корреспондентов пригласили в министерство пропаганды и Геббельс порекомендовал им покинуть Германию «во избежание инцидентов». А «инциденты» уже бывали. Так, корреспондент французского агентства «Гавас» был избит штурмовиками на улице. Геллер временно переехал в Париж, а затем получил назначение в Москву. В СССР он прибыл на пароходе из Марселя в Одессу и сразу же в порту был арестован, отправлен в Москву, обвинен в шпионаже и доставлен в 1934 году в Соловки, где все время находился в СИЗО.
Примерно в конце июня, незадолго до обеда, послышалось клацанье дверных замков. Через небольшие интервалы дверь за дверью открывалась и закрывалась. Очевидно, обход. Дошла очередь и до нашей камеры. Дверь распахнулась, влетел начальник корпуса и крикнул: «Внимание! Встать!» Я не любил вставать по команде, поэтому Геллер и я заранее стояли напротив дверей. В камеру вошел жирный незнакомый начальник, за ним – начальство СТОНа. Жирный представился:
– Я начальник тюремного отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР Вайншток. Клопы есть? Жалобы есть?
Я поднял руку:
– У меня.
Жирное, рыхлое, бледное лицо повернулось ко мне. Маленькие заплывшие глазки смотрели сквозь большие очки, лежащие на толстых щеках. Я спросил:
– У меня закончился срок в мае, а уже июнь кончается. Почему меня не выпускают?
Вайншток четко ответил:
– Кончился срок? Ну, так добавят.
Сокамерники, уже закончившие сроки, побледнели и замерли. Вышел Геллер, заявив с великим гонором:
– Я польский подданный! Я получал письма и посылки через Международный Красный Крест. Уже год, как я лишен этого. Я протестую против такого произвола. У нас в Польше так не поступают.
Вайншток так же четко, как и мне, сказал Геллеру:
– Нам Польша – не пример, а ему, – тут он указал перстом на гонорового поляка, – дать карцер. Еще вопросы есть?
Все стояли бледные, подавленные. Начальство удалилось.
Мы долго находились под впечатлением от визита высокого начальства. Геллер отбыл трое суток карцера и вернулся злой-презлой, тоже с разбитыми коленями.
Шло время. Заканчивался июль. Я стал читать Марселя Пруста, очень модного тогда французского писателя, тетралогию «В поисках за утраченным временем» и перешел ко второму тому «Под сенью девушек в цвету», тут и оправдалось предсказание Вайнштока. Пришел начальник корпуса и объявил постановление Особого совещания: «Слушали дело № … Постановили: продлить срок на 5 лет».
– Распишитесь, – сказал начальник. Я молча расписался.
– Вам понятно?
Мне было понятно. Мне было давно понятно. И я продолжил чтение Марселя Пруста.
Через несколько дней меня вызвали «с вещами». Прощание с сокамерниками было сердечным. Старый директор треста Василий Васильевич Ларионов и старый мордвин плакали. Геллер возмущался фактом нового приговора за старое дело.
– Пся крев, – говорил он, – нарушают один из основных принципов справедливости: дважды за одно не отвечают.
Ашдар Рагимов, который учил меня турецкому языку, сказал турецкую пословицу: «Олмэ эшагим, олмэ – яз гелир йонджа битир», что означало: не умирай, осел, не умирай – весна придет, трава отрастет.
Меня отвели в другой корпус (бывший СИЗО № 2) и посадили в одиночку. На другой день принесли список моих вещей, находящихся на хранении на складе, и велели дать их описание. Я забеспокоился, так как в последней посылке в конце 37-го года мне прислали к освобождению хорошее пальто, пыжиковую шапку, костюм, чтобы вернуться в Москву в приличном виде. Эти новые вещи составляли один узел, а во втором было пальто, в котором меня арестовали, и другие старые вещи. И еще был чемодан. Через день мне объявили, что узел с новыми вещами найти не могут, я могу написать жалобу начальнику тюрьмы и, когда вещи найдут, их вышлют по месту назначения. А сегодня я должен выехать на материк с тем, что осталось. Затем мне выдали вещи, я с удовольствием снял тюремную униформу и надел свою мятую старую одежду, а узел с новой так и остался в СТОНе.
Перед посадкой на пароход меня привели в пересыльную камеру, где было человек пятнадцать, и, к великой радости, я увидел Катаоку, Геллера и еще многих знакомых по библиотеке: двух учителей из Иванова, Виноградова и Победина, молодого студента из Кутаиси Климента Мампория, археолога Костю Болтенко и других. За исключением Геллера и Катаоки, все получили новые сроки – по пять лет.
Катаока и Геллер были рады, что остались живы, и оживленно обсуждали варианты их будущего: лагерь или политизолятор? Остальные обменивались сведениями о знакомых. Один из ивановцев, учитель Победин, рассказывал о подготовке лопат для копания траншеи под Секирной горой, когда он был в Исаково. Мампория видел много заключенных со связанными руками, которых вели через Исаково к ямам. Он утверждал, что узнал нескольких известных людей, в том числе П.С. Арапова. Сколько талантливых, высокообразованных людей погибло зря. Эпидемии и войны не были столь пагубны!
В конце дня нас погрузили на «Ударник», загнали в трюм. У всех получивших дополнительные сроки настроение было подавленное, но наряду с этим была и радость, что мы покидаем СТОН. Именно не Соловки, а СТОН! Хотя мы понимали: материковый лагерь – это лесоразработки или стройка на Севере. В любом случае «впереди ждут нас муки этапов… ждет нас смерть средь тайги иль болот», как пелось в лагерной песенке. Раздались отходные гудки, зашумела вода под винтом, и в темном трюме мы покинули СТОН, покинули Соловки – чудный остров, где я прошел свой первый университет, очень трудный, очень интересный и незабвенный.
Часть 2 ЗЕМЛЯ УХТИНСКАЯ
ИЗ СТОНа В ВОПЛь
Есть старая примета: выходя, вернешься – пути не будет. Возвраты начались с первого же дня. Нас несколько раз вывозили из Морсплава на разъезд, но не могли посадить в поезд. Арестантские вагоны были набиты столь плотно, что конвой отказывался брать нашу группу. Наконец после недельной нервотрепки часть нашей группы впихнули в вагон. Катаока, Геллер и еще несколько человек остались на разъезде. В вагоне было так набито, что нас «добавляли» поодиночке в каждое купе, где уже находилось по девятнадцать-двадцать заключенных. Ехали в основном получившие добавку. Всех везли на Ленинград. Народ был измученный, загрубевший, не то что наши вежливые соловчане. В такой тесноте, без сна, без воздуха, почти без воды прошло более суток, пока нас дотащили до Ленинграда. На товарной станции наш вагон загнали в тупик, и мы еще несколько часов страдали, пока весь вагон не затолкали в «черные вороны» и повезли на пересылку.
Старая знакомая ленинградская пересыльная тюрьма на 2-й Константиноградской улице стала еще грязнее, шумнее. Ее буквально распирали тысячи заключенных, переполнявших все емкости. Нас, соловчан, отправили в подвальную камеру, где нашлось место только на полу около самых дверей. Место очень неудобное, но двери, как в зоопарке в клетке, и сквозь прутья тянет менее тухлый воздух, чем в камере, где кишат более сотни этапников. Можно вытянуться, можно поворачиваться с боку на бок. В вагоне это было невозможно.
Итак, нас осталось шестеро: два учителя из Иванова – Виноградов и Победин, Климент Мампория, археолог Болтенко с запорожскими усами, секретарь райкома из Коми АССР Чугаев и я. Никого из создававших соловецкий шарм. Проходит два дня. Голодно. Этапный паек мизерный, да и на пересылках крадут беззастенчиво, так как вся низовая администрация из заключенных-бытовиков. Победин совершил подвиг. Обменял свою хорошую меховую шапку на две буханки хлеба и разделил все между нами. Хлеб хороший. На сытый желудок даже сны хорошие снятся. Победина все благодарили. Он смущенно объяснял, что все равно шапку украдут. Мы все понимали, что дело не в шапке, а в том, что он разделил хлеб, а не съел все сам. Это доброта.
На четвертый день мимо наших дверей провели еще группу соловчан. Я узнал старого профессора Ошмана, Ашдара Рагимова и других, закричал, те подошли к нашей двери. В ленинградской пересылке порядка было мало. По коридору сновала обслуга из бытовиков, отгонять наших островитян не стали. Они сообщили, что им всем добавили по три года и везут в Карагандинские лагеря. Рассказывал в основном Рагимов. Ошман тупо глядел в пол и молчал. Я спросил, узнает ли он меня. Старик отрицательно покачал головой. Рагимов шепотом сказал, что профессор «тронулся», никого не узнает и не соображает. Жене его, доброй старушке Елене Игнатьевне, дали тоже три года. Мы посочувствовали им, вновь прибывшим, и сказали, что получили по пять лет и при этом не знаем, куда нас везут. Никто из них не встречал ни здесь, ни на Морсплаве тех товарищей, которые отстали от нашей группы.
Снова поезд, снова теснота в арестантском вагоне, или, как его тогда называли, «вагон-заке». К нашей группе в Ленинграде присоединили несколько ленинградских студентов со сроками десять и восемь лет (у всех обвинение в терроре) и мальчика лет шестнадцати, Ленечку Ландина – сына какого-то руководящего деятеля. У него вместо статьи новая для нас формулировка – ЧСВН, что означает: член семьи врага народа, срок – восемь лет. Ленечка недавно из дому, все еще полненький, беленький.
Этот вагон довез нас только до Вологды. Снова пересыльная тюрьма. Но тут нас из вредности что ли, посадили в камеру с малолетками – мальчиками лет девяти—двенадцати. Их было двадцать – двадцать пять, нас двенадцать. Когда нас ввели в камеру, малолетки стали подходить к нам стаей, настороженно. Они напоминали морлоков – людоедов подземных выродившихся людей из «Машины времени» Уэллса. Они были худосочны, зеленовато-бледны, с хищными или наглыми лицами. Некоторые сразу начали просить есть и курить, а у нас ничего не было. Малолетки явно окружали нас. Я сказал товарищам, что надо все вещи сложить в угол и поставить караул. Добрый Победин стал втолковывать двум маленьким мальчикам о вреде курения. В это время они незаметно разрезали у него пальто во многих местах и даже прорезали одежду до тела. Когда он, почувствовав боль, вскочил, то по руке его текла кровь. Мальчишки скрылись в толпе восторженно орущих малолеток. Дальше начался какой-то бред. Орава вопящих выродков, вооруженная лезвиями бритв и маленькими ножиками, кинулась на нас. Слава богу, соловчане откинули филантропию и отбивались от этих шакалов, не щадя их. Ленинградцы, оробевшие вначале, тоже включились. Шакалы были отбиты.
Как же спать ночью? Мы очень устали после этапа, но спать было опасно. Решили: дежурить по два человека, а остальным спать. Ленечка Ландин развернул портплед с одеялом и подушкой, разулся, уснул, как младенец, за ним последовали и другие. Я и Болтенко дежурили в первую смену. Неприятели и не думали спать и кишели в своем углу. Вдруг Ленечка отчаянно закричал и затряс ногами. Оказалось, что его нога свесилась с нар, а шакалы из-под нар всунули крепко спящему мальчику бумажки между пальцев и подожгли с криками «велосипедик!».
Все проснулись. Костя Болтенко в ярости закричал, что мы перебьем всех, если они будут хулиганить. Один из самых маленьких сказал: «Ты, дяденька, врешь. Нас бить нельзя, мы малолетки. Тебе еще срок дадут за нас», – и так скверно выругался, что видавший виды запорожец Болтенко только руками развел. После этого малолетки устроили нам дикое представление. Они сняли штаны и мочились, пуская длинные струи в нашу сторону, показывали голые зады, все более возбуждаясь, а некоторые, чтобы нас, очевидно, унизить, стали совокупляться перед нами. Мы стучали в дверь и требовали либо убрать нас, либо убрать малолеток. Дежурный тюремщик успокоил нас сообщением о завтрашней отправке, а в отношении малолеток сказал, что их привезли на суд из колонии. Оказывается, в колонии они все участвовали в групповом изнасиловании молоденькой неопытной воспитательницы, которую затащили в уборную. Воспитательница умерла от заражения крови, а их будут судить.
Измученные физически и душевно, мы были днем отправлены в дальнейший этап на Киров. В Кирове нас не задержали и прицепили вагон к товарняку на Котлас. И через сутки мы прибыли в Котлас. Ситуация стала проясняться. Из Котласа мы могли попасть в Ухтижмлаг, в Севжелдорлаг, в Усть-Вымьлаг или в Воркутлаг. Последний был самым страшным. Там, в голой тундре, далеко за Полярным кругом, строили шахты и добывали каменный уголь. Смертность там была страшная. Севжелдорлаг строил к Воркуте от Котласа железную дорогу, но впереди была еще тысяча километров, а на построенных участках, как говорили, рельсы проложены не по шпалам, а по трупам. Пока же путь в Воркуту лежал через Архангельск, по Баренцеву морю до Нарьян-Мара и дальше по рекам Печора и Ухта до Воркуты.
Котласский пересыльный пункт был огромный. Он мог вместить до 30 тысяч заключенных. Ровными рядами стояли парусиновые палатки, рассчитанные на 250 человек каждая, кроме того, было много двухэтажных деревянных бараков и различных хозпостроек. Во время навигации этот перпункт был набит до отказа, отправляя этапы во все четыре громадные лагеря. После прекращения навигации в Воркуту этапы не отправлялись, а в остальные три лагеря отправка ограничивалась состоянием дорог.
Народ в Котласе был преимущественно новенький – набора 1937—1938 годов. Свежеиспеченные «враги народа», только недавно получившие приговор, еще не оправились от изумления: как случилось, что они, еще вчера поносившие «врагов народа», сегодня сами попали в их число. Было много шуцбундовцев из Австрии[38], бежавших в СССР после разгрома восстания в Вене в 1937 году, много польских коммунистов после роспуска КПП по указанию Коминтерна, немало было и военных в кителях и гимнастерках со споротыми знаками различия.
Из рассказов заключенных следовало, что, как и в прошлые годы, основной причиной арестов были доносы. Сталин мог быть доволен: доносительство вошло в быт.
Содержание доносов преимущественно тоже было связано с культом вождя: кто-то рассказывал или слушал анекдот о вожде, кто-то завернул селедку в газету с портретом вождя, большинство заключенных ничего не сделали, не сказали, но им в доносе было что-нибудь, да приписано. Поэтому вместо статей уголовного кодекса были «формулировки», обозначенные аббревиатурами КРА, КРД, КРТД, КРБЗД и др. Первые две буквы КР означали контрреволюционная, а последние соответственно – агитация, деятельность, троцкистская деятельность, бухаринско-зиновьевская деятельность и т. п. Была еще ПШ – подозрение в шпионаже. Эту формулировку чаще получали члены зарубежных компартий. Огромное большинство получали сроки по постановлению Особого совещания НКВД или областных троек, и лишь немногие были осуждены трибуналом или судом. Из многочисленных рассказов о причине ареста запомнились лишь наиболее забавные.
В то время очень поощрялось создание «народных» сказов о Сталине, и некоторые ловкие сказители на этом хорошо заработали, а менее ловкие ломали шеи. Один северный старичок сказитель рассказывал, как он сочинил сказ, где главную роль играли усы Сталина, в которые он фукал. В сказе это звучало примерно так: сел Сталин на гору, огляделся и стал фукать в усы. Фукнет раз – Днепрогэс готов, фукнет другой – Магнитка заработает, а он все фукает и фукает и всю землю заводами зафукал. В районе похвалили сказителя, а в область вызвали – посадили, обвинили в клевете. Говорят: «Давай-ка пофукай в лагере десять лет».
Другой веселый человек добился установки телефона в квартире. На радостях пир горой. А тут вдруг телефон звонит. Подвыпивший хозяин важно так в трубку говорит: «Сталин слушает». Звонивший со страху трубку бросил. Гости хохочут, хозяин и того пуще. Так он отвечал на несколько звонков. Все веселились. Ночью хозяина посадили, а потом добрались и до гостей. Кому восемь, кому десять лет тройка дала.
О телефоне рассказывали еще так. Один ударник добивался квартиры. Живут шесть человек на девяти метрах. Уж и на учет он поставлен был, и письмам поддерживающим счет потерял, а все не дают. Снял он трубку, главному начальнику по распределению жилплощади позвонил и с грузинским акцентом произнес: «Сталин говорит. Когда вы перестанете издеваться над ударником производства таким-то? Приказываю: завтра же удовлетворить его заявление». На другой день ордер на квартиру получил, а через несколько дней спьяну на новоселье похвастался и схлопотал десять лет.
Рассказывал пионервожатый. Ребята в пионерлагере повесили на стенку газету (там была карикатура на Геббельса) и стали стрелять из мелкокалиберки, пока не подошел начальник пионерлагеря. Снял он газету. Карикатура-мишень на третьей странице, а на первой – Сталин изображен и весь пульками пробитый. Вожатого обвинили в терроре и дали десять лет. Ребятам тоже что-то «привесили».
Что ни история, то восемь или десять лет, а то и пятнадцать или двадцать. А сколько расстреляно было! Знакомство с опальными лидерами или полководцами, например с Тухачевским, стоило жизни. Еще одна категория появилась – ЧСВН, член семьи врага народа, по которой получали сроки от пяти до десяти лет жены, дети, братья, сестры, родители обвиненного. Этого еще ни один кодекс не предусматривал. Чисто восточная сталинская придумка.
Голова шла кругом от всего увиденного и услышанного. Во всех городах тюрьмы переполнены в пять– десять раз больше нормы. Кажется, что счет арестованных шел уже на миллионы. Говорили, будто Ежов сказал, что все население СССР делится на три категории: заключенных, подследственных и подозреваемых. Поражала наряду с этим вера людей в скорое освобождение. Большинство полагало: поскольку никто ни в чем не виноват, то разберутся наконец и… всех освободят. Ждали, что вторая сессия Верховного Совета СССР 10—21 августа 1938 года объявит амнистию, ждали предстоящий XVIII съезд ВКП(б). Ждали, ждали…
Нас вызвали на этап уже на третий день. Многие новички завидовали: «Мы уже недели здесь торчим, а вас так быстро». Этап был небольшой, человек на сорок. Обнаружились еще два соловчанина из нашей группы, отставшие еще на Морсплаве: Вася Рябцев – инженер и молодой венгр Франкович. В этот же этап попали ленинградцы-террористы – профессор Визе – кузен полярного исследователя Визе, финский поэт и переводчик Ялмари Виртанен и еще с десяток прибалтов, получивших большие сроки по «подозрению в шпионаже». Был и дряхлый старик в бекеше на обезьяньем меху, оказавшийся отцом бывшего наркома внутренних дел генерального комиссара госбезопасности Г.Г. Ягоды, расстрелянного в 1938 году.
Вывели нас в этапную зону с великой поспешностью, подали два грузовика, хотя обычно от перпункта до пристани этапы передвигались пешком. Однако посадку не объявляли. Мы прождали до вечера, и наконец нас отпустили в палатку. В чем дело? Мы ломали голову, пока не узнали, что наш этап должны были отправить на Воркуту: до Архангельска – пассажирским пароходом, далее – морем; но были получены радиограммы, что навигация прекращается досрочно в связи с замерзанием Печорской губы. Мы опоздали! Ура! Куда бы ни послали, это лучше, чем Воркута. Так думали все. Мы еще проболтались дней пять в котласском перпункте, пока не сформировали большой этап тысячи на четыре.
По широкой Вычегде вверх по течению тянется караван: пароход и четыре баржи. (На каждой по тысяче заключенных.) Они крытые. На крыше первой баржи площадка с пулеметом и прожекторами. На всех крышах и на корме посты конвоиров. Штаб конвоя на пароходе. За последней баржой тянется на буксире лодка, в ней тоже конвой – следит, чтобы кто-нибудь незаметно не спрыгнул в реку. На нашей барже из тысячи человек половина урки. Они в основном в трюме, остальные на палубе лежат плотными рядами на полу. Мы в крайнем ряду у левого борта. В щели видно реку и низкий лесистый берег. Воздух, чистый и прохладный, задувает к нам. Вчера роздан этапный «сухой» паек: по буханке хлеба и по соленой рыбе. Кое-кто уже съел весь хлеб и рыбу и сейчас пьет из бочек речную воду. А плыть нам еще двое или трое суток, так как караван рабов тащится со скоростью 4—5 километров в час.
Старик Ягода сокрушается. Когда нас вели на пристань, а это километра четыре-пять, нашлись добровольцы нести его чемоданы. Перед пристанью выяснилось: нет ни носильщиков, ни чемоданов. Из пяти чемоданов не нашелся ни один, и даже бекеша на обезьяньем меху пропала. Мы стараемся утешить старика: ведь из этапа никто не сбежал, следовательно, вещи здесь, на барже. Будут выпускать с перекличкой по одному, вот бекеша и обнаружится. Старик веселеет и составляет длинный список украденных вещей. Расспрашиваем его о знаменитом сыночке. Он говорит бессвязно и, очевидно, не верит, что его расстреляли. Рассказывает о привычках наркома примерно так: «Генрих утром пил кофе с рижскими булочками. Каждое утро ему их привозили из Риги из одной и той же пекарни. Специально летал самолет каждый день, и только в плохую погоду булочки доставляли поездом в специальной упаковке. Я ему говорил: „Владимир Ильич узнал бы об этом, наругал бы тебя. А он смеется и ест булочку с кофе. Я к нему редко ездил. Он очень занят был. В прошлом году меня ночью разбудили и увезли в Астрахань в ссылку. Говорят, Генрих ваш – враг народа, а вы член семьи врага народа. Домик нам хороший в Астрахани дали, все родственники наши там собрались. А теперь вот, говорят, ссылки мало, в лагерь везут, а я ведь член партии с 1905 года, меня-то зачем за Генриха наказывают?“
Вот так и плыл невольничий караван и утром на четвертый день прибыл в Усть-Вымь – речной порт, где все лагеря имели перевалочные базы и пересыльные пункты. Нас вывели из баржи на берег, пересчитали, распределили на три колонны, построили по четыре в ряд и повели каждую колонну на свой пересыльный пункт километрах в трех-четырех от пристани. Объявили: «Шаг влево, шаг вправо—считается побегом. Конвой применяет оружие без предупреждения». Многие едва шли. Одним из первых упал старый Ягода. Больше мы его не видели. Здешний конвой был очень грубый, тех, кто шел с краю, подгоняли штыками. Наконец дошли до лагпункта. Забор из кольев метров трех высотой, над ним колючая проволока. Высокие ворота в виде арки, по арке надпись: «Ухтижмлаг НКВД СССР. Вогвоздинский Отдельный Пересыльный Лагпункт». По заглавным буквам получалась аббревиатура – ВОПЛ: почти вопль. Из СТОНа попали мы в ВОПЛь! Что-то будет!
Вогвоздинских пересыльных лагпунктов было три. Перпункты Севжелдорлага и Ухтижмлага располагались друг против друга по обе стороны тракта. Первый был больше и новее, судя по свежему дереву построек. Большую часть приплывшего этапа отправили туда, где расход рабочей силы был больше, то есть в Севжелдорлаг. В перпункт Ухтижмлага попало человек 500, в том числе и наша соловецкая группа. В обширной зоне стояли четыре палатки на 250 мест каждая, несколько бараков и хозпостроек. Нас поместили в самый старый барак, где протекала крыша и не было стекол в окнах. В утешение сказали, что утром разведут по палаткам, где размещались «транзитники». Еды нам не дали, сказав, что за сегодняшний день мы получили еще в Котласе сухим пайком. Уже ни у кого не было ни крошки от этого пайка, а многие расправились с ним еще в начале этапа. Уснули на голодный желудок под свежим ветерком на нарах, где вместо досок были необтесанные жерди, терзающие тело. Такие же из жердей двухэтажные сплошные нары были и в палатках.
На другой день нас еще в темноте развели по палаткам на свободные места, разобщив нашу соловецкую группу. Покормили жидкой кашкой, а хлеб обещали дать вечером с обедом. Основную массу ранее прибывших «транзитников» сегодня отправляли пешим этапом до Княжпогоста – 60 километров и далее на Ухту, а нам и оставшимся, преимущественно старикам, объявили выход на разгрузку барж.
По прогнозу погоды ожидалось наступление морозов и досрочное прекращение навигации. Поэтому снабженцы гнали в Усть-Вымь караваны барж с оборудованием, материалами, продуктами для лагерей-комбинатов, лагерей-строек. Мы увидели десятки огромных барж, стоящих вдоль берега. Нас подогнали к барже с овощами и картошкой. Это было счастье. Возможно, тайком удастся съесть морковь, свеклу и другую витаминную овощь. Разгрузка началась. Каждый руками насыпал в мешок овощи, выходил по шаткому трапу на берег, высыпал из мешка и шел обратно. Двигались две непрерывные цепочки людей-муравьев на берег и обратно. Часа через два все устали, движение замедлилось, стрелки стали подгонять, замахиваясь прикладами. Несколько человек сорвалось в воду с шатких досок, изображавших трапы. Температура воды была около нуля. Упавших вылавливали и заставляли мокрых, замерзших снова таскать мешки. В середине дня объявили перерыв на 30 минут и разрешили есть сырые овощи. Я вымыл несколько морковок для себя и профессора Визе. Почти все ели овощи немытыми, едва обтерев землю.
До конца дня многие свалились. Я чувствовал тошноту, озноб и едва добрался до лагпункта. Обед на кухне выдавали из расчета на десять человек один банный (емкостью 5 литров) тазик супа. В палатке этот супчик разливали кружкой в личную посуду членам десятки. В супе явно варилась соленая треска, так он противно пах тухлой рыбой, следов рыбы не находили. На тазик приходилось кусочков шесть-семь картошки, ее учитывали особо, устанавливая очередь. Хлеба как работавшие мы получили по 600 граммов, но хлеб был сырой, липкий.
На другой день мы разгружали суперфосфат, накладывая его в мешки лопатами. Едкая белесая пыль висела над баржой, покрывала лицо, одежду, вызывала кашель. Я совсем изнемог и попросил накладывать мне в мешок поменьше. Стрелок углядел, что мой мешок меньше, и ткнул штыком в спину. Я едва удержался на ногах и, когда вернулся на баржу, залез в самый темный отсек на носу и прятался там до конца работы. Сильно кружилась голова, мутило, была температура. Ночь прошла тяжело. Я едва сполз с нар и принял твердое решение: не выходить на работу.
Утром до развода я пошел в медпункт. За столиком в крошечной каморке сидел некто печальный в белом халате. Я рассказал о своем состоянии и попросил об освобождении от работы. Медик тупо смотрел на меня и молчал. Я повторил свою просьбу. Медик наконец устало сказал:
– Освобождать от работ запрещено, пока идет разгрузка барж, а сегодня особенно. Столетних стариков и то выгонят. Ночью снег выпал. Начальство рвет и мечет.
– Но у меня нет сил, я болен.
– А у меня нет сил освободить вас от работы. Я вижу, что вам плохо. Наверно, пеллагра.
Выйдя из медпункта, я решил спрятаться, пока идет развод, то есть выталкивание заключенных в зону конвоя. Когда конвой примет и выведет заключенных за зону, я могу забраться на нары и уснуть. Из-за меня одного конвой вызывать не будут.
Так я и сделал, спрятавшись за баню. С воплями и руганью шел развод. Я уже устал стоять в углу за баней и пошел к палатке. В это время из палатки навстречу мне выскочили нарядчик и комендант, которые выискивали укрывающихся от работы. Сразу схватив меня, они потянули к воротам. Я стал кричать, что болен, не пойду, и упал на снег. Ретивых псов это не смутило, нарядчик схватил меня за одну ногу, комендант за другую и потащили меня к воротам. Шапка моя свалилась, под пальто и даже под рубашку набилось снегу, я хватался руками за все, что попадалось, и изо всех сил тормозил. Когда меня подтащили к воротам, колонну заключенных уже увели на разгрузку. Взбешенные псы развернули меня и потащили к отдельно стоявшему бревенчатому дому – штрафному изолятору.
В единственной камере изолятора пахло дымом, в окне не было стекол, на верхних нарах скучилось с десяток урок. Я сказал громко:
– Здравствуйте.
Сверху спросили:
– Кто это тебя, отец, в снегу вывалял?
Я ответил:
– Я не отец, мне 18 лет. Меня за ноги тащили по снегу за зону.
Сверху спросили, по какой статье и давно ли сижу. Удивились. Я спросил, почему пахнет дымом и выбиты стекла. Засмеялись. Рассказали, что им не понравился обед, за это они подожгли солому, а пожар заливали через окно. В это время нарядчик принес мои вещи: чемодан и узел с постелью. Урки заинтересовались. Молоденький урка обезьяной спрыгнул с нар и подошел ко мне.
– Открой, мужик, чемодан.
Я сел на чемодан и сказал:
– Сначала убьешь меня, потом откроешь.
Я был очень зол на все и на всех, и мне было все равно. Юный урка был озадачен и начал для порядка угрожать:
– Глаза выткну, нос отрежу.
Я сказал:
– Попробуй.
Было явное нарушение стереотипа поведения. С нар раздался хрипатый голос:
– Чума, не трожь мужика.
Чума с недовольным видом отошел. К краю нар подвинулся старый урка, типичный «пахан», он некоторое время рассматривал меня и строго сказал:
– Неправильно себя ведешь. Что у тебя в чемодане? Золото?
Я ответил, что у меня старье, но оно мне необходимо. Рассказал, что еду с Соловков со вторым сроком, а теперь заболел и отказался от работы. Старый урка прохрипел:
– Тебя как зовут?
– Юра.
– А меня дядя Вася. Никто тебя не тронет, а ты, если можешь, расскажи какой ни на есть роман. Скучно нам.
Урки захихикали.
Я предложил «Всадника без головы». Все согласились, и я начал живописать, как по ночам, при свете луны, всадник без головы наводил ужас на фермеров. Начало встретило живое одобрение, но тут уркам принесли завтрак. Нет, не штрафной паек из 300 граммов хлеба и воды, а полный ведерный чайник чаю, полный таз крутой пшенной каши, кремовым конусом возвышающейся над краями таза. В середине конуса был кратер, а в нем таял кусочек масла. Такого количества пшена, наверное, хватило бы на утренний суп для целой палатки – для 250 обычных заключенных.
Урки схватили таз, подняли его наверх и пригласили меня.
– Погоди, – прохрипел дядя Вася уркам. – Пускай он сначала сам себе наберет. Я достал ложку, миску и положил две ложки каши.
– Спасибо.
– Бери больше! – закричали урки.
– Юра, этой кашей только воробью нос замажешь, клади полную миску!
Я поблагодарил, положил еще несколько ложек и принялся за еду. Каша была отличная, но есть не хотелось. Через силу я одолел ее и запил горячим сладковатым суррогатным чаем.
Превозмогая слабость, я продолжал описывать похождения всадника, чувствуя приближение обморока. Очнулся, лежа на полу. Дядя Вася командовал:
– Чемодан ему под голову, брезентом накройте. Заметив мои открытые глаза, старый урка сказал, что меня сейчас заберут в лазарет.
Я отрицательно покачал головой:
– Не возьмут.
Дядя Вася прохрипел что-то ругательное и приказал уркам раскладывать под окном костер. Вскоре от старых тряпок и ваты пошел в окно едкий дым. А урки изо всех сил орали и стучали в дверь. Прибежал комендант.
– Фершала, доктора! – кричали урки.
Комендант было заупрямился, но его вразумили, тем более что костер дымился. Пришел фельдшер, который утром не дал мне освобождения. Пощупал пульс. Урки кричали: «Человек болен – забирай его». Фельдшер объясняет, что хоть и болен, а в лазарет его не положено. Он отказчик. Урки очень раздражились. Дядя Вася что-то хрипел, фельдшер возражал и пятился к двери. Тут его схватили, вылили за ворот остатки чая и надели на голову таз с остатками каши. Коменданту было велено идти за доктором в лазарет. После некоторого буйства урок пришел нарядчик и заверил, что меня сейчас унесут. Ему дядя Вася достаточно четко пригрозил, что, если он обманет, его завтра сбросят в яму под уборной.
Лазареты вогвоздинский и соловецкий несравнимы. В Соловках палаты, блеск, чистота, электричество. Здесь наполовину углубленный в землю барак, низкий, закопченный плохими печками и керосиновыми лампами. На топчанах, стоящих впритык, очень больные, умирающие люди. Вонь, грязь, теснота. Заведующий лазаретом Александр Леонтьевич Серебров (он же Зильбервассер, до ареста начальник лечебно-санитарного управления НКВД), высокий, барственного вида, управляется в этой обители скорби. Его помощник – доктор Павловский. Вот и все врачи. Старшая медсестра Смольская – жена крупного краскома (красного командира), теперь член семьи врага народа. Ее сын в интернате для детей репрессированных. Другая медсестра, красивая светская дама – Камилла Петровна Дьячко-Литвинская не имеет ни знаний, ни опыта, даже пульс не может прощупать. Говорят, она любовница Сереброва, и поэтому ее держат в лазарете. Еще несколько санитарок – вот и весь персонал. Лекарств почти нет, питание, по существу, одинаковое для всех больных: тяжелый, непропеченный хлеб из затхлой муки, баланда, каша, кусок трески. Большинство болеет пеллагрой. Чтобы вылечить эту болезнь, нужно много витаминов и строгая диета, поэтому через три-четыре недели попавшие в лазарет умирают. Предварительно у них на лбу показываются темно-коричневые пятна и такие же «браслеты» на запястьях. Это стадия необратимая.
Уже пятый день я в лазарете. У меня пеллагра. От простуды меня вылечили, а от пеллагры вряд ли смогут спасти. Желудок почти не усваивает пищу. Пока понос четыре-пять раз в сутки. В последней стадии – десять—пятнадцать раз. Организм полностью истощается. Мой топчан стоит у окна. Из окна видно только серое небо и грязный снег. По вечерам после работы к окну подходят соловчане, рассказывают о событиях дня. Разгрузка барж продолжается, темп ускоряется. У берегов уже припаи льда. Кое-что из разгружаемых продуктов перепадает: то лук, то макароны, то крупа. Вчера выгружали цистерну с растительным маслом, тащили ее вверх на берег, но не рассчитали силы. Она сорвалась. Задавила двух, крышка слетела. Масло льется, все кинулись, кто в горсть набирает, кто в рукавицу. Мампория догадался набрать в свой авиашлем больше литра, передал Победину, тот бегом из свалки. Болтенко нашел пустую банку, часть вылили в банку, остатки выпили из шлема. Победин жалел, что обменял свою кожаную шапку в Ленинграде на хлеб, а то бы еще маслица набрали. Вечером соловчане сварили макароны и обильно заправили их жареным луком. Передали мне через форточку целую миску. Ел с удовольствием, но не в коня корм.
Книг нет, газет нет. Скучно. Сосед слева, бывший генеральный консул в Синьдзяне Митюшин, рассказывает только об охоте в окрестностях Урумчи и на озере Зайчан. У него шикарное кожаное пальто темно-вишневого цвета. Комендант дает Митюшину за пальто пять буханок хлеба и по килограмму сала и сахару, говорит, что урки обязательно отнимут пальто в этапе. Когда Митюшин «созрел» для обмена и отдал пальто, жулик-комендант дал ему только три буханки хлеба и небольшой кусок сала. Генеральный консул рыдал навзрыд. Сало он съел за один день, что очень ухудшило его состояние. В последующие дни Митюшин ел хлеб с солью и пил очень много воды. Вскорости у него началась водянка, и он умер. Умирали каждый день, и я подготовился к смерти. Уж очень скучно было.
Я попросил у новой медсестры, немки фройлайн Юнд, что-нибудь почитать. Она сказала, что у нее есть тетрадка с рукописными стихами на немецком. Я был в восторге! В тетради был весь монолог Фауста, кое-что из Уланда и Шиллера. Я сейчас же принялся за монолог Фауста и забыл о лазарете. Каждый день я заучивал несколько строк, но с каким трудом! Если у Петра Ивановича Вайгеля за один урок я легко запоминал 20—30 строк, то теперь моя истомленная голова усваивала две – четыре строчки. Заучивание чередовалось потерей сознания. Я впадал в полудрему и видел Фауста и Вагнера, Пуделя и Мефистофеля то в Соловках, то здесь, то вместе с ними бродил по средневековым городам.
Как-то ко мне подошла старшая сестра Смольская, долго смотрела на меня и плакала. «Вы знаете, Юра, у меня сын тоже Юра, может, он также в лагерном лазарете». Она протерла мне руки теплой водой и вернулась со стаканом молока. Молоко было в вогвоздинском лазарете такой же редкостью, как ананасы. Вечером того же дня подошла санитарка Михася – тихая украинка из католичек и принесла мне стакан клюквы. «Кушайте, паныч, по ягодке – это витамины, главное лекарство от пеллагры». Я ел холодную тугую клюкву и весь наполнялся ощущением свежести. Михася стояла рядом и тихо шептала. Я уловил латинскую молитву и тихо сказал: «Domini vobiscum»[39]. Подошел заведующий лазаретом Серебров и увел меня на осмотр. Я едва шел, опираясь на Михасю.
В своей каморке за печкой Серебров сказал:
– Для лечения пеллагры необходимы витамины и диета, а лазарет это обеспечить не может. Поэтому люди умирают. Наши женщины решили вам помочь. Михася после дежурств будет собирать на болоте клюкву. Половину придется отдавать на проходной стрелку – иначе не выпустит. Необходимо вам не меньше стакана в день. Смольская что-то продала, чтобы вы ежедневно имели два стакана молока. Но все это не поможет, если вы будете есть лазаретное питание. Вы не должны есть соленую капусту, соленую треску и хлеб. Если вы разрешите, Эля Юнд будет из вашей пайки сушить сухари. Все каши, картошку и крупяные супы есть можно. Вот такая будет диета, плюс клюква, плюс лекарства. Будем вас спасать.
Мои земляки-соловчане сообщили, что разгрузка барж закончилась. Вычегда стала. Последним пригнали этап стариков чеченцев. Многие из них пришли по снегу босые или в калошах на босую ногу. Много обмороженных. Перпункт переполнен. Готовится большой этап на Ухту. Медкомиссия отбирает в первую очередь трудоспособных, а квалификационная комиссия, приехавшая из Ухты, отбирает специалистов. Через несколько дней мои дорогие соловчане в последний раз перед этапом подошли к окну, уже занесенному снегом, и попрощались со мной. Мое одиночество скрашивали только три добрые женщины, выхаживающие меня как своего.
А люди умирали. В лазарете на освободившиеся места сразу же поступали пеллагрики, дистрофики, обмороженные, с воспалением легких и т. д. Михася рассказала о процедуре выноса покойника из зоны. Она видела, как голого покойника на носилках принесли на проходную, на шее и на ноге покойника висели бирки. Стрелок на проходной сверил бирки с сопроводительной бумагой, потом взял большой молоток на длинной рукоятке и, размахнувшись, трахнул покойника по лбу. «Я аж затряслась», – говорила Михася. А вахтер говорит: «Это ему последняя печать на лоб, чтоб живого за зону не вынесли. Всем вам поставим, кому раньше, кому позже».
Потом мне рассказали еще об одной особенности похорон. Урки из похоронной бригады ленятся копать стандартную могилу в мерзлом грунте. Они выкапывают яму мельче и короче, а покойнику обламывают ноги, чтобы поместить в яму. Я уже перестал реагировать на такие «детали». Покойнику все едино, хоть жерновами его размели, а вот живых, умирающих справа и слева, жалко, особенно тех, кто и перед смертью сохранил облик человеческий.
Размышляя о своем положении и ходе событий, я нередко вспоминал о гороскопе, о динамике предсказанных подъемов и спадов. Как верно оправдался первый неблагоприятный период: смежные 38—39-й годы с пиком неприятностей в середине периода. 1938 год начался на Секирной горе в ожидании расстрела, почти весь год я провел в тюрьмах и этапах, получил новый срок, замерзал в карцере, а теперь лежу с пеллагрой среди умирающих. Если выживу, дальше должно быть улучшение и длительный период относительного благополучия.
Состояние мое как будто стало улучшаться, подходил день рождения, но тут произошел скандал. Один из пеллагриков позавидовал, что мне дают молоко и клюкву, и во время врачебного обхода стал кричать о безобразиях, о блате, о неправильном распределении продуктов, о выделении из общей массы привилегированных и т. п. Он поднялся на топчане, маленький тощий старик, и, брызгая слюной, кричал:
– Если у вас есть молоко, то надо давать его мне, а не этому мальчишке. Я комиссар Футликов, я член реввоенсовета армии, я гнал в бой полки и дивизии. У меня орден Красного Знамени, меня Ворошилов знает. Я требую…
Серебров слушал его не перебивая, а затем сказал:
– Вы бывший комиссар. Теперь вы враг народа, и ордена у вас отобрали, и никаких заслуг и привилегий у вас не осталось. Вы получаете все, что полагается. А этому «мальчишке» сестры помогают от всего сердца. Я не могу им это запретить, так же как не могу заставить их менять свои вещи, чтобы подкармливать вас.
Футликов в ярости сполз с топчана и в наказание Михасе нагадил на пол по дороге в уборную.
В начале декабря теоретически мне полагалось умереть, но я еще жил и даже избавился от пеллагрического поноса. Появившееся было пятно на лбу (черная метка пеллагры) постепенно бледнело. Я все еще учил наизусть монолог Фауста, но хотелось книг и газет или интересных собеседников. Я стал помогать медсестрам измерять температуру. На весь лазарет осталось всего три градусника, и процесс измерения температуры продолжался четыре-пять часов.
Среди больных был старый туркмен. Его звали мулла Исса. Он лежал почти не двигаясь, ни к кому не обращаясь, ничего не просил. Седобородый, с тонким горбатым носом и плотно сжатыми губами, он походил на джинна из арабских сказок. Я попробовал заговорить с ним по-турецки, вспоминая уроки Рагимова в последние месяцы в СТОНе, и спросил, не хочет ли он пить. Мулла несколько оживился, поблагодарил. Я принес ему кружку суррогатного горячего чая. Мулла выпил. Поблагодарил. Мы подружились. После измерения температуры я с ним обычно разговаривал. Старик много знал, был по-восточному мудр. Еще до революции он совершил хадж в Мекку и Медину. Однажды я ему тихонько спел турецкую песенку о соловье:
Бюль-бюлин гейдиги кара Юрек олды беш бин яра Итирмешим назли яры Сен аглама мен агларым…Песня была длинная, на восемь куплетов, очень жалостная, об умершей возлюбленной. У муллы навернулись слезы. На другой день он попросил снова спеть эту горькую песню. Спустя несколько дней утром я, как обычно, протянул ему термометр: мулла не пошевелился. Он тихо умер ночью. Наверно, душа его была уже в преддверии Магометова рая.
Незадолго до Нового года в лазаретный барак вошел чернобородый старик в белье и калошах. На вытянутой руке он нес перед собой эмалированный зеленый бидончик. Свободное место было у окна напротив меня. Старик вежливо поздоровался, спросил, это ли свободное место, и робко сел, продолжая держать перед собою бидончик.
– Поставьте бидончик на подоконник, – предложил я.
– А не наплюют в него? – испуганно спросил новый сосед.
Так я познакомился с Самуилом Моисеевичем Белиньким, ремингтонистом в Ясной Поляне, переписчиком произведений Толстого. Он был рекомендован Чертковым, ближайшим другом, последователем и издателем Толстого. Самуил Моисеевич видел Толстого до последнего дня и много очень интересного рассказывал об этом замечательном человеке. До ареста Белинький был одним из руководителей общества толстовцев в Москве, которое было разгромлено в 1937 году.
На Новый, 1939 год Михася подарила мне творожную ватрушку, а Эля Юнд принесла бутылку с настоящим сладким чаем. Я разделил эти дары с Белиньким, и мы очень мило встретили Новый год среди грязи и вони в этой обители пеллагры. Белинький мне рассказывал о праздновании рождества и Нового года в Ясной Поляне, о болезненно экономном отношении Толстого к бумаге (он старался использовать всякий клочок), об ожидании Толстым кометы Галлея и как он радовался возможности столкновения кометы с Землей и уничтожению Земли. Это было для меня очень интересно и по-новому характеризовало великого старца.
В начале января я покинул лазарет. Больше во избежание неприятностей Серебров держать меня не мог. Жалко было оставлять Самуила Моисеевича. Он сильно грустил при прощании. Что было впереди? Зимовка в палатке при сорокаградусном морозе на тощем пайке? Ожидание этапа в Ухту? Но кому нужны дистрофики, пеллагрики и старики? Стоит ли их этапировать? И так к весне все подохнут. Надо продержаться до весны. Но как? С такими невеселыми думами я покинул лазарет.
В палатке ничего на первый взгляд не изменилось. Те же двухэтажные нары из жердей, та же печка – лежащая труба, которую надо непрерывно топить, тот же мрак, едва разбавляемый слабым светом двух керосиновых фонарей. Приглядевшись, увидишь ледяные образования в углах, на брезентовой крыше – изморозь, а нижние нары почти все пустые. Только в районе печки несколько стариков, не способных залезть наверх, да староста Сухаревский, крепкий моряк на одной ноге. Куда делась половина людей? Кто ушел на этап, кто остался в Вогвоздино «на вечное хранение».
Мне нашлось место на втором этаже, недалеко от печки. Староста определил и место в десятке на получение еды. На работу больше не гоняли. Люди сами слонялись по лагерю в поисках работы, которая дала бы дополнительную еду, но все «хлебные» места были заняты. У кухни, хлеборезки, лазарета, каптерки – везде образовались постоянные пильщики дров, истопники, уборщики. С ними расплачивались «натурой» за счет нашего же пайка. Естественно, каждого постороннего эти «бригады» встречали недружелюбно. Сначала делали предупреждение, чтобы не лез в конкуренты, а потом били смертным боем, благо эти постоянные рабочие имели больше сил.
Через несколько дней у нашей палатки был банный день. В предбаннике сдавали белье в вошебойку. У меня в платке была завязана трешка – все мое состояние, на которое я хотел купить кусок мыла. Встала проблема: куда спрятать трешку? В углу предбанника сидел старый дед – сторож бани. Угол ограничивала от вшей керосиновая струйка на полу. Я нерешительно подошел к нему и попросил сохранить платок с трешкой на время мытья.
– А вы уверены, что я вам отдам? – лукаво спросил дед.
– Уверен, иначе вы не задавали бы такого вопроса.
– Благодарю за честь и доверие, – важно сказал дед и спрятал мое сокровище за пазуху.
Так состоялось знакомство с интереснейшим человеком, доктором агрономических наук, профессором Богданом Ильичом Ясенецким.
После мытья (2 литра теплой воды и 5 граммов мыла) нам выдали наше грязное белье и одежду из вошебойки. Оно было так прокалено, что у некоторых подгорело. От грязного горячего белья шел скверный дух, но чистого белья на перпункте не было. «Освежившись» таким образом, я получил обратно деньги и приглашение остаться «на чашку чая». Народ покинул предбанник. Богдан Ильич подмел с полу вшей, залил их керосином, помыл руки и налил чай в кружки. Чай был сделан из вяленых гнилых фруктов и толченых желудей и продавался под громким названием «Чайный напиток – лето». В народе его называли «вторая пятилетка», так как сей напиток появился в голодные годы начала второй пятилетки. К чаю было дано по одному маленькому черному сухарю с солью. Вот во время такого изысканного чаепития и шла светская беседа.
Этот старичок мне очень понравился, и я все рассказал о себе, начиная с ареста до сего дня. Богдан Ильич очень хорошо слушал, иногда спрашивал о деталях. Мы проговорили почти до обеда, который, как в лучших домах Лондона, приходился в Вогвоздино на 18 часов. Ясенецкий пригласил меня заходить, когда я смогу, хоть каждый день. Я был очень рад. В моем одиночестве встреча с ним была как божий дар.
Богдан Ильич и жил в предбаннике. За печкой хранились его вещи. Спал он на лавке, в банные дни следил, чтобы в предбаннике не было краж, боролся со вшами, а в небанные дни предбанник становился клубом. Посещали его преимущественно поляки, чехи, прибалты. Беседовали в основном на отвлеченные темы. Не то что в палатке, где говорили только о еде, о вшах, о холоде. Народ настолько ослабел, что, выходя ночью из палатки, не доходил до уборной, а мочился недалеко от входа, или чуть завернув за угол. Поэтому вход в палатки имел очень гадкий вид. Эта «красота» обратила внимание начальника лагпункта, и он приказал: во-первых, все очистить, во-вторых, наряжать на ночь дежурных с палками, которые бы гнали писунов в уборную. Естественно, дежурными назначали урок, которым только бы поиздеваться над «политическими», как они называли всех, отбывающих срок по 58-й статье.
Появилась новая проблема. Выходит старик ночью из палатки, накинув сверху бушлат или пальтишко, а на дворе мороз 30—40 градусов. До уборной – метров 120—130. Сил нет, мороз жмет – вот и начинает мочиться у входа. А тут на него нападает дежурный с палкой и лупит изо всех сил по спине, по ногам, гоня в уборную. Со страху старик не только обмочится в кальсоны, но и опоносится. Возвращается в палатку обгаженный, простуженный, а в палатке ванны и душа нет. Приходится ему, немытому, лезть на нары, пачкая соседей. Некоторые хитрили и мочились в палатке перед выходом. Дежурные встали на пост у выхода и провожали выходящих до уборной. Количество простуд, воспалений легких и, следовательно, смертей резко увеличилось.
Нашему десятку особенно не везло. Почти перестала попадаться картошка в супе. Наш десятский, довольно еще крепкий старик по фамилии Дырченко (до революции он был акцизным чиновником), жаловался на кухню, а мы жаловались старосте Сухаревскому. Однажды во время обеда, когда десятские вносили в палатку тазики с супом, дверь распахнулась и в палатку влетел Дырченко, за ним прыгал, опираясь на костыль, Сухаревский, держа в другой руке пустой тазик. Тут же у входа староста сбил Дырченко с ног костылем и избил тазиком. Дырченко только глухо стонал. Потом по приказу старосты избитого повернули на спину и обыскали. В карманах пальто обнаружили несколько кусков картофеля.
Десяток не остался без обеда. Староста и два свидетеля из нашего десятка пошли к коменданту, затем на кухню и получили более приличный супчик, чем тот, в котором полоскал грязные руки Дырченко, вылавливая картошку.
Староста рассказывал, как он выследил вора. После наших жалоб Сухаревский дважды в темноте крался за Дырченко, который обычно, отдыхая по дороге, отставал от других супоносов. В первый раз староста видел, как Дырченко дважды ставил таз и наклонялся над ним. Второй раз Дырченко не только выловил картошку, но и, встав на четвереньки, стал пить суп прямо из таза, громко втягивая жидкость. Тут-то Сухаревский подковылял, выхватил таз, облил вора супом и погнал в палатку. Через несколько дней Дырченко нашел дохлую замерзшую крысу, сгрыз ее полусырую и умер.
Многие опустились до уровня Дырченко и встали «на четвереньки». Они ели много соли, а потом весь день пили дрянную торфяную воду, чтобы заглушить жгучий голод, и ходили по лагерю опухшие, в грязном тряпье, жадно смотря под ноги в поисках объедков, отбросов. Но тщетно! Некоторые же, как профессор Ясенецкий, профессор Визе, бывший директор гимназии статский советник Петропавловский, старались сохранить присутствие духа, хотя и сильно ослабели, особенно Георгий Рудольфович Визе, который вскорости умер в лазарете. Я тоже сильно ослаб, но старался меньше пить воды, чтобы не перегружать сердце и не бегать ночью в уборную по лютому морозу. Была в Вогвоздино в то время и дочь знаменитого Глеба Ивановича Бокия – основателя соловецких лагерей, члена комиссии ВЧК – ОГПУ – НКВД, которого проклинали многие заключенные. И вот Бокий уже расстрелян своими же коллегами, а его дочь прозябает в ВОПЛе.
«Клуб» Богдана Ильича был единственным местом, где, несмотря на всеобщую тоску, голод, опущенность, царил бодрый дух и живая мысль. Я рассказал о знакомстве с украинскими неоклассиками, что вызвало оживленную дискуссию по проблемам развития украинской литературы. Богдану Ильичу, родиной которого была Винница, близко и любимо все украинское, но… в польском преломлении. Когда он читал поэму Винсента Поля «Песнь о земле нашей», где описывались особенности всех земель польских «от можа до можа», то есть от Балтийского до Черного моря, голос его звучал особенно тепло в стихе об Украине:
Без опору око згине В пограничной Украине.Он прекрасно знал историю Польши и Украины, но излагал ее в другой трактовке, чем неоклассик Лебедь – петлюровский офицер или ректор Киевского университета, красный профессор Симко. Вот три взгляда на историю одной страны!
Дед Богдана Ильича активно участвовал в восстании 1831 года и был сослан в Сибирь, когда его сыну (отцу Богдана Ильича) было всего три года. В 1833 году Николай I был на военных маневрах в районе Житомира, и пани Ясенецкая вместе с младенцем добилась приема у императора. Богдан Ильич очень красочно описывал, как царь поцеловал руку просительницы, взял ребенка на руки и спросил:
– Ты меня любишь?
Ребенок отвернулся и ответил:
– Нет, бо ты москаль!
– Мадам, – сказал печально император, – как вредно внушать младенцу неприязнь между нашими народами.
И он широко начертал на прошении: «Помиловать отца, дабы не было зла в сердце сына». Богдан Ильич спрашивал; «Как вы полагаете, господа, возможно ли такое чудо в наше время?!»
В январе стояли особенно трескучие морозы, ночью в черном небе очень четко мерцали звезды. Короткие дни были солнечными, тихими. Под голубыми небесами дым от печей поднимался бело-розовыми столбами. Я к тому времени при содействии Богдана Ильича стал постоянным пильщиком дров в бане. Напарниками моими были или надменный поляк Разводовский, частый гость в «клубе» Богдана Ильича, или старенький еврей Карасик. С Разводовским пилить было нетрудно. Во время работы он молчал и лишь иногда говорил: «Повольны, повольны». Что означало: медленнее. С Карасиком было труднее: он беспрерывно разговаривал, часто нарушая ритм пиления. «Пожалуйста, помолчите и следите за ритмом», – просил я. Карасик сердито отвечал, что в могиле он еще ой как намолчится, а в ритме он, кантор, понимает побольше меня. Как бы то ни было два-три раза в неделю я имел по нескольку картофелин, сваренных в «мундире», и миску соленой капусты.
В конце января, когда я шел из бани после пилки дров, меня неожиданно схватила та же злобная пара: нарядчик и комендант. Я и опомниться не успел, как очутился в зоне конвоя среди нескольких несчастных.
Начальник конвоя объявил нам обычную формулу:
– Конвой предупреждает: шаг влево, шаг вправо считается побегом, и конвой применяет оружие без предупреждения.
Нарядчик сказал:
– Дрова в комендатуре кончаются. Вы привезете дрова из лесу на себе. Лошадей нет, а сани есть. Конвой скомандовал:
– Разберись по саням, и пошел из зоны! Двое саней, пятнадцать заключенных, три конвоира. Мороз градусов 35. Ни у кого нет валенок. Большинство не имеет ни перчаток, ни рукавиц. Мои рукавицы остались в бане. Все одеты кое-как, ведь схватили первых попавшихся во дворе. Не сказали, куда и зачем взяли. И только в зоне конвоя объявили.
– Давай, ребята, бегом! – кричит конвоир, а большинству ребят за пятьдесят лет.
Три чеченца совсем старые, у двоих калоши на босую ногу.
– Бегом, бегом! – кричат конвоиры, подкалывая штыками.
Мы кое-как бежим и тянем сани за оглобли, но мороз так силен, что пальцы сразу белеют, как возьмешься покрепче за оглобли.
Кое-как пробежали не то два, не то три километра. Штабели двухметровых еловых бревен примерно в пятидесяти метрах от дороги. Команда:
– К штабелям, быстро!
Барахтаемся в глубоком снегу, доползаем до штабелей.
– Бери лесины! – кричат конвоиры.
Тащим на дорогу кое-как по три-четыре человека на одно бревно. И снова, и снова. Чеченец потерял в снегу калоши, показывает стрелку побелевшие босые ноги.
– Беги быстрей, старик, – смеется стрелок.
Наконец сани нагружены, но мы не можем их сдвинуть с места. Стрелки ругаются, но вынуждены помочь толкнуть. Сани пошли, толкаем, тянем изо всех сил. С каждым шагом ближе к палаткам, но с каждым шагом меньше сил. Босой чеченец упал, конвоир пнул его и… оставил лежать в снегу у дороги. Догадываемся – старик умер. Мои пальцы уже побелели до второго сустава и ничего не чувствуют, ничего не чувствуют и ноги в ботинках. Снег, набившийся в штаны, тает и замерзает. Еще шаг, еще, еще. Вот и зона, втаскиваем сани к комендатуре и ждем. Вдруг снова в лес? Нет. Отпустили. Бегу прямо в лазарет и падаю на пол.
В лазарете меня принял по-доброму. Растирали спиртом руки и ноги. Боялись, что пальцы на руках не отойдут. Тогда резать? Но все оттерли, перенесли на свободный топчан. Определили глубокий катар дыхательных путей от усиленного дыхания на морозе во время бега с санями. Потом началось двустороннее воспаление легких. Серебров сказал: «Три месяца лечили, едва вылечили. И вот несколько часов – и все насмарку!» Лечили меня очень интенсивно, и к середине февраля наступил перелом. Началось выздоровление.
Богдан Ильич несколько раз проведывал меня и приносил какой-нибудь гостинец: то головку лука, то клубенек картошки, то сухарь. При этом он рассказывал всякие забавные истории из своей долгой жизни (ему было уже под семьдесят лет). В лазарете поговаривали, что в марте может быть этап в Ухту. Зима произвела естественный отбор, а оставшиеся в живых, следовательно, могут быть использованы для работы.
Я уже стал ходить по палате и опять помогал измерять температуру. Как-то, идя за термометрами, я увидел диковинное зрелище. В приемной (она же перевязочная, она же дежурная и т. п.) на полу, залитом керосином, сидело нечто, покрытое густым черно-седым волосом, похожее на гориллу. Павловский брил горилле спину, а Серебров укорял это существо:
– И не стыдно вам? Миллиарды вшей на вас, вся спина во вшах, на полу волосы шевелятся. Я вот прикажу вас паяльной лампой обработать.
Горилла молчала. Я спросил, что это за человек.
– Это уже не человек, – загремел Серебров. – Это бывший адвокат Григолия, вице-министр юстиции Грузии в правительстве меньшевиков.
Вице-министр молчал и мелко дрожал всем телом: на полу было холодно.
В начале марта меня выпустили из лазарета. Я в этот же день пошел в «клуб» Богдана Ильича. В «клубе» обсуждалось известие о смерти папы римского Пия XI. Богдан Ильич рассказывал, как был в Ватикане на приеме у папы Льва XIII в 1900 году, а Разводовский целовал туфлю у Бенедикта XV. Другие католики, поляки и литвины, почтительно взирали на очевидцев их святейшеств. Стали гадать, кто будет избран.
– Конечно, кардинал Пачелли, – неожиданно сказал я.
Разводовский удивленно поднял брови:
– А чи не видал, пан, зеленого песа?
Я довольно сердито ответил, что зеленого пса я не видел, а о ситуации в Ватикане некоторое представление имею и могу держать пари на пайку хлеба.
– Бронь, боже, – закричал Богдан Ильич. – Это же неприлично.
Разводовский, однако, согласился и что-то пробормотал о дерзости.
Это пари было заключено 4 марта 1939 года, а 12 марта папой был избран кардинал Пачелли, взявший имя Пия XII. Мы об этом узнали 16 марта, в день, когда прибыла комиссия из Ухты по комплектовке нового этапа. Несмотря на волнение, поднятое комиссией, известие, что я предугадал, кого выберут папой, произвело на добрых католиков сильное впечатление. Пан Разводовский публично в «клубе» признал свой проигрыш и принес мне пайку хлеба. Я отказывался, сказав, что вполне удовлетворен самим фактом выбора. Разводовский, гоноровый шляхтич, стал обижаться и продолжал совать мне пайку, говоря, что он проигрывал тысячи, но всегда платил. Богдан Ильич предложил разделить пайку на восемь кусочков по числу присутствующих в «клубе» и выпить с этим хлебом чай во здравие нового папы. Все с приятностию согласились.
Меня вызвал Серебров и сообщил, что он, Павловский, медсестры уезжают в этом этапе. Все больные остаются на попечении фельдшера медпункта. Уедут все сколько-нибудь трудоспособные, останутся около 200 стариков на умирание. Поэтому если я останусь, то меня как трудоспособного будут гонять и в хвост и в гриву, пока не загоняют. Мне необходимо пробиться в этап, но так как у меня нет никакой специальности, то в этап могут не взять. Мне следует сказать, что я медбрат. Серебров помнил рассказ об Ошмане и моей работе в соловецком лазарете.
На прием к старшему инспектору УРО (учетно-распределительный отдел) Ухтижмлага стояла очередь из дистрофиков и доходяг. Когда я дождался счастья узреть начальство, я уже насмотрелся на многих счастливцев и несчастливцев. Старший инспектор Третьяков оказался довольно приличным, не хамил, не повышал голоса. Я сказал, что я медбрат.
– Но в вашем деле нет документа об этом.
– Документа нет, а знания и умения есть. Возьмите меня в Ухту, здесь я уже дважды умирал.
– Проверим ваши знания, тогда и решим. Подождите в коридоре, – сказал инспектор.
Через некоторое время к Третьякову прошел Павловский. Вызвали меня. Начался экзамен.
– Как надо обрабатывать рану и накладывать гипс?
– Какие хирургические инструменты вы знаете?
– Какой симптом позволяет определить аппендицит?
Я ответил на все вопросы, и Третьяков, сделав отметку, объявил:
– Поедете.
ЗАЩИТНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Наконец мы добрались до столицы Ухтижмлага – городка Чибью, недавно переименованного в Ухту. Этот городок был основан в 1929 году на месте впадения речки Чибью в более полноводную реку Ухту. Там еще в XIX веке были обнаружены большие залежи нефти. В 1929 году в Ухту была послана особая экспедиция ОГПУ через Архангельск, Нарьян-Мар и далее по рекам Печоре, Ижме, Ухте. Возглавлял экспедицию известный чекист Яков Мороз. В первое же лето пригнали несколько тысяч заключенных, которые осваивали тайгу, строили бараки, возводили буровые вышки. В последующие годы было обнаружено еще несколько месторождений нефти и источники вод, содержащих соли радия. Началась переработка радиоактивных вод в металл радий. За Полярным кругом и в Воркуте стали разрабатываться залежи угля. Ухтинская экспедиция была преобразована в Ухтпечлаг, раскинувшийся на огромной территории от Котласа до Северного Ледовитого океана, где свободно разместились бы несколько европейских государств.
Начальник Ухтпечлага Мороз обеспечивал план добычи ископаемых, геологоразведочных и строительных работ любой ценой, ценой жизни сотен тысяч заключенных. Люди зимовали в палатках, работали на болотах и в тайге, изъедаемые комарьем, гнусом и вшами, ели кое-как, ведь продукты с Большой земли доставлялись с перебоями, пили воду из торфяных болот. Мороз был неограниченным повелителем: он мог досрочно освободить, мог добавить срок, мог отправить на тот свет. Повелитель строил столицу Ухтпечлага – Чибью с большим размахом. Из дерева возводились дворцы под камень, с колоннами, балюстрадами, вокруг жилой части размещались промышленные предприятия, а за рекой Ухтой – образцовый лагпункт № 1, где в 1937 году заключенные жили уже преимущественно в четырехкомнатных домиках по четыре – шесть человек в комнате.
В 1937 году Якова Мороза и многих руководителей Ухтпечлага расстреляли (в связи со сменой руководства НКВД), а колоссально разросшийся лагерь-гигант разделили на четыре лагеря: Воркутлаг, Севжелдорлаг, Усть-Вымьлаг и Ухтижмлаг. Столица бывшего Ухтпечлага – Чибью стала центром Ухтижмлага и была переименована в Ухту, но осталась на долгое время образцом для других лагерных столиц и памятником кипучей деятельности Якова Мороза.
После жутких промерзших палаток Вогвоздино, грязи и мрака залитый электрическим светом ОЛП № 1 (так именовался образцовый лагерный пункт) показался раем. Мы все были довольны переменой и уже забыли трудности этапа от ВОПЛя до Ухты. Даже пересыльный барак здесь был благоустроенным и чистым. На другой день желающих послали на уборку снега в столице. Я, хоть и был слаб, охотно пошел поглядеть это чудо, о чем был наслышан по пути из Вогвоздино.
За большим деревянным мостом раскинулся центр Ухты. Справа вдоль берега разместилась промзона, где дымили трубы ТЭС, нефтеперегонного и ремонтно-механического заводов. Слева тянулись поля совхоза. На первой от моста площади высилось подобие иофановского[40] Дворца Советов, который предполагалось построить в Москве вместо уничтоженного храма Христа Спасителя. Только московский вариант запроектировали высотой около пятисот метров, а ухтинский не превышал тридцати метров, но также являл три луча колоннад, отходящих от цилиндрической башни. Вторую площадь окружали театр, здание управления, столовая, школа. Все с колоннадами, балюстрадами. Среди сосен стояли двухэтажные дома для вольных, а в палисадниках – коттеджи большого начальства. К площади примыкал городской суд с входом, украшенным помпезной аркой. В центре почти не было пешеходов. По улицам проносились бесшумно легкие санки, запряженные рослыми холеными конями. На козлах санок сидели ямщики, подпоясанные красными кушаками, а в санках, откинувшись на спинку, сидели начальники в синих фуражках с красными околышами. На фоне покрытых углаженным снегом улиц ярко выделялись зеленые сосны, золотисто-коричневые деревянные дворцы, пестрые санки начальников и их красно-синие фуражки.
Нас подвели к театру. Старший пошел доложить о прибытии снегочистов и вернулся в смущении.
– Кто может полезть на крышу сбрасывать снег? Человек пять-шесть.
Все молчали. Прибежал завхоз, оглядел нашу «бригаду», театрально захохотал и закричал:
– Ты кого привел? Их же ветром качает! Их же с крыши сдует до Черного моря!
Нас с позором повели обратно, но я был доволен: осмотрел столицу.
Квалификационно-медицинская комиссия быстро расфасовала наш этап. Многих отправили на нефтешахту, где особо тяжелую нефть добывали шахтным способом, других разбросали по отдаленным лагпунктам, особенно слабых отправили на Ветлосян, меня и еще трех определили в совхоз Ухта. В этом числе оказались старик немец Блудау – колбасный мастер, до революции имевший в Орле заводик; Сивков, еще не старый колхозник с Урала, и злополучный вице-министр юстиции в правительстве Жордания – Григолия, которого очищали от вшей в вогвоздинском лазарете. Из совхоза за нами послали заезженную кобылу, запряженную в розвальни, которая похоронным шагом повлекла нас через город.
– Куда везешь? – спрашивали возчика встречные. Он бойко отвечал:
– На свалку!
Зона совхоза расположена в двух километрах от города вверх по течению Ухты. По сравнению с ОЛП № 1 все выглядит, конечно, неказисто, но неизмеримо лучше вогвоздинской пересылки. Забор из кольев окружает зону, вытянутую вдоль берега реки Ухты; по углам – вышки с прожекторами и стрелками. В обширной зоне несколько бараков, хозпостроек, овощехранилищ и на самом берегу старая баня. Вот эта баня доставила нам великую радость. Нас остригли, обтерли керосином все стриженые места и предоставили возможность мыться без ограничения кипятка и времени. Потом выдали чистое, хотя и заплатанное белье и вернули из вошебойки хорошо прожаренную верхнюю одежду. Все познается в сопоставлении и сравнении. Мы были довольны.
Утром нас включили в бригаду, работавшую на парниках. Парники и теплица были расположены под самым городом. По дороге мы с Григолия обсуждали прелесть работы на парниках с рассадой, с растениями. Сивков резко прервал наши идиллические бредни, и он – опытный колхозник – оказался прав.
На парниках десятник Рахленко подвел нашу четверку к горе мерзлого навоза.
– Берите ломы, кирки и лопаты. Надо разбить этот бурт навоза и размельчить его. Норма 16 тонн на человека, – объявил он.
– Вот вам и растения, и рассада, – буркнул Сивков и с яростью вонзил лом в бурт.
Десятник на бурте разметил каждому объемы, но наши слабые руки едва держали кирки и ломы, только царапавшие смерзшийся навоз. У Сивкова дело шло лучше, а Григолия и Блудау, хрипло дыша, почти не врезались в бурт. У меня уже не держался лом в руках, а проработали мы не больше часа. Григолия сел на снег и заплакал. Я привалился к бурту и стал вытирать лицо носовым платком, так обильно его орошал пот.
Подошел странно одетый человек и уставился на нас. Он был высок, худ, одет в потертую кожаную куртку. Ватные брюки были заправлены в кожаные краги, а голову покрывала кожаная кепка, из-под которой сверкали круглые стекла пенсне. Под мышкой этот кожаный человек держал старый кожаный портфель.
– Недавно прибыли? – спросил он меня.
– Вчера.
– Откуда?
– Из Вогвоздино.
– А в Вогвоздино откуда?
– Я с Соловков, второй срок дали, а другие с воли.
– С какого года вы сидите? Вы студент? Из какого города?
– Сижу с 1935-го. Я школьник. Мне было пятнадцать лет. Я из Москвы.
– Вы болели недавно? У вас лицо дистрофика.
– У меня была пеллагра, потом пневмония.
Записав мои установочные данные, кожаный человек сказал вежливо «до свидания» и ушел, а я еще долго стоял у бурта, собираясь с силами.
К середине дня пришел проверить работу десятник и определил, что мы вчетвером выполнили менее одной нормы. «Меньше 50 процентов сделаете, на штрафной паек сядете», – пригрозил он. А у нас троих уже и сил не оставалось, только Сивков сноровисто разбивал бурт. Вдруг он перешел на мой участок и стал отбивать киркой большую глыбу. Я понял его доброе намерение, но стал протестовать: «Я сам, не надо, у вас еще тоже нет нормы». Сивков рявкнул, чтобы я замолчал, и продолжал выполнять мой урок. В результате Сивков выполнил норму на 60 процентов, я на 55, а у стариков было меньше 30 процентов. Два километра от парников до совхоза мы шли больше часа и были последними в очереди за обедом.
На другой день мы едва выползли из барака. Болели все мышцы, особенно поясница. Сил совсем не было, и я с тоской думал, что не выполню и 20 процентов нормы. Погода была ветреная, мороз около 25 градусов, хоть и конец марта. Нас ожидал тот же огромный бурт навоза, который мы вчера лишь пощипали. Примерно через час десятник позвал меня в сарай, где женщины делали торфонавозные горшочки. Там весело трещали дрова в железной печке, и не задувал морозный ветер. Десятник посадил меня на ящик у печки и велел ждать.
– А как же работа? – заволновался я.
– Работа не медведь, в лес не уйдет, – важно сказал десятник.
Я сидел уже около часа и считал, что мне очень повезло. Час в тепле! Не шутка! Но вернулся десятник, вывел из барака на тропинку, указал на маленькую зону под высокой лиственницей, примерно в километре от парников, и велел немедленно идти туда к бригадиру Градову.
В маленькой зоне ворота были раскрыты. Справа тянулся большой сарай, а в центре зоны – большой отштукатуренный, но не беленый дом. Войдя в коридор, я наткнулся на старичка с бородкой, который и оказался Градовым Павлом Яковлевичем. Я представился.
– Знаю, знаю. Кушать хотите? – протяжно окая, сказал он.
– Нет, я завтракал, спасибо, – поблагодарил я.
– Вежливость – это хорошо, а все ж правда лучше, – вздохнул Градов и провел меня в комнатку, где стояли снопы, а на плите котелок с картошкой и чайник.
– Вот сначала покушайте картошку с капустой. Сорт хороший. «Ранняя роза» называется, крахмалу много, – говорил Градов, доставая из шкафа миску прекрасной кремовой соленой капусты. – Потом чайком запьете. Тут шиповник да кипрей запарен, а после я зайду, скажу, чего делать. – Я ощутил, что все самое трудное осталось позади и, согласно гороскопу, кривая моей жизни начинает идти вверх.
Моя новая работа была очень простой. Я стал переписчиком годового отчета Ухтинской опытной сельскохозяйственной станции. Станция имела мощные кадры, но не имела пишущей машинки. Главной частью опытной станции было опытное поле, которым заведовал профессор Петр Павлович Зворыкин, «кожаный человек», который заметил меня на парниках. Заведующим опытной станции был недавно освободившийся Александр Петрович Дмитроченко, который спустя много лет стал академиком ВАСХНИЛа и Героем Соцтруда. Агрохимической лабораторией заведовал профессор Поляков, бактериологической лабораторией – профессор Костенко, а метеостанцией – профессор Мацейно. П.Я. Градов – бывший дьякон – был бригадиром, то есть начальником рабочих, обслуживающих опытную станцию, в том числе и взятых на временную работу переписчиков.
Переписывали в четырех экземплярах отчет три дамы. Я стал четвертым. Их фамилии мне ничего не говорили, и лишь потом я узнал, что пожилая полька, похожая на Крупскую, была женой Новицкого, известного революционера, члена советского польского правительства, возглавляемого Дзержинским во время войны в 1920 году; другая дама, Будзинская, была женой члена Бюро ЦК КП Белоруссии; третья – Зинаида Ричардовна Тетенборн – сотрудница Коллонтай, заведовавшая консульским отделом советских посольств в Норвегии и Швеции, а ее муж Мерен был членом коллегии Верховного Суда СССР. Все до ареста жили в Москве – в Доме правительства на набережной. Вот такие мои коллеги по переписке в старых стеганках, заплатанных ватных штанах и кордовых ботинках. Мужья у всех расстреляны, дети забраны в интернаты для детей врагов народа.
В первые же дни моей работы на опытной станции я попросил Градова разрешить унести несколько картофелин для своих бедных коллег – немца-колбасника и вице-министра, рассказав об их злоключениях и крайней ослабленности. Павел Яковлевич сказал, что это невозможно. Если у меня на проходной обнаружат картошку, а заключенных при возвращении в зону нередко обыскивали, то я должен буду объяснить, откуда взял. Если я скажу правду, то накажут и Градова, и Зворыкина. Если я скажу, что украл, то меня отправят на подконвойку и – прости опытная станция. Я огорчился. Тогда Градов сказал, что когда пойдет вечером на наряд, то сам пронесет картошку и передаст мне в зоне.
Я мечтал пронести четыре-пять картофелин, а добрейший Павел Яковлевич пронес килограмма два! Я с большим удовольствием вручил каждому из товарищей по пять-шесть крупных мытых вареных картофелин. Мы сели вчетвером в уголке на нарах. Они ели, я смотрел, и все радовались. Блудау сказал: «Gott sei dank!»[41], Сивков буркнул, что год не ел такой картошки, Григолия пожал мне руку, и его большие печальные глаза выразили признательность. На другой день Александра Ивановича Блудау назначили на мясокомбинат колбасным мастером, а Григолию послали в женскую бригаду штамповать торфонавозные горшки. Сивков еще с неделю маялся на разбивке навоза, потом его как опытного плотника взяли на строительство новой бани.
Я продолжал переписывать отчеты. Из-за некрасивого почерка мне поручили копировать таблицы и графики, а дамы трудились над текстами. В середине дня добрейший Павел Яковлевич приглашал нас в комнатку со снопами и кормил от пуза вареной картошкой и прекрасной квашеной капустой. Работы мы выполняли на 100 процентов и получали 600 граммов хлеба и обед по второй категории. Постепенно я отъедался, зима заканчивалась, шел апрель, но заканчивалась и переписка. «Что-то будет», – беспокоились мы.
Снятие с поста наркома внутренних дел кровавого карлика Ежова вызвало заметный подъем духа и воскрешение надежд, особенно у бывших членов ВКП(б). Не стало ежовых рукавиц! Очень многие считали, что великий вождь не знал, какие страшные дела творил шизофреник и наркоман Ежов, как он истреблял партийные кадры. Поэтому считалось, что в ближайшее время начнется массовый пересмотр дел, значение НКВД снизится, поскольку на пост наркома назначен малоизвестный и неавторитетный грузин Берия. Однако дамы-переписчицы проявили определенную сдержанность в оценке событий и не пришли в телячий восторг. Очевидно, их умудрила связь с верхними ярусами государственного и партийного аппаратов. Григолию назначение его земляка чрезвычайно удивило. Он помнил Л.П. Берию как малообразованного, но чрезвычайно коварного и жестокого работника грузинского ОГПУ, лично участвовавшего в массовых казнях в 1924 году, но вряд ли способного самостоятельно управлять столь важным наркоматом. Очевидно, это будут новые рукавицы на тех же руках, полагал мудрый вице-министр, имея в виду известную байку об ежовых рукавицах на руках Сталина.
В конце апреля Будзинская и Новицкая закончили свои экземпляры и ушли на общие работы, а Тетенборн, ранее закончившая третий, дорабатывала четвертый экземпляр. В середине мая и она закончила работу на опытной станции, а я дочерчивал последние графики, когда профессор Зворыкин предложил мне остаться на опытном поле в качестве постоянного рабочего. Радость моя была неописуема. Я даже запрыгал. Градов, растрогавшись, запел какую-то молитву и ушел, а профессор задумчиво сказал, что он тоже так прыгал в таком же возрасте, когда за окончание гимназии с медалью отец подарил ему верховую лошадь.
Моя работа на опытном поле состояла в основном в поддержании дорожек в образцовом состоянии. Их было много. Две главные дорожки шириной в два метра тянулись вдоль опытного поля на тысячу метров. Между ними была пятиметровая полоса, половину которой со стороны города занимали различные цветы, а на другой половине располагались маленькие селекционные делянки выводимых Зворыкиным сортов картофеля, гороха, бобов и других культур. От главных дорожек перпендикулярно к ним отходили дорожки шириной в метр, отделявшие большие поля, разделенные на делянки узкими дорожками.
Каждый день я обходил дорожки, сбивая тяпкой появившуюся траву, и прикатывал их тяжелым катком. Особенно много было работы после дождя, когда истоптанные рабочими размокшие дорожки надо было после просыхания выравнивать катками. Мне очень нравилось, что никто меня не торопил, не подгонял, и я старательно, но не через силу выполнял порученное мне дело. Физическая работа на свежем воздухе и достаточное питание укрепляли меня. Руки обросли мускулами, я загорел, работая в теплые дни без рубашки. В обеденный перерыв сразу же бежал купаться в реку Ухту, а после купания в просторной землянке уже была непременно картошка, квашеная капуста, а во вторую половину лета и зелень. Эту подпольную кормежку мы называли «градовские обеды». Среди немногих постоянных рабочих были две сектантки, и они по очереди готовили еду к обеду, по возможности разнообразя «меню». Научные сотрудники станции имели свою столовую и специальную повариху.
Во вторую половину лета опытное поле радовало глаз: большие и маленькие прямоугольники делянок всех оттенков зеленого цвета и яркая, пестрая полоса цветника. Между опытным полем и рекой – посадки смородины, крыжовника, ульи пасеки и две землянки: первая, где зимой хранятся ульи с пчелами, а летом живет пасечник, вторая, где рабочие укрываются от непогоды и обедают. Я в погожие дни любил отдыхать или в цветнике, где чередовались ряды циний, хризантем, душистого горошка всех оттенков, астр, ирисов, гладиолусов и других прекрасных цветов, или на реке Ухте, в ее быстрых и чистых водах.
Какое удовольствие я получал от купания, выразить невозможно. С раннего детства купание в реке было любимым занятием. Без купания я не признавал лета, и вот в силу обстоятельств после 1934 до 1939 года я был лишен этой радости. Теперь я наверстывал упущенное, купаясь в теплые дни по два раза: перед градовским обедом и после окончания работы.
В одно из таких купаний, когда я переплыл на другой берег, начался грозовой дождь, поднялся ветер, похолодало. Одежда моя была укрыта в пещерке на другом берегу под корнями громадной черемухи, и я решил переждать дождь в старом сарайчике ветеринарного карантина, куда во время эпизоотий[42] изолировали совхозный скот. Я встал у разбитого окна и смотрел на почерневшую реку, иссеченную крупными каплями вперемешку с градом. От резких порывов ветра сарайчик дрожал. Вдруг сквозь шум бури я услышал или почувствовал шаги за спиной. Ко мне подходила, расставив руки, с какой-то странной улыбкой красавица горянка, молодая жена расстрелянного наркома просвещения Дагестана. Я был совершенно голый, а она вместо того, чтобы отвернуться и убежать, приближалась ко мне, как ведьма к Хоме Бруту в «Вие». Я шарахнулся от нее в угол за какой-то ящик. «Юра, Юра, не бойся», – зашептала горянка. Мне показалось, что ее глаза светятся красным огнем, и я, вылетев из сарайчика, прямо с берега прыгнул в бурную Ухту. Под дождем я надел только трусы и побежал в спасительную землянку, где укрывшиеся от дождя рабочие дружно пели под управлением Градова:
Извела меня кручина, Подколодная змея. Догорай, гори, моя лучина, Догорю с тобой и я.Я писал домой успокоительные письма, вкладывал в конверт лепесточки цветов, чтобы дома думали: я нахожусь в райском саду. Мама уже несколько оправилась от удара, нанесенного ей моим вторым сроком. Первое письмо об этом она получила только в апреле из совхоза «Ухта», а до этого все ждала меня и не допускала мысли о моей смерти, хотя почти год не получала моих писем. Мама собиралась возобновить хлопоты и намекала, что происходят какие-то перемены в сторону либерализации после снятия Ежова и XVIII съезда ВКП(б) в марте 1939 года.
Слухи о возможном массовом пересмотре дел и освобождении все сильнее будоражили заключенных. Вечером после работы различные слухи анализировались, толковались газетные статьи, обсуждались полученные письма с воли. Наибольшим пессимистом среди моих знакомых был Григолия, который, как опытный юрист (все же вице-министр юстиции), считал, что сам факт пребывания Берии на посту руководителя госбезопасности является показателем неизменности политики массовых репрессий. Но этими печальными размышлениями бедный Григолия делился только со мной.
Однако многие бывшие общественные деятели сеяли семена надежды. Одним из таких был старый журналист по фамилии Франкфурт.
Знакомясь, он обычно спрашивал:
– Скажите, пожалуйста, сколько Франкфуртов вы знаете?
Получив в ответ: «Франкфурт-на-Майне и Франкфурт-на-Одере», старик радовался, его глазки, утонувшие в мешочках, так и светились лукавством, и он торжествующе заявлял:
– А есть еще Франкфурт! – И после интригующей паузы выпаливал в собеседника: – На Ухте!
И, придав своему обрюзгшему, покрытому седой щетиной лицу игривое выражение, добавлял:
– К вашим услугам.
Если его собеседник сразу же не смеялся, старик огорчался и терпеливо пояснял:
– Видите ли, моя фамилия – Франкфурт. А поскольку за зоной протекает Ухта, то сами понимаете: я Франкфурт на Ухте.
Франкфурт мечтал, что, когда ему снова доведется работать в газете, свои статьи он будет подписывать только так. Журналистский дух в нем еще сказывался. Он был пронырлив, чрезвычайно любопытен, изобретателен в толковании слухов.
Однажды дежурный по кухне поделился с Франкфуртом приятной новостью: в столовой завтра к обеду будет горчица. Появление такого деликатеса было удивительным, и Франкфурт сделал жизненно важные выводы: во-первых, похоже, что в лагерь прибывает комиссия из центра, во-вторых, очевидно, будет либо полная амнистия, либо массовый пересмотр всех дел. А некоторым он даже таинственно намекал, что это явный признак отставки… тут он многозначительно делал два круга перед глазами, намекая на пенсне любимого наркома Лаврентия Павловича Берии.
Большинство не верили ни в амнистию, ни в комиссию, ни тем более в появление горчицы.
Как же торжествовал Франкфурт, когда столовая открылась и на столе была горчица, придавая невероятную изысканность баланде. Почему же горчица? Терялись в догадках лагерные старожилы. Это было странно и даже несколько тревожно.
В первый же день появления горчицы Франкфурт проделал смелый эксперимент. Съев примерно две трети баланды, он подошел к раздаточному окну и прерывающимся от волнения голосом прошептал повару, протягивая котелок: «Товарищ повар, горчицу переложил, невозможно есть, нельзя ли развести». Повар молча долил котелок. Не веря своей удаче, Франкфурт отошел от окна какой-то танцующей походкой. Как будто он шел не в кордовых ботинках, а в бальных туфлях.
На другой день смелый эксперимент был успешно повторен. Повар из другой смены был участлив. Но на третий день все пошло прахом. Дежурный повар, не дослушав печальную историю, вырвал из рук Франкфурта котелок, выплеснул баланду и пророчески сказал, возвращая пустой котелок:
– Больше не переложишь!
– Вы знаете, – сказал вечером Франкфурт, – сегодня был черный день в моей жизни. Я потерял не только пол-обеда, но и веру в горчицу.
На следующий день горчица кончилась, и больше ее никогда не было, как не было ни комиссии, ни амнистии.
Шел уже второй год моего второго срока. Надо было заботиться о получении специальности. Ведь к его концу мне уже будет 23 года, и не могу же я сидеть на шее у родителей, пока не получу высшее образование. Надо приобрести «защитную» специальность, которая дала бы возможность в лагере избавиться от общих работ, а на свободе не только позволила бы обеспечить существование, но и создать условия для дальнейшей учебы в университете. Я нисколько не жалел, что в Соловках не стал учиться на медбрата или лекпома, а занимался преимущественно языками и гуманитарными науками. Изучение истории, литературы, общественных наук, географии весьма способствовало расширению кругозора, а знание немецкого языка и хотя бы поверхностное знакомство с другими иностранными языками тоже способствовало возрастанию культурного уровня. Теперь же надо думать о хлебе насущном и быстро приобрести специальность. Какую?
В конце лета я разговорился с профессором Александром Иосифовичем Мацейно, который иногда заходил на опытное поле полюбоваться цветником. Он поинтересовался, не было ли в Соловках ученых-метеорологов. Я сразу назвал профессора Вангенгейма. Александр Иосифович заохал, всполошился. Оказалось, что Мацейно арестован был по делу Вангенгейма – начальника Гидрометеорологического комитета при Совнаркоме, обвиненного в крушении стратостата «Осоавиахим» и других смертных грехах. С Вангенгеймом он встречался часто, хотя жил в Ленинграде и вел курс метеорологии в университете. Я рассказал о занятиях с Вангенгеймом по физике и математике, о работе в библиотеке. Сказал ему о стремлении приобрести защитную специальность.
Александр Иосифович сказал, что в Ухтижмлаге существуют курсы по подготовке технического персонала разных специальностей: геологов, коллекторов, лаборантов, а в этом году, возможно, будет поток техников-метеорологов, и я могу попытаться попасть на эти курсы, хотя обычно принимают только бытовиков, несмотря на то что все преподаватели-специалисты отбывают срок по 58-й статье. Он сам тоже преподает на этих курсах уже несколько лет. Александр Иосифович пригласил меня на метеостанцию, где он работал и жил с другим метеорологом, Николаем Александровичем Макеевым.
Дом метеостанции был одним из первых, построенных в Ухте. Низкий, бревенчатый, он имел пять маленьких комнатушек. В двух размещалась метеостанция и жили оба метеоролога, в других – бактериологическая лаборатория профессора Костенко. Мне очень понравились метеорологические приборы, установленные в будках на метеоплощадке, и запасные, поблескивающие никелем в шкафах. Меня приняли очень хорошо, заверили, что я буду доволен работой. Все зависело от приема на курсы.
Я подал заявление и скоренько получил ответ: «Отказать в приеме. Не подходит по статейным признакам». То есть если бы я был вор или хулиган, то был бы принят, а поскольку у меня вместо бытовой статьи КРД, то… оставь надежду!
В это время в мире произошли невероятные события. Вечером 24 августа 1939 года было сообщено, что 23 августа в Москве подписан советско-германский договор о ненападении. Впечатление было ошеломляющее. Комментировать, обсуждать это событие боялись не только заключенные, но и вольные. Когда через несколько дней была получена газета с запечатленным на снимке дружеским рукопожатием Риббентропа и Молотова в присутствии Сталина, реакция была уже заметной. Около газетного стенда разводил руками Франкфурт, в голос рыдала старая сотрудница немецкой секции Коминтерна, и улыбались счастливо Дора Гюнтер и ее мама. Они работали в немецком посольстве. Дора была горничной жены посла баронессы фон Дирксен, а ее мама – кастеляншей. Обе в 1934 году были осуждены ОСО по подозрению в шпионаже. Больше всех радовался старый Владимир Федорович Грундт. Он полагал, что всех немцев освободят или даже отправят в Райх.
Рассказывали, что в сангородке одна старая коммунистка, прочитав эту газету, после операции сорвала повязки ночью и выбросилась вниз головой из окна палаты. Она оставила письмо, где писала, что Сталин – агент Гитлера. Сначала он уничтожил испытанные партийные кадры и командный состав Красной Армии, а теперь заключил союз с Гитлером, чтобы начать вторую мировую войну.
Первого сентября немцы вступили в Польшу, началась мировая война, а 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу. Несколько немцев, бывших германских подданных, действительно освободили (очевидно, их затребовали из Райха), а немцы – советские подданные и эмигранты-антифашисты остались на прежнем положении в лагерях.
Сентябрь принес мне добрые вести. Пословица «свет не без добрых людей» оправдалась и на этот раз. Александр Иосифович рассказал о моем горе—отказе в приеме на курсы начальнику сектора подготовки кадров Гаврилину, бывшему заключенному, который до освобождения тоже преподавал на курсах. Тот посочувствовал и, сказав, что в лоб этот барьер не взять, рекомендовал обходной маневр. Суть этого маневра заключалась в следующем. Я должен самостоятельно подготовиться и явочным порядком сдать экзамены. В это время для меня будет благоприятная ситуация, так как курсанты – в основном молодые урки – идут на курсы, чтобы «кантоваться», то есть бездельничать, шесть месяцев или год в зависимости от продолжительности курсов. Экзамены они, как правило, сдать не могут. Руководство курсов за это порицают, следовательно, каждый сдавший экзамен – это манна небесная. На годичных курсах в группе техников-метеорологов из пяти учащихся уже отсеялось двое. В феврале будут экзамены. Предполагается, что выдержит их только один. Это скандал! Тут я подвернусь, и уже будет два сдавших, то есть 40 процентов, – хороший показатель, даже выше, чем по другим группам. Я воспрянул духом, получил программу, включающую 18 предметов, и принялся за занятия.
Программа была очень пестрая. Кроме основных предметов метеорологии, агрометеорологии, климатологии, гидрологии, гидрометрии в программу входили геодезия, геология, почвоведение, даже общая и почвенная микробиология. Да еще десять общеобразовательных предметов. Я поражался такому обилию изучаемых дисциплин, но мне объяснили, что малограмотные курсанты не знают основ математики, физики и других наук, без чего не могут понять основы специальных предметов. Экзамены по общеобразовательным предметам не сдаются. А вот по специальным – экзамены строгие. Но почему в специальные включили почвоведение, геологию и микробиологию, мне все же было непонятно. Оказывается, преподавателям этих дисциплин не хватало часов, и их включали во все программы.
Подготовка проходила вечерами после обеда. Часть заключенных уже укладывалась спать, часть усаживалась у стола играть в домино. На конце стола сидел я с книгами и тетрадями, а за столом кипели страсти игроков, и он сотрясался от мощных ударов костяшками домино. Когда игроки покидали поле боя, и устанавливалась тишина, я уже так уставал, что нередко засыпал над книгой и валился с табуретки. И так вечер за вечером. Соседи относились сочувственно, но боялись, что у меня будет истощение нервной системы, как научно выражался журналист Франкфурт, или зайдет ум за разум, по мнению белоруса Василевского – инструментальщика совхоза.
Накануне выходного я не занимался науками, а ходил в гости в женский барак, где находились интеллигентные пожилые женщины, осужденные по 58-й статье. Там образовался кружок из четырех дам: Ольги Николаевны Бартеневой, почти слепой в очках -15 диоптрий, изучившей глубины теософии, последовательницы Блаватской; Лидии Владимировны фон Лаур, преподавательницы иностранных языков из Пятигорска, княгини Белосельской-Белозерской и Зинаиды Ричардовны Тетенборн, переписывавшей весной вместе со мной годовой отчет опытной станции.
Каждая из этих дам была очень интересным человеком. 3.Р. Тетенборн работала вместе с А.М. Коллонтай в Норвегии и Швеции, заведуя консульской частью советского посольства. Ее предок, шведский генерал фон Тетенборн, был взят в плен под Полтавой и остался в России. Ее муж Мерен был тем офицером, которого главковерх Крыленко послал в 1917 году через линию фронта как первого уполномоченного по организации переговоров о мире в соответствии с декретом Ленина. В 30-е годы он был членом военной коллегии Верховного Суда. Расстрелян в 1938 году. Зинаида Ричардовна после реабилитации была похоронена на Новодевичьем кладбище.
Белосельская-Белозерская вышла замуж в эмиграции за крупного промышленника-финна. В 1934 году она каталась на яхте в районе Куоккалы, где была ее дача, недалеко от границы с СССР. В бинокль виднелся Исаакиевский собор, Кронштадт. Незаметно яхта оказалась в территориальных водах СССР и была захвачена. Финнов вскоре отпустили, а эмигрантку из княжеской фамилии отправили в лагерь по подозрению в шпионаже (пе-ша).
Бартенева происходила из революционной семьи. Ее бабушка была участницей Парижской коммуны и членом-учредителем Русской секции I Интернационала. Ее дед был крупным историком, основателем и редактором журнала «Русский архив». Сама Ольга Николаевна глубоко изучила теософию, индуизм, буддизм, джайнизм, была в Индии, где долгое время жила Блаватская, память которой чтили и Махатма Ганди, и Неру.
Лидия Владимировна Лаур была оригинальным мыслителем, хорошо знала философию, литературу и писала стихи. Я ее встречал еще на проклятой пересылке в Вогвоздино, где она чудом выжила, как она говорила, благодаря спартанскому воспитанию в детстве.
Все эти милые дамы, вполне достойные соловецкого общества, работали на парниках. Зимой штамповали торфонавозные горшочки для рассады, весной выращивали рассаду, потом овощи. Ползали среди парников, часами не разгибая спины, но сохранили интеллигентность, живой ум и любовь к изящным искусствам. Мне было с ними интересно, а им со мной.
Заседание нашего кружка начиналось после обеда часов в семь, когда дамы несколько отдохнут и наденут «вечерние туалеты», то есть вместо ватных брюк и телогреек оденутся в остатки домашних вещей. Обязательно кипятился чай «мусорин» (от слова мусор) – так Белосельская называла чайный напиток – суррогат, приготовленный из размолотой смеси сушеных гнилых фруктов, желудей и каких-то листьев. В процессе чаепития шла «светская» беседа, не затрагивавшая темы, читались стихи. Белосельская вполголоса пела. У нее было чудесное контральто. Иногда присоединялись и другие старушки. Про одну из них говорили, что она была любовницей гетмана Скоропадского, про другую – любовница маршала Пилсудского (она пела хриплым, но приятным голосом польские и итальянские песенки). В десять часов вечера били в рельс – сигнал отбоя, и я с огорчением покидал милых дам, седые волосы которых напоминали напудренные парики времен последних Людовиков.
Кое-кто надо мной посмеивался, что я посещаю старушек, когда в других бараках полно «девок». Но эта категория лагерных женщин – воровок, проституток, спекулянток – для меня не существовала. Я бы мог влюбиться бездумно, самоотверженно, но в идеальную девушку, одухотворенно утонченную, умную, романтическую, прекрасную. Но увы! Таких не было, а физическая близость с грязной теткой с залеченным сифилисом или триппером у меня вызывала отвращение. Интеллигентные старые дамы мне доставляли радость для души. Один злой человек и большой циник, видавший заседания нашего кружка, но не приглашаемый на них, написал мне такой стишок:
И в тусклом свете электричества Наш юный и жантильный друг Играет роль его величества Среди сиятельных старух. Им мнится не барак обшарпанный — По крайней мере бальный зал! И дамы в стеганках замаранных Играют в пудреный Версаль.В конце ноября 1939 года мы были потрясены сногсшибательным известием: Финляндия напала на СССР! Началась война! В совхозе было всего два старых финна-плотника. Их сразу же перевели в подконвойную бригаду на тяжелые работы. Бедняги не могли понять, как их маленькая страна решилась напасть на соседа-гиганта. Журналист Франкфурт, потешая публику в столовой, интервьюировал финнов:
– Зачем вы на нас напали? Хотите захватить наш Север до Урала?
– Зачем нам ваш Урал, ваш Север? – горько отвечали финны.
– Как вы решились напасть? У вас по всей стране народу меньше, чем у нас в одном Ленинграде!
– Не понимаем. Мы все боялись, что вы на нас нападете, – таращили финны тусклые голубые глаза, а Франкфурт не унимался и довел финнов до слез.
– Я понимаю, – сказал веселый грузин Саша Джикидзе. – Они захотели завоевать нашу Грузию, нашу солнечную Грузию. У них виноград не растет. Через неделю мы будем у них в Хельсинки шашлыки в сейме жарить.
Однако прошла неделя, прошел месяц, а войне не видно было конца. Красная Армия почти не продвигалась. Очевидно, финны оборонялись с удивительным упорством.
Перед Новым годом меня познакомили с симпатичной дамой из Грузии – Ириной Каллистратовной Гогуа. Она была племянницей Авеля Енукидзе, расстрелянного в 1937 году, соратника Сталина, и подругой второй жены Сталина Надежды Сергеевны Аллилуевой, которая застрелилась в 1932 году. Ирина сидела несколько лет в политизоляторе, потом ее отправили в лагерь. Она, как и мои дамы, зимой штамповала торфонавозные горшочки в той же бригаде, где единственным мужчиной был вице-министр меньшевик Григолия. Бедный Лонгинос Эрастович был весьма неравнодушен к Ирине и упоминал ее имя с тоской во взоре. Однажды он сказал, что положение Ирины очень опасное. Сталин пересажал всех родственников и друзей первой жены Екатерины Сванидзе и принялся за родственников и подруг второй жены. Он уничтожает всех, кто «много знает», а Ирина Гогуа, конечно, знала много.
Новый, 1940 год я решил встречать до отбоя с дамами, заранее им объявив, что принесу елочку. Дамы стали готовить украшения. Фон Лаур прекрасно лепила из хлеба различные фигурки: снегурочек, ангелочков, птичек, зверюшек. Белосельская раскрашивала их, а птичкам делала крылышки из ярких тряпочек. Ангелочкам крылышки делали из накрахмаленных остатков газового шарфика. Крылышки получались нежные, трепещущие, прозрачные. У пчеловода я попросил кусочек воска для семи маленьких свечек. Елочка получилась такая нарядная, что доставила радость всему бараку, а мы пили чай «мусорин» и провозглашали тосты.
Новогодний вечер превращался в вечер интересных воспоминаний. Одна из дам (в 20-е годы активный работник ЦК ВЛКСМ), подошедшая полюбоваться елочкой, рассказала забавную историю о создании «Марша пионеров». Поэту Александру Жарову ЦК ВЛКСМ поручил в течение трех дней написать слова марша пионеров, а композитору Кайдан-Дежкину – музыку. Три дня прошли, задание не было выполнено. Жаров попытался представить какие-то стихи о пионерах, но их признали не маршевыми. У Кайдана положение было еще хуже – ничего не сочинил. Их строго предупредили и велели представить марш на следующий день. Композитор и поэт вышли из ЦК совершенно подавленные. Тут-то им и встретилась Фира и, узнав о нависшей беде, предложила «развеяться». У нее были билеты на «Фауста». После «Фауста» оголодали и пошли к Жарову подкрепиться. Там Фиру осенило.
– Ребята, не морочьте себе голову. Музыка уже есть! – И она напела и пробарабанила по столу марш из «Фауста».
– Ох, узнают! Скандал будет! – забоялся композитор
– Бекицер[43], сказала Фира. – Чтобы узнать, надо знать.
Довод был неотразим. Фира знала, что до таких «интеллигентских тонкостей», как знание оперы Гуно, комсомольские руководители еще не дошли. Под этот бодрый марш у поэта пошли слова: «Мы пионеры, дети рабочих». Начало было хорошее. Но с чем рифмовать «рабочих»: мочи, очи, ночи?..
– Может быть, так: «будем учиться с утра и до ночи»?
– А где пионерская романтика? Костер? Походы? – отклонила занудную строчку Фира.
– Ура! – закричал Жаров. – Нашел!
И он прочитал, отбивая такт марша Гуно.
Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы пионеры, дети рабочих.Дело закипело, и к утру марш был готов. Утром бледные, умученные творчеством композитор и поэт рапортовали секретарю ЦК ВЛКСМ о выполнении задания. Нераскрытый плагиат был принят на «ура», и с тех пор миллионы юных пионеров лихо поют свой марш на мотив, близкий к солдатскому маршу из оперы Гуно «Фауст».
Зима была морозная. Я обеспечивал дровами опытную станцию и целый день пилил и колол. Такова моя зимняя работа. Я продолжал днем наращивать мускулы, а вечерами забивал в голову информацию по «защитной» специальности. Надо было торопиться – экзамены назначены на 1 и 2 февраля. Экзамены для меня не были трудными, и по всем предметам я сдал на «отлично». Они меня глубоко разочаровали. В помещении музея ЦНИГЛ (центральная научно-исследовательская геологическая лаборатория) за столом, покрытым красным, сидела комиссия: начальник сектора массово-технического обучения Гаврилин, инспектор по учебной части инженер Растрепин и несколько профессоров, в том числе и профессора Мацейно, Костенко и Поляков с опытной станции. Экзаменовали меня последним, спросив, смогу ли я отвечать без подготовки. Я согласился. Первые вопросы задал профессор Мацейно по метеорологии и климатологии, а потом меня спрашивали и по гидрологическому циклу, и по агрометеорологии, и почвоведению, и другим дисциплинам. Я бодро отвечал на все довольно примитивные вопросы, и примерно минут через сорок перекрестного огня мне объявили, что я все экзамены сдал на «отлично». Я был удивлен такой формой экзаменов, но оказалось, что ко мне была применена «жесткая» форма – без подготовки. Уркам эти примитивные вопросы задавались в письменной форме и давали час или два на подготовку по каждому предмету. Поэтому они сдавали экзамены в течение двух дней, и большинство из них провалилось, а я, отделавшись за сорок минут и получив «отлично», вместо радости чувствовал неудовлетворенность.
Через неделю я получил красиво оформленное удостоверение с печатями и подписями, где были перечислены все сданные предметы, поставлена оценка «отлично» и указано, что мне присвоена квалификация техника-гидрометеоролога. В учетно-распределительный отдел (УРО) управления Ухтижмлага было направлено письмо об использовании меня по специальности. Одновременно от опытной станции в УРО был послан запрос направить меня техником на метеостанцию при опытной станции. Оставалось ждать распоряжения УРО.
В начале марта я был назначен техником на метеостанцию. Эта должность давала пропуск на выход за зону и премвознаграждение – 18 рублей в месяц (профессор Мацейно получал 45 рублей). Гороскоп, составленный в 1936 году, оправдывался. Предсказанный тяжелый период, когда я на стыке 1938 и 1939 годов умирал от пеллагры, оправдался, как и рост кривой благополучия после вогвоздинской пересылки, который был неуклонным.
К сожалению, я еще не был переведен на ИТРовский паек и не обедал в столовой опытной станции. Но мне обещали это благо с 1 апреля. Я подробно написал домой о своих успехах и сообщил, чтобы мне больше не посылали посылок. Меня беспокоило, что маму это затрудняет. Папа писал, что она прихварывает.
Александр Иванович Блудау, освоившись на мясокомбинате, несколько раз передавал мне то кусочек сала, то колбасы. Узнав о моих успехах, он передал целый круг копченой колбасы, и я имел удовольствие угостить таким деликатесом своих новых коллег на метеостанции во время торжественного чаепития в честь появления нового сотрудника.
Работать на метеостанции было очень приятно. Метеорологи были добросердечные, тактичные люди. Профессор Александр Иосифович Мацейно располагал с первого взгляда доброй улыбкой, его помощник Николай Александрович Макеев выглядел, наоборот, свирепо. Под кустистыми седыми бровями сквозь чеховское пенсне сверкали сердитые маленькие глазки, голову венчала густейшая седая шевелюра. Был он высок, худ и говорил басом. Входя в помещение, он рявкал: «Подаю голос!» Он сидел с 1930 года и осенью 1940 года заканчивал срок наказания по обвинению в подготовке вооруженного восстания.
Николай Александрович был коренной ташкентец, а Александр Иосифович – коренной петербуржец. Это в значительной мере определяло разницу в их поведении. Даже ручки дамам они целовали по-разному: Макеев как-то по-гусарски, профессор Мацейно – с оттенком глубокого почитания. Макеев говорил довольно громко, рублеными фразами и сильно жестикулировал; Мацейно говорил тихо, но четко, иногда поправляя очки – единственный жест, который он допускал. Оба они не терпели хамства, вранья и воровства, но Макеев мог проявлять это резко, а Мацейно обычно презрением.
Как-то Александр Иосифович рассказал мне об одном эпизоде времен послереволюционной разрухи и голода в Петрограде. Зимой 1918/19 года было очень морозно. В квартирах едва поддерживалась положительная температура печками-буржуйками, в которых сжигали мебель, паркет и т. п. Однажды сын Александра Иосифовича, которого, как и меня, звали Юрой, пошел погулять на улицу и долго не возвращался. Родители беспокоились. Наконец Юра появился сияющий, задыхающийся. Он принес охапку дров! Где-то неподалеку народ разбирал на дрова чей-то деревянный дом. Тут же бревна распиливали, и кто уносил, кто увозил на саночках. Юра и Митя Шостакович (товарищ Юры, будущий композитор) схватили балясины от перил веранды. Александр Иосифович не был обрадован этим драгоценным даром. Наоборот, он повысил голос и приказал сыну отнести дрова обратно и положить на то же место. Он сказал тогда сыну: «Лучше умереть с голоду и холоду, чем взять то, что тебе не принадлежит». Вот в этом – суть этики профессора Мацейно. Юра отнес дрова обратно, а у Мити Шостаковича родные приняли дрова. Сын Александра Иосифовича после ареста отца был отчислен из Ленинградского мореходного училища, после уехал в Мурманск, и с тех пор писем от него не приходило.
В конце марта я получил первое самостоятельное задание по приобретенной специальности. В окрестностях Ухты проектировалось строительство большого аэродрома. Нам было поручено исследовать ветровой режим в месте строительства, определить мощность снежного покрова, установить различия в температуре воздуха между намеченной площадкой и нашей метеостанцией. Всю работу поручили мне. Я ехал в командировку на месяц в лес!
Моя резиденция в смолокурне, а смолокурня в лесу, в четырех километрах от лагпункта Ветлосян, где подлечиваются «доходяги». Построена смолокурня у большой ровной поляны, которая отойдет под аэродром. Кругом поляны настоящая тайга и полная до звона в ушах тишина. Смолокур – человек молчаливый и печальный, бывший главный инженер крупного завода. Принял он меня любезно, поставил топчан у окошечка. Я привез приборы, лыжи, постель, посуду, сухой паек на пять дней. На следующие пятидневки паек буду получать на Ветлосяне и там же в комендатуре отмечаться, что не убежал. Следовательно, 24 дня я не буду видеть ни вышки со стрелками, ни зону, а буду среди леса на природе.
Первый рабочий день. В 7 часов утра выбегаю из смолокурни, вдыхаю чистый морозный воздух, обтираюсь по пояс чистейшим снегом. Красота какая! Заканчиваю утренний туалет в избушке, готовлю завтрак, пью чай из трав, заваренный смолокуром. Настроение отличное. Надеваю лыжи, выезжаю на поляну, измеряю температуру воздуха, скорость и направление ветра, высоту снежного покрова. В 8 часов измеряю психрометром температуру воздуха: – 22°, анемометром – скорость ветра: полный штиль. Иду до триангуляционной вышки. Поднимаюсь на высоту 25 метров. Обзор отличный: со всех сторон до горизонта – тайга, только в стороне Ухты видны столбы дыма от ТЭС и заводов. Надо на вышке успеть до 12 часов установить флюгер, чтобы определить скорость и направление ветра над лесом. К 12 часам все готово. Измеряю температуру воздуха, скорость ветра на вышке и на поляне. После обеда делаю снегосъемку, измеряю высоту и плотность снега по намеченному маршруту на поляне и в лесу. Высота снежного покрова везде больше метра. В 16 часов измерение температуры и скорости ветра. И так каждый день, только снегосъемка проводится один раз в пять дней.
Вечером ведем со смолокуром неторопливую беседу. Он рассказывает о Ветлосяне и его достопримечательных заключенных, я – о Соловках. В числе знатных ветлосянцев он называет жену соратника Ленина, члена Политбюро, наркома РКИ Рудзутака. Ее зовут Эльга, она работает медсестрой. Называет Марию Михайловну Иоффе – жену участника делегации, заключившей Брестский мир, потом посла в Германии, Японии. Называет комкора Тодорского – начальника Главного управления высших учебных заведений Красной Армии, то есть всех военных академий; о нем с большим уважением отзывался Ленин. Называет много других известных фамилий.
В первые пять дней я с огромным удовольствием изучал метеорологический режим этой лесной поляны. Бродил по лесу на лыжах, иногда разводил костер, а в ясные дни поднимался на триангуляционную вышку.
Простор, ощущение свободы. Складывались стихи:
Раздолье! Ни вышек, ни зоны, И лес, словно замерший храм…Или:
Нас окружает тьма, мой друг, Завешен свод небес. Куда ни кинешь взгляд, вокруг Угрюмый стынет лес. Он мириады страшных лап С угрозой ввысь простер, В честь дружбы, что судьба сплела, Разложим мы костер…Здесь же я написал стихотворение о предэтапных днях в Соловках осенью 1937 года, которое уже приводил в первой части.
Первый выход в Ветлосян был очень интересным. Во-первых, я пошел в сушилку – ремонтную мастерскую, чтобы починить рукавицы. Там было тепло и крепко пахло сохнущими валенками. За низеньким столом сидел заведующий этого заведения, плотный краснолицый старик, который и оказался комкором Тодорским. Еще один старичок подшивал валенки, третий – одноглазый – починял рукавицы. Я спросил, можно ли сдать в починку рукавицы и нужно ли брать ордер в части снабжения. На вопрос заведующего: «Кто я и откуда?» – был дан подробный ответ о моем временном прикреплении к Ветлосяну для исследования метеорежима в месте строительства аэродрома. Тодорский разрешил починку рукавиц и стал меня расспрашивать далее. Когда он узнал о моем соловецком сидении, то послал одноглазого в кубовую, и минут через десять в сушилку вошел Лев Андреевич Флоринский, мой старый соловецкий знакомый и великий книголюб. Я его узнал сразу, а он сначала недоуменно посмотрел на меня, потом просиял (у него была чудесная улыбка) и закричал: «Юра!» Тодорский с удовольствием смотрел на нас.
Флоринский перед окончанием своего пятилетнего срока в 1937 году был вывезен в июле на материк первым этапом (человек 70—80), когда я еще был в КОНе, и там ему вскоре объявили второй срок. Он тоже долго добирался до Ухты, работал на асфальтитовом руднике и, совершенно обессиленный, попал на Ветлосян, где уже был около года. До ареста в 1932 году Лев Андреевич учился в Ленинградском политехническом институте. Он был хорошо образован и воспитан с детства в духе русских интеллигентских традиций. Его отец до революции был начальником пермского почтово-телеграфного округа, потом министром связи у «Верховного правителя».
В последующие мой появления на Ветлосяне я каждый раз встречался с Флоринским, и мы не могли наговориться, вспоминая Соловки, соловчан. Однажды он познакомил меня с Эльгой, женой Яна Рудзутака, очень красивой и довольно молодой норвежкой. Она работала медсестрой, была улыбчивой и бодрой. Рудзутака Ленин намечал на пост генсека ЦК ВКП(б), вместо Сталина, и лишь болезнь помешала ему осуществить эту замену, но в завещании Ленин об этом упомянул так же, как и о назначении Рыкова на пост предсовнаркома, который Рыков занимал после смерти Ленина до 1930 года[44]. Сталин рассчитался и с тем и с другим. В 1938 году они были расстреляны. Лев познакомил меня также с Марией Михайловной Иоффе, женой ближайшего помощника Троцкого по Наркоминделу. Она тоже работала медсестрой.
В последнее посещение Ветлосяна я зашел в сушилку к Тодорскому. Он был один и, едва взглянув на меня, мрачно сказал, что немцы оккупировали Данию и высадили большие десанты в Норвегии. Эта новость была утром передана по радио. Я еще не видел Александра Ивановича столь расстроенным. Приглушенным голосом он стал говорить о неизбежности войны с Германией и неподготовленности высшего командного состава Красной Армии, очень ослабленного после репрессий 1937—1938 годов. И тут он рассказал, как его арестовали и выбивали «признание» в участии вместе с Тухачевским в заговорщической деятельности, в подрыве обороноспособности страны, подготовке покушения на Сталина и т. п.
Тодорский с болью вспоминал, что он лишь на допросах понял, как создавались обвинения и как убеленные сединами полководцы под пытками выдавали и себя, и своих сослуживцев, и друзей, а потом об этом докладывалось Сталину, и тот требовал новых арестов. Александр Иванович решил вытерпеть все, чтобы не опорочить себя и других в глазах Сталина. И когда его били отрезками кабеля по спине, по пяткам, животу, он про себя шептал: «Сталин, Сталин», теряя сознание. Его так избили, что пришлось отправить в тюремный госпиталь.
После подлечивания в госпитале все началось сначала. У него опять выбивали «признание», но он терпел. Терпел ради партии: он коммунист и должен вытерпеть, чтобы его выдержка помогла понять Ежову и Сталину, что такими методами они искусственно создают страшное по своим последствиям неверие в преданность испытанных военных и партийных кадров. Его уже допрашивали без перерыва третий день. И когда стало совсем невыносимо, он, представляя себе, какая ужасная участь ожидает его дочь, если его осудят как врага народа, терпел ради дочери, пока не потерял сознание. Его избили до состояния клинической смерти.
Снова госпиталь. На этот раз его держали там довольно долго. У него отбили почки, и он мочился кровью. Первый допрос после лазарета был необычным. Другой следователь обращался на «вы», называя по имени и отчеству, не кричал, а беседовал, удивлялся выдержке, предложил чай. Тодорский размяк и неожиданно заплакал. Следователь деликатно молчал. Тогда Александр Иванович рассказал, как он вытерпел все пытки сначала ради Сталина, партии и, наконец, дочери. И тут следователь тихо сказал: «Вот ты и попался, сволочь, значит, тебе дочь дороже Сталина и партии». Вошли палачи, и следователь объявил, что теперь его забьют насмерть, если он не подпишет «признание». Комкор был сломлен и подписал. Но пик репрессий уже прошел, и его не расстреляли, а дали всего 15 лет. Жену и дочь как членов семьи врага народа отправили в лагеря на пять лет. Переписки с ними ему не разрешали. После реабилитации Тодорский установил, что во время репрессий 1936—1939 годов было уничтожено 84 процента высшего командного состава – генералов – и 88 процентов полковников.
На меня рассказ Тодорского произвел сильное впечатление, и я шел к выходу из зоны, настолько задумавшись о трагической судьбе комкора, что буквально натолкнулся на Богдана Ильича Ясенецкого, моего доброго знакомого по вогвоздинской пересылке – ВОПЛю. Добрый старик даже заплакал от радости, а когда я рассказал о приобретении «защитной» специальности, он всплакнул вторично. Его увезли из Вогвоздино в начале весны с немногими уцелевшими стариками. Попал он сразу на Ветлосян, долго был в лазарете, потом стал сторожем. Богдан Ильич очень заинтересовался опытной сельскохозяйственной станцией. Он как-то молодцевато «сверкнул очами» из-под нависших седых бровей, когда я рассказал о профессорском составе, но затем тяжело вздохнул как о несбыточной мечте. Мы условились, что при возможности будем пересылать записочки.
Через несколько дней за мной прислали санки и стрелка, и я с сожалением покинул смолокурню и иллюзию свободы. Началось снеготаяние, началась весна, началась работа по интересной специальности.
Весна прошла очень быстро. Было много работы и много грандиозных событий, что очень убыстряло темп нашей жизни. 10 мая началось немецкое наступление на Западном фронте, в течение месяца были оккупированы Голландия и Бельгия, разгромлены англо-французские армии. 14 июня немцы вошли в Париж. Наши газеты подсмеивались над незадачливыми вояками.
В июле в Ухте наступили очень теплые дни. На опытном поле все зеленело, а на цветочной полосе уже цвели ранние ирисы и тюльпаны. Я, успешно сдав материалы к проекту аэропорта, осваивал работу на метеостанции, проводил агрометеорологические наблюдения на опытном поле. Положение мое по сравнению с прошлыми годами было отличным. Хотя я еще жил в зоне, но имел пропуск с 6 часов утра до 9 часов вечера и фактически только спал в зоне, а все остальное время проводил или на метеостанции, или на опытном поле. Мне дали паек ИТР, и столовался я на опытной станции, где была хорошая повариха. Обо всем этом я с удовольствием писал домой.
Одно обстоятельство, однако, тревожило нас. Весной работу Ухтижмлага проверяла московская комиссия во главе с комиссаром госбезопасности заместителем начальника ГУЛАГа Бурдаковым. Комиссия разгромила руководство комбината. Много начальников разного ранга были сняты с постов, в том числе и начальник управления. Говорили, что Бурдаков многих арестовывал и при этом собственноручно срезал петлицы и ордена. В ряде лагпунктов, в том числе и образцовом ОЛП № 1, дислоцированном в Ухте, ужесточился режим. И вот в начале июля этот грозный комиссар Бурдаков вернулся в Ухту в качестве начальника управления Ухтижмлага, оставаясь заместителем начальника ГУЛАГа. Поэтому многие начальники, особенно из бывших заключенных, беспокоились за свою судьбу. Беспокоился и профессор Зворыкин, освободившийся весной и назначенный начальником опытной станции. Беспокоились и заключенные итээровцы с «тяжелыми» статьями. Я тоже беспокоился и молил бога, чтобы хоть это теплое лето прошло без репрессий.
Мне было так хорошо на станции. В эти летние погожие дни я даже, приходя на работу, переодевался в «вольную» одежду. Я купил к лету белые парусиновые туфли, белые брюки, несколько рубашек, галстук.
К этому времени в Ухтижмлаг этапировали много поляков из восточной половины Польши, освобожденной Красной Армией. Они привезли много вещей и продавали или меняли их. Я с удовольствием надевал эти обновки на станции. Особенно меня радовал голубой вязаный галстук, потому что галстуки носить заключенным строго воспрещалось. Если кто-либо в зоне в выходной день появлялся при галстуке, на него коршуном налетал комендант Попов и, хватая за галстук, кричал: «Кто козяин? Ты козяин или я козяин? Сымай галстук!» Так вот из духа противоречия я иногда, находясь за пределами зоны, надевал вольную одежду и даже криминальный галстук. Хотя профессор Мацейно очень боялся такого вольнодумства.
Как в тот июльский день светило солнце! Крым, а не Ухта! Я нарядился в белые одежды, повязал голубой галстук и отправился к назначенному сроку на опытное поле измерять температуру почвы на делянках, где профессор Зворыкин выращивал новые скороспелые сорта картофеля. Как говорил Александр Иосифович, смотревший мне вслед, я, идя по тропинке, пел и подпрыгивал. На делянках, где стояли комплекты термометров, я преклонил колени и стал записывать температуру почвы на поверхности и глубинах.
– Что это вы делаете? – раздался надо мной грубый голос.
Я обернулся и увидел высокого, толстого начальника в распахнутом кожаном пальто и красно-синей фуражке. На петлицах краснели ромбы. Сзади стояло человек десять свиты, в том числе и знавший меня начальник сельхозотдела Голтвин. На дороге за изгородью сверкали черным лаком автомобили. Сомнений не было. Опытное поле посетил грозный начальник управления комиссар госбезопасности Бурдаков.
Я поднялся и довольно складно объяснил, что измеряю температуру почвы, чтобы знать потребность в тепле новых скороспелых сортов картофеля. Начальник кивнул головой и продолжал спрашивать:
– Кем вы работаете?
– Техником-агрометеорологом.
– Нравится работа?
– Очень!
Начальник милостиво улыбнулся.
– Сбегать не собираетесь? (Он принял меня за вольнонаемного, присланного по распределению после окончания учебы.)
– Нет.
– Что вы закончили?
– Курсы техников при секторе подготовки кадров Ухтижмлага.
– Так вы заключенный? Статья? Срок? С какого года?
– С 1935, с пятнадцати лет, статья КРД, три года, в 38-м году второй срок пять лет.
Начальник управления резко отвернулся от меня к подбежавшему в это время профессору Зворыкину.
– Что у вас за балахон, профессор? Где же ваш галстук?
– Виноват, товарищ начальник, это толстовка.
– Ну, показывайте ваше хозяйство. Об этом опыте я уже слышал.
Бурдаков широко зашагал, Зворыкин засеменил сбоку, что-то рассказывая, свита ушла следом. Я почти превратился в соляной столп и некоторое время не двигался. Потом медленно пошел на метеостанцию. Мои старшие коллеги пришли в ужас.
– Подконвойка обеспечена, дорогой Юрочка! – зло сказал Макеев.
– Может быть, Петр Павлович что-нибудь смягчит, – говорил в смятении профессор Мацейно, – он же сейчас вольный.
– Смягчит, дожидайся, у него, наверное, в штанах полно! – грубо парировал Макеев, не любивший Зворыкина.
Часа через два зазвонил телефон, меня вызывал Петр Павлович. Я пришел на опытное поле уже в лагерной одежде и кирзовых сапогах. Зворыкин окинул меня веселым взглядом и сказал, что надеется на мое благоразумие в дальнейшем, а пока как будто все окончилось благополучно. Высокое начальство осталось довольным. Никаких указаний обо мне не последовало.
В июле Красная Армия вступила в Бессарабию, Буковину, затем в прибалтийские государства. В начале августа Литва, Латвия и Эстония были приняты в состав СССР, создана Молдавская ССР. Лагерные остряки предсказывали скорое появление прибалтов и молдаван на ухтинской земле, а руководитель художественной самодеятельности Ухтасовхоза уже предвкушал постановку в совхозном клубе народных танцев силами будущих заключенных из новых республик. Особенно восторженно к этим событиям отнесся старенький сторож, бывший полковник царской армии. «Собирает Сталин Российскую империю. Почти все земли присоединил. Вот еще бы великое княжество Финляндское вернуть», – твердил он, сверкая левым глазом. Правый у него выбили на допросе в 1937 году.
В то лето мне удалось несколько раз побывать в Ухтинском театре. В это помпезное здание с многоколонным портиком я проникал через вход для актеров, передавая букет цветов с опытного поля. Меня встречали очень приветливо, благодарили за цветы и после третьего звонка, когда гас свет, провожали в актерскую ложу. Перед антрактом я исчезал, а с темнотой появлялся вновь и досматривал спектакли до конца.
Труппа состояла из заключенных артистов. Хотя не было здесь таких знаменитостей, как Курбас, но все же с большим успехом выступали Названов (потом известный артист кино, игравший в фильмах «Жди меня», «Иван Грозный» – Курбский, «Русский вопрос», «Встреча на Эльбе», «Битва в пути», «Гамлет» и др.); Эггерт – режиссер и актер, хорошо знакомый по фильму «Медвежья свадьба»; характерный артист Гроздов, артистки Радунская, Геликонская, Корнева, известный виолончелист Крейн – лауреат конкурса в Брюсселе и многие другие хорошие артисты.
Первый спектакль, увиденный мной, был «Без вины виноватые». Названов очень хорошо играл Незнамова, Геликонская – Кручинину.
Репертуар был очень пестрый. Ставили Островского, Корнейчука, Афиногенова, даже оперетту «Жрица огня» эмигранта Валентинова.
В августе в Ухту прибыла экспедиция Гидропроекта для подготовки проекта водоснабжения города Ухты и промышленных комплексов на территории Ухтижмлага. Начальник экспедиции Ольга Григорьевна, весьма пробивная дама средних лет, установила хорошие контакты с руководителями управления и успешно обследовала водные ресурсы региона. Посетила она и метеостанцию. Александр Иосифович был очарован ее тактичностью, деловитостью. Она многократно употребляла обращение «профессор», что очень нравилось Мацейно. Действительно, это звучит приятнее, чем «зэк».
Ознакомясь с нашими материалами по метеорежиму Ухты, Ольга Григорьевна предложила организовать при метеостанции гидрологическую группу для изучения режима реки Ухты, а также ряда других рек, протекающих по территории Ухтижмлага. Мацейно и Макеев решительно отказались, но я, узрев возможность расширить свободу передвижения и возможность помочь хорошим людям, стал горячо поддерживать это предложение. Ольга Григорьевна предложила: пусть Юрий Иванович как самый молодой будет организатором, а профессор Мацейно—авторитетным руководителем. Она же добьется расширения штатов, повышения окладов, круглосуточных пропусков и других благ и посодействует превращению скромной метеостанции при опытной станции в самостоятельное подразделение. И тут же эта деловая женщина предложила составить проект программы работ, смету, проект штатного расписания с указанием персон, назначаемых на эти должности.
Остаток дня мы составляли проекты. Я предложил назвать наше будущее подразделение гидрометслужбой Ухтижмлага, а Александра Иосифовича именовать – ответственный руководитель гидрометслужбы. Старику очень понравился этот звучный титул. Исходя из примерного задания, предполагалось открыть пять гидрометрических постов на реке Ухте, один пост на реке Ижме, в которую впадает Ухта, и т. п. Планировались ежегодно две экспедиции по рекам в июле – августе. Под это предполагалось дополнить штаты, включив:
1. профессора Ясенецкого Богдана Ильича – агрометеорологом,
2. Флоринского Льва Андреевича – техником-гидрологом,
3. Смирнова – техником-гидрологом.
Этих троих я хотел вытащить из лагпунктов в человеческие условия. Об Ясенецком и Флоринском я уже рассказывал, а Смирнов – бывший учитель географии и директор школы – был добрейший человек. Долговязый, худой, в круглых очках, он походил на Гулливера. Кроме этих «живых» кандидатов, я включил в штат еще инженера-гидролога, двух рабочих и наблюдателей на отдаленных постах. Кроме того, в совхозе на реке Седью – организацию гидрометстанции. Этот штат должен был вести наблюдения за режимом рек, отбирать пробы воды на химический и бактериологический анализ и т. п.
На другой день Ольга Григорьевна и ее помощники обсудили проект, внесли некоторые изменения и дополнения в программу, и даже был составлен проект приказа по управлению об организации гидрометслужбы с указанием о срочном переводе упомянутых заключенных, к которым Ольга Григорьевна добавила еще Мильтиада Ивановича Пастианиди на должность инженера-гидролога. Я стал старшим техником с окладом 25 рублей. Александр Иосифович получил за столь высокую должность 60 рублей – потолок жалованья для зэка.
Ольга Григорьевна очень быстро добилась утверждения сметы, программы и штатов. В процессе пробивания она несколько раз брала меня с материалами в управление, и я удостоился чести давать пояснения начальнику планового отдела, отдела техснабжения и даже быть на приеме у главного инженера – заместителя Бурдакова. Мне очень нравилась организационная деятельность, а Александра Иосифовича это избавляло от волнений.
В начале сентября приказ был подписан, и в один прекрасный день в совхоз «Ухта» прибыли Ясенецкий и Флоринский. Через несколько дней они и Смирнов получили пропуска и явились к ответственному руководителю – профессору Мацейно. Радость моя была безгранична. Вскоре им оформили итээровские пайки и прикрепили к нашей столовой. Появился наконец черный верткий грек Пастианиди. Гидрометслужба начала работать. Начались наблюдения за уровнем и определение расхода воды реки Ухты.
К началу заморозков развернулись микроклиматические наблюдения над температурой почвы на различных почвах и формах рельефа в целях изучения интенсивности заморозков. Пункты наблюдений были разбросаны по полям опытной станции, а дороги в сентябре уже были грязными. В целях рационализации я раздобыл на этот период в совхозе верховую лошадку и с удовольствием раз в день объезжал участки, отсчитывая максимум и минимум температуры поверхности почвы.
В один из последних дней сентября, заканчивая объезд участков, я подъехал к производственному массиву опытной станции у торфяника. На поле копошились, выбирая картошку из оттаявшей после заморозка почвы, десятка три поляков. День был холодный, ветреный, сеял мелкий дождь. Сердце сжималось при виде этих несчастных, плохо одетых, мокрых людей. Они были совершенно не приспособлены к таким работам – все эти адвокаты, врачи, учителя, журналисты, офицеры. Они быстро опускались, доходили.
Мое внимание привлекло необычное поведение одного из поляков. Он встал с колен, несколько раз сильно встряхнул руки, с отвращением смотря на налипшую к ним грязь, затем, махнув безнадежно рукой, вытер ее о штаны, осторожно достал из кармана носовой платок и высморкался. Это был выдающийся поступок! Большинство воспитанных в прошлом людей, попав на общие работы, сморкались без помощи платка.
Я сразу же повернул лошадь к нему и спросил по-польски, кто он и откуда. Он был из Варшавы. Окончил гимназию. Перед занятием немцами Варшавы родители отправили его в тыл, в Гродно, к дяде, но Гродно было занято Красной Армией, и вскорости, в октябре 39-го года, его и дядю арестовали. Гимназисту дали восемь лет, дяде – десять лет. Я спросил, не офицер ли его дядя. Оказалось, что дядя его еврей и не мог быть офицером, а был зубным врачом. Про гимназиста я записал: Рабинович Иероним Самуилович, 19 лет, и пожелал ему «вшистскего добрего».
В конце дня я оформил заявку на Рабиновича – на заготовку дров для гидрометслужбы, и утром следующего дня умытый и побритый варшавский гимназист предстал пред наши очи. Как он обрадовался, увидев пред собой двух поляков: Мацейно и Ясенецкого. Как они заговорили! Я не все понимал и переспрашивал Иеронима. Богдан Ильич переводил. Родителям Рабиновича принадлежала прачечная с громким названием «Полония». Хотя они были небогатыми, но дали детям гимназическое образование, а Иероним поступал в университет, но началась война. Он рассказывал о бомбежках Варшавы, о бегстве на восток, в Гродно. Выяснилось, что, плохо зная русский, Иероним в Гродно неправильно назвал красноармейцев солдатами (тогда это наименование было оскорбительным), а его дядя не различал освобождение Западной Белоруссии от оккупации Восточных воеводств Польши, сказав где-то: «Если это освобождение, то что же тогда оккупация?» Так наивно рассказывал Рабинович о своем аресте и допросах. Смущаясь, он сказал, что били его не очень сильно, а срок объявили уже в лагере.
Иеронима приняли у нас очень дружелюбно. Он был хорошо воспитан, смышлен, старателен, аккуратен. Сначала на него каждый вечер подавали заявку в совхоз, а спустя месяц удалось устроить его постоянным рабочим, затем наблюдателем гидрометрического поста. Мы его быстро откормили, он окреп и стал улыбаться, но глаза его всегда были печальными. «Иудейская скорбь», как говорил он сам с печальной улыбкой.
К наступлению морозов у нас сложился дружный и трудоспособный коллектив. Профессор Мацейно как-то сказал, что он очень беспокоился вторжением незнакомых сотрудников, а теперь очень рад такой приятной компании и доволен, что столько хороших людей спасены от общих работ и подконвойки. А я подумал, что моя «защитная» специальность защищает уже не только меня.
ГОРЕСТНЫЙ РОМАН
В начале зимы 1940/41 года освободился Н.А. Макеев и уехал в Куйбышевскую область. С его отъездом ночные наблюдения на метеостанции пришлись на долю одного профессора Мацейно. Профессор Зворыкин хлопотал, чтобы мне разрешили переселиться из зоны на место Макеева, и наконец этот «режимный» вопрос был решен. К началу морозов я переехал на метеостанцию.
Жить вне зоны! По существу в черте города! Эта иллюзия свободы доставляла мне большую радость. К тому времени из нашего домика вывели в другой, более просторный дом лабораторию профессора Костенко. Одну из освободившихся комнат занял Зворыкин П.П. (это была его квартира), две другие передали нам. В одной из них обосновался я.
От рабочего помещения кровать моя отделялась драпировкой. Эта драпировка опускалась от потолка до пола широкими складками (как в старых замках). В неприсутственное время можно было ее раздвигать. В изголовье кровати была вмонтирована лампа и радионаушники. Я мог, задернув полог, лежа читать и слушать музыку. Комфорт!
Ночные метеонаблюдения (в час ночи) были закреплены за мной. Утренние (в семь часов) проводил Александр Иосифович. Поэтому я спал до восьми часов. В это время приходил Рабинович и начинал растапливать печи. Через полчаса вваливались промерзшие на пути от зоны совхоза до станции Богдан Ильич, Лев Флоринский, Смирнов, Пастианиди. Начинался рабочий день. Пастианиди и Рабинович отправлялись на гидрометрический пост за опытным полем, где я обычно купался в летние дни. Там они измеряли уровень воды в реке Ухте и скорость ее течения, опуская в проруби вертушку Ласу. Лев обходил водомерные посты на реках Ухте и Чибью в городе. Он все еще не привык ходить по городу без конвоя и получал неизъяснимое удовольствие от этого.
Первый самостоятельный выход на посты в город Лев Андреевич описывал так: «Я иду, а все встречные смотрят на меня. Иные с удивлением, иные с улыбкой. У меня за поясом топорик, чтобы лед скалывать со свай на посту. Решаю, что это из-за топорика. Тогда я запрятал топорик под бушлат, а на меня по-прежнему смотрят внимательно, как будто узнают. Я некоторым даже кивал».
Вечером к нам зашел Гаврилов – начальник курсов – и спросил: какой это блаженный работает у нас? Идет по Ухте, словно влюбленный на первое свидание, улыбка до ушей, глаза сияют. Здесь таких счастливых лиц не увидишь – понятно, что все глаза пялят.
В начале декабря, когда начались сильные морозы (ниже 40 градусов), к нам заявился начальник управления. Огромный, под потолок, он рявкнул:
– Когда мороз лопнет?
Перепуганный шеф начал пространно говорить о вторжении арктических масс, об антициклоне. Бурдаков снова рявкнул:
– Сколько часов еще будет ниже 40 градусов? Производство стоит!
– Три, – прошептал Мацейно.
– Три часа? – переспросил грозный начальник.
– Дня, – пролепетал Мацейно. Начальство выругалось и приказало извещать его об изменении температуры.
– Может быть, направлять вам ежедневную сводку погоды? – неожиданно спросил я. Бурдаков буркнул:
– Давно надо было! – и, пристально взглянув на меня, вопросил: – А где галстук?
И, не дожидаясь ответа, исчез, крепко захлопнув дверь.
Я был поражен, что начальник запомнил инцидент с моим чудесным голубым галстуком, чуть не стоившим мне головы. Профессор Мацейно был расстроен перспективой ежедневно направлять сводку погоды. Остальные коллеги еще не пришли в себя от лицезрения грозного начальства и молчали.
Давно известно, что инициатива наказуема. Шеф приказал мне выяснить, как оформлять эту несчастную сводку, какую информацию включать в нее, кем подписывать, как доставлять и т. п. Я позвонил профессору Зворыкину. Тот рекомендовал позвонить в плановый отдел управления, где клерки, убоявшись страшного адресата, отфутболили меня к начальнику планового отдела Болдыреву. Тот велел принести проект сводки.
Часа три возились мы с этим проектом, составив несколько вариантов. Александр Иосифович то чрезмерно усложнял, то очень упрощал, нервничал и сердился. Наконец составили два варианта и вычертили их формы на ватмане. Вопрос о подписи оставили открытым. Очевидно, их должен подписывать профессор Зворыкин, как вольнонаемный начальник подразделения, куда входила формально наша гидрометеослужба.
В конце дня я предстал перед Болдыревым. Он взглянул на оба варианта:
– Почему две формы сводки? Где подписи? Я наивно сказал, чтобы он выбрал наиболее подходящую и посоветовал, чью подпись ставить.
– Вы специалист и должны понимать, какая форма лучше, – проворчал Болдырев. – А подпись того, кто за это отвечает.
Я выбрал наиболее простой вариант и снизу дописал: «Ответственный руководитель гидрометслужбы профессор Мацейно».
– Солидный титул, – усмехнулся Болдырев. – Сейчас отпечатаем. Вечером доложу самому.
На другой день курьер из управления вручил сорок отпечатанных на машинке форм бланков. Он выглядел весьма солидно. Шапка гласила: «Гидрометслужба Ухтижмлага НКВД», далее заголовок: «Ежедневный бюллетень погоды», под ним – таблица численных значений метеоэлементов, краткая характеристика текущей и ожидаемой погоды и, наконец, подпись с громким титулом шефа.
Шеф долго рассматривал бланк. Щеки его разрумянились. Обмакнув ручку в чернильницу, он поставил на пустом бланке свою подпись с кудрявым росчерком.
Большое удовольствие доставляли нам выезды на дальние посты для проверки работы наблюдателей и отбора проб воды на химический и бактериологический анализы. Накануне в гужтранспорт посылалась заявка. Утром у дверей уже пофыркивала лошадь, запряженная в легкие красивые санки, кучер в красном кушаке заходил погреться, мы со Львом одевались потеплее, брали приборы и мчались по хорошо укатанным дорогам. Как вольные, а если еще колокольчик хорошо звенел… то совсем как в XIX веке.
Иногда с Богданом Ильичом мы навещали «клуб старых дам». Он подкручивал «польски вонсы» (польские усы), целовал дамам ручки, рассказывал забавные истории из своей длинной жизни. Ему было уже 70 лет, но он был бодр, весел и силен. Мог поднять четырехпудовый мешок картофеля и выйти с ним по лесенке из подвала. Дамы заметно сдавали, особенно Бартенева. Зима на общих работах переносилась тяжело. Смертность резко увеличивалась, но дефицита рабочей силы не ощущалось: исправно работала арестная машина. В эту зиму в основном доставляли из освобожденных районов: западных украинцев, белорусов, поляков, прибалтов, финнов, молдаван.
К этому времени железная дорога от Котласа уже дошла до Ухты и двигалась дальше на Инту, где открыли большие залежи каменного угля. Между Интой и Воркутой тоже заканчивалось строительство этой магистрали. Эшелоны шли из России, Украины, Прибалтики, щедро снабжая лагеря заключенными. Ежовские «крестники» уже закончились, их заменили бериевские.
В конце декабря к нам зашел Георгий Осипович Боровко – крупный геолог. Он недавно закончил срок, но остался работать в центральной научно-исследовательской лаборатории геологии, расположенной на одной территории с домиком гидрометслужбы. Боровко был австрийцем, но долго жил в России, участвовал в экспедициях Ферсмана. Он отозвал меня в коридор и сообщил, что порекомендовал меня Болдыреву в качестве репетитора его сына по немецкому языку. Сначала Болдырев попросил Боровко, но тот отказался и перевел стрелку на меня, очень похвалив мои знания. В случае моего согласия я должен позвонить Болдыреву и договориться об условиях. Я думал недолго и условился с заказчиком о встрече.
Болдырев помнил меня по недавней истории с ежедневными бюллетенями погоды. Для начала он расспросил меня о моих тюремно-лагерных делах, затем сообщил, что его сын Женя, ученик 10-го класса, – лодырь. Не хочет учить немецкий, а сейчас у них новый «немец» и ставит беспощадно двойки. Выпускной экзамен по немецкому Женя не выдержит. Надо срочно начать занятия, но Женя трудный. «Удастся ли вам установить с ним контакт?» Я сказал: «Попробуем». И первый урок был назначен на завтра.
Женя, раскормленный юноша с меня ростом, встретил репетитора настороженно. С опасением смотрела и хозяйка дома. Первое занятие проходило в кабинете отца. А он сам залег на диван, повернулся спиной, вроде бы заснул. Я разгадал эту хитрость. И решил порезвиться. «Каждое занятие будет состоять из трех частей: выполнение школьного домашнего задания, повторение грамматики и разговорная речь. Я буду говорить только по-немецки, и ты пытайся тоже, а для начала расскажи, кем ты хочешь стать после школы, какую специальность получить?» С грехом пополам, с подсказкой Женя рассказал, что хочет быть инженером-химиком. Тут я рассказал о развитии химии в Германии, следовательно, химикам особенно нужен немецкий. Далее я пообещал: за оставшиеся полгода он может овладеть языком на пять, и привел в пример себя, что я за восемь месяцев научился языку в лагере. Для большего впечатления я рассказал, как учился, назвав учителем не прелата Вайгеля, а ротмистра австрийской армии Вальду-Фарановского, чтобы живописать, как он топором зарубил пять урок. В процессе этого страшного рассказа Женя сидел как мышь и бледнел, а его папа перестал храпеть и, очевидно, не рад был такому репетитору.
Завершив страшный рассказ, я задал ученику составить словарик всех слов, которые у него останутся в памяти после занятия, и перешел к текущему школьному заданию. Ровно через два часа урок был окончен. Болдырев поднялся с дивана, выставил Женю и молчал. Мне было очень интересно знать, понял ли он, что Женя подчинился репетитору. Помолчав, отец спросил, какое отношение имел к уроку мой страшный рассказ. «Для контакта и впечатления», – ответил я.
В результате Болдырев просил меня заниматься два раза в неделю по два часа, назначив пять рублей за занятие. Мне был предложен чай, но я отказался, не желая разделить трапезу с лагерным начальником. (Почти как граф Монте-Кристо.) Занятия с Женей пошли очень успешно. Вскоре он начал получать в школе четверки и пятерки, а в виде премии я рассказывал ему какую-нибудь историю из соловецкого фольклора. Отец на занятиях уже не присутствовал.
За несколько дней до Нового года я получил известие о смерти мамы. Писала сестра. Мама умерла от рака груди в декабре 1939-го, перед смертью она написала мне несколько писем и просила отправлять их в течение года, только потом сообщить мне. Дома так и сделали. Последние письма приходили с большими интервалами и припиской сестры, что мама сломала руку, ей трудно писать, а мамы уже давно не было на свете. Мне было очень плохо.
Новый год мы встретили на метеостанции вдвоем с Александром Иосифовичем. Была пурга. За окном в свете лампы были видны метелочки, росшие на завалинке, которые трепал ветер. Казалось, что они бегут в черноту ночи, но не могут убежать. Это подчеркивало ощущение безысходности. Без четверти час я пошел на ночные наблюдения. Ветер валил с ног. Думалось, может, отойти в сторону от метеоплощадки и упасть? Снег моментально занесет. Бедный Мацейно будет искать меня, звать, но ночь и пурга сделают свое дело, и я успею умереть.
Одновременно с такими мыслями где-то на втором плане сознания вспоминались высказывания на эту тему Петра Ивановича Вайгеля, Арапова, Вальды-Фарановского. И словно прозвучали последние слова моего Учителя, шагавшего в рядах большого этапа в море октябрьской ночью 1937 года: «Auf, bade, Schuler, unverdrossen die irdische Brust im Morgenrot»[45]. Я читал из Гете, из Тютчева, продуваемый пургой, пока Мацейно не вышел с фонарем на поиски.
В начале февраля в совхоз «Ухта» пришел большой женский этап из Польши. Прибежавший с большим опозданием на работу Иероним видел этих бедных женщин, со многими даже говорил, пока они топтались в ожидании размещения по баракам. Их привезли из Львова. В этапах почти полгода. По-русски не говорят, вещей не имеют. Даже котелки и миски не у всех. На него большое впечатление произвели две девушки лет по семнадцати-восемнадцати, которым дали по восемь лет. Одна из них, Ирма, дочь Станиславского воеводы. Училась до войны в монастырском пансионе ордена святой Урсулы. Воображение мое было поражено. Дочь воеводы, урсулинка, красавица. Воображение рисовало романтические образы, и до конца дня я уже заочно влюбился без памяти и попросил Иеронима после работы познакомить меня. Для большей респектабельности я пригласил и пана Ясенецкого.
Тусклая лампочка над входом в женский барак едва разгоняет мрак у самой двери. Мы с Богданом Ильичом стоим несколько в стороне от этого светлого пятна и ждем появления чуда. Иероним в бараке передает записку от пана Ясенецкого Ирме. Выйдет ли она? Появляется Иероним. Предупреждает: женщины очень устали, рубили в тайге дрова по пояс в снегу. Ирма выйдет в сопровождении учительницы гимназии пани Анны, которая ее опекает. Выходит пожилая, хмурая, некрасивая женщина в драных стеганых штанах, таком же бушлате. Пан Ясенецкий кланяется и сердечно приветствует ее. Пани Анна оттаивает и красивым грудным голосом быстро говорит, как они замучены, унижены. За что? За что?
Появляется Ирма. Даже в тусклом свете видны большие глаза и очень бледное худое прекрасное лицо. Она в платье, бушлат внакидку. Книксен старому пану, кивнула мне. Богдан Ильич кратко рассказывает о нашей станции и говорит, что, может быть, удастся устроить ее к нам. Передает привет от профессора Мацейно и вручает «предметы первой лагерной необходимости»: кружку, миску, ложку и котелок из консервной банки. А в котелке кусок мыла, зубная щетка, немного сухариков, конфеток. Ирма отказывается от этих даров, Богдан Ильич строго ее укоряет:
– Это не подарок, – говорит он, – а помощь от товарищей. Вот пан Еже (это я). Он с пятнадцати лет в тюрьмах и лагерях. Он знает, как важно помочь человеку в начале этого страшного пути.
Богдан Ильич кратко рассказывает обо мне. Ирма смотрит на меня с интересом большими глазами.
– Моему брату сейчас тоже пятнадцать лет. Его, наверно, тоже взяли. Мама осталась одна. Я жить не хочу!
– Бронь, боже, – тихо говорит пани Анна. – Очень холодно, панове, мы пойдем.
Богдан Ильич передает Ирме дары и говорит, что пан Еже – певный лыцарь и он будет опекать панну Ирму, а для связи будет пан Варшавяк (это про Иеронима). На прощание Ирма чудесно улыбнулась.
Свидание окончено. Я возвращаюсь на станцию. Небо закрыто облаками, нигде ни звездочки, поэтому мрак очень плотный. Дорога едва различима. Мороз, снег скрипит, тишина, пустота. Перед глазами Ирма. Улыбка Ирмы. Мысли о беде Ирмы, о помощи ей. Незаметно дошел до станции. Добрый Александр Иосифович вскричал: «Юрочка, на вас лица нет! Что случилось?!» Я все рассказал, и мы решили завтра же начать переговоры с администрацией совхоза о переводе Ирмы в наш ковчег.
Почти всю ночь я не спал, строил планы спасения, грезил, писал стихи:
Явись, явись, явись ко мне И яви тусклость озари, Ты мне явленная во сне, Ты образ утренней зари. Явись, явись, я жду тебя, Я, рыцарь твой, тоской томим, Твой лик в душе храню любя, Как имя Девы пилигрим. Явись, зажги и вдохнови, Пусть муки все перегорят, И в неизведанной нови Да обрету я благодать…И еще одно длинное стихотворение-письмо, которое заканчивалось такой строфой:
Как святыню, я чту дружбу Вашу И клянусь Вам, как рыцарь, служить, Сердца Вашего хрупкую чашу От несчастий и горя хранить!На другой день я отправился к главному агроному совхоза Белинскому. Он хоть и был заключенный по 58-й статье, но его держали на командной должности как прекрасного специалиста, и начальник совхоза очень считался с ним. Я все как есть рассказал Белинскому, приведя его в великое изумление. Он знал, что я не путался ни с какой женщиной, и очень меня за это хвалил, хотя сам был весьма любвеобилен.
– Если уже ты, Юра, влюбился, значит, эта девушка действительно необыкновенная, – серьезно сказал Белинский и обещал помочь в переводе Ирмы в гидрометслужбу, а для начала – рабочей на опытное поле. Затем я уговорил профессора Зворыкина запросить Ирму на вечерней разнарядке в качестве рабочей на переборку семенных материалов. Однако на другой день Ирму не послали на опытное поле. Я помчался к Белинскому, и он огорчил меня. Оказывается, весь этап полячек завтра отправляют в совхоз «Седью» – лагпункт с более строгим режимом в тридцати километрах от Ухты.
Белинский предложил такой ход: я должен договориться с заведующим медпунктом, который обязан присутствовать при отправлении этапа и не выпускать в этап заболевших. Медик спрашивает отправляемых, есть ли больные. Ирма должна выйти и сказать, что заболела. Ее отправляют в медпункт, а этап уходит. Дня три-четыре ее продержат в медпункте как больную, а потом направят на легкие работы на опытное поле. Все выглядело очень логично. Тем более что медпунктом уже несколько месяцев заведовал доктор Павловский, знакомый мне по лазарету на проклятом пересыльном пункте в Вогвоздино, где я умирал от пеллагры.
Павловский тоже очень удивился, но отнесся благожелательно. Он запомнил Ирму, когда осматривал вновь прибывших, и очень сокрушался, что такая хрупкая и красивая девочка попала в лагерь, где она либо умрет от тяжелой работы, либо станет содержанкой какого-нибудь повара, нарядчика, бригадира. Поэтому доктор охотно согласился помочь.
Все складывалось очень удачно. Вечером после работы я с Иеронимом в качестве переводчика начал объяснять ситуацию Ирме. Нужно было все рассказать очень четко, чтобы не было сбоя, поэтому переводчик был необходим. Я рекомендовал сказать врачу, что очень болит голова и живот, темнеет в глазах и т. п. Предупредил ее, что никто не должен знать, что я ей сообщил: ни об ожидаемом утром этапе, ни о договоренности с врачом и главным агрономом, иначе это погубит хороших людей. Ирма поклялась молчать и поблагодарила за заботу.
Вернувшись на станцию, я рассказал обо всем Александру Иосифовичу, и мы оба радовались и говорили до полуночи об Ирме. Я с удовольствием уснул после двух предшествующих бессонных ночей.
Пробуждение мое было ужасным. Около кровати стоял Лонгфелло и тряс меня за плечо. За ним стояли Богдан Ильич и Иероним. Причитая, Лонгфелло говорил: «Вот вы спите как младенец, а Ирму-то увезли». Сон моментально слетел, и, быстро одеваясь, я слушал, как польский этап собрали до подъема и повели пешком до города, поскольку дорогу замело. Перед городом они около часу ждали грузовики, топчась на холодном ветру у метеостанции, а я спал и ничего не чувствовал!
Иероним видел, как выходил этап, но подумал, что Ирма уже в медпункте, пошел туда на утренний прием, но оказалось, что ее нет. Он поднял Богдана Ильича и Лонгфелло. Втроем они пошли догонять этап, но долго брели в темноте по занесенной дороге и застали полячек уже при посадке в машины. Стали звать Ирму, но были отогнаны конвоем. Пани Анна крикнула, что Ирма в машине, и они уехали в метель и мрак.
В ярости я бежал в зону, чтобы выяснить, почему не оставили Ирму, почему обманули мои надежды. Андрей Иванович Белинский тихо сказал, что никто из них не виноват: Ирма не вышла из строя на запрос врача, не обратилась с жалобой на болезнь. Павловский подтвердил это, сказав, что дважды спрашивал, кто болен. А на третий раз остановился почти напротив Ирмы и спросил, нет ли жалоб на здоровье. Ирма стояла молча, опустив голову.
Весь день я был неработоспособен и даже не пошел к Жене Болдыреву учить его немецкому. Вечером я ощутил, что сойду с ума, если буду бездействовать, и решил поехать завтра же в совхоз «Седью». Это было опасное предприятие, и дело могло кончиться конфискацией пропуска, поэтому надо было подготовить защиту.
На другой день я написал себе командировочное предписание. Официальная цель вояжа – проверка работы метеостанции совхоза «Седью», где единственным наблюдателем был добрый старичок Александр Петрович Семенов, он же счетовод в конторе совхоза. Мацейно подписал документ с великим опасением. Иероним сбегал в контору совхоза поставить печать, но получил отказ. Нужна была печать сельхозотдела управления. Я упросил профессора Зворыкина. Он сходил в управление и принес отпечатанный, на машинке документ с подписью начальника сельхозотдела, профессора Зворыкина, профессора Мацейно и печатью. Но день был потерян, и я мог выехать только завтра, то есть на третий день после отъезда Ирмы.
Собрав кое-какие продукты, бутылку рыбьего жира – великий дефицит, хранимый мною на конец зимы, когда разыгрывается авитаминоз, теплый шарф, шерстяные носки Александра Иосифовича, письмо и варежки от Богдана Ильича, а также томик стихов Генриха Гейне, я отправился в опасный поход.
После снегопада тракт Ухта – Крутая еще не был расчищен. Тяжелые грузовики буксовали в снегу, продвигаясь едва-едва. Дотемна я едва проехал 25 километров до поворота на Седью. Оставалось еще около пяти верст. Я шел в темноте, иногда теряя дорогу, ноги в сапогах замерзали, а рубашка была мокрая от пота.
Послышался колокольчик. Лошадка местной породы тащила санки. Возчик дремал, зарывшись в сено. Через час мы добрались до зоны.
Дежурный по зоне проникся почтением, прочитав на командировочном предписании столь солидные подписи, вызвал Семенова и велел устроить меня в общежитии для ИТР. Я рассказал Семенову подлинную причину моего появления и попросил перевести Ирму метнаблюдателем на станцию. Семенов обещал, но не был уверен в успехе, так как полячки были на строгом режиме и их посылали на самые тяжелые работы – торфяные разработки. Они недавно только прибрели в зону едва живые.
На дорожке, протоптанной от женского барака в кухню, показалось несколько женщин. Я встал так, чтобы свет от фонаря не падал на меня, и стал поджидать Ирму. Она выбежала одной из последних в туфельках и платке с котелком Богдана Ильича. Я заговорил с нею, когда она возвращалась, бережно неся баланду. Испуг, удивление и радость сменялись на лице бедной девочки. Условилась, что она выйдет через десять минут.
Ирма рассказала, что на другой день после прибытия этапа в Седью их послали на торфоразработки. Под снегом торф глубоко не промерз. В старые валенки набралась торфяная вода, а мороз был около 20 градусов. Ирма и еще трое нагружали огромные тракторные сани. Потом ехали в поле и там сбрасывали торф. И так несколько раз за десятичасовой рабочий день. На последней ездке свалилась с передка саней молодая женщина, многотонная громада саней проехала по ней, вдавила в снег измятое тело и раздавленную голову. Ей было немного больше двадцати. Мужа убили немцы, ребенок родился в тюрьме. Ирма плакала и дрожала, уткнувшись в мое плечо. Я молчал.
Ирма была волевая, гордая панна. Зажав слезы, она тихо передала привет старым профессорам и двинулась к бараку. Я остановил ее, рассказал о возможности устроиться у доброго Семенова мет-наблюдателем и передал образец заявления начальнику лагпункта, где было написано, что она в гимназии изучала метнаблюдения, и просил перевести ее на станцию. Ей оставалось переписать его русскими буквами и отдать Семенову.
Я спросил, почему она не осталась в совхозе «Ухта».
– Не умею лгать, – сказала Ирма. – У меня тогда ничего не болело, и мне страшно было отстать от наших женщин.
Я попросил ее принять вещи и письмо.
– Нет, не могу!
– Умоляю вас! – я протянул ей шарф и бутылку с рыбьим жиром.
В этот момент кто-то схватил меня за воротник полушубка и развернул. Передо мной стоял грозный комендант Попов, тот самый, что в совхозе срывал галстуки с принарядившихся в воскресенье заключенных.
– Я тебя долго слежу! – закричал он. – За бутылку девку покупаш!
– У меня командировка! Я из Ухты!
– Тут не Ухта! Тут я козяин!
– Попов, я без галстука, – сказал я как можно спокойнее, – не кричи. Веди нас в комендатуру. Я объясню.
Ирма не сбежала, пока комендант арестовывал меня, и с каменным лицом стояла рядом. Попов отпустил, наконец, воротник, узнал меня:
– Ты Чирков с опытной станции? Ну, пойдем.
В комендатуре я показал свое командировочное предписание, рассказал, что передача эта от старых профессоров, а в бутылке рыбий жир. Надо помочь девочке, а то она тоже под тракторные сани свалится. Попов при этом помрачнел.
– Однако жалко ту бабу, совсем молода была. Ну ладно. Иди в барак, девка, бери, что тебе передали. – Ирма затрясла головой, закричала:
– Нет! Нет! – и убежала.
– Жалко девку, – вздохнул Попов, – пропадет. Вы завтра после обеда уезжайте, будет машина в город. Это все заберите, может, возьмет как.
Семенов очень переволновался во время рассказа и сказал, что уговорит Ирму взять дары, днем он поговорит с начальством, а вечером навестит ее. О результатах напишет. Передаст через экспедитора-урку, который часто бывает в городе на базах. Уснул я только перед утром.
Днем мы проверили метеостанцию – по существу метеопост, где стояли лишь дождемер и психрометр в будке, а на реке – водомерные сваи. Просмотрел записи, составил акт проверки, похвалив старика за аккуратность, и отбыл в город в великой маяте. Я был счастлив, что Ирма меня признала и приняла помощь. Но страшился торфоразработок. Раздавленную женщину я так отчетливо представлял, словно видел этот ужас.
– За что? За что? – вопрошал я. – Мы не судимые, а когда и кто будет судим за этот ужас? За беззаконие?
Через несколько дней я получил через экспедитора письмо из Седью. От Ирмы и Семенова. Ирма написала по-русски! Какого труда ей это стоило. Но как трогательно звучали все нескладности и ошибки при выражении мыслей на чужом языке. Начиналось письмо так: «Дроги пан Юри! Спасибо вам за добре, гороше сердце…» Ирма писала, что работает по-прежнему на торфе. Александр Петрович с ней встречался, долго беседовал, уговорил принять рыбий жир и другие дары. Она переписала заявление о переводе на метеостанцию, но, если это не получится, Семенов хотел устроить ее в контору. Гейне она читает. Благодарит всех за заботу.
Письмо Семенова было печальным. Полячки находятся на строгом режиме, и перевод их на легкие работы запрещен. Только торфоразработки или лесоповал. Норму они не выполняют и получают штрафной паек. Надолго ли хватит их сил? Добрый старик очень горевал. Я написал коротенькое письмо Семенову и большое – Ирме, прося ее не затрудняться русским, а писать по-польски.
Начался «роман в письмах». Используя различные оказии, Ирма через Семенова посылала два-три письма в месяц, я посылал три-четыре письма, иногда кое-что из еды. В марте я выбрался на несколько часов в Седью. Семенов сказал, что полячки «доходят». Несколько женщин уже умерло. Смягчения режима для них не ожидается. Ирма простудилась, и у нее болят зубы, вчера и сегодня освобождена от работы. С ней можно встретиться у зубного врача.
Семенов представил меня дантисту – худенькой старушке – Ходиче Зариповне Ямашевой, первой женщине-врачу Татарии. У нас нашлись общие знакомые: знаменитый Фирдевс, жена председателя Совнаркома ТАССР Мухтарова и ряд других деятелей, участвовавших, как и она, в революционном движении, а теперь томящихся в лагерях. Ходича-ханум рассказала, что она будет гастролировать по совхозам: месяц в Седью, месяц в Ухте, будет помогать нашей переписке и обещала уговорить заведующего медпунктом Сванидзе, чтобы он дал Ирме, хоть на неделю, перевод на легкие работы в зоне. В это время появилась Ирма. Она еще больше похудела и побледнела, и еще больше стали ее глаза.
Мы долго сидели в крошечной комнатке Ходичи-ханум и говорили, говорили. Ирма рассказала о днях войны, ожесточенных боях с немецкими армиями, хлынувшими в Польшу, о знаменитой «атаке отчаяния», когда конный полк улан бросился на немецкие танки. В этом бою погиб ее кузен-поручик. Рассказала о неожиданном вступлении Красной Армии и массовых арестах во всех городах. Долгие месяцы во львовской тюрьме без предъявления обвинения. Она даже сидела несколько дней в одиночке, где на стенах были автографы кровью. И наконец долгий этап в арестантском эшелоне.
Она говорила и говорила с отрешенным лицом, уставившись глазами в одну точку, и я так ясно представлял всю безысходность, трагичность ее судьбы, ее страны.
…Начало весны ознаменовалось редким явлением – грозой в конце апреля. Еще на полях лежал снег, а в небесах гремело. Суеверные лагерники гадали: к войне или амнистии сей феномен? А война охватывала все больше стран. В апреле немцы захватили Югославию и Грецию, в Африке высадился корпус Роммеля и начал наступление на Египет.
В середине мая начался ледоход. Мы на Ухте отмечали подъем уровня и сообщали в управление комбината. В день максимального подъема воды мне доставили письмо из Седью. Почерк был незнакомый. Зубной врач Ходича Зариповна писала, что у Ирмы беда. Во время лесоповала ее зацепило верхушкой дерева, оглушило и бросило в снег. Удар пришелся на спину и голову, но, к счастью, позвоночник не сломан, череп не пробит. Обнаружены ушибы и небольшое сотрясение мозга. Ее взяли в стационар медпункта, но на третий день к ней начал приставать заведующий медпунктом Сванидзе, и она ушла из стационара в барак и поэтому лишилась освобождения от работы, Ходича просила срочно написать Ирме увещевательное письмо и передать с этим же посланцем. Я написал несколько успокоительных строчек, прося Ирму вернуться в медпункт, а Ходичу – поговорить со Сванидзе, и дописал, что через несколько часов выезжаю в Седью.
Пока я оформил «липовое» командировочное предписание и собрал кое-что из продуктов, уже завечерело. Мне повезло. На выезде из Ухты меня подхватила полуторка и вскоре довезла до развилки на Седью. Грунтовая дорога настолько размокла, что пять километров до Седью были непреодолимыми. Метрах в ста от шоссе в глубокой луже на середине этой дороги виднелся засевший до мостов грузовик. И больше никаких средств передвижения по этой проклятой дороге.
Шофер полуторки посоветовал доехать до моста через реку Седью, а там по тропе вдоль правого берега три-четыре километра до совхоза. Я принял этот вариант и через несколько минут был уже на мосту. На реке, стиснутой высокими крутыми берегами, шел лед.
Каменистая тропа начиналась у моста и сбегала вниз. Было еще довольно светло, и я быстро пошел под грохот громоздящихся льдин. Через километр тропинка круто пошла вниз и исчезла под нагромождением льда. Вода заметно прибывала, очевидно, впереди был затор. Что делать? Я стал подниматься по откосу, надеясь найти другую тропинку, но тщетно. Выше нависали скалы, а впереди местами из трещин торчали редкие кустики шиповника. Ногу можно поставить в трещину, а руками держаться за шиповник. Я надел перчатки и стал карабкаться по откосу, то спускаясь, то поднимаясь, в поисках проходимого места.
Так зигзагами я продвигался вперед, иногда поднимаясь метров на двадцать над рекой, а то спускаясь почти до ледохода. Вскоре мне стало жарко, я расстегнул полушубок, и клочки ярко-оранжевого меха, вырываемые шиповником из моего одеяния, стали метками на головоломном пути. Пот лил по лбу, щипал глаза. Перчатки проколол шиповник, руки горели. Вперед, вперед! Часа полтора продолжалось это скалолазание. Наконец из-под вздувшейся, забитой льдом реки показалась тропинка. Берег стал менее крутым, и я выбрался из каньона. Ноги и руки дрожали, голова кружилась. Я сел в развилку старой березы и не шевелился. Стало совсем темно. Решил дождаться рассвета. Все равно раньше шести часов утра в зону не пустят.
Внизу, в каньоне, шуршало, потрескивало, булькало, а в лесу на берегу было очень тихо, и на мое счастье, не дождило. Горел костер из бересты и сучьев, за ним залегла густая темнота. Я смотрел на огонь и грезил. То мне представлялось, что я побиваю наглеца Сванидзе, и он, валяясь в прахе, просит у Ирмы прощения; то я похищаю Ирму, вывожу за зону, и мы скрываемся в тайге и, одолев все препятствия, достигаем берега южного моря; то нас венчает в церкви мой Учитель – прелат Вайгель. Иногда я задремываю, и грезы смешиваются со сновидением: мы летим, свободно парим как птицы, слегка шевеля руками, поднимаясь все выше, улетая все дальше.
Когда часа в три рассвело, я спустился к реке, освежил ободранные руки и лицо, отмыл сапоги. Только полушубок еще хранил несмываемые следы скалолазания и прожогов от костра. Через проходную я прошел в зону еще до развода на работу, отправился к Семенову за информацией и попал прямо на завтрак. Семенов сказал, что Ирма ушла из медпункта и находится в бараке. Освобождение от работы еще на один день ей достала Ходича Зариповна.
После чая и каши я отправился в медпункт к Сванидзе, но он еще не вернулся с развода, и я стал ждать, все более накаляясь.
Сванидзе вернулся с развода злой-презлой и довольно нелюбезно спросил меня о цели прихода. Я смотрел на его полное, хмурое лицо, черные усы а ля Сталин, грязноватый халат. Мы виделись первый раз. Семенов лишь сказал, что он хирург, умело использует свое положение заведующего медпунктом, сидит по статье 58, пункт 10, лет ему около тридцати. Но что он за человек? Неожиданно для себя я сказал:
– Грузины стыдятся вашего поведения.
Он широко открыл глаза, с удивлением глядя на меня. Судя по реакции, я был на правильном пути.
Я продолжал:
– Не знаю, товади вы или азнаури, но отношение к благородной девушке у вас не рыцарское.
– Ты учить меня пришел?! – вспыхнул Сванидзе и агрессивно шагнул ко мне.
Нервы мои были очень напряжены, и я рефлекторно, следуя урокам Катаоки, схватил его за правую руку и, выкрутив ее приемом джиу-джитсу, посадил хирурга с размаху на табурет. Таким образом, он не мог нанести мне удара ни ногами, ни руками, ни головой. При малейшей попытке пошевелиться я нажимал на вывернутую руку и парализовывал его.
Что же делать дальше? Хотя до начала приема больных оставалось больше часу, и после развода деятельность в зоне резко снижалась, но все же мог кто-нибудь зайти. А в приемной опрокинутые табуретки, согнувшийся медик и некто посторонний, нависший над ним. Поэтому я кратко изложил суть дела и в заключение извинился за столь крайнюю, но вынужденную меру обеспечения беседы.
Сванидзе молча слушал, и я чувствовал: напряжение его спадает. Затем он задал три вопроса: от имени каких грузин я его стыдил, какого происхождения Ирма, а также сколько лет и за что я нахожусь в лагерях. По первому вопросу я сослался на вице-министра Григолию и Ирину Гогуа, племянницу Енукидзе; по второму и третьему кратко рассказал об Ирме и себе. Сванидзе кротко сказал:
– Я во всем виноват сам. Действительно, вел себя не как азнаури, обхамел в лагерях. Отпустите руку. Будем кушать. Гостя будем встречать по-грузински.
Я отпустил руку, Сванидзе помассировал ее и типично грузинским жестом пригласил в его жилую комнату при медпункте.
За гостевым угощением с каплей спирта Сванидзе задал четвертый вопрос:
– Откуда вы узнали, что я из азнаурского рода?
– По глазам, – ответствовал я и рассказал о знакомых по Соловкам грузинских князьях и католикосе.
В завершение встречи Сванидзе послал санитара за Ходичей-ханум, и старая татарская просветительница с удовольствием узнала, что «конфликт исчерпан». Сванидзе написал справку об освобождении Ирмы еще на три дня и просил Ходичу передать Ирме его извинения. Забегая вперед, скажу, что Сванидзе сдержал слово и безупречно относился к Ирме в оставшиеся дни.
После бурных сцен у Сванидзе мир и покой у Ходичи Зариповны. Пришла Ирма с перевязанной головой. Глаза ее лучились от радости, когда Ходича-ханум и я пересказывали подробности боя со Сванидзе и моего «скального» похода ночью по реке Седью. Ирма даже сравнила меня с паном Скшетусским – героем известного романа «Огнем и мечом» Сенкевича. Я уехал в Ухту очень успокоенный и уверенный в любви Ирмы.
Конец весны ознаменовался утверждением плана экспедиций на лето 1941 года. Я был в восторге: предстоят три экспедиции. Первая – на большом катере для обследования течения реки Ухты (ниже города), реки Ижмы кверху от деревни Усть-Ухта, правого притока реки Ижмы – реки Ай-Ю-ва и левого притока реки Седью, на которой стоит совхоз «Седью» – резиденция панны Ирмы. Эта экспедиция на восемь дней. Вторая экспедиция для изучения реки Ухты от верховьев да города. Третья экспедиция для изучения притоков Ухты: Яреги, Кос-Ю и др. Первую экспедицию мы наметили с 14 по 21 июня, вторую – на июль, третью – на начало августа. Красота! Все лето в путешествиях, как на воле.
Организация и подготовка экспедиции была возложена на меня. Это была многоплановая канитель. Все надо было согласовывать, доказывать, объяснять, выписывать. Например, надо взять спальные мешки на семь участников. Выдают только четыре. Остальные могут спать под брезентом на палубе катера. Доказываю, что люди могут простудиться в первую же ночь, и это сорвет всю работу. Привожу данные о минимальной температуре июня, которая иногда снижается до заморозков. Убедил. Получил мешки на всех. То же самое с получением другого оборудования, продуктов (усиленный экспедиционный паек), запасного горючего и т. д. Много времени заняло оформление договора на получение катеров. Наконец все готово!
В начале июня я на два часа съездил в Седью повидать Ирму. Их бригада работала в поле. Сажали картофель. Ряды полек поредели, но те, что уцелели, покрылись загаром и выглядели лучше, чем зимой. Ирма несколько окрепла и старалась казаться веселой, но пани Анна, ее оберегательница, сказала, что Ирма, как и большинство полячек, ни разу не получила ответа на ее письма родным и знакомым. И это ее очень угнетает.
Как помочь Ирме? Я даже обдумывал возможность обратиться за помощью к Болдыреву-отцу, который был очень доволен результатами моих занятий с Женей, но Александр Иосифович и Богдан Ильич убедили меня в абсурдности этой мысли. К тому же шли последние занятия. Начинались экзамены. 10 июня я дал последний урок, в завершение которого Болдырев передал мне конверт, а в конверте сверх платы за июньские уроки были три красных тридцатки – премия за успешные результаты. Я чувствовал себя как Uberwinder[46]. Во-первых, справился с трудной задачей: приручил и научил оболтуса. Во-вторых, заработал более 300 рублей – большие деньги в довоенное время, а для заключенного – целое состояние.
Первая экспедиция начиналась. Я чувствовал себя участником почти великих географических открытий! Ведь река Ай-Ю-ва была на картах обозначена местами пунктиром, а у ее притоков были намечены только устья! Утром 14 июня наша экспедиция погрузилась на катер и двинулась вниз по Ухте. Экспедицию возглавлял профессор Мацейно – ответственный руководитель гидрометслужбы Ухткомбината. Участники: недавно освободившийся геолог Георгий Иосифович Боровко – в прошлом участник многих экспедиций академика Ферсмана, теперь старший научный сотрудник ЦНИГЛ; гидрометр Пастианиди; бывший казачий урядник Сидоров, недавно освободившийся и принятый к нам старшим рабочим; конечно, я – безответственный руководитель гидрометслужбы, как меня иногда называли Лев Флоринский и Лонгфелло; команда катера состояла из двух человек: капитана (он же рулевой) и моториста (он же матрос). Всего «семеро смелых».
День выдался ясный, теплый. Катер бодро бежал вниз по течению. Миновали город. Кирпичный завод, где отбывал срок украинский сатирик Остап Вишня. Дальше берега стали круче, их покрывала густая тайга. Нигде не видно ни избушки, ни сторожевой вышки. Я лежал на верхней палубе, так называли крышу над каютой, на толстой кошме и с удовольствием смотрел на быструю реку, лесистые берега. Господи, спасибо за этот день на природе, за этот глоток свободы.
Первая остановка была в Усть-Ухте – большом зырянском селе у впадения Ухты в Ижму. Наш катер на полном ходу вырвался на середину этой очень широкой реки и, развернувшись лихо, подошел к причалу, подняв крутую волну. С невысокого берега флегматично смотрели комики[47], беззвучно несла огромные массы холодной воды серо-голубая Ижма, где-то мычала корова, нарушая глубокую северную тишину.
Село раскинулось просторно, но выглядело угрюмо, голо. Серо-коричневые деревянные двухэтажные избы с крытыми дворами тянулись вдоль берега. Пахло гнилой рыбой. Чувствовалось запустение. Не похоже было на райцентр. Над большой избой повис выцветший красный флаг – тут был райсовет. Заплеванное крыльцо. На скамейке у крыльца сидят мужики, худо одетые, бородатые, курят. У коновязи две худые лошаденки под обшарпанными седлами. Какое скучное место! Хуже лагеря.
Мы купили рыбы и умчались на другой берег. А там был сосновый бор. Красиво, чисто, ароматно от нагретой солнцем хвои. И комаров нет еще. А какую уху сварил наш гидрометр Пастианиди. Недаром говорят, что греки – непревзойденные повара. Александр Иосифович жмурился от удовольствия и хвалил грека.
Оставшийся день мы поднимались вверх по Ижме и достигли устья реки Ай-Ю-ва часам к двадцати.
Ночлег. Полночь. Костер, окопанный канавкой. Черные ели вокруг, черная вода под обрывом, чернота кругом… Даже звезд не видно. Тишина шумит в ушах, и только потрескивает костер, и в неровном пламени костра колышутся, вырванные из мрака стволы ближайших елей.
Команда и Сидоров спят на катере, Александр Иосифович – в каюте. Боровко, Пастианиди и я сидим у костра и наслаждаемся ночью. Спать будем тоже у костра. Уже наломали еловые лапы. Получились прекрасные ложа, сверху спальные мешки, а над нами как балдахин простерлись огромные ветви вековых елей. Боровко рассказывает об, экспедициях: памирской с Ферсманом, монгольской – с Петром Кузьмичом Козловым, знаменитым исследователем Центральной Азии. Я думаю, что только лагеря и тюрьмы дают представление о счастье общения с умными, добрыми, интеллигентными людьми среди хамства и серости. И какой же я счастливый, что нахожусь среди таких людей, люблю необыкновенную девушку, ощущаю всю прелесть ночи в неистоптанном лесу, далеко от зоны, стрелков, комендантов, лагерной грязи и хамства.
Следующий день был занят определением расхода воды реки Ай-Ю-ва в устье, отбором проб воды на химический и бактериологический анализы. На третий день мы стали подниматься вверх по течению, замеряя расходы воды впадающих речек. По пути обнаружили безымянную речку, которую назвали в мою честь Юра-иоль и под этим названием нанесли на карту. К концу дня мы повстречали пороги, которые катер не смог преодолеть. Александра Иосифовича интересовали левобережные притоки, расположенные выше порогов, которые несли темноокрашенную воду из торфяных болот. Поэтому он решил подняться вверх пешком и взять пробы воды из этих притоков. Энтузиазма это предложение не вызвало. Тогда он спросил, кто пойдет с ним. Я с удовольствием принял это предложение. Остальным надлежало ждать у порогов, определять расход воды и ловить рыбу.
Рано утром четвертого дня экспедиции мы отправились вверх, захватив с собой еду, холодный чай в бутылках, топор и др. Утро было прохладное, кое-где блестел иней, шагалось легко. Мы быстро шли сосновым баром по ковру серо-зеленоватого ягеля (олений мох). В лесу было тихо-тихо и только кое-где слышались голоса птиц. Через несколько часов стали все чаще попадаться овраги, некоторые были забиты буреломом, и приходилось обходить но реке, а потом снова подниматься в лес, потому что берег у воды был непроходим.
Наконец часам к шестнадцати мы дошли до реки Вон-ю, левого притока Ай-Ю-ва. Вода в Вон-ю была темно-коричневая, со специфическим торфяным запахом. Мы очень устали, так как были в пути уже десять часов. С удовольствием расположившись на бережку этой черной реки, мы плотно пообедали, допили чай и в освободившиеся бутылки набрали пробы воды, опечатали пробки сургучом. Надо было возвращаться, но на обратный марш не осталось сил. Мы решили срубить плот. Топор был отличный, сухостойные небольшие елки рубились довольно легко. Несколько подходящих стволов нашлось на берегу. Часа через полтора уже связали небольшой плотик. К сожалению, веревки было мало, и в основном вязали плот ветками ивы. В довершение срубили две тонкие березки для шестов, сели, оттолкнулись от берега и понеслись с драгоценным грузом в рюкзаках.
Течение реки Ай-Ю-ва было быстрое, и мы едва успевали управляться с шестами, отталкиваясь то от огромных валунов, то от севших на перекатах коряг. Местами нас разворачивало задом наперед, местами плот задевал за камни, но мы быстро двигались вперед и надеялись до наступления темноты достичь порогов, у которых остался наш катер.
Уже заметно стемнело, когда мы увидели на левом берегу большой костер, и почти одновременно плот скребнул по камням, нас тряхнуло, обдало водой, мы проходили порог. Еще толчок, еще. Я чувствовал, что бревна расходятся, и правил к берегу. Порог миновали, и шест уже не доставал дна. У берега я вцепился в куст, остановил плот, бревна разошлись, и профессор оказался по шею в воде. От костра уже бежали наши спутники. Бутылки с пробами воды уцелели.
Нас ждал роскошный ужин: пирамида из кусков свежепрожаренной рыбы, сладкий чай, хлеб с повидлом. Александр Иосифович был очень доволен нашим путешествием на плоту и даже включил его в отчет.
На другой день мы дошли до устья реки Седью и остановились для замеров расхода воды. Завтра к середине дня достигнем совхоза и увидим Ирму. Я долго не мог уснуть и сидел на корме катера под зеленоватым небом белой ночи, слушая, как тихо плещется вода на перекате.
Утром 20 июня наша экспедиция отправилась вверх по реке Седью. С каждым километром все ближе к Ирме! Течение было довольно быстрое, и катер шел вверх по реке медленно. На перекатах было совсем мелко. Около одиннадцати часов порожистый перекат преградил путь. Катер бродил около переката. Я и матрос спрыгнули в воду искать проход. Увы! Прохода не было.
Капитан отказался продолжить путь и рекомендовал быстрее возвращаться в устье, так как по его наблюдениям уровень воды снижается из-за сухой, жаркой погоды и мы можем застрять на нижних перекатах!
Сердце мое давило горе. Быть в пятнадцати километрах от совхоза и повернуть обратно! Не увидеть Ирму! Встреча с ней была одной из главных моих целей в экспедиции! Все мне очень сочувствовали. Александр Иосифович, утешая, обещал еще одну экспедицию специально на реку Седью на лошадях, но это мало меня утешило. Ведь сегодня встреча не состоялась.
Катер, царапая дно, прошел нижние перекаты. Вода падала. Наконец мы вошли в холодную Ижму и решили оставшийся день и ночь провести на берегу, понаслаждаться свободой, а в ночь с 21 июня на 22-е приплыть в Ухту. У меня было подавленное настроение, и, несмотря на отличную погоду, я не купался и не ловил рыбу, а лежал под сосной на мысу и тупо смотрел, как быстрая светлая Седью впадает в широкую, спокойную Ижму.
21 июня наша экспедиция отправилась в Ухту – столицу Ухткомбината и прибыла около четырех часов утра к ухтинскому причалу. Сидоров остался на катере с вещами и приборами ждать подводу, а остальные участники пошли отсыпаться.
Разбудил меня громкоговоритель, который голосом Левитана вещал, что будет передано важное правительственное сообщение. Был уже полдень. Молотов, слегка заикаясь, объявил о нападении Германии, о бомбежке Киева, Севастополя, о боях на всем протяжении границы. Я выскочил из-под полога, вбежал в среднюю комнату и увидел бледные лица моих коллег, стоявших под черной тарелкой репродуктора. У Александра Иосифовича тряслись губы. «Могут начать нас расстреливать», – пролепетал он. Все молчали. Я вспомнил слова Тодорского об истреблении командного состава Красной Армии в 1936—1938 годах и его мрачный прогноз об ослаблении обороны страны. Было жутко.
Первые дни войны ознаменовались усилением лагерного режима. Нас всех переселили на житье в зону. Пропуска ограничили во времени (с 6 часов утра до 9 вечера). Через несколько дней только профессору Мацейно разрешили жить на метеостанции, чтобы обеспечивать ночные наблюдения. Многие вольнонаемные и стрелки ВОХР были мобилизованы. Место опытных стрелков охраны заняли старики коми, негодные к строевой службе. Их вооружили какими-то допотопными ружьями. Мобилизовали окончивших школу десятиклассников, в том числе Женю Болдырева. Его по протекции всесильного генерала Бурдакова – начальника Ухткомбината. – направляли в офицерское училище.
Женя пришел попрощаться и очень благодарил за обучение немецкому. В аттестате с серебряной полосой у него по этому предмету была написано «отлично». Прощаясь, он сказал, что будет кричать немцам «Hande hoch!» и допрашивать пленных по-немецки.
Через несколько дней в зоне совхоза отключили радио, а затем сняли репродукторы и перерезали провода трансляции у нас, на опытной станции и в других местах, где работали заключенные. Эта изоляция от информации рождала слухи о неблагополучии на фронте и усиливала тревогу. Были арестованы все немцы-заключенные, занимавшие командные должности, в том числе и мой одноэтапник Александр Иванович Блудау, колбасный мастер на мясокомбинате. Были арестованы также бывшие заключенные-немцы, работавшие в управлении, на производстве, в снабжении; говорили, что их всех расстреляют.
3 июля прибежал Рабинович, вернувшийся с городского водомерного поста, и сообщил, что на площади мощный динамик извещает о предстоящем важном правительственном сообщении. Ветер дует в нашу сторону, и, если встать у забора со стороны города, можно услышать. Мы все побежали туда и вскоре услышали знаменитое выступление Сталина. Голос у Сталина был хриплый, временами слышалось, как он лил воду. Мы поняли, что взят Минск, занята большая часть Белоруссии и Прибалтики. Положение трудное, и Сталин обращается к народу. Никогда раньше в речи великого вождя не звучали тревога и просьба.
В конце июля Рабинович принес сногсшибательную весть. Между правительством СССР и польским эмигрантским правительством заключено соглашение о борьбе против немцев. По радио будет передано завтра обращение польского премьера генерала Сикорского ко всем полякам, находящимся в СССР. Действительно, выступление Сикорского транслировалось по радио, и заключенным-полякам было разрешено его послушать. Польский премьер объявил, что на территории СССР будут формироваться польские войска для освобождения Польши. «Hex жие Польска!» – закончил этим призывом свое выступление Сикорский. Поляки, полуголодные, ободранные, стояли и плакали. Некоторые целовались, как в светлое Христово воскресение.
В ближайшие дни братья поляки преобразились. Им объявили, что скоро начнется запись в Войско Польское, что им можно не ходить на работу, и они стали неузнаваемы. Сгорбленные спины распрямились, головы поднялись, походка стала тверже. Объявилось очень много офицеров. Какой-нибудь захудалый сторож и дневальный в бараке превратился в пана майора или пана полицмейстера. В первую очередь вызывали и записывали офицеров. Их переводили в благоустроенный ОЛП № 1 (образцовый лагпункт), откуда убрали советских заключенных. Перешел на житье в ОЛП № 1 и Иероним, записавшийся в Войско в первые же дни. Он иногда навещал нас, рассказывал много интересного.
Я писал в Седью и просил Ходичу Зариповну организовать встречу с Ирмой. Энергичная Ходича-ханум упросила Сванидзе дать направление Ирме на Ветлосян (сангородок для заключенных) по поводу ее контузии на лесоповале. Мне сообщили, что Ирму сопровождает комендант Попов. В назначенный день я ждал в лесу у поворота с тракта Ухта-Крутая на Ветлосян возвращения Ирмы из сангородка.
Попов дал нам час на беседу и улегся под березу, а мы ходили неподалеку и тихо разговаривали. В совхозе «Седью» уже все знали об организации Войска Польского. Несколько женщин уже вызвали и перевели в ОЛП № 1. У Ирмы нашлись влиятельные родственники, и даже объявился жених, бывший поручик. Вчера от него доставили письмо. Ирма сказала, что у нее сердце разрывается. Долг призывает ее в Войско, а меня она не хочет оставить. Ирма говорила, что много думала и решила остаться в Ухте. Будет вольнонаемной, станет помогать мне, ждать моего освобождения.
Я и обрадовался, и ужаснулся ее решению. Во-первых, если она не поступит в Войско, то ее могут вернуть в лагерь. Во-вторых, если даже ее и оставят на положении вольной, то это не значит, что ей разрешат работать у нас, а могут направить в другой город, и, в-третьих, хотя мне осталось два года до конца срока, пока не закончится война, никого не освободят. С 23 июня освобождение заключенных нашей категории было приостановлено. Все это я рассказал Ирме и просил вступить в Войско.
Ирма плакала, у меня тоже разрывалось сердце. Подошел Попов. Свидание было окончено.
Мне стало известно, что полячки были очень раздражены, узнав об этой встрече Ирмы со мной и об ее отказе встретиться с женихом-поручиком. Панна Анна – оберегательница Ирмы – говорила Ходиче-ханум: «Пан Юрий – хороший человек, но он москаль. У них нет общей культуры. Не передавайте ему писем от Ирмы». В результате Ирма была переведена в ОЛП № 1 только накануне отправки первого эшелона поляков. Иероним, который уже более недели жил на ОЛП № 1, встретил Ирму вечером, когда уже выход из зоны был запрещен. Она передала ему для меня письмо и сказала, что завтра ее увозят первым эшелоном. Иероним побежал утром на метеостанцию. Я был на полях. Ждал он меня часа три.
Прочитав коротенькое горестное письмецо, я побежал с Иеронимом к эшелону, стоявшему на запасных путях. Надо было пробежать весь город, перейти мост и еще бежать, бежать по железнодорожным путям. И вот, когда мы уже бежали по шпалам, раздался протяжный гудок паровоза, затем послышался шум отходящего поезда. Свет померк в глазах. Иероним подхватил меня, свел с линии и сопровождал до метеостанции. По дороге мы простились. Его эшелон уходил завтра. Армия генерала Андерса формировалась, вызволяя заключенных поляков.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Лето незаметно кончилось. Стало уныло, пусто. Нет Ирмы. Что с ней? Нет Иеронима-Базилишка, к которому я очень привык. Перешел на опытное поле Богдан Ильич – стал старшим агрономом. С каждым днем становилось все тревожнее и, возвращаясь вечером в зону, никто не был уверен, что утром его выпустят снова. Радио по-прежнему не работало, а слухи были невероятные. Говорили, что окружен Ленинград, пал Смоленск, заняты Одесса, Киев, множество других городов. Становилось голодно. Нашу столовую при опытной станции давно закрыли, и мы довольствовались общей кухней в зоне.
Как-то утром, выйдя из зоны, я увидел на траве иней. Стало еще тоскливее. По дороге на метеостанцию сочинил стихи:
На траве и в сердце иней, Близится зима. Не видать ни дали синей, Ни ее письма. Не повеет ветер с юга, Зазвенев в листве. Жди, когда завоет вьюга, А не жди вестей, Жди, когда закроет небо Северная ночь, Жди, борись за пайку хлеба, Жди. Иль ждать невмочь? Жди, а если ждать нет силы, Погружайся в сон, Будет сердце с сердцем милой Биться в унисон. Будет радость встречи с милой, Словно боль, сильна, Потрясенный счастья силой Встрепенусь от сна, Задохнусь, сожмусь от муки Губы…………………… Боль любви и боль разлуки Переживши вновь. И ничто, никто не сможет Боль души унять. Дай мне силы, боже, боже, Беспробудно спать.На самом деле спать было некогда. К нам пришло пополнение. В Ухту приехали семьи многих вольнонаемных, до войны живших в Москве. Кое-кого устроили к нам, благо наша резиденция находилась в черте города. В том числе был устроен на должность метеонаблюдателя Сережа Борман – внук известного фабриканта шоколада Жоржа Бормана. Сережин отец после освобождения работал в проектном отделе, а Сергей с бабушкой приехали к нему. Еще были приняты две дамы – жены геологов. Наш дружный коллектив разрушился. Я учил новых сотрудников технике метеонаблюдений. Дамы были абсолютно неспособны, а Сергей быстро усвоил азы и охотно работал. Он в 1941 году окончил школу, но не был взят в армию из-за порока сердца.
Сергей рассказывал о воздушных тревогах и бомбардировках Москвы, по ночам он слышал канонаду приближающегося фронта. Позвонила Болдырева и сообщила, что Женя убит под Ленинградом. Их офицерское училище бросили закрывать прорыв, и почти все курсанты погибли. Очень жалко Женю. В телефон было слышно, как плакала его мама.
В октябре был открыт пост на реке Ижме у деревни Пожня, выше впадения реки Ухты, недалеко от устья реки Ай-Ю-ва. Наблюдателем приняли местного жителя Власа Трофимовича Хозяинова, рыбака и охотника. Этот высокий крепкий старик (бывший солдат гвардейского Семеновского полка) был очень полезным сотрудником. Он не только не нарушал график наблюдений на постах, но и каждый месяц привозя отчет, доставлял какой-нибудь гостинец: ржаные лепешки, пирожки с картошкой или с рыбой, а однажды (на мой день рождения) – добрый кусок лосиного мяса.
В конце октября меня чуть было не застрелили. Утром я вышел из зоны, направляясь на станцию, и проходил мимо подконвойной бригады, вырывавшей из замерзающей земли репу. Я шел очень быстро, и стрелок подумал, что убегает кто-то из его подконвойных. Он крикнул мне, но я на ходу сочинял стихи и ничего не слышал. Тогда конвоир выстрелил. Вся бригада начала кричать: «Юра, стой, стреляют!» Я остановился только после второго выстрела. Хорошо, что стрелок был старый и полуслепой. Я подошел, показал пропуск, тогда он добродушно сказал: «Однако, паря, постарел я. Сшибал раньше-то с первого выстрела».
В ноябре начались холода. Выходя из зоны, мы бежали по переметенной дороге, продуваемые ветрам, через поля и долго не могли отогреться у печки, растопленной строгим казаком Иваном Васильевичем Сидоровым, нашим вольнонаемным рабочим. В полдень мы варили картошку по две штучки на брата и пили чай «мусорин». В зоне кормили совсем плохо. Лагерь был переведен на самоснабжение, и основным в рационе была гнилая картошка и капуста.
Ходили слухи, что бои идут уже в Москве. Вольнонаемные сотрудники рассказывали об эвакуации правительственных учреждений и дипкорпуса в Куйбышев, об эвакуации заводов, детских домов, школ за Волгу, за Урал.
Был на Ветлосяне по лечебным делам. Видал А.И. Тодорского. Комкор сильно сдал. В первые же дни войны он написал заявления Тимошенко и Ворошилову с просьбой направить его в действующую армию и предоставить ему командование корпусом, или дивизией, или хотя бы полком. Ответа не было. Он написал Сталину, но просьба его так же осталась гласом вопиющего в пустыне.
За несколько дней до моего дня рождения прошел слух, что наступление на Москву приостановлено и под Москвой стягиваются огромные массы войск из Сибири.
Двадцать второй день рождения – 25 ноября – отметили весьма дружно. Влас Трофимович из Пожни привез несколько килограммов лосины. Борманы достали сыр, колбасу. Градов передал овощи для винегрета, капусту. Профессор Ясенецкий, шефствовавший над пасекой опытной станции, достал мед, профессор Зворыкин принес бутылку шампанского, а я купил у завскладом продбазы бутылку коньяка «Финь шампань». В довершение всего Борманы принесли корзину столового серебра, которое сохранила и привезла в Ухту бабушка Борман.
Все кушанья готовили профессор Мацейно и гидрометрист Пастианиди – оба великие кулинары. Лосина была и тушенная в кисло-сладком соусе, и жареная. Из рыбы сделали заливное, селедка купалась в горчичном соусе, винегрет в большой миске походил на мозаику, белокочанная свежеквашеная капуста с вкраплениями оранжевой моркови и рубиновой клюквы, краснокочанная капуста маринованная. Все это было красиво расставлено на столе. На сладкое был приготовлен рисовый пудинг на меду с изюмом. Среди этого изобилия стояли не только бутылки с этикетками, но и самодельные из спирта, получаемого для химлаборатории опытной станции. Над столом повесили мой портрет, выполненный тушью художником Львом Премировым.
За стол сели двенадцать человек. Именно человек, а не загнанных зэков, стоящих, может быть, у края пропасти, как поется в лагерной песне. Профессор Зворыкин открыл застолье, сердечно поздравил меня с 22-летием. Очень остроумно он связал мифологические образы с нашим положением. Богдан Ильич в свой тост вставил стихи Мицкевича из «Пана Тадеуша». Лев Флоринский прочитал поздравление в стихах, где были и пророческие строки:
Вы посетите и страны заморские, Лондона Сити и храмы Таи[48], Девушка телом Венера Милосская Вас успокоит в объятьях своих…(Много лет спустя я посетил и Англию, и Таиланд, и еще множество стран.) Борман-старший играл на гитаре и вместе с Сергеем очень приятно пел старинные романсы и, даже, страшно сказать, сочинения запрещенного Вертинского.
Вспоминая об этом дне, я еще раз убеждался, что нигде так не умеют радоваться, как в лагере и в ссылке, если имеется хоть какой-нибудь повод для радости. Действительно, «жизнью пользуйся, живущий; мертвый, тихо в гробе спи». С этим перекликается один из жестоких лагерных афоризмов: «Ты умри сегодня, а я завтра». На другом афоризме: «Если сможешь – отними, если сможешь – укради, если не сможешь отнять или украсть – проси, если ничего не можешь – умри» – построены обычно отношения в лагерных зонах, где реальная сила – это урки, создающие дополнительный гнет унижения, расчеловечивания. Поэтому ничто так не приучает ценить хорошие человеческие отношения, интеллигентность, доброжелательность, как лагерная античеловечная действительность.
В начале декабря всезнающий Франкфурт шепнул мне: «Подключают радиосеть в зоне». И через два дня все радиоточки в зоне заработали. Передавалось о начале разгрома немецких войск под Москвой. В этот же день мы узнали о нападении Японии на США – уничтожении флота в Пёрл-Харборе.
В январе Московская область была полностью освобождена от немцев. Франкфурт многозначительно говорил: «Теперь ясно, что Гитлер проиграл войну. На два фронта он воевать не может!» Когда ему объясняли, что второй фронт еще не открыт и, по существу, происходит единоборство СССР с Германией, он говорил: «Второй, вернее, первый фронт – это евреи. Это скрытая сила, но действенная. Мы будем преследовать немцев и после войны». Бедный Франкфурт не дожил до воплощения своей мечты. Он умер в лагере до конца войны, но еврейский международный комитет вел очень активно поиски нацистов во всех странах и выловил очень многих, в том числе и Карла Эйхмана – начальника отдела по делам евреев в ведомстве Гиммлера, и казнили его в Израиле в 1962 году.
После разгрома немцев под Москвой нервозность в лагере уменьшилась. Как вдруг в одно вьюжное февральское утро почти у всех работавших за зоной в проходной будке отобрали пропуска, в том числе и у меня, Льва Флоринского, Пастианиди. Примерно через час нам объявили выход на лесоповал под конвоем. Начались трудные дни. В густой утренней темноте нас выводил конвой из зоны. Шли километра три на другой берег Ухты, углублялись в лес, десятник отмерял делянку сплошной вырубки. По углам делянки мы разводили костры. У костров вставали конвоиры, а мы начинали валить деревья, обрубать сучья, распиливать стволы на двухметровые бревна, складывать их в штабеля, а сучки подбирать и сжигать.
Сплошная вырубка – трудная работа. Лес в основном был чахлый ельник. Тонкие стволы елок почти от земли были густо усеяны сучками и ветками. Обрубать их было очень канительно, в норму они не входили, а тонкие стволы давали ничтожный процент выработки. Работали парами. На пару норма – 12 кубометров. Глубокий снег очень затруднял работу. Перерыв – около 30 минут – был примерно в полдень. Мы собирались к большому костру, где сжигали сучья и ветви, садились на ветви или бревна, и те, у кого оставался после завтрака хлеб, нанизывали кусочки на палочки и поджаривали на костре. Это называлось «делать шашлык». Некоторые даже брали кружки или котелки и, нагрев в них снег на костре, получали теплую водицу. Мы со Львом в эту водицу клали горсточку сухого шиповника, собранного еще осенью, и пили витаминный напиток с кусочком хлеба примерно 100—150 граммов. После такого «обеда» – снова за работу до темноты. Потом десятник замерял кубометры, и мы тащились в зону. Норму почти никто не выполнял и поэтому не получал ни премблюдо, ни полную пайку хлеба.
К середине февраля мы уже сильно отощали. Градов дважды передавал мне немного вареной картошки, но это не восполняло затрату энергии на тяжелую работу. Профессор Зворыкин сообщал, что он хлопочет о нашем расконвоировании, но дело идет туго. Действуют «Общие указания»: всех заключенных моложе сорока лет держать под конвоем. В чем же дело? Точной информации не было, а слухов было полно. Говорили, например, что немцы выбросили авиадесант не то в районе Инты, не то в Воркуте. По другим слухам, на Севере произошло восстание заключенных в каком-то лагпункте. Восставшие перебили конвой, захватили оружие и стали продвигаться вдоль железнодорожной линии, освобождая по пути лагпункты. Для подавления восстания были направлены отряды стрелков из окрестных лагерей и даже мобилизованы партийные работники управления Ухтижмлага. В Ухте действительно многие вольнонаемные и работники ГУЛАГа были мобилизованы и отправлены на Север. Поэтому-то и были законвоированы все нестарые заключенные, независимо от выполнявшейся ранее работы (геологи, буровики, дорожные рабочие, специалисты разных профилей). Эта мера наносила большой ущерб производству Ухткомбината, и мы надеялись, что начальство будет вынуждено ослабить режим.
17 февраля – день моих именин. Богдан Ильич передал мне вечером накануне в подарок сахар и ячменную лепешку. Лев скорбел, что ему нечего мне подарить. По дороге в лес я мечтал попасть на удачную делянку, где были бы сосны. К нашей радости, в отведенной делянке на холмике красовалась огромная сосна с гладким стволом и высоко расположенной широкой кроной. Мы решили ее захватить. И как только конвой крикнул: «Расходись по делянке!», мы кинулись к этой великой сосне, прыгая, словно зайцы, в глубоком снегу. Сосна стояла на противоположном конце делянки. Мы рвались к ней. Сердце выскакивало из груди. Половина лесорубов бежала наперегонки за нами. Уж очень велик был приз. Мы добежали первые и упали в снег у ее мощного ствола, обнимая его с двух сторон. Сосна досталась нам. Это был мой именинный пирог!
Мы с удовольствием спилили это серовато-оранжевое чудо. Оно тяжело упало в сторону поляны, подняв вихрь снега. Распиливать ствол было нелегко, но каждый двухметровый балан тянул на полкубометра. К перерыву мы уже почти закончили обрабатывать эту красавицу, получив около девяти кубометров. Нам оставалось до нормы еще три, что можно было одолеть после перерыва. Мы с удовольствием попили сладкий чай, съели ячменную лепешку Богдана Ильича, обсудили переданное утром по радио сообщение о взятии японцами Сингапура. За этот день мы заработали 105 процентов нормы, получили 800 граммов хлеба и премблюдо – ржаной пирожок с картошкой. Через несколько дней нас расконвоировали, и мы с огромным удовольствием отправились в свою любимую гидрометслужбу.
Конец зимы и весна прошли в напряженной работе. По распоряжению начальника Ухтижмлага гидрометслужбу обязали составлять обзор метеорологических условий за каждый месяц, он тиражировался для отделов управления и производственных подразделений. Увеличился объем гидрологических работ. На полях проводилось определение глубин промерзания и оттаивания почвы, а в лесу продолжались снегосъемки.
На лето планировалась экспедиция в верховья реки Ухты. Июль выдался теплый. В экспедицию мы отправились вчетвером: Пастианиди, Флоринский, казачий урядник Сидоров и я. Нас доставили в верховья Ухты на грузовике, там мы соорудили большой плот. Установили на носу палатку, на корме – место для костра и медленно стали сплавляться вниз, останавливаясь у каждого впадающего ручья или речки для отбора проб на хим-анализ и замера расхода воды. В верховьях Ухты были выходы радиоактивных вод, и даже был так называемый «водный промысел», где, перерабатывая радиоактивные воды, получали соли радия. Эти соли использовались в военной промышленности, и их самолетами отправляли в Москву. Отработанные воды сбрасывались в Ухту, хотя они еще имели радиоактивность.
Эта экспедиция по настроению существенно отличалась от прошлогодней. Та была в предвоенное время и для меня осенялась ожиданием встречи с Ирмой. В 1942 году все было напряженней, суровей. В мае началось наступление немцев на Украине и в Крыму. Были сданы Харьков, Севастополь. Шли слухи о возможном ужесточении лагерного режима. Поэтому пребывание в течение десяти дней вне зоны на природе воспринималось как божий дар, но возрастающая вероятность законвоирования придавала много горечи этому дару.
Как бы то ни было, плыть на плоту чудесно. Можно в любое время купаться. Можно остановиться у красивого бережка и набрать необычно рано поспевшей черники, грибов. От комаров спасали тлеющие головешки плотового костра и ветерок, тянущий вдоль реки. Напряженно работая, мы уже в первые дни произвели множество замеров и отобрали много проб воды. Сидоров собирал белые грибы, насыпал их в ведро горой и долго варил на медленном огне в малом количестве воды. Грибы оседали, уваривались, распространяя дивный аромат, и, когда оставалось полведра этого чудесного супа, белого, как от молока, начиналось объедение. После супа ели чернику кто сколько сможет. Вечером еда была более прозаичная: каша из сухого пайка и чай «мусорин».
Через десять дней, 25 июля, мы вернулись в Ухту. В зоне совхоза мне встретился Г.М. Примаков. Его брат, знаменитый комкор Виталий Маркович Примаков, командовавший конным корпусом во время гражданской войны, был расстрелян в 1937 году. Так вот брат комкора получил за родство десять лет и работал в конторе совхоза. Он горестно взглянул на меня и тихо сказал: «По радио передали, что Ростов сдали. До чего довели страну. Кровью платим!» За что платим кровью, он не сказал. И так было ясно.
Голодно. Мы с Львом Флоринским собираем лебеду, крапиву, щавель. Профессор Мацейно все это варит, добавляя специи, и мы едим зеленый супчик. Богдан Ильич сделал из бревна большую ступу, а из березового полена – пест. Я прихожу к нему на опытное поле и толку зерна в ступе (в основном старый невсхожий ячмень), а он варит кашу – тоже подспорье. Вспоминаем те блаженные дни, когда на опытной станции была своя столовая, когда мне А.И. Блудау подкидывал из мясокомбината то колбаску, то сальце. Все заметно отощали. Наш шеф профессор Мацейно чаще обычного ведет разговоры на гастрономическую тему. Вольные снабжаются значительно лучше, но и они поскуливают. Деньги обесценены. На рынке пачка махорки стоит 40—60 рублей, бутылка постного масла – 200—300 рублей. Зарплата вольнонаемных годится только на выкуп пайка по карточкам. Начальство свирепствует. Планы увеличивают, заключенных не хватает, да и они слабеют от такой гонки. Освобождающихся бытовиков сразу забирают в армию, новых заключенных поступает меньше, да и поляки уехали. Ходят слухи, что Войско Польское не хочет воевать с немцами на нашем фронте и генерал Андерс добивается вывода Войска в Иран. Что с Ирмой? Писем от нее нет.
Профессор Мацейно очень робел перед начальством. На его беду, начальник управления комиссар госбезопасности С.Н. Бурдаков все более интересовался гидрометеорологической информацией и нередко вызывал Александра Иосифовича на доклад. Обычно, получив такое приглашение, он начинал страшно суетиться. Хватал множество материалов, путался в них, сердился, заставлял всех спешно чертить какие-то графики, составлять таблицы. От волнения у него расстраивался желудок, а он боялся, что желудочные дела могут его задержать, и волновался еще больше, боясь опоздать к грозному начальнику. Я его всегда сопровождал в этих походах в качестве носильщика многочисленных иллюстраций и ожидал в приемной возвращения моего бедного шефа из страшного кабинета.
Вскоре после возвращения из экспедиции Александра Иосифовича неожиданно срочно вызвали в управление. Времени на подготовку и желудочные дела почти не оставалось. Мы захватили множество материалов, и в том числе незаконченный отчет по экспедиции. В приемной начальника секретарь Леночка Брянчукова попросила нас подождать. У начальника был его заместитель – главный инженер полковник Зоткин. Вскорости у Александра Иосифовича начались желудочные дела, и он, обливаясь холодным потом, доложил Леночке о необходимости отлучиться. Леночка молча пожала плечами. Мол, дело ваше. И бедный профессор выскочил из приемной. Через минуту от Бурдакова вышел Зоткин, и звякнул звонок, означавший приглашение в кабинет. Леночка поджала губки, исчезла в кабинете и, вынырнув обратно, прошептала:
– Он очень сердится. Вы можете что-нибудь доложить?
– Попробую, – сказал я, хватая материалы. Леночка открыла дверь-тамбур, и я оказался в огромном кабинете. Бурдаков стоял посредине.
– Что Мацейно…? – спросил начальник, напирая на непроизносимый глагол. – Докладывайте о результатах экспедиции. Кратко. Не размазывая.
Я, «не размазывая», доложил основные результаты. Вошла Леночка, сообщив о возвращении Мацейно.
– Не надо, пусть уходит, – буркнул Бурдаков. Я ответил еще на ряд вопросов и был отпущен с миром. Но, возвращаясь, я заметил, что рубашка у меня под мышками мокрая. Это значит: я волновался и страшился. Мне было очень неприятно. Страх перед начальником – очень унизительное чувство. Мне потом рассказывали, что и наркомы на докладе у Сталина потели, как загнанные лошади, от страха. Для меня, бесправного заключенного, комиссар госбезопасности, заместитель начальника ГУЛАГа был не менее страшен, чем Сталин для наркома. К счастью, для профессора Мацейно этот поход был последним, и грозный начальник стал вызывать меня для докладов, но я уже больше не потел.
Опять угасает лето. Очень грустно. Хочется поплакать, но нельзя раскисать. Надо работать, читать, для души писать стихи. Лев тоже пишет. Мы друг другу читаем. Иногда читаем коллегам. Стихи утоляют голод. Кормят все хуже. Мы на метеостанции еще весной раскопали грядки. Каждому досталось около 20 квадратных метров. На опытном поле нам дали семена моркови, свеклы, гороха, репы – всего понемножку, по граммам. Все лето мы ухаживали за грядками. Пололи, поливали, прореживали. Я сильно прореживал, а Лев жалел растения. В результате к концу лета моя морковка была толще большого пальца и еще росла, а репа – диаметром 5—7 сантиметров. У Льва репки были размером с пятак, а морковки – не толще карандаша. Всех лучше была морковь в грядках Александра Иосифовича, чем наш шеф очень гордился.
У меня получился очень удачный опыт с картошкой. П.Я. Градов выделил нам нелегально весной по 20 клубней среднего размера для посадки. Он заверил нас, что осенью мы получим 20—25 килограммов. Флоринский и Пастианиди съели посадочный материал. Шеф посадил все клубни. Я же вырезал из клубней глазки с кожурой, а основную массу клубней съел. Эти обрезки я обсыпал золой и посадил в четыре довольно большие ямы, которые выкопал за домом на южной стороне среди дернины. Надо мной подсмеивались, но когда появились ранние и дружные всходы, а глазков было более ста, то скептики приумолкли. Несколько раз за лето я подсыпал землю со старых парников в ямы, наполовину засыпая ботву, наконец, вместо окучивания насыпал холмики над ямами и с интересом ждал результата.
На вскрытие первой ямки собрались все коллеги. Даже профессор Ясенецкий пришел с опытного поля. Картофель в яме расположился ярусами (по числу подсыпок). Первая яма дала около ста средних и крупных клубней и много мелочи. Примерно такой же урожай был и в других ямах.
Наш вольнонаемный рабочий – донской казак Сидоров – был потрясен эффектом. И восклицал: «В четыре ямы побросал очистки и собрал мешок картошки! Все равно, что клад нашел!»
Мрачная осень портит настроение, но изобретательный Богдан Ильич решил учить меня танцам. В качестве партнерши он пригласил агрохимика Тасю. Эта милая молодая болгарка еще до моего приезда работала на опытной станции. Ей дали восемь лет по подозрению в шпионаже, так как она посещала болгарское посольство, желая уехать к своим родственникам в Болгарию.
Уроки танцев проходили в конце рабочего дня, когда вольнонаемные уже уходили. Богдан Ильич наигрывал на гребенке танцевальные мелодии, показывал фигуры, а мы танцевали польку, мазурку, вальс и даже краковяк. Это очень развлекало, но потом начальник опытной станции запретил это веселье.
Поздней зимой я стал участвовать в драмкружке в совхозе и даже сыграл роль Баклушина в пьесе Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Шефствовал над нашим драмкружком известный в то время артист Эггерт, который играл Локиса в знаменитом фильме «Медвежья свадьба» по сценарию А.В. Луначарского.
Осенние дожди. На полях совхоза «Ухта» ползают в грязи заключенные, выбирая из размокшей земли картошку – главный продукт питания второй военной зимы. В этом году посевы картофеля были значительно расширены, построены картофелехранилища на 500 тонн каждое. Заканчивали стройку под дождями. Я представлял, как будет храниться урожай, собранный с грязью пополам, в сырых хранилищах. Обычно после засыпки картошку сразу начинали перебирать, отбрасывая начинающие гнить клубни на корм скоту и заключенным. Эта переборка продолжалась до начала посадки. Сгнивало в хранилищах 70—80 процентов заложенного урожая. Сохранившаяся картошка предназначалась для вольных и для посева.
Очевидно, технология хранения была негодной. Я высказал это предположение директору совхоза и попросил разрешения установить в нескольких хранилищах гигрометры (приборы для определения влажности воздуха) после окончания закладки картофеля. Действительность превзошла все ожидания. Даже в старых хранилищах относительная влажность воздуха была 96—98 процентов, а в новых – 100 процентов. На потолке висели капли! Значит, непрерывное гниение и переборка картофеля до весны, гнилье – для свиней и заключенных.
Постепенно я разработал методику оптимизации хранения картофеля и рассказал профессору Мацейно. Суть методики заключалась в следующем: во время морозов в воздухе остается ничтожное количество влаги. При температуре – 40°С максимальное содержание водяного пара не превышает 0,18 миллибара. В хранилище при температуре +2°С максимальное содержание пара достигает 7,05 миллибара, то есть их почти в сорок раз больше, чем при – 40°С. Следовательно, прогреваясь в хранилище, поток морозного воздуха действует как суховей (его относительная влажность ниже 3 процентов), осушая и хранилище, и картофель. При этом важно дозировать приток морозного воздуха и активно топить печи в хранилище, поддерживая положительную температуру. Обычно же во время морозов все вентиляционные трубы наглухо закрывают. Без оттока влажного воздуха влага, испаряемая картофелем и влажной землей, скопляется, создавая оптимальные условия для гниения, а не для хранения.
Профессор Мацейно одобрил методику и даже захотел подписаться под ней, но когда я сообщил ему, что хочу при наступлении морозов провести такой опыт в совхозном хранилище, он испугался и сказал: «Бронь боже! Если картофель померзнет – расстреляют». От подписи отказался и рекомендовал мне оставить эту опасную затею.
Но мне очень хотелось, чтобы несчастные заключенные ели хорошую картошку, а не гниль, поэтому я не внял советам осторожного шефа, а написал пространную докладную начальнику сельхозотдела управления Ухткомбината. Вскорости меня вызвали в сельхозотдел и дали мне жару. Во-первых, меня обвинили во вредительстве, попытке поморозить важнейший продресурс – картофель; во-вторых, признали, что все мои «теории» – это дилетантский бред, а в-третьих, прямо сказали, что меня нужно расстрелять, так как моя жизнь, конечно, ничего не стоит по сравнению с замороженным хранилищем.
После этого разноса я подал материал грозному генералу. С.Н. Бурдаков вызвал меня, выслушал, пообещал расстрел в случае неудачи и… разрешил провести сей опыт в совхозе «Ухта», отдав при мне распоряжение начальнику совхоза.
В декабре наступили трескучие морозы. Трескались промерзшие бревна новых построек, деревья, перевалило за 40 градусов. Я начал «расстрельный» опыт, поселившись в самом сыром хранилище. Под вентиляционными трубами на полу были установлены минимальные термометры, сверху картофеля в буртах – максимальные. Четыре гигрометра фиксировали относительную влажность, а в центре хранилища стояли термограф и гигрограф – самопишущие приборы, непрерывно регистрирующие температуру и относительную влажность на специальных лентах.
Старые большевички, в том числе и дамы из моего «клуба» (сотрудница Коллонтай, 3.Р. Тетенборн, Будзинская и Новицкая), продолжали переборку картофеля и поддерживали огонь в печках, а я регулировал приток морозного воздуха. Ложе свое я устроил за печкой, спал вполглаза урывками по два-три часа, закрывая на это время вентиляцию. Обед, завтрак и хлеб мне приносили старушки. Я выскакивал на воздух не больше чем четыре-пять раз в сутки на несколько минут. В хранилище воняла гнилая картошка, тускло горели и коптили керосиновые фонари в бункерах, где перебирали картошку. Заведующий хранилищами заходил каждый день, нюхал воздух, щупал сырую картошку и молча уходил.
Относительная влажность начала снижаться на третий день, когда я установил оптимальный режим вентиляции. К вечеру появился заведующий, долго принюхивался и неуверенно сказал, что вроде воздух стал суше. Показания приборов он по малограмотности игнорировал.
На четвертый день относительная влажность снизилась до 90—92 процентов. Перестало капать с потолка. Появился начальник совхоза, посмотрел показания приборов. Ушел молча. Я был рад, ведь молчание – знак согласия. На шестой день Зинаида Ричардовна Тетенборн принесла мне утром несколько сухих картошек. «Корочка, корочка», – радостно говорила она. Действительно, на поверхности клубней была корочка подсохшей грязи. Влажность воздуха снизилась до 75 процентов!
Еще пять дней тянулся этот опыт, но уже расстрелом не пахло, как не пахло ни гнилью, ни сыростью. На двенадцатый день относительная влажность опустилась ниже 70 процентов. Просыхание хранилища стало устойчивым. Я написал докладную начальнику совхоза, лично вручил ему и попросил создать комиссию по приемке опыта.
На другой день явилась комиссия в составе главного агронома сельхозотдела управления, начальника совхоза, старшего агронома совхоза и заведующего хранилищами. Комиссия предварительно посетила соседнее хранилище, где в бункерах гнила мокрая картошка. Различие в состоянии «важнейшего продресурса» было столь разительно, что начальник совхоза сказал, что такого эффекта он не ожидал.
– А как насчет расстрела? – непочтительно спросил я возглавлявшую комиссию главного агронома сельскохозяйственного отдела Журину, моего главного противника.
– А это от вас не уйдет, – прозвучало в ответ.
Я был в восторге. Убрал приборы и ложе, помылся в бане и с удовольствием уснул. На другой день узнал, что в «награду» начальник совхоза велел мне выдать банку фасоли в томате. Мой шеф и все профессора опытной станции поздравляли с победным окончанием опасного эксперимента. Дней через пять всем совхозам Ухтижмлага было предписано оптимизировать режим хранения картофеля и овощей по методике опытной станции.
После поражения немцев под Сталинградом стало ясно, что война вступила в новую фазу – наступательную, но конца ее еще не было видно. Лагерное население уже стало пополняться заключенными нового типа: гитлеровскими старостами и полицаями из освобожденных еще в 1942 году районов Подмосковья.
В конце зимы совхоз «Ухта» был неожиданно «оккупирован» немками. Это произошло внезапно. В один из мартовских дней нас срочно выселили из зоны совхоза и разбросали по окружавшим Ухту зонам. Работники опытной станции попали в лагпункт гужтранспорта в двух километрах от города. А на другой день зону совхоза наполнили несколько сот немок, бывших жительниц АССР немцев Поволжья, выселенных еще в начале войны в Сибирь. Они и стали основной рабочей силой в совхозе.
У нас в распорядке дня ничего не изменилось, только зона стала другая, но все зоны и их обитатели так похожи, что это не произвело впечатления. Мы продолжали жить своим кругом, как на острове. Весной работы прибавилось, время шло быстро. Думалось: сколько еще этих весен в лагере? А сколько всего жить осталось? А когда же будет освобождение? Представлялось: война окончилась, всех освободили (конечно, только окончивших срок), и я еду на юг. Сижу на ступеньке вагона, и теплый ветер шевелит мои волосы, а колеса стучат: на юг, на юг, на юг… Впереди Москва, а потом я уеду поближе к Черному морю, где нет проклятой зимы, колючей проволоки и гнусного лагерного быта.
Восьмого июня, когда я возвращался в зону, дежурный в проходной сказал, что меня утром девятого вызывает нарядчик. Я несколько обеспокоился и попросил Флоринского сообщить шефу и начальнику опытной станции профессору Зворыкину, что, если меня задержат в зоне, я жду их вмешательства и прошу о спасении.
В конторе нарядчик посмотрел на меня рыбьими глазами и тусклым голосом сказал, что пришли документы на освобождение с 10 июня. Поэтому надо подготовить к сдаче все лагерные вещи, кроме одежды, и десятого отправиться в УРО (учетно-распределительный отдел управления) получить справку об освобождении.
Это событие дошло до моего сознания значительно медленнее, чем объявление о продлении срока на пять лет, объявленное мне в Соловках в 1938 году. Я некоторое время стоял во дворе зоны, ничего не ощущая, как будто это меня не касалось. Потом медленно пошел на метеостанцию.
Профессор Мацейно и коллеги встретили меня радостными восклицаниями, но, вглядевшись в мое лицо (оно показалось расстроенным), стали обеспокоенно спрашивать:
– Что случилось?
– Мне объявили об освобождении, – невыразительно сказал я.
Изумление было всеобщим. Позвонили профессору Зворыкину. Петр Павлович поздравил меня и сказал, что срочно будет писать рапорт о направлении меня на опытную станцию в качестве вольнонаемного и получении на меня брони.
На другой день я получил в УРО справку об освобождении, где значилось, что «ввиду отбытия указанной меры уголовного наказания он, Чирков Юрий Иванович, с прикреплением к производству Ухтижмлага НКВД до конца военных действий, на основании директивы НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 29/IV-42 г. за № 155 из Ухтоижемского исправительно-трудового лагеря освобожден 10 июня 1943 года. Видом на жительство служить не может. При потере не возобновляется».
Итак, я освобожден до конца войны «с прикреплением». По существу, ничего не изменилось. Та же Ухта, тот же Север, та же работа. Только теперь я буду получать зарплату и продовольственные карточки. А где буду жить? Ухта была перенаселена за счет нахлынувших беженцев (в основном членов семей вольнонаемных). Хотя мне многие завидовали, даже мой друг Лев Андреевич, который закончил второй срок в 1942 году, но не был освобожден, я не ощущал ни облегчения, ни радости.
Хотя я и «освободился», но не везет меня поезд на юг, не треплет южный ветер мою шевелюру. Москва и родные так же далеки, как и были. И паспорта у меня не будет, а будет только справка об освобождении, которая нигде, кроме Ухты, «видом на жительство не является». Неожиданное освобождение окончательно развеяло все иллюзии. Даже ждать свободы, и мечтать о свободе было уже не к чему.
ПСЕВДОВОЛЯ
Стало быть, я считаюсь «вольным». Профессор Зворыкин договорился в сельхозотделе и в отделе кадров управления о моем зачислении на должность старшего метеоролога опытной станции. Он же сообщил, что мое освобождение – результат рационализаторского предложения по оптимизации режима хранения картофеля, давшего значительный эффект. В сельхозотделе сказали, что если бы это придумал вольный, то получил бы орден, а заключенному достаточно и «досрочного» освобождения, то есть раньше конца войны.
Через несколько дней все формальности были закончены, был издан приказ, назначен оклад 1100 рублей, выданы продуктовые карточки и пропуск в столовую для ИТР. Я записался в городскую библиотеку и легально посетил театр, попав на премьеру хорошей оперетты «Жрица огня» Валентинова. Написал домой большое письмо и… загрустил.
От тоски спасали работа, милые коллеги. Вечерами я нередко провожал их до лагпункта и сиротливо шел обратно на станцию, где уже снова жил профессор Мацейно, и мы проводили вдвоем длинные вечера.
В начале июля шефа и меня вызвал начальник управления. Он уже был в генеральских погонах, которые ввели с начала 1943 года, и выглядел весьма импозантно. Я был при галстуке и в сером польском костюме. До этого дня я посещал управление только в лагерной косоворотке, памятуя роковую встречу с начальством летом 1940 года. Бурдаков бегло взглянул на меня, но ничего не изволил вымолвить. Нам было предложено разработать климатический атлас территории Ухтижмлага. Когда аудиенция была окончена, генерал спросил меня как-то небрежно:
– Довольны? Устроились?
– Спасибо. Устроился, сплю на стульях у рабочего места.
– Подайте заявление в АХО, – буркнул генерал.
– Это бесполезно, город перенаселен, – сказал я, выходя из кабинета.
Через несколько дней меня вызвали в АХО (административно-хозяйственный отдел). Мне велели написать заявление, и спустя пару дней я получил ордер на комнату. Комната мне понравилась. Светлая, два больших окна, угловая, на втором этаже бревенчатого дома, в квартире на две семьи. Одну комнату занимает старший бухгалтер отдела общего снабжения с женой и свояченицей, другая предназначена мне. Кухня большая, с русской печкой и плитой. Свояченица соседа спит на кухне. Дом расположен недалеко от метеостанции – примерно в пятистах метрах. При доме индивидуальные сарайчики для дров. Дров у меня нет, мебели тоже. Снова в АХО. Подал заявление на мебель. Спрашивают, что надо. Я не знаю. Предложили взять напрокат стол обеденный, стол для занятий, полку для книг, тумбочку, шкаф платяной, стулья, кое-что из посуды. Я обомлел от такого богатства. Выписали ордер на склад. Плата за прокат символическая. На складе выяснилось, что в ордере нет кровати. Снова в АХО. Выписали кровать. Начальник позвонил и сказал, чтобы мне старья не давали. Я поражался такой любезности.
Действительно, мебель я получил вполне приличную. В мебельном комбинате в Ухте работали старые краснодеревщики. Приятно было расставлять эти добротные вещи. При расстановке выяснилось, что я не выписал настольную лампу, абажур на потолочную лампочку, вешалку и еще ряд мелочей. Не сообразил: отвык за столько лагерных лет от нормальной обстановки. Профессор Зворыкин, зашедший на «смотрины», сказал, что даже хорошо, что чего-то не хватает, а то коллеги не будут знать, что дарить.
О дарении к новоселью беспокоились и соседи в центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) отдела геологии Ухтижмлага. Там было несколько симпатичных девушек (вольных и заключенных), хорошо знакомых с обитателями нашей станции. Я к ним заходил, когда получил справку об освобождении, и они поняли причину моего плохого настроения.
Новоселье состоялось в начале августа. Я к этому времени сделал для верхней лампочки оранжевый абажур (марля, крашенная красным стрептоцидом), из корня старого пня смастерил подставку для настольной лампы – получилась рука лешего с лампочкой под ладонью. Эти лампы придавали уют и что-то домашнее моей еще не обжитой комнате.
Новоселье прошло хорошо. Были профессора Мацейно, Зворыкин, агрохимик Тася, с которой я танцевал зимними тусклыми днями, Лев Флоринский. Профессор Ясенецкий приехал на телеге, привез дрова, ступу, в которой я, в особенно голодный 1942 год, толок ячмень для каши, большую цветущую бегонию и большую кастрюлю с винегретом. Это был коллективный подарок от опытной станции. Кроме того, были индивидуальные. Тася подарила холщовые шторы с мережкой, которые мы сразу повесили на окна, Зворыкин вручил репродуктор (радиоточка в комнате была), Александр Иосифович – комнатный термометр, Богдан Ильич – самодельную книжку переписанных по памяти стихов Винцента Поля (на польском языке) и большой букет цветов в оригинальной керамической вазе, изготовленной талантливым скульптором Марией Алексеевной, бывшей фрейлиной императрицы. Девочки из ЦНИЛа передали через Александра Иосифовича вышитую скатерть на стол, салфетку на тумбочку и несколько книг. Одна из них – второй том Тютчева, академическое издание 1934 года – была мне особенно дорога. Тютчев – один из самых любимых моих поэтов. До сих пор помню и дарительницу – Надю Плотникову, дочь ленинградского профессора. Дожила ли она до реабилитации?
Я полюбил свою комнату, украшенную овеществленной доброжелательностью моих друзей, выраженной в милых подарках.
В августе меня вызвали в управление и объявили, что я «откреплен от производства» в соответствии с пунктом 4 директивы НКВД и Прокуратуры СССР за № 385/11905 от 3 августа 1943 года и могу получить паспорт (продолжалось действие результатов картофельного опыта). Паспорт я получил с 39-й статьей. Это означало запрещение проживания во всех областных и республиканских центрах и ряде других мест. Мне дали для ознакомления список этих мест. Их было 293. Предупредили: «Нарушение паспортного режима карается заключением». Такой «вольный» паспорт ужаснул меня, и я спросил, на какой срок такие ограничения. Начальник паспортного стола усмехнулся: «На всю оставшуюся жизнь».
Вот такой советский паспорт я получил как премию. Стало быть, ни в одном университетском городе меня не пропишут. Прощай, Москва, Ленинград, побережье Черного моря. Остается сельская местность, Север, Сибирь. Словно читая мои мысли, паспортист сказал:
– Ничего, в Сибирь поедете. Рыбалка хорошая в Сибири.
Я вышел из милиции, повторяя про себя строки Некрасова о Сибири: «Зачем, проклятая страна, открыл тебя Ермак».
Петр Павлович Зворыкин несколько утешил меня, сказав, что и с таким паспортом можно ездить из Ухты в командировки. У него, оказывается, такой же паспорт, а его приглашают в институт АН СССР в Сыктывкаре – все же столица Коми АССР.
– По сравнению же с колхозниками, – продолжал Зворыкин, – вы просто вольная птица. Ведь колхозники вообще не имеют паспортов, и, кроме своего колхоза, им жить нигде не разрешено.
– Вот так. Бог терпел и нам велел, – добавил Градов.
После разговора со Зворыкиным меня осенила забавная идея: я решил попробовать поступить на заочное отделение факультета естествознания в университет, расположенный в городе Молотове (Пермь). Снял копию с удостоверения об окончании курсов техников-метеорологов, написал заявление, в сельхозотделе мне дали весьма сдержанную характеристику, справку с места работы, и все это я выслал в Молотовский университет.
Примерно через месяц я получил уведомление: я зачислен условно. Получу вызов на зимнюю сессию и должен привезти подлинник документа об образовании. Так я неожиданно стал студентом университета.
Еще до новоселья и до «открепления» от производства Ухтижмлага в моей жизни произошло событие. В восьми километрах от города Ухты в реку Ухту впадает речка Доманик, где геологи обнаружили необычные горные породы, названные по имени этой речки. Рассказывали, что места там удивительно красивые. Мне очень хотелось побродить по Доманику, но нужен был проводник. Как-то я об этом сказал у соседей в геологической лаборатории, и лаборантка Женя, посещавшая в прошлом году Доманик, вызвалась сопровождать меня туда.
В ближайший солнечный день после работы мы отправились на Доманик. На попутном грузовике добрались до сангородка, перешли по мосту-времянке через Ухту и добрались до светлого ручья, бегущего по скалам к Ухте. Небольшие водопады чередовались тихими плесами, отражавшими склоненные черемухи и ивы. На перекатах, где воды было местами по щиколотку, сверкали разноцветные камешки. Красота! Мы поднялись на доманикские утесы. Зеленая долина речки, залитая заходящим солнцем, предстала райским местом по сравнению с хмурой, чахлой тайгой, скрывавшейся за утесами. Мы сели отдохнуть после скалолазания на поваленный ствол, и тут стаи комаров и гнуса облепили нас. Спуститься с утесов прежней дорогой было трудно. Мы бежали по тайге вдоль каньона к Ухте, перепрыгивая через упавшие деревья, перелезая через выступающие ребра скал.
Наконец мы спустились к Ухте и освежили в прохладной воде искусанные лица. Надвигалась ночь, хотя и белая еще, но Женя уехала без спроса, и ее надо было срочно доставить домой. Вскоре мы тряслись в кузове полуторки.
Ужас почти парализовал меня. Бумажник с документами, хлебными и продуктовыми карточками исчез. Это я обнаружил перед въездом в город, когда хотел достать деньги для шофера. Дороже всего была справка об освобождении. На ней было напечатано: «При утере не возобновляется», а устное разъяснение к этому означало, что при утере справки освобожденный возвращается в лагерь. А еще была «бронь». За потерю брони военком отправлял в штрафной батальон. А без карточек как жить полмесяца? На деньги ничего без карточек не купишь. Хлеб стоил 50-60 рублей килограмм. Масло – 700—800 рублей и т. д. Потеря бумажника была равноценна потере жизни.
Я расплатился папиросами и с непроницаемым лицом пошел провожать милую проводницу к ее тете.
Часть 3 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
На этом воспоминания Юрия Ивановича оборвались… 11 августа 1988 года (как тут не вспомнить гороскоп!) профессор, доктор географических наук Юрий Иванович Чирков скончался от острой сердечной недостаточности. Незавершенной оказалась вторая часть воспоминаний – «Ухта», не начата задуманная третья часть – «Красноярский край». Но остались планы, наброски, запомнились яркие, впечатляющие рассказы Юрия Ивановича.
Жена профессора Чиркова – Валентина Максимовна, используя наброски, сделанные Юрием Ивановичем, его рассказы и собственные воспоминания, по просьбе издательства завершила повествование.
Несмотря, как казалось Юрию Ивановичу, на его непроницаемое лицо, Женя почувствовала неладное и спросила:
– Что случилось?
Пришлось сказать правду. Девушка заволновалась и предложила сейчас же вернуться на поиски бумажника. Юрий Иванович доказывал бессмысленность поисков в лесу ночью, хотя и стояли белые ночи. Женя настаивала и уверяла, что пойдет одна. Этого нельзя было допустить, и он уступил.
Они примерно знали, от какого места на дороге начали свой путь по лесу. Какое-то чутье (меня всегда удивляло, что Юрий Иванович в любое время дня и года при пасмурной погоде никогда в лесу не терял направления, всегда выходил к населенному пункту или к шоссе) вело их, они внимательно осматривали все вокруг. Так дошли они до поваленного дерева, где у них был привал, и оба сразу увидели, что рядом со стволом лежит бумажник.
Вернулись в город ранним утром. Оба были счастливы, но без сил.
Начался 1945 год. Несмотря на большую занятость основной работой на опытной сельскохозяйственной станции, Юрий Иванович занимался преподаванием физической географии и метеорологии на курсах по подготовке массовых профессий при секторе подготовки кадров Ухтинского комбината НКВД СССР.
Все больше одолевали мысли об отъезде из этих безрадостных мест. Начальник управления генерал Бурдаков С.Н. часто давал большие и серьезные задания гидрометслужбе и вызывал для доклада Чиркова.
В один из таких вызовов Юрий Иванович попросил отпустить его из Ухты. Бурдаков удивился: почему он хочет уехать? В ответ услышал: надо учиться, получить документ о среднем образовании, потом окончить университет. Генерал, посмеиваясь, сказал, что это необязательно: он вот не имеет большого образования и доволен.
Юрий Иванович нашелся:
– Ведь вы генерал, и поэтому вам не надо думать о будущем, а мне надо.
И в запальчивости добавил:
– Если вы пообещаете отпустить меня, то я в оставшееся до конца учебного года время сдам экзамены на аттестат зрелости.
Бурдаков захохотал и обратился к своему заместителю, присутствовавшему при разговоре:
– Вот ты смог бы сдать экзамены за десять классов?
– Нет, все не смог бы, – ответил тот. – По физике и математике сдал бы, а по другим предметам нет.
– Вот видишь? – вскричал Бурдаков, распаляясь. – А ведь он инженер с высшим образованием!
– А я смогу, – горячился Юрий Иванович, – и даже с золотой медалью! Давайте пари: если я сдаю экзамены с золотой медалью, вы меня отпускаете. – И протянул руку.
– Давай! – воскликнул грозный генерал, в споре становясь мальчишкой, и тоже протянул руку.
– Разбивай, – приказал он своему заместителю.
Тот робко разбил руки спорщиков.
На другой же день Юрий Иванович пошел в вечернюю школу и подал заявление. Началась усиленная подготовка к сдаче экзаменов. Вечерами Юрий Иванович занимался в школе, а для самоподготовки оставалась ночь. Нужно сказать, что к этому времени знания его по программе средней школы (с учетом самообразования на Соловках и ухтинских метеорологических курсах) находились на уровне примерно девятого класса. Некоторые предметы – языки, литературу, географию он знал превосходно, но сдавать надо было за весь курс десятилетки. А до экзаменов оставалось несколько месяцев.
9 мая 1945 года народ узнал об окончании войны. Все были очень рады, взволнованы, а заключенные, которых, несмотря на истечение срока наказания, по директиве НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 29 апреля 1942 года за № 185 прикрепили к производству Ухтижмлага НКВД до конца военных действий, волновались особенно: освободят или не освободят из заключения? Кое-кто был освобожден; «пересидчики» ждали освобождения дольше. Освобождение у некоторых задержалось до 1946 года. «Нет указаний по вашему освобождению», – был единственный ответ.
Здоровье отца Юрия Ивановича ухудшалось, он часто лежал в стационаре, получил инвалидность второй группы. Положение осложнилось пневмонией и обострением стенокардии.
15 мая 1945 года пришла телеграмма из Москвы о смерти отца. Но со своим паспортом выехать в Москву даже на похороны отца Юрий Иванович не мог. Он тяжело переживал это. Но по-прежнему работал, работал, ведь впереди маячила надежда: его отпустят… И он по пути на юг поедет через Москву, зайдет в квартиру, где уже нет ни мамы, ни папы. Только сестра-инвалид и ее двенадцатилетний сын.
Наконец экзамены на аттестат зрелости сданы, и сданы на «отлично». Директор вечерней школы в характеристике писала: «Тов. Чирков, обладая незаурядными способностями и исключительным трудолюбием, в короткое время, не прерывая своих служебных обязанностей, самостоятельно подготовился к 10-му классу и прошел курс 10-го класса с блестящими показателями. Тов. Чирков прекрасно владеет устной и письменной родной речью». По постановлению педагогического совета вечерней средней школы города Ухты, утвержденному наркомом просвещения Коми АССР, Ю.И. Чирков награжден золотой медалью за отличные успехи и примерное поведение. Об этом сообщила газета «За ухтинскую нефть» 3 августа 1945 года.
Утверждение постановления педсовета затянулось с июня до августа. Получить золотую медаль очень заманчиво, претендентов было много, но у некоторых сочинения, как установила комиссия из Москвы, были негодными, а работа Чиркова о «Слове о полку Игореве» была признана лучшей.
Теперь по условиям пари с Бурдаковым можно было уезжать. Но куда? Хотелось на юг – к солнцу, теплу. На помощь пришел Н.А. Макеев.
Николай Александрович Макеев – метеоролог, освободившийся осенью 1940 года и уехавший из Ухты, – все время переписывался с коллегами со станции. После ряда переездов он осел там, где теплее, чем в Ухте: в Ростовской области. Он знал, что Юрий Иванович получил освобождение. Макеев советовал ему написать в Ростовское управление гидрометслужбы и предложить услуги. Тот так и сделал. Несколько месяцев шла переписка, обмен телеграммами между Ростовским управлением и управлением Ухтижмлага. Однако, несмотря на обещание отпустить, отпускать не хотели.
Совхоз «Агроном» и Ростовское управление гидрометслужбы посылали телеграммы о том, что тов. Чиркову Главным управлением агрометслужбы Наркомзема СССР предложена должность начальника агрометстанции «Кущевка» при совхозе «Агроном» Краснодарского края. Ходатайство шло через Москву. Переписка продолжалась несколько месяцев, и только в сентябре 1945 года Юрий Иванович смог выехать к месту работы. Он хотел, проезжая через Москву, непременно зайти в дом, откуда его увели больше десяти лет назад, увидеть сестру, племянника, сходить в крематорий и поклониться праху родителей. И несмотря на то, что над ним грозно висела 39-я статья о нарушении паспортного режима, он так и сделал – остановился в Москве.
Родной дом обветшал, комната без мамы и папы выглядела сиротливо, не было кое-чего из мебели, в некогда большой библиотеке уцелело лишь несколько книг. Мебель и книги, как он понял, шли в обмен на продукты.
В Москве Юрий Иванович старался быть чрезвычайно внимательным, постоянно смотрел: не проверяют ли документы. В день отъезда он и его провожатые чуть не наткнулись на проверяющих, но Юрий Иванович сделал независимый вид и смело прошел мимо в здание вокзала.
И вот он в Кущевке, на агрометстанции – это неказистое одноэтажное здание. Небольшой штат. Станция ведет метеорологические наблюдения на полях и плодовых участках лесоплодопитомника. Но директор питомника, грубый, необразованный человек, не интересуется наукой и делами станции.
Соседи – малообразованные люди, много пьют, играют в карты или просто бездельничают. Станция далеко от поселка, где есть кинопередвижка. Чтобы не закиснуть, Юрий Иванович начал работать преподавателем географии в школе. Учителя и учащиеся почти ничем не отличаются от жителей Кущевки. В начале его учительской деятельности в школе пришел на урок инспектор из районо. Уроки похвалил, а поведение учителя осудил за то, что деликатный Юрий Иванович часто обращался к ученикам: «Как вы знаете…» Инспектор вскричал: «Да ничего они не знают!..»
Кущевка находилась неподалеку от Ростова. И Юрию Ивановичу удалось поступить на заочное отделение Ростовского государственного университета, на историко-филологический факультет. Он сразу же сдал немецкий язык за первый курс и некоторые предметы за первый семестр – все на «отлично». Давнишняя мечта его исполнилась: он студент университета, будет слушать лекции, изучать любимые предметы.
Он много занимался, готовился к очередной сессии. Но однажды его вызвали в деканат и доверительно объяснили: им очень жалко терять хорошего студента, но Юрий Иванович должен знать, что по своим анкетным данным он никогда не сможет работать по избранной специальности; надо выбрать другой факультет.
Получив очередной удар, Юрий Иванович забрал документы из университета и целиком ушел в работу на станции.
Он изучал суховеи, их воздействие на сельскохозяйственные растения. За отличное выполнение работ получил благодарность Главного управления агрометслужбы Министерства сельского хозяйства СССР.
В апреле 1947 года Юрий Иванович был назначен начальником агрометстанции «Краснодар», что в нескольких километрах от Краснодара, туда даже ходил трамвай. С этого момента, снимая комнату в пригороде, он мог бывать в самом Краснодаре, пользоваться благами его цивилизации и не нарушать при этом паспортного режима.
Станция обслуживала известный Всесоюзный научно-исследовательский институт масличных и эфиромасличных культур. Его специалисты – Пустовойт, занимавшийся выведением новых сортов подсолнечника, профессор Синская и другие – были широко известны в ученом мире.
Весну и лето Юрий Иванович активно налаживал контакты с учеными Института масличных культур, сделал на ученом совете содержательный доклад. С этого времени начались совместные исследования ученых института и станции о влиянии почвенной и атмосферной засух на развитие перспективных сортов масличного льна и агрометеорологических условий – на урожай люцерны.
Юрий Иванович увлеченно работал, большую часть времени проводил в поле. После завершения намеченной программы он послал отчет в Центральный институт прогнозов. Работу признали значительной, а Юрия Ивановича в 1947 году наградили значком «Отличник социалистического сельского хозяйства».
Краснодарский период был очень важным для продолжения научной деятельности Юрия Ивановича, расширил его связи с учеными. Он поступил на биологический факультет заочного отделения Краснодарского пединститута, много читал, с удовольствием играл в драматическом кружке Института масличных культур, а в пьесе «Женитьба» исполнял даже главную роль Подколесина.
В это время мы и познакомились с Юрием Ивановичем. Я работала в Краснодарском пединституте, он там учился. Впервые же я увидела его на рынке: Краснодар всегда кормился с рынка – в магазинах ничего не было. Вот там я и обратила однажды внимание на молодого человека с пышной шевелюрой, оказавшись волей судьбы рядом с ним в толпе покупателей. Он деликатно спрашивал о чем-то продавцов и скромно отходил. Молодой человек выделялся среди шумных, суетливых, разбитных южан и сразу понравился мне своими сдержанными манерами. И внешне он привлекал к себе: спокойное улыбчивое лицо, голубые глаза, пенсне, делающее его похожим на интеллигента прошлого века. Потом уже я узнала, что и Юрий Иванович выделил меня в городской толпе.
Июнь 1948 года. Весенняя сессия заочников. Помню, Юрий Иванович вошел в кабинет, где я сидела, смущенно улыбнулся. Потом у декана попросил разрешения заниматься после лекций в моем кабинете, так как он далеко живет. Декан привела его, спросила: не будет ли мне мешать присутствие студента Чиркова? Я ответила, что не будет.
С тех пор каждый день после лекций он приходил в мой кабинет, и мы занимались каждый своим делом.
Скоро мы подружились, и Юрий Иванович стал бывать у нас дома. Какие это были интересные встречи! Юрий Иванович поражал всех знаниями, но при этом был скромен и деликатен, никогда не стремился показать своего превосходства, тем более унизить кого-то. Однажды он подарил посвященные мне стихи:
Зал-анфилада, лоск паркета — Музей торжественен как храм… В холодных зимних волнах света Блистанье золоченых рам. Картин, скульптур, портретов сонмы, Разнообразье красок, лиц. Но словно смотрят в Леты волны Глаза вельмож, князей, цариц. Вдруг, словно отблеск теплый лета, Я в день морозный увидал Глаза, глядящие с портрета В глубь анфилады пышных зал. Портрет загадочно-печальный, Запечатлевший образ той, «Для берегов отчизны дальней» Покинувшей наш край чужой[49]. Губ очертанье, выгиб брови, Лучисто-черные глаза, Цветок алее капли крови — Все, что поэт не досказал. И образы стихов и кисти Слились в гармонии одной. Легенду о Lacrima Cristi[50] Я пережил перед тобой. И долго с трепетным волненьем Смотрел в ожившие глаза Я, очарованный виденьем В тиши парадно-пышных зал. Года прошли, забыто много Переживаний, лиц и встреч. С портретом встречу в зале строгом Сумел я в памяти сберечь. И, встретив Вас совсем случайно, Узнал знакомый образ той… Портрет живой, необычайный Я вижу вновь перед собой: Губ очертанье, брови Фрины[51], Лучисто-черные глаза И все, что ни портрет старинный И ни поэт не рассказал.Дружба не мешала мне готовиться в аспирантуру Института русского языка Академии наук СССР в Ленинграде, а Юрию Ивановичу – к экзаменам за первый курс биологического факультета.
Пока я была в Ленинграде, он переживал за меня и, как всегда, писал стихи:
Подобно радостно звучащей трели, В сонату города войдете Вы. Созвучны Вам творения Растрелли, Проспектов стройность, ясность вод Невы. И город, лунным светом озаренный, Откроет заповеданное Вам, Запечатлит Ваш образ отраженный Холодно-величавая Нева. С колонны ангел под покровом ночи Вас осенит сиянием креста И взглянет в Ваши ласковые очи Лучистая вечерняя звезда.Я успешно выдержала испытания, прошла в аспирантуру по конкурсу. Была горда и рада этому. Однако президиум Академии наук не утвердил меня: в свое время я жила на оккупированной территории. Пришлось вернуться в Краснодар. Но из пединститута меня уже уволили как уехавшую на учебу. Так я стала безработной. Меня поставили на учет в гороно, и я надеялась получить работу в школе.
А пока у нас с мамой был огород – он-то и кормил нас. Кроме того, мама работала в пошивочной мастерской надомницей, я стала помогать ей. В общем, мы сводили концы с концами.
Когда же к нам приходил Юрий Иванович, это был праздник для нас с мамой. Однажды он рассказал все о себе и сделал мне предложение. Мама была рада за нас: Юрий Иванович ей тоже нравился. 18 декабря 1948 года мы поженились. Моя бабушка, которой было уже за 80 лет, сказала: «Он хороший человек, вы его не обижайте». И мы его никогда не обижали.
Летом 1949 года мы вдвоем совершили наше первое туристическое путешествие: пешком по Южному берегу Крыма. Было немного страшно и голодно, но интересно. Запомнилась Феодосия, где мы побывали в музее Айвазовского, поклонились его могиле; в Судаке познакомились с Генуэзской крепостью, которую Юрий Иванович давно мечтал увидеть. Потом Ялта, Никитский ботанический сад…
Мы с мамой старались создать Юрию Ивановичу все условия. А день его был нагружен до отказа: с утра – на станции, вечером он или обобщал наблюдения, или готовился к очередному экзамену в институте. К слову сказать, все предметы он сдавал досрочно и сумел за два года пройти пятилетний курс.
В часы отдыха он любил экспромтом сочинять рассказы на заданную тему. Рассказы получались яркими, живыми. Слушатели сидели как завороженные. Находил Юрий время и для поэзии. Я была благодарна судьбе, подарившей мне такого друга и мужа.
Успешно шла и его научная работа. В марте 1949 года Юрия Ивановича избрали членом ученого совета Научно-исследовательского института масличных культур; в то время у него еще не было диплома о высшем образовании. В 1950 году он был рекомендован в заочную аспирантуру по агрометеорологии при Всесоюзном институте растениеводства (ВИР) в Ленинграде.
Юрий Иванович был полон творческих идей, весь поглощен работой. Но «анкетное» прошлое висело кандалами и постоянно напоминало о себе.
Первым ударом судьбы в этот благополучный период был отказ ВИРа в допуске к экзаменам в аспирантуру. Формальная причина – несоответствие биологического образования профилю агрометеорологии, хотя предварительное согласование Ростовского управления с ВИРом было. Фактически же человек, осужденный в прошлом по 58-й статье, не имел прав на аспирантуру.
Одновременно ему отказали в прописке в нашей квартире в городе. Это была серьезная неприятность: в декабре 1950 года у нас родился сын, жизнь порознь все усложняла. Как в таких условиях совмещать воспитание сына, заботу о муже и доме с работой в школе, куда мне удалось устроиться? Решили тайком на свой страх и риск пожить в городе, у мамы.
Пока я была в родильном доме, мама и муж готовили колыбель для сына. У них ничего не было, кроме смекалки. Они взяли плетенную из ивовых прутьев большую продолговатую корзину для овощей, помыли ее, обшили чистой простынкой снаружи и внутри. Затем всю ночь шили ватное детское одеяло. Муж нанес на материю рисунок, мама выстрочила его на машинке. К нашему выходу детское приданое было готово. Юрий Иванович сразу же принял активное участие в уходе за сыном: купал его, пеленал, гулял с ним. Через некоторое время стал ему петь песенки. Я до сих пор помню некоторые из них:
Птичка польку танцевала, Потому что весела. Клюв – налево, хвост – направо, Вот так полечка была.Через несколько месяцев как-то днем к нам пришли из милиции и стали искать Юрия Ивановича – и в платяном шкафу, и под кроватями, хотя мама сказала, что дома только она с внуком, а родители на работе. Пришлось нам перебираться в село Калинино – по месту прописки Юрия Ивановича. А малыша каждое утро возили к маме.
В мае 1951 года к зданию станции подошла открытая машина – «виллис», из нее вышли двое мужчин в штатском. Они зашли на станцию, спросили начальника. Юрий Иванович был у себя. Гости закрыли дверь, предъявили ордер на арест. Сделали обыск в нашей комнате, пригласив понятой хозяйку, очень напуганную этой процедурой. И Юрия Ивановича увезли. Куда?
Обращение в милицию ничего не дало. В МГБ таких, как я, желающих знать о судьбе близких, пруд пруди. И везде глухой забор и закрытые двери, а при них страж, который внутрь не пускает и на вопросы не отвечает.
Отчаяние овладело мною. Я не знала, куда еще идти, кого просить о помощи. Единственным и плохим советчиком была мама. До конца учебного года оставалось около двух месяцев. Как работать, когда мысли заняты совсем другим. Случилось еще несчастье: у меня пропало молоко, малышу было пять с половиной месяцев, впереди жаркое южное лето, ему необходимо грудное молоко как лекарство от кишечных заболеваний. С трудом добывали понемногу молока каждый день.
Примерно недели через две на станцию позвонили из МГБ (управление находится в центре города): жена Ю.И. Чиркова должна прийти к следователю Пузравину, пропуск заказан.
Юрию Ивановичу повезло со следователем. Это был пожилой майор, ни разу на допросах он не кричал и не грозил. Во время первой встречи, раскрыв дело Чиркова от 1935 года с надписью: «Хранить вечно», Пузравин вдруг расхохотался: подписывая дело, Юрий Иванович проставил на недописанных страницах размашистое Z. Ставить прочерки его научили когда-то на уроках делопроизводства в школе. Тогда, в 35-м, эти Z очень рассердили следователя на Лубянке, а теперь другого следователя они развеселили; он искренне позабавился сообразительности пятнадцатилетнего мальчика.
Юрий Иванович не понимал, за что его арестовали, ведь никакого нового обвинения следователь ему не предъявил. С другой стороны, он был рад, что занялись пересмотром его дела. Думал: разберутся, поймут, что он-то ни в чем не виноват, признают невиновным, отпустят.
Выслушав мужа, следователь усмехнулся, доверительно пояснил: «То, что вы получили высшее образование, очень хорошо, его даже мы отнять не сможем. А вот признать невиновным, отпустить – этого я сделать не смогу. Назавтра меня самого арестуют». Причину же нового ареста объяснил: есть постановление – всех отбывавших сроки по 58-й статье снова привлечь, провести следствие и, если нет нарушений паспортного режима, дающих право на новый срок, отправить в ссылку. Появился новый термин – «повторники». Так называли людей, вновь арестованных по старому делу спустя годы после освобождения из лагерей. И поедет Юрий Иванович на этот раз в Красноярский край на вечное поселение.
Юрий Иванович от отчаяния, охватившего его, дерзнул попросить следователя, чтобы сообщить мне, где он, разрешить сделать передачу. Он-то знал, что находящимся под следствием передач не разрешают.
Но следователь понял состояние мужа и вызвал меня. Я сижу у него в кабинете. Передо мной – пожилой, уставший человек, он объясняет, когда и что смогу я передать мужу. Я спрашиваю, как чувствует себя Юрий Иванович, ведь у него больное сердце и гипертония. Следователь отвечает: «Все в порядке». Потом я узнаю, что «все в порядке» – это значит одиночка и допросы, чаще всего ночью.
Каждый вечер я с шестимесячным сыном приходила на «свидание» к Юрию Ивановичу – к управлению госбезопасности. После окончания следствия мужа перевели в тюрьму на окраине города, на берегу Кубани, и наш маршрут с сыном изменился: мы каждый вечер приезжали к тюрьме, я шла по высокому берегу Кубани и надеялась, что, может, Юра увидит нас. А он, действительно, видел нас, не подозревая, что это мы. Сокамерники же говорили: «Смотри-ка, какая-то стрельчиха каждый вечер гуляет по берегу с ребенком на руках».
Новая беда: сын заболел дизентерией, врачи опасались за его жизнь. Нас положили в больницу. Малышу крайне необходимо кроме лекарств грудное молоко, и мама каждый день обходила родильные дома. Ей удавалось ежедневно приносить маленькую бутылочку, а то и две. Я разрывалась от отчаяния: как спасти сына? как помочь Юрию? Мама носила передачи в тюрьму, я писала мужу краткие записки (пространные не разрешались), о сыне ничего не сообщала, чтобы не волновать.
Узнав, что его повезут в Красноярский край, стала писать письма в Красноярск, на главную почту «до востребования». Он тоже писал с дороги, бросал в окно вагона «треугольнички», и (это даже трудно представить!) они доходили до нас благодаря добрым людям.
Путь по этапу и пересыльным пунктам был тяжел: переполненные камеры, забитые людьми вагоны. Среди этапников много бывших военных (солдат и офицеров), много «повторников» – таких, как Юрий Иванович.
Как только ссыльных выгрузили из вагона в Красноярске, все попросили сопровождающего заехать на главную почту. Он выполнил их просьбу и по своему документу получил для всех корреспонденцию и деньги. Трясясь в машине, Юрий Иванович читал мои письма.
Октябрь. Сибирь. Уже снег и мороз. Енисейский леспромхоз принял очередную партию сосланных на вечное поселение. Они должны жить там, где им определит леспромхоз: они его рабы. Они должны работать на лесоповале в самых глухих местах. Кормить и одевать себя – забота самих ссыльных.
Итак, Юрия Ивановича отправили на один из дальних участков леспромхоза – в Холовое. Это маленький поселок, там всего несколько небольших деревянных бараков, землянки для семейных. Мужа определили в барак.
У завхоза он купил валенки; деньги, присланные из дому, оказались кстати. Получив небольшой аванс, в ларьке приобретал хлеб, кое-что из продуктов. Как и все ссыльные, питался за наличные в небольшой столовой.
Комендант (уполномоченный МГБ) зарегистрировал вновь прибывших, выдал всем удостоверения (бумажки, отпечатанные на машинке) и велел раз в две недели приходить на отметку. Выезжать никуда не разрешалось без ведома коменданта: здесь он был и царь и бог. Разрешения же на переезд давались с большим трудом, после согласования с районной комендатурой.
На другой же день по прибытии – лес. Снег выше колен. Пилят деревья, обрубают и сжигают сучья. Искры летят, попадают на одежду, она дымится.
Через несколько дней у Юрия Ивановича сломались очки. Он попросил разрешения у коменданта на поездку в Енисейск (примерно за 80 километров) в аптеку. Тот разрешил.
Друзья по несчастью – Иван Григорьевич Гребинник – украинский поэт, один военный летчик и другие – посоветовали Юрию зайти в районные организации в городе насчет работы. Они тоже об этом подумывают, но нет убедительной причины для поездки в город. Идти в прогоревшей одежде нельзя: ведь встречают по одежке. Друзья его приодели (кто дал кожаное пальто, кто – шлем, планшетку для солидности).
Из аптеки Юрий Иванович пошел на поиски районо и райсельхозотдела. Енисейск – небольшой городок, раньше – губернский купеческий, с крепкими кирпичными зданиями. Все административные учреждения расположены в этих зданиях, ничего нового не построено. Средняя школа, педагогическое училище – тоже в бывших зданиях учебного ведомства.
В районо его встретил заведующий:
– Откуда Вы?
– Из Москвы, – ответил Юрий Иванович. Радость заведующего была беспредельна.
– Укомплектованы ли учителями школы? – поинтересовался Юрий Иванович.
– Что вы, у нас учителями работают в основном выпускники средних школ, а то и восьмилетних. Специалистов почти нет.
Юрий Иванович предложил себя в качестве учителя, показал копию диплома. И назначение бы состоялось тотчас, если бы не указание властей: несмотря на дефицит преподавателей, ссыльных и их жен на работу не оформлять.
Пошел Юрий Иванович дальше – в райсельхозотдел. Там, на свое счастье, он встретил директора Полярной МТС, что в селе Ялани, в сорока километрах от Енисейска. Директор – коренной сибиряк, участник гражданской войны, устанавливавший Советскую власть в Сибири, член райкома и райисполкома – Иван Рафаилович Патюков имел двухклассное образование. Сейчас он был удручен последним предупреждением начальства. Полярная МТС несколько лет не сдавала отчета о своей деятельности, и понятно почему: Иван Рафаилович не знал, как его писать. Главный агроном, имевший среднее сельскохозяйственное образование, был старый, больной человек и страдал запоями. Недавно Иван Рафаилович получил указание: «Не будет отчета за 1951 год – будут сделаны оргвыводы».
Юрий Иванович вызвался помочь директору, благо опыт работы в сельском хозяйстве у него был большой.
Директор мрачно выслушал его. Спросил:
– Напишешь отчет за два месяца за 1951 год?
Юрий Иванович заверил, что напишет. Патюков немного просветлел и сказал, что он приложит все усилия к тому, чтобы перевести его из леспромхоза в МТС. 13 декабря Ю.И. Чиркова перевели в МТС в селе Ялань. Он стал агрономом по кормам и участковым агрономом, практически выполняя и обязанности главного агронома.
Начались мои сборы в Сибирь. Нужно было везти с собой книги, постель, кухонную утварь, одежду, посуду. Малыша решила пока оставить у мамы. Я готова была ехать на край света, лишь бы помочь Юрию, облегчить его жизнь, страдания.
В Москве моя двоюродная тетка, увидев у меня на ногах резиновые ботики, всплеснула руками: «И в этом ты собралась в Сибирь?» Она дала мне валенки сына 41—42-го размера и стеганку для Юры. Я послала мужу телеграмму о дне выезда из Москвы.
По прибытии в Красноярск я узнала в багажном отделении, что мой багаж уже прибыл, восприняла это как чудо и добрую примету. Можно тотчас ехать дальше – в Енисейск. Но как? На чем?
Я вышла на привокзальную площадь. Там стояли, как в театральных костюмах, в пышных меховых дохах и таких же шапках возницы. Подошла к одному договориться о поездке в Енисейск. Он посмотрел удивленно-сочувственно и ответил, что до Енисейска более 200 километров и он туда не поедет. Туда иногда от автобусной станции ходит автобус. Если он выезжает днем, то к утру следующего дня прибывает в Енисейск. Он может перевезти мой багаж к автобусной станции.
Мне стало немного жутко: вдруг автобус не ходит, долго ли мне придется его ждать и где? Но делать нечего, надо ехать на станцию. Возница устроил багаж, и мы поехали.
Впервые я ехала в санях-розвальнях, видела сибиряков, сибирский город. И тут произошло второе чудо: на станции стоял автобус, и на него продавали билеты. Мой добрый возница вместе с такими же доброжелательными сибиряками-попутчиками свалил мой багаж прямо на пол автобуса, загородив проход. Пассажиры прибывали, но никто не ворчал: «Вот разложились тут». Только спросили, можно ли сесть на вещи. Я разрешила, они уселись на мягких тюках и уверяли, что будут ехать, как в мягком вагоне.
У меня тяжесть спала с души. Некоторые пассажиры открыли маленькие баночки с огурцами, стали пить рассол из-под огурцов. Меня тоже угостили, и я очень удивилась, что огурцы оказались сладкими, таких огурцов я еще никогда не ела.
День подходил к концу, наступил вечер, потом ночь. С обеих сторон дороги тянулись бесконечные леса. На рассвете 30 декабря 1951 года наш автобус подъехал к енисейской гостинице – двухэтажному деревянному зданию. К автобусу бросилось несколько человек, среди них я узнала мужа (и это было для меня третье чудо). Мы были счастливы. Выгрузили вещи и отправились бродить по городу.
Юрий Иванович рассказывал мне о том, как его арестовали, как проходили допросы. Очень положительно отозвался о своем следователе. Он знал случаи, когда следователи ужесточали формулировки «повторникам». Один наш знакомый по старому постановлению особого совещания имел формулировку ПШ (подозрение в шпионаже); после ареста в 1949 году в его деле появилась запись: «Сослать на вечное поселение за шпионаж». (Очевидно, от следователя, от его заключений по допросам зависело решение особого совещания.) Прочитав такую запись, наш знакомый сказал следователю: «Ведь во время войны за такую формулировку человека расстреливали».
Муж рассказал и о постановлении 1948 года, по которому все, у кого к этому времени окончился срок, автоматически отправлялись на вечное поселение в Сибирь или в другие отдаленные места. Те, кто вышел на свободу раньше, потом тоже были арестованы, как Юрий Иванович. Его арестовали повторно не в 1948 году, а в 1951 году. Благодаря этим трем свободным годам в своей жизни он сумел получить высшее образование. Следователь Пузравин говорил, что ему очень повезло.
Итак, ссыльные разных специальностей стремились под разными предлогами освободиться от леспромхоза и получить работу или в рабочем поселке, или в городе. К 1951 году все свободные рабочие места инженеров, врачей, агрономов, машинисток, бухгалтеров были заняты ссыльными или «вольными». Запретными для ссыльных и их жен были места работы в школе и, как мы узнали позже, в других детских учреждениях.
В село Ялань, за сорок километров от Енисейска, ехали в кузове открытой грузовой машины, завернувшись в ватное одеяло, которое я прихватила с собой. Юрий Иванович снял комнатку у одинокой старушки, приехав, мы стали распаковываться. Муж помог мне снять осеннее пальто, которое было надето на зимнее, под ним – пиджак, стеганая безрукавка. Только тогда он понял, как я похудела, и заплакал.
Отчет по МТС за 1951 год Юрий Иванович написал, переплел, и это «чудо» ходило по МТС, вызывая восхищение.
Через несколько дней к нам домой пришли учителя из местной восьмилетней школы. Они просили меня взяться за преподавание истории, литературы, немецкого языка. Я согласилась при условии, если директор школы заручится поддержкой заведующего районо. Но районо запретило мне преподавать.
Зимой я поехала в Красноярск, в крайоно, чтобы просить разрешения учительствовать в любом пункте Красноярского края. Все было безуспешно, в отделе кадров крайоно со мной разговаривали небрежно: что церемониться с женой «врага народа».
Весной пришла повестка из сельсовета, извещавшая о моей мобилизаций на лесоповал. Мы с мужем обсудили ситуацию и решили, что я должна уехать в Енисейск и там искать работу. Был разлив местных речушек, машины не ходили, и я пешком через тайгу, переходя иногда по пояс вброд речки, отправилась в Енисейск.
К тому времени у нас уже были знакомые в Енисейске, остановиться было где. Поскольку со школами у меня ничего не вышло, возник план устроиться в детский сад воспитательницей. Ко мне с симпатией отнеслась инспектор районо и пообещала поговорить с заведующей городским детским садом. Поговорила, та согласилась, но опять нужно утверждение заведующего районо.
На очередной запрос получен очередной отказ. Тогда инспектор из районо посоветовала поехать в Подтесово, это на другой стороне Енисея. Там большой судоремонтный завод, у него ведомственный детский сад, может быть, штат формирует сам директор завода. Знакомые из Енисейска дали адрес одинокой старушки, где можно было остановиться.
Приехала в Подтесово. Хозяйка – художница при заводе. Рассказала ей, зачем приехала. Она посоветовала встретиться с женой директора, которую охарактеризовала как женщину добрую. Я так и сделала. Жене директора я все рассказала начистоту. Она очень нас пожалела и обещала помочь, назначив встречу на другой день. Я была окрылена поддержкой. На другой день мы встретились, и я узнала, что директор завода доволен приобретением специалиста для детского сада и надеется, что я буду заниматься воспитанием не только детей, но и родителей – читать им лекции, учить воспитывать детей. Мне надлежало написать заявление о приеме на работу и приступать к исполнению обязанностей с завтрашнего дня. Я буквально на крыльях летела домой. Тотчас написала мужу.
С утра пришла в детский сад. Мне дали среднюю группу. К занятиям с детьми я готовилась больше, чем к занятиям со студентами в институте. Мне хотелось учить их сразу всему: и хорошим манерам, и рисованию, и интересным играм, и вежливому обращению. Дней через десять родители стали хвалить меня заведующей, уверяя, что дома дети во всем подражают воспитательнице.
Через две недели неожиданно приехал на два дня Юрий Иванович. Мы были счастливы, строили планы на переезд.
Самому Юрию Ивановичу работать было трудно: постоянно приходилось сталкиваться с противодействием уполномоченных, некомпетентных в сельском хозяйстве, думающих только о том, как угодить начальству.
Весной земля еще не была готова к пахоте. Юрий Иванович с председателем колхоза, бригадиром и трактористом, побывав в поле, решили подождать несколько дней, чтобы грязь подсохла. Ушли в деревню, вдруг слышат – трактор работает. Вернулись. Тракторист злой как черт пашет, а негодующий уполномоченный обещает агроному – «врагу народа» – разные кары за срыв посевной.
В другом колхозе перед севом проводили протравку семян ядохимикатом. Юрий Иванович объяснил, что это надо делать не в помещении, а на воздухе, при этом в масках, с перерывами. Колхозники выслушали, покивали головами, а когда агроном уехал, не стали вытаскивать агрегат из помещения и маски не надели. Пришли бригадир и председатель колхоза. Все дружно работают.
Вдруг вечером звонок в МТС: массовое отравление. Вывод: вредительство, ссыльный агроном сознательно хотел уничтожить руководящие кадры колхоза перед посевной, сорвать сев. Стали оформлять дело в органы. Колхозников поместили в маленькую больничку. К счастью, все остались живы. Во время следствия колхозники рассказали, что они сами виноваты: хотели побыстрее сделать дело и не послушались советов агронома. Дело прекратили, но нервы попортили.
Поля в северных районах Красноярского края небольшие, разбросанные. Названия их – «У монашеской избушки», «За грязью» и др. – сами говорят за себя. Ссыльному агроному не дают лошадь (комендант запрещает, из опасения, что он убежит), надо много ходить пешком. Юрий Иванович чувствует себя плохо.
В Подтесово я проработала месяц. Однажды заведующая детским садом сказала, что больше мне нельзя у них работать: районо меня не утвердило. Я уехала в Енисейск.
У мужа обострилась гипертоническая болезнь. Его положили в больницу в Енисейске. Через две недели выписали, указав в справке, что он освобождается от длительной ходьбы и физических перегрузок. Благодаря такому заключению ему наконец выделили коня. Стало легче работать.
Самая главная задача не была еще решена: я никак не могла найти работу. Обходила подряд все учреждения, какие были в Енисейске, и уже не говорила о том, что у меня высшее образование, а только десять классов. Оно и понятно. Скажешь «высшее», в ответ: «У нас для вас ничего нет».
И вот на моем пути одно из последних учреждений – городской отдел коммунального хозяйства (горкомхоз), где заведующим был Томилов. Я пошла на прием к нему.
Мало кто представляет, как унизительно в бесправном положении ходить из учреждения в учреждение, просить хоть какой-нибудь работы. Любой начальник мог дать или не дать работу, но при этом каждый из них чувствовал свое превосходство над нами, тысячами сосланных. Поэтому, чтобы было меньше свидетелей моего унижения, я всякий раз стремилась говорить с начальником с глазу на глаз. Мы, жены «врагов народа», мало чем отличались в правах от наших ссыльных мужей. Пожалуй, лишь тем, что, имея паспорт, могли свободно передвигаться. Права на труд по специальности мы не имели. Да и паспорт у нас в любой момент могли отобрать и полностью приравнять к ссыльным.
В горкомхозе я никак не могла дождаться, когда из кабинета заведующего выйдут сидевшие там двое мужчин. Приметившие меня работники бухгалтерии стали подбадривать меня: «Да вы идите смелее. Они ведь там могут просидеть до вечера». И я решилась, вошла. Сразу стала излагать просьбу: «Я жена ссыльного, у меня десятиклассное образование. Ищу какую-нибудь работу». Среди сидящих в комнате, как я позже узнала, у Томилова было начальное образование, у начальника бюро инвентаризации Михаила Ивановича Силантьева – восьмиклассное (в Енисейске это считалось устойчиво средним образованием, а уж десятилетка—высшим), у инженера из ссыльных Плютинского – высшее.
Томилов выслушал меня молча. М.И. Силантьев сказал, что меня могут взять в бюро инвентаризации ученицей с окладом очень маленьким – 250 рублей; как только я пройду курс обучения, то стану техником-инвентаризатором, и зарплата будет сдельная. Плютинский, желая мне помочь, спросил: «А как определить площадь помещения, его объем?» Я ответила. Мне сказали, что я могу завтра прийти в бюро, подать заявление и начинать обучение.
Я была счастлива, тут же позвонила в МТС в Ялань и просила бухгалтера передать мужу, что я уже нашла работу. Это был конец августа 1952 года.
Незадолго до этого Юрий Иванович встретил на улице в Енисейске бывшего соловчанина – Олега Владимировича Франковского. В прошлом кинооператор из Ленинграда, это был очень веселый, остроумный человек, работал фотографом в местной фотографии. Рассказал о затруднениях с моим трудоустройством. Олег Владимирович ничем не мог помочь; у них весь штат от заведующего фотографией до уборщицы был заполнен, но пообещал помочь в подыскании комнаты. При том наплыве ссыльных в Енисейске не только с работой, а и с жильем было очень трудно. Жильцов с детьми вообще на квартиру не брали: ссыльным приходилось соглашаться на негодные для жилья помещения. Один наш знакомый по Енисенску жил в доме, где одна сторона дома ушла глубже в землю, чем противоположная, поэтому пол имел наклон под 45 градусов. Цены за комнаты и углы высокие.
В начале сентября освободилась комната в доме, где жил Олег Владимирович. Дом очень старый, по самые окна ушел в землю. Франковский заранее договорился со старушкой хозяйкой: она сдала нам комнату за 150 рублей в месяц.
Врачи направили Юрия Ивановича на специальную комиссию, которая освободила его по состоянию здоровья от физического труда, сверхурочных работ и длительной ходьбы. Муж уволился из МТС и с разрешения комендатуры переехал в Енисейск. В МТС он заработал пять или шесть мешков картошки. Ее мы ели вместе с Олегом Владимировичем. Варили картошку на завтрак, обед и ужин. Благодаря Олегу Владимировичу у нас появились и фотографии из нашей ссыльной жизни.
Жить материально было трудно. Мы строго укладывались в мои 250 рублей.
Работа техника – это замеры земельных участков, частных и государственных помещений различного назначения в любое время года. Ее трудно делать зимой, когда глубокий снег, мороз около сорока градусов. Легче было, когда шла обработка в бюро с вычерчиванием плана, определением оценки строений.
Через два или три месяца ученичества я попросила начальника о переводе меня в техники-инвентаризаторы. Он считал, что это неразумно, хотя я уже все умела делать, но нет нужной скорости, на сдельной работе я могу получать меньше гарантированной ставки ученицы. Я решила попробовать. Несколько месяцев я зарабатывала 300—350 рублей.
Нас очень беспокоило, как живут мама и сын. Особенно волновало то, что сын (ему должно было исполниться два года) растет без родителей. Как писала мама, он страдает от того, что у всех детей есть папа и мама «рядом», а у него нет.
Постепенно стали выходить в «свет»: в библиотеку, кино. Ссыльные очень быстро знакомились и становились друзьями. Знакомства происходили в поликлинике, в библиотеке примерно по одной схеме.
– Вы откуда?
– Я тоже оттуда.
Или:
– Мы соседи – я из Ленинграда.
– Сколько сидели? Где?
– Я в другом месте.
– Приходите в гости, мы живем на улице…
В Енисейске жили и переселенцы – немцы, латыши, эстонцы, татары. Они были беспаспортные, и их детям, достигшим шестнадцатилетнего возраста, паспортов тоже не выдавали. Как и другие ссыльные, все они ходили на отметку. Мне на всю жизнь запомнился случай на редкость простой и жестокий: к одному ссыльному из немцев Поволжья приехала жена – украинка; через три дня у нее отобрали паспорт, и вместе с мужем она стала регулярно ходить на отметку в комендатуру.
Многие ссыльные, особенно специалисты, имели большой авторитет. Большим уважением в городе пользовался терапевт Куликов, он работал и в поликлинике, и в больнице. Это был очень квалифицированный врач, многим спас жизнь.
Ссыльных и их жен, как я уже говорила, не принимали на работу в школу и другие детские учреждения. Только однажды было нарушено это правило – на работу в Енисейское педучилище преподавателем музыки взяли известного пианиста ссыльного Анания Ефимовича Шварцбурга. Из местных жителей никто не рискнул, да и не мог в силу полной музыкальной безграмотности взяться за это дело.
Енисейск – город небольшой, поэтому в перерыв на обед я приходила домой. К этому времени Юрий Иванович готовил еду: иногда картошку, тушенную с конской колбасой (муж называл это блюдо «бигус» и радовался, когда я хвалила его), а иногда просто вареную картошку и чай с молоком. Молоко мы покупали у хозяйки и никогда не брали бруски замороженного молока, которое продавалось на рынке.
Муж иногда подрабатывал на временной работе в горкомхозе: составит смету, начертит схемы. Однажды он вместе с инженером Торчинским получил выгодную работу: по всем улицам прибивать на домах новые номера вместо старых. Впрочем, в этой работе был очень неприятный момент: они должны были с владельцев домов получить по рублю за номер (Юрий Иванович и Торчинский получали с этого какой-то процент) и выписывать квитанцию. Не все хотели платить.
В доме кроме нас и Олега Владимировича жили хозяйка-старушка с дочерью и внучкой-школьницей и семья ссыльных из Западной Украины. Вся наша колония жила мирно. Мы с Юрой много читали. Иногда он сочинял экспромты: детективные романы с продолжением и научно-фантастические истории (очень жалею, что ничего не записала), с удовольствием делал из картона макеты замков, писал стихи.
Поредел туман над тихим лесом, Над седой иззябшею травой. Утро хмуро. Солнце за завесой, И ручей под первым льдом немой. Тишь. Лишь шорох падающих листьев, Изнемогших стынуть на ветвях. Скоро лес изысканно-цветистый Ранние морозы омертвят. И под небом зимним ровным серым Будет стыть бескрайний серый лес И не будет снова в сердце веры, Что Христос воистину воскрес.* * *
Хотя и десять тысяч лет Я буду пить твое дыханье, Когда ж наступит расставанье И навсегда померкнет свет, Последним в тонущем сознанье, Как капитан на корабле, Одно останется желанье— Быть вместе вечно на земле.Тихо текли зимние дни. Мы посылали заявления с просьбой о пересмотре дела в разные инстанции. Ответы приходили стандартные: «Ваша жалоба получена и проверяется. Результаты будут сообщены». О результатах пока ничего не сообщалось.
Иногда в доме была стирка. Я это делала сама, а вот полоскать белье мы с мужем везли на санях к Енисею. Как было страшно в первый раз замерзшими руками опускать мокрое белье в прорубь! Казалось, что ледяная вода совсем сведет руки. Но, к удивлению, вода по сравнению с температурой воздуха была значительно теплее, и руки, наоборот, согревались.
В Енисейске строили новую кирпичную баню. Это строительство было гордостью горкомхоза. В строительстве принимали участие все работники горкомхоза, особенно когда нужно было залить перекрытие бетоном. Была зима, мороз, работали днем и ночью: настилать бетон следовало быстро, чтобы он не успевал остыть. Очень волновался ссыльный инженер Плютинский – автор проекта и руководитель стройки.
Потом местная газета взахлеб писала, что на берегу Енисея высится здание (а оно было скромным одноэтажным с двумя отделениями – мужским и женским) новой бани, восхищая взор пассажиров проходящих пароходов.
Март 1953 года. Смерть Сталина. Юрий Иванович узнал об этом oт внучки хозяйки.
Внучка прибежала из школы в слезах и с порога закричала: «Бабинька, Сталин умер. Как жить будем?» Старушка пошамкала беззубым ртом, стоя согнувшись с ухватом в руках (она что-то делала в русской печке). Сказала: «Умер, говоришь? Ну и якорь с ним, как-нибудь проживем, однако». Нинка сразу успокоилась и спросила: «Бабинька, кого ись будем?» Старушка ответила: «Однако кого-нибудь съедим». И жизнь пошла своим чередом.
Но ссыльный народ волновался. Что будет с нами? У некоторых сразу появилась твердая уверенность, что скоро все изменится к лучшему. Другие не верили этому. Третьи от надежды кидались к отчаянию: ничего не изменится. Из Москвы ссыльным от родных стали приходить телеграммы, которые обнадеживали. Счастливые обладатели телеграмм носились по городу: в телеграммах говорилось, что вопрос рассматривается и скоро решится.
Народ как-то сплотился. Даже незнакомые друг с другом люди заговаривали на улице: «Вы слышали, из Москвы пишут, что нас отпустят». Но проходили дни, недели, месяцы. Стало известно, что была амнистия, но отпустили только уголовников.
Вскоре всех взбудоражила весть об аресте Берии. А на судоремонтном заводе произошел такой случай. В комнату общего отдела, где сидело довольно много сотрудников, вдруг вбежал рабочий, подставил стул к стене, где висел портрет Берии рядом с другими портретами членов Политбюро ЦК, сорвал его, бросил на пол и стал топтать ногами. Комната вмиг опустела. Некоторые решили, что человек сошел с ума. Но даже если он и болен, то они – свидетели в таком ужасном деле, почти соучастники, а это – верный новый срок. Рабочий вслед им кричал: «Слушайте радио, вампир арестован, напился людской крови, а теперь пришла расплата».
На улицах города стало многолюднее, все были довольны тем, что зловещая фигура Берии, наводящая на всех ужас, уничтожившая миллионы невинных людей, этот палач и садист, более уже никому не может угрожать.
В сентябре 1953 года мне дали отпуск, и мы решили, что я повезу заявления в Главную военную прокуратуру и Н.С. Хрущеву, постараюсь добиться приема у Генерального прокурора и в Президиуме Верховного Совета.
В Москве сентябрь, дождь. Я ходила по приемным, советовалась с умными людьми. Но никто не знал, что с нами будет. В военной прокуратуре взяли заявление, но ничего радостного не сказали, кроме: «Вам ответят». В Президиуме Верховного Совета отвечали так же. Наш родственник очень верил тому, что заявление попадет к самому Хрущеву, ведь необычный случай – в пятнадцать лет арест. «А Хрущев, – говорил он, – уже некоторым помог».
Без надежды на успех я поехала в Краснодар. Сын меня встретил с распахнутым сердцем, сразу признал своей мамой. Был горд, что теперь и у него есть мама и папа тоже приедет. Я пробыла дома несколько дней. Нужно было возвращаться. Мама потом писала, что после моего отъезда сын сказал ей: «Бабушка, можно я тебя буду называть мамой, мне так хочется говорить это слово?»
В октябре пришел ответ из Главной военной прокуратуры: «Ваши жалобы Главному Военному Прокурору и Председателю Совета Министров получены и проверяются, о результатах Вам будет сообщено». Мы с мужем опять написали в Главную военную прокуратуру.
Юрий Иванович в заявлении на имя Генерального прокурора СССР Руденко писал: «Ч. Диккенс, показывая инквизиторские нравы английской школы, описал нравственные страдания школьника Давида Копперфильда, которому в наказание было приказано в продолжение нескольких недель изо дня в день носить на спине картон с надписью: „Берегитесь его – он кусается“. Это довело мальчика до крайней степени отчаяния».
Мне тоже в детском возрасте сделали ярлык с надписью «контрреволюционер», и вот уже скоро исполнится 19 лет, как я незаслуженно ношу это клеймо»… и приложил свою детскую фотографию, сделанную перед арестом. Ответ пришел в конце марта 1954 года: «Проверка Вашего дела еще не закончена, приняты меры к ускорению. Результат Вам будет сообщен».
Время от времени Юрий Иванович ходил к врачу, мерил давление. В апреле 1954 года его направили на ВТЭК. Там определили инвалидность третьей группы, назначили небольшую пенсию. Это давало возможность не работать.
Весной опять возникли слухи об изменении нашего положения. Полетели телеграммы из Москвы. Стали поговаривать о том, что будут отпускать тех ссыльных, у кого срок лагерей до пяти лет. Мы не знали, относится ли это к нам, подходим ли мы под это постановление или не подходим. Как будут считать, если по первому постановлению особого совещания – три года, а по второму – пять лет; вместе же – восемь лет?
Все вдруг заметили, что отношение работников комендатуры к ссыльным изменилось. Они стали здороваться. Однажды вечером в конце апреля нам на улице встретился комендант, поздоровался и сказал, чтобы Юрий Иванович приготовил две фотокарточки для оформления справки об освобождении: он подходит под постановление, ибо считают по первому сроку.
Мы не знали, верить этому или нет. Однако сдали необходимое. Вскоре узнали еще одну новость: мы можем жить, где захотим. Вопрос о местожительстве был для нас непростой. Ведь мы практически заново начинали строить нашу жизнь. Где жить? В Москве или Краснодаре? Если в Москве, то там нет квартиры. Большую комнату родителей сестра обменяла на маленькую и жила в ней с семьей сына. И все же Москва привлекала: Юрий Иванович мог бы поступить там в заочную аспирантуру и работать где-нибудь в системе гидрометслужбы. Если же выбрать Краснодар, то там есть, где жить, но там нет работы. Место начальника станции занято другим человеком, и Юрий Иванович не будет требовать восстановления на работе. У меня тоже нет возможности получить работу, так как в гороно большая очередь учителей русского языка на получение работы.
Как только ссыльным объявили об освобождении, местное начальство наперебой старалось заполучить специалистов для работы в школе, в райсельхозотделе, на судоверфи, в горкомхозе. Но мало кто остался: все хотели домой, на свободу.
Мы получили справку, что Юрий Иванович «освобожден 28 мая 1954 года со снятием судимости в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года», и первым же теплоходом «Веребрюсов» 5 июня поплыли в Красноярск.
Из Красноярска приехали в Москву и, как наметили ранее, остановились у двоюродного брата Юрия Ивановича. Теперь надо было устанавливать связи с Центральным институтом прогнозов (сейчас Гидрометцентр), где Юрия Ивановича хорошо знали по его научной работе в Кущевке и Краснодаре. С особым уважением относилась к нему Е.А. Цубербиллер, занимавшаяся суховеями. Елена Александровна встретила Юрия Ивановича радостно. Она считала, что надо обязательно поступать в аспирантуру. Кто же еще, если не он, достоин быть аспирантом? Она развила активную деятельность, поговорила с кем-то из представителей администрации гидрометслужбы (сами они от беседы с мужем отказались, боясь по старой памяти общения с людьми, сидевшими по 58-й статье). И вот нужные документы сданы в отдел аспирантуры, и мы можем на короткое время поехать в Краснодар на свидание с сыном.
Свидание с родными было радостным. Мама плакала. Сын требовал внимания и игр. Через несколько дней пришел наш багаж из Енисейска (книги, наши зимние вещи, постель). Мама стеснялась сушить во дворе нашу ношеную одежду, настолько она была плоха.
Юрий Иванович отобрал из нашей домашней библиотеки литературу, нужную для подготовки к экзаменам, старые свои материалы по научно-исследовательской работе – для реферата. Мы откопали из земли кастрюлю, в которую в тревожные для нас времена сложили стихи Юрия Ивановича, написанные им во время заключения в Ухтижмлаге. Сделали мы это в 1950 году, после первого посещения милиционерами нашего дома в Краснодаре. Мы сложили все тетрадочки со стихами, переписанными мною с отдельных листочков, тщательно упаковали их в пакет из детской клеенки, положили в кастрюлю, привязали крышку, еще раз все завернули в клеенку и закопали в землю поглубже. Крамольного в стихах ничего не было, но при обыске их чаще всего отбирали, и они пропадали. Мы хорошо помнили место, куда закопали кастрюлю со стихами.
Они пролежали в земле четыре года и не испортились[52].
Мы пробыли в Краснодаре недолго. Посетили друзей, съездили на агрометстанцию. Туда все так же ходил трамвай. Коллектив станции обновился, новый начальник очень обеспокоилась, когда Юрий Иванович ей представился: она подумала, что он будет претендовать на свое прежнее место. Муж ее успокоил. Она рассказала о том, как им работается, о новостях в Институте масличных культур.
Между собой решили так: мама и сын побудут пока в Краснодаре, а мы должны найти жилье, тогда их перевезем. Вернувшись в Москву, муж активно занимался дома и в библиотеке. Во время подготовки к экзамену у него всегда рядом с учебником лежали сборники стихов. Отдыхая, он читал стихи. Я искала работу по специальности.
Через некоторое время после встречи мужа с Александром Ивановичем Виноградским, начальником Московского управления гидрометслужбы, появился приказ о назначении Чиркова старшим инженером агрометстанции Ленино-Дачное при Всесоюзном институте лекарственных растений с июля 1954 года. Мы переехали жить в Битцу – в деревню Михайловское.
– Юрий Иванович часто после работы засиживался на станции допоздна, – рассказывает его бывший начальник агрометстанции Владимир Степанович Шкреба. – Работал много и интенсивно, уставал. У него не раз обильно шла носом кровь. Потом он долго отлеживался на диване.
– Юрий Иванович, стоит ли так надрываться? Может, можно подождать и поступать в аспирантуру на будущий год? – спрашивал Владимир Степанович.
Юрий Иванович отвечал:
– Лагерь научил меня главному – не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Все необходимые бумаги уже сданы в отдел аспирантуры. Экзамены назначены на конец августа. Но, ознакомившись с биографией Чиркова, в отделе аспирантуры заволновались. Хотя в жизни произошли большие изменения, чиновники мерили людей старыми мерками. Привлекли к обсуждению вопроса, как быть с Чирковым, администрацию. Та привыкла в сложных вопросах советоваться с райкомом. Пошли в райком с тем же вопросом:
– Как быть с Чирковым? Он отбыл срок по 58-й статье и освобожден со снятием судимости.
В райкоме спросили:
– Вы газеты читаете?
– Читаем.
– Так что же вам не ясно?
Решили к экзаменам допустить, а на экзаменах «срезать». Расчет был правильным: за среднюю школу Чирков сдавал экзамены в 1945 году, институт окончил заочно в 1950 году – довольно давно, многое забылось, особенно если учесть, что был опять арест, а потом ссылка. В таких стрессовых ситуациях человеку не до знаний по иностранному языку, марксизму-ленинизму и специальным предметам.
Первый экзамен по специальности. После ответа по билету посыпались вопросы членов комиссии: они-то знали решение администрации завалить Чиркова. Но Чирков держится – на все вопросы отвечает. Комиссия пускает в ход последний козырь – вопрос «на засыпку» по работе Ф.Ф. Давитая[53]. Чирков отвечает и на него. Задававший этот вопрос спрашивает:
– Откуда вы это знаете? Это же закрытая работа.
Чирков объясняет, что он работал на агрометстанции «Краснодар» при Институте масличных культур, принимал там участие в научно-исследовательской работе, что профессор Синская получила работу Давитая на рецензию, рассказала ему об интересных проблемах, поставленных ученым в своем труде, что ему как специалисту было чрезвычайно интересно узнать о работе коллеги, и он запомнил основные положения Давитая.
Следующий экзамен по марксистско-ленинской философии. Членов комиссии опять предупредили о необходимости «завалить» Чиркова, но один член комиссии, представитель института общественных наук, был новым, и ему постеснялись сказать о замысле.
Экзамен шел в темпе. На билет Чирков ответил и на вопросы отвечал толково. Неизвестно, как долго бы это все продолжалось, если бы вдруг новый представитель института общественных наук возмущенно не сказал, что экзаменующийся прекрасно отвечал и по билету, и на вопросы членов комиссии.
– Он давно заслужил «отлично». Я буду голосовать за «отлично».
Третий экзамен – немецкий язык. Я подробнее расскажу об этом экзамене: он наиболее ярко характеризует и обстановку на экзамене, позицию комиссии и подготовку Чиркова.
Экзаменатор – очень знающий специалист по немецкому языку, свободно говорит по-немецки, хорошо знает немецкую литературу, особенно поэзию. Сдавать ему трудно – все это знают. Было много случаев, когда поступающие в аспирантуру, успешно сдав экзамены по специальности и философии, заваливались именно на немецком.
Расчет администрации и экзаменатора прост. Они понимали, что преподавание языка в школе и институте поставлено так, что выпускники практически не владеют языком, к тому же без тренировки язык забывается быстро. Все поступающие в аспирантуру больше других боятся экзамена по иностранному языку. Срезать их нетрудно. Тем более нетрудно срезать Чиркова, который экзамены на аттестат зрелости держал давно, да и то экстерном, институт закончил заочно. Какое уж там знание языка!
Такова была стратегия и тактика по провалу на экзаменах Юрия Ивановича Чиркова, как потом рассказал ему один из членов комиссии – Максим Саввич Кулик, ставший впоследствии научным руководителем Юрия Ивановича.
Экзаменатор Рахманов (кажется, он носил такую фамилию) предложил Чиркову обычное задание: перевод текста в 2,5 тысячи печатных знаков по специальности со словарем за полтора часа, чтение и перевод газетной статьи, затем разговорная речь на бытовые темы. Обычно экзамен на этом кончался. Но Рахманов завел речь о немецкой литературе. В разговоре выяснил, что Юрий Иванович знаком и со старой немецкой литературой, и с современной – с творчеством Анны Зегерс и других. Экзаменатор спросил, читал он произведения немецких авторов в переводе на русский или в подлиннике. Тот ответил, что читал и в переводе, и в подлиннике. Рахманов стал уточнять, знает ли экзаменуемый стихи наизусть и много ли. Юрий Иванович ответил, что знает несколько десятков стихотворений на языке, назвал некоторые, упомянул и монолог Фауста. Рахманов предложил читать монолог Фауста. Юрий Иванович удивился:
– Он же большой.
– Ничего, ничего. Читайте! – сурово повторил Рахманов, заподозрив, что Чирков увиливает.
Юрий Иванович прочитал весь монолог. Рахманов встал, протянул руку и, поблагодарив Чиркова, сказал, что он получил огромное удовольствие от знакомства и беседы с ним.
Шло время, а список прошедших по конкурсу в аспирантуру не вывешивался. Долго не было приказа о зачислении: в разных инстанциях выясняли, как быть с Чирковым.
В конце концов, приказ появился, и Юрий Иванович стал аспирантом-заочником по специальности агрометеорологии.
Осенью 1954 года мы перевезли из Краснодара сына и маму. Зима была трудной. Мы жили в старом, ветхом доме, единственным удобством которого был отдельный от хозяев вход в нашу довольно большую комнату с остатками старой русской печки и пристроенной к ней плитой. За ночь температура в комнате сильно падала, вода и еда замерзали. Сыну (ему было тогда четыре года) смастерили что-то вроде спального мешка и туго упаковывали его в мешок на ночь. Условия нелегкие, но жила надежда на получение комнаты в Москве, так как всем вернувшимся из ссылки постепенно давали жилье. Была в то время в Моссовете специальная очередь на жилплощадь для бывших репрессированных.
К весне Юрия Ивановича перевели в Московское управление гидрометслужбы старшим инженером. 10 декабря 1955 года он получил справку Н-4102/ОС с постановлением военного трибунала Московского военного округа о том, что «постановления особых совещаний при НКВД СССР от 20 июля 1935 года, 10 июня 1938 года и при МГБ СССР от 22 августа 1951 года в отношении Чиркова Ю.И. отменены и дело прекращено за отсутствием состава преступления». Справка подписана заместителем председателя военного трибунала МВО полковником юстиции Н. Гуриновым. Справедливость восторжествовала. Ведь ранее, в 1954 году, Юрий Иванович был освобожден со снятием судимости. Снятие судимости – это прощение, реабилитация же – признание, что человек безвинно подвергался репрессиям.
Теперь мы могли вздохнуть свободно. Лихолетье миновало. В конце декабря 1956 года мы получили на четверых комнату в коммунальной квартире в Москве и стали совсем счастливы. Впрочем, если не считать одного обстоятельства: десятилетиями, до самой смерти, Юрий Иванович часто видел один и тот же сон – его опять арестовывают… Он кричит во сне, и его не сразу удается успокоить.
Юрий Иванович Чирков Данные об авторе
Краткая биография
1919, 25 ноября. – Родился в г. Орлов Кировской области.
Жизнь семьи в Москве.
1928–1935. – Учёба в московской школе.
1935, 5 мая. – Арест по доносу. Лубянская тюрьма. Поиски родителями сына-семиклассника по московским моргам. Допросы. Обвинение в попытке взрыва мостов, в подготовке покушений на И.В. Косиора и Сталина. Перевод в Бутырскую пересыльную тюрьму. Приговор: 3 года ИТЛ (по статье 58, пункты 8, 10, 11). Свидание с родителями. Этап на Соловки.
1935, 1 сентября – 1938, июнь. – Прибытие на Соловки на бывшем монастырском пароходике под названием «Ударник». Состав заключённых. Режим содержания заключённых. Лагпункт «Кремль». Камера № 11 и судьбы заключённых в ней людей: Альфреда Казимировича Гедройца, Михаила Петровича Буркова, Татулина, Катаоки. Работа на ремонте дороги. Посещение библиотеки и знакомство с её сотрудниками: заведующим читальным залом архиепископом Петром (Рудневым Николаем Николаевичем) и заведующим кабинетом журналов и технической литературы Сергеем Кирилловичем Веригиным. Включение в состав бригады по сбору ягод. Болезнь. Приём на должность уборщика в хирургическое отделение больницы. Главный врач Титов. Перевод санитаром в терапевтическое, а затем в хирургическое отделение. Переход по предложению Г.П. Котляревского на работу в библиотеку. Состояние фонда лагерной (бывшей монастырской) библиотеки. Читатели библиотеки: П.А.Флоренский, А.Д. Гедеонов, В.А. Маклаков, А.Ю. Руднянский, А.В. Бобрищев-Пушкин, П.С. Арапов.
Празднование православной Пасхи (1936). Культурно-воспитательная работа: драматическая и оперно-опереточная театральные труппы, симфонический, струнный и духовой оркестры, концертная бригада, цыганский ансамбль, агитбригада. Проведение шахматных турниров. Получение при помощи Н.К. Крупской разрешения на свидание с матерью. Встречи с матерью на материке. Возвращение на Соловки. Работа в архиве-хранилище редких книг и особо ценных материалов. Пребывание в «Кремле» деятелей зарубежных компартий. Закрытие библиотеки.
Отправка в штрафной лагпункт Филимоново на торфоразработки. Объявление голодовки. Заключение в следственный изолятор. Пребывание в лазарете. Включение в колонну усиленного режима. Перевод Соловков в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН). Занятия заключённых. Отказ от разгрузки кирпича предназначенного на строительство тюрьмы. Поэтапная отправка узников Соловков. Штрафной изолятор на Секирной горе. Условия содержания. Окончание срока заключения (май 1938). Заключение в карцер.
1938, июль – 1941. – Приговор Особого Совещания при НКВД: продление срока заключения на 5 лет. Пребывание в камере-одночке. Перевод в пересыльную камеру.
Этап в Ухтижемлаг. Вологодская пересыльная тюрьма, Котласский пересыльный пункт.
Прибытие в Усть-Вымь. Пеший переход до пересыльного лагпункта Ухтижемлага. Разгрузка баржи. Помещение в штрафной изолятор, затем в госпиталь. Встреча с переписчиком произведений Толстого в Ясной Поляне Самуилом Моисеевичем Беленьким. Отправка на возку дров из леса на себе. Болезнь. Пребывание в лазарете.
Работа на парниках в совхозе «Ухта» (Ветлосян). Переписка годового отчёта Ухтинской опытной сельскохозяйственной станции.
Самостоятельные занятия и сдача экзаменов по специальности техника-гидрометеоролога. Посещение кружка интеллигентных пожилых дам, осуждённых по 58-й статье: О.Н. Бартеневой, Л.В. фон Лаур, княгини Белосельской-Белозерской и З.Р. Тетенборн.
Направление техником на метеостанцию. Исследование ветрового режима на месте строительства аэродрома.
Возвращение в Ухту. Начальник управления Ухтижемлага С.Н. Бурдаков. Посещение Ухтинского театра. Создание гидрометеослужбы. Назначение старшим техником Ухтижемлага. Переезд из лагеря на метеостанцию. Разработка проекта ежедневного бюллетеня погоды. Получение в письме известия о смерти матери (декабрь 1939).
1941, февраль – июль. – Прибытие в совхоз «Ухта» женского этапа из Польши. Знакомство с дочерью Станиславского воеводы Ирмой. Любовь к ней. Помощь ей в условиях лагеря. Организация экспедиций по обследованию течения рек Ухты, Ижмы. Вступление Ирмы в польскую армию. Её отъезд с первым эшелоном.
1942, февраль. – Перевод на работу на лесоповал.
1943, июнь. – Возвращение на работу в гидрометеослужбу. Разработка метода хранения картофеля.
1943, 8 июня. – Освобождение из лагеря с прикреплением к производству Ухтижемлага до конца войны. Зачисление на должность старшего метеоролога опытной станции. Разработка климатического атласа территории Ухижемлага. Получение комнаты.
1943, август. – Открепление от производства и получение паспорта со статьей 39 (запрещение проживания во всех областных и республиканских центрах и ряде других мест). Условное поступление на заочное отделение факультета естествознания в Молотовский университет (Пермь).
1945, начало. – Продолжение работы на опытной сельскохозяйственной станции. Преподавание физической географии и метеорологии на курсах по подготовке массовых профессий при Ухтинском комбинате НКВД СССР.
1945, май. – Известие об окончании войны. Сообщение о смерти отца (15 мая). Получение аттестата зрелости и золотой медали за среднюю школу. Поиски работы. Переписка с Ростовским управлением. Подготовка к отъезду.
1945, сентябрь. – Посещение квартиры родителей в Москве. Приезд на новое место работы в совхоз «Агроном» Краснодарского края. Работа начальником агрометеостанции «Кущёвка». Поступление на заочное отделение историко-филологического факультета Ростовского университета. Занятия. Предупреждение в деканате о невозможности по анкетным данным работать по избранной специальности. Уход из университета.
1947, апрель. – Назначение начальником агрометеостанции «Краснодар». Установление контактов с учёными Института масленичных культур. Поступление на биологический факультет заочного отделения Краснодарского пединститута.
1948, июнь – декабрь. – Знакомство и дружба с будущей женой преподавателем русского языка Краснодарского пединститута Валентиной Максимовной. Женитьба.
1950. – Досрочное окончание института (сдача экзаменов за пятилетний курс). Рекомендация в заочную аспирантуру по агрометеорологии при Всесоюзном институте растениеводства в Ленинграде. Отказ в связи с судимостью по 58-й статье. Отказ в прописке в Краснодаре.
Рождение сына (декабрь).
1951, май – декабрь. – Повторный арест. Вызов жены к следователю Пузравину в Управление МГБ. Следствие. Перевод в тюрьму. Приговор: пожизненная ссылка в Красноярский край. Отправка в леспромхоз в Холовое. Работа на лесоповале. Перевод на МТС в село Ялань (декабрь). Обострение гипертонической болезни. Пребывание в больнице Енисейска. Приезд жены. Поиски работы.
1952–1954, май. – Переезд в Енисейск. Знакомство и общение с семьями ссыльных.
Известие о смерти Сталина (март 1953). Поездка в Москву с целью ходатайства о пересмотре дела (сентябрь 1953).
Направление на ВТЭК для определения инвалидности (III группа). Получение справки о снятии судимости (28 мая 1954). Отъезд в Москву. Установление связи с институтом прогнозов (Гидрометцентр).
1954, июль. – Назначение Ю.И. Чиркова старшим инженером агрометстанции Ленино-Дачное при Всесоюзном институте лекарственных растений. Переезд в Битцу – в деревню Михайловское. Зачисление в заочную аспирантуру по специальности агрометеорологии.
1955, весна. – Перевод старшим инженером в Московское управление гидрометслужбы.
1955, 10 декабря. – Реабилитация.
1956, декабрь. – Получение комнаты в Москве.
? – Защита кандидатской диссертации.
1966. – Защита диссертации на степень доктора географических наук.
1968. – Присвоение звания профессора.
1970. – Назначение заведующим кафедры метеорологии и климатологии Академии им. Тимирязева.
1988, 11 августа. – Скончался Ю.И. Чирков.
Фотографии автора
В возрасте 15 лет
1956 г.
1980-е гг.
1
Автор имеет в виду, видимо, Большой Соловецкий остров. – Ред.
(обратно)2
– Мы любим объединяться, – Мы ненавидим объединяться… (нем.) (обратно)3
Майков А.Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 131. – Ред.
(обратно)4
Зачеты – форма поощрения заключенных за хорошую работу – сокращение срока заключения. На тяжелых работах засчитывались 30—45 дней за квартал. В лазарете обслуге полагалось 18—24 дня. По некоторым статьям зачетов не полагалось
(обратно)5
Дорогой полковник, надо зло уничтожать в зародыше (нем.)
(обратно)6
Вы правы (франц.)
(обратно)7
Поалей Цион (Рабочие Сиона) – мелкобуржуазные еврейские националистические организации, возникли в ряде стран в начале XX века, в России (главным образом на Украине) – в 1901 году. Пытались совместить идеи социализма с сионизмом. В 1904—1906 годах из групп Поалей Цион сложилось несколько партий, которые стали проводниками идей сионизма в рабочем движении. Октябрьскую революцию встретили враждебно. В 20-е годы в Советской России были запрещены. – Ред.
(обратно)8
Автор имеет в виду меньшевиков. Меньшевизм как политическая партия оформился в 1903 году на II съезде РСДРП. Л. Мартов являлся одним из лидеров – идеологов меньшевиков. Умер в 1923 году в эмиграции. – Ред.
(обратно)9
Вы теперь молодчина! (англ.)
(обратно)10
Журнал, издаваемый «Обществом политкаторжан» в СССР в 1921—1935 годах
(обратно)11
Фирдевс И.К. (1888—1937)—член КПСС с мая 1917 года. Участник революции и гражданской войны, видный деятель национально-государственного строительства. Входил в состав первого Советского правительства в Крыму в 1918 году. В 1922—1925 годах – наркомюст и прокурор Крымской АССР. – Ред.
(обратно)12
Сталин И.В. Сочинения. Т. 5. С. 306. – Ред.
(обратно)13
Султан-Галиев М.X. (1892—1940) – член КПСС с июля 1917 года. Участник гражданской войны, видный деятель национально-государственного строительства. Член реввоенсовета 2-й армии, начальник Восточного отдела Политического управления Красной Армии, член Наркомнаца РСФСР. – Ред.
(обратно)14
Пантюркизм – национал-шовинистическая буржуазная идеология, согласно которой все народы, говорящие на тюркских языках, и прежде всего тюрки-мусульмане, являются одной нацией и должны объединиться под главенством Турции в одно государство. Возник в начале XX века. – Ред.
(обратно)15
Панисламизм – религиозно-политическая идеология, в основе которой – представления о «единстве» мусульман всего мира и необходимости их сплочения в едином мусульманском государстве. Оформился в конце XIX века. – Ред.
(обратно)16
Авторские оценки Султан-Галиева и Фирдевса не совсем точны. И.К. Фирдевс в поддержке басмаческого движения не обвинялся; в этом случае автор путает его с Султан-Галиевым. Фирдевса же кроме связи с Султан-Галиевым обвиняли в контактах с буржуазными националистами в Крыму
(обратно)17
По Уголовному кодексу 1927 года 193-я статья – воинские преступления
(обратно)18
Воспитатель – представитель культурно-воспитательной части (КВЧ), ведет культурно-массовую работу среди заключенных
(обратно)19
«Der Taucher»—буквально: ныряльщик (нем.), в переводе Жуковского «Кубок», «Der Ring des Polykrates» – кольцо Поликрата (нем.), в переводе Жуковского «Поликратов перстень»
(обратно)20
Боже сохрани! (нем.)
(обратно)21
Вы умный человек! (нем.)
(обратно)22
Речь идет, видимо, об Александре Владимировиче Бобрищеве-Пушкине. Более подробно об этом см. журнал «64». 1990. № 10. С. 24.
(обратно)23
Ненаряженный – лагерный безработный.
(обратно)24
В бархат и шелк нарядно он одет (нем.)
(обратно)25
Огонь начинается с искры (нем.)
(обратно)26
Эта картина, как и многие другие работы Поленова, была продана в 20-е годы Советским правительством на аукционе в Америке наряду с другими произведениями искусства русских и иностранных мастеров.
(обратно)27
И человек не испытает богов и никогда не должен заглянуть на то, что милостивыми покрыто ночью и мраком (нем.)
(обратно)28
Что вы хотите? Говорите медленно и отчетливо (нем.)
(обратно)29
Русский общевоинский союз
(обратно)30
Монахов был начальником 3-й части, то есть руководителем госбезопасности в Соловках
(обратно)31
В те годы день смерти В.И. Ленина и день памяти расстрела демонстрации 9 января 1905 года, отмечавшиеся соответственно 21 и 22 января, были нерабочими днями
(обратно)32
Чего ты достиг? (нем.)
(обратно)33
«Дама с зелеными глазами» (нем.)
(обратно)34
«Wahlverwandschaft» – «Родство душ» (нем.); «Wilhelm Meisters Lehrjahre und Wanderjahre» – «Учение и годы странствований Вильгельма Мейстера» (нем.)
(обратно)35
По табелю о рангах 1937 года этот чин соответствовал генерал-майору
(обратно)36
Где мой учитель? (нем.)
(обратно)38
Купай, ученик, неустанно земную грудь в утренней заре (нем.)
(обратно)38
Шуцбунд – Союз обороны; в 20—30-е годы военизированная организация социал-демократической партии Австрии. Создана для обороны от наступления реакции, в защиту республики. – Ред.
(обратно)39
Господь с вами (лат.)
(обратно)40
Иофан Б.М. (1891—1976) – народный архитектор СССР, один из авторов проекта Дворца Советов в Москве. – Ред.
(обратно)41
Слава богу! (нем.)
(обратно)42
Эпидемии, заболевания
(обратно)43
Короче (идиш)
(обратно)44
Прямыми указаниями о том, что В.И. Ленин намечал на пост генерального секретаря партии Яна Рудзутака, советская наука не располагает. Предположение это следует отнести к разряду версий. Она возникла в начале 20-х годов, когда Ленин публично высказал мнение о Рудзутаке как человеке честном, организованном, мыслящем. Версия эта встречается в мемуарных свидетельствах представителей ленинской гвардии большевиков. – Ред.
(обратно)45
Купай, ученик, неустанно земную грудь в утренней заре (нем.)
(обратно)46
Победитель (нем.)
(обратно)47
Коми – народ финской группы, ранее называвшийся зырянами
(обратно)48
Так тогда назывался Таиланд
(обратно)49
Ю.И. Чирков имеет в виду портрет молодой женщины с цветком в руке, который хранится в Ленинграде, в музее Пушкина. Как предполагают искусствоведы, это портрет Амалии Ризнич. В 20-е годы прошлого века она жила в Одессе; среди посетителей ее дома был и А.С. Пушкин. Поэт был увлечен Амалией Ризнич, но взаимностью не пользовался. Пушкин посвятил Амалии Ризнич несколько стихотворений, в том числе «Для берегов отчизны дальней»
(обратно)50
Lacrima Cristi – слезы Христа (итал.). Согласно библейской легенде, когда Христос нес крест на Голгофу, он плакал, жалея человечество
(обратно)51
Фрина – греческая гетера. Прославилась тем, что была натурщицей знаменитых художников Праксителя и Апеллеса
(обратно)52
Часть из этих стихотворений вошла в сборник «Средь других имен» (Московский рабочий, 1989)
(обратно)53
Давитая Ф.Ф. – академик АН Грузинской ССР, работал в области климатологии и агрометеорологии
(обратно)
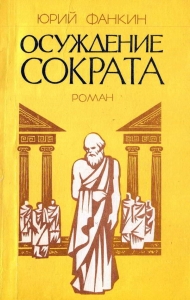




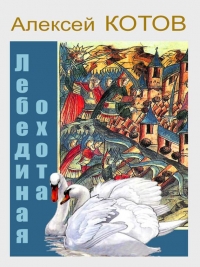

Комментарии к книге «А было все так…», Юрий Иванович Чирков
Всего 0 комментариев