Валентин Пикуль Ступай и не греши
Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный Путь.
Александр БлокОТ АВТОРА
Прошлое навсегда погребено на гигантском кладбище того же прошлого, которое мы так редко теперь навещаем.
Однако мне, живущему там, откуда еще никто не возвращался, намного легче перемещаться в пространствах времени, и потому в былой жизни России я имею немало хороших знакомых. Но средь великого множества женщин, платья которых давно и ликующе отшумели, одна уже много лет тревожит мое хладеющее воображение. Вот и сегодня — «встала из мрака младая с перстами пурпурными…».
Так уж получилось, что после изнурительных и долгих сомнений — писать или не писать, забыть или вспомнить? — я начинаю эту вещь именно 8 марта, который не ахти как волнует наших жен, зачастую униженных, оскорбленных и разгневанных, ибо их жизнь складывается совсем не так, как о ней мечталось.
Но сначала я вынужден побывать в Ницце, и, конечно, из потемок памяти сразу всплывают незабвенные строки:
О этот юг, о эта Ницца! О как их блеск меня тревожит…С давних времен в Ницце существовал отель-пансионат по названию «Родной угол», устроенный мадам М. М. Соболевой близ приморского променада; здесь к услугам заезжих была русская кухня с русской же прислугой, хорошо подобранная русская библиотека.
Летом 1923 года «Родной угол» приютил двух эмигрантов — пожилого и молодого. Блистательный и фееричный Санкт-Петербург — парадиз великой империи — для них уже навсегда растворился в непознаваемом отчуждении, и оба оставались равнодушны к ароматам цветов в роскошном, но чужестранном саду.
Радостных эмоций меж ними не возникало.
— Трагедия в том, — рассуждал пожилой, — что отныне в России право заменили указами. А роль адвоката, как защитника слабых, низведена до роли ассистента палача, обеспокоенного лишь качеством веревки. Интерес к юридическим правам личности низведен до ничтожного уровня, а мы — витии прошлого! — уходим в небытие с гнусным клеймом «платных наемников буржуазии». О чем тут говорить? Интеллигенция на Руси никогда не была сословием, но сейчас ее сделали «прослойкой», обязанной покорно признавать идейное превосходство победившего пролетариата, который отныне почитается главным знатоком классовой борьбы. Нет, милый Сережа, в этой России, порождающей робеспьеров и маратов из разино-пугачевского наследия, мои эмоции никому не нужны… Будем помирать в «Родном углу»!
Так говорил Николай Платонович Карабчевский писателю Карачевцеву, желавшему побыть при нем в роли известного Эккермана. Понуждая старика к откровенности, он даже не скрывал, что собирает материал для книги о нем. Да, еще недавно Карабчевский был очень знаменит — оратор и писатель, поэт и адвокат, Николай Платонович всю жизнь считал, что нет выше звания присяжного поверенного, и в 1917 году Керенский напрасно соблазнял его званием сенатора. Карабчевский отказался.
— Нет уж! — сказал он. — Я желаю умереть в первых шеренгах лейб-гвардии российской адвокатуры — именно столичной…
На громогласных лирах старой адвокатуры было натянуто немало певучих струн, и каждая мощно звучала: присяжных поверенных знали на Руси как писателей, публицистов, драматургов, психологов и даже актеров. Карабчевский эмигрировал, когда уличная толпа сожгла здание столичного суда — не стало храма судебных реформ, значит, не нужны и жрецы справедливости.
Теперь, затворенный в «Родном углу», Николай Платонович печально воскрешал в памяти те громкие процессы, в которых когда-то блистало его имя. Сергей Карачевцев торопливо записывал, неожиданно вспомнив женское имя — Ольга Палем:
— Что вы можете сказать о ней?
Николай Платонович заметно оживился.
— Я глубоко убежден, — отвечал он, — что каждая женщина хотя в душе и ранимее нас, мужчин, но она и намного терпеливее нас, мужчин. Особенно в те периоды своей жизни, когда она любит. В этом я убежден. Женщина может сносить от любимого человека многие обиды и оскорбления, она способна очень многое прощать. Но… пусть мужчины не обольщаются!
Он замолк. Карачевцев осторожно напомнил:
— Продолжайте… Как мне понимать вас?
— А так, юноша, и понимайте. Женщина прощает почти все мужчине, которого она любит. Но в ее любви имеется очень опасный предел. Тогда женщина как бы «взрывается». И, взорвавшись, она обязательно отомстит. Рано или поздно, но — отомстит! Я думаю, — заключил Карабчевский почти торжественно, — женщина имеет на эту месть природное право…
— Мне позволено так и записать? — спросил биограф.
— Да, так и запишите. Пусть знают все. Надо ценить женщин. Надо беречь женщин. Надо уважать женщин, имевших несчастье полюбить мужчин, недостойных большой женской любви…
Через два года после этой беседы Карабчевский угас, и его прах был предан земле на отдаленном кладбище Рима, уже тогда заброшенном. Так завершилась жизнь человека, о котором наши историки теперь начинают вспоминать.
Конечно, читатели вправе спросить меня, почему я назвал свой роман «бульварным»? Отвечу. Всю жизнь я писал военно-политические романы, но критики упрямо именовали меня «бульварным» писателем. И чем больше становился накал патриотизма в моих исторических романах, тем настойчивее блюстители порядка обвиняли меня именно в «бульварщине».
Наконец я понял, что угодить нашим литературно-газетным Зоилам можно лишь одним изуверским способом — написать воистину бульварный роман, дабы их мнение обо мне, как о писателе, полностью подтвердилось. Заодно уж я, идущий навстречу своим критикам, щедро бросаю им жирную мозговую кость…
Я писал эту вещь на примере исторических фактов столетней давности, но думается, что вопросы любви и морали в прошлом всегда останутся насущными и для нашего суматошного времени.
1. «Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ ПЫЛЬНОЙ»
Господа присяжные заседатели!.. В обстановке довольно специфической — трактирно-петербургской, с осложнениями в виде кружки Эсмарка на стене и распитой бутылки дешевого шампанского на столе, стряслось большое зло. На грязный трактирный пол ничком упал молодой человек, подававший самые блестящие надежды на завидную карьеру…
Н. П. Карабчевский. «Речи».Но один из старожилов этого города высоко оценивал даже легендарную пыль: «Прежняя одесская пыль была не такою, как ныне — она была благоуханной, как пыльца цветов. Море, степи, акации были причиной ея аромата». Этот же мемуарист здраво мыслил, что даже солнце светило одесситам совсем иначе: «О доброе старое одесское солнце! — восклицал он. — Где ты? Куда сокрылось? Теперь восходит какое-то бледное светило, но это вовсе не то, что было раньше…»
Сто лет назад Одесса, извините, все-таки была веселее и наряднее; ее улицы и площади хранили святость исторических названий; памятники тоже оставались незыблемы, на их пьедесталах красовались тогда совсем иные герои — не те, что разрушали, а те, которые Одессу созидали. Кстати уж, оставив в стороне Потемкина, Ришелье, Ланжерона, Дерибаса и Воронцовых, я вам напомню, что Одесса славилась не только босяками с Куликова поля, не одними тряпичниками с Чумной горы. В разное время здесь проживали последний в России граф Разумовский, неаполитанская королева Каролина, из Одессы вышла барышня Наталья Кешко, занявшая престол Обреновичей, наконец, одесситы не забывали и знаменитого Джузеппе Гарибальди.
На улицах звучала речь греков, французов, итальянцев, болгар, евреев, турок, цыган и… попросту одесситов, считающих, что все неодесситы должны им завидовать. Одесса жила с торговли, почему и процветала в небывалом довольстве, для нас уже недостижимом. Люди победнее шли на Толкучку, а длинная череда роскошных магазинов на Александровской приманивала зажиточных изделиями Парижа. Кажется, одесситы умудрялись торговать со всем миром: колбаса у них из Болоньи, коровье масло из Милана, сушеные каштаны из Сицилии, баклажаны завозили из Турции, итальянские спагетти ели обязательно с пармезаном, а на Греческой улице источали аромат апельсины, доставленные из арабо-еврейской Яффы…
Все было умопомрачительно дешево — настолько дешево, что заезжие думали, будто одесситы торгуют себе в убыток. А толстые торговки в белых передниках зазывали покупателей:
— Клянусь счастьем своих детей, которых у меня семеро, клянусь и здоровьем своего единственного мужа, что лучше бычков нигде не бывает. Берите хоть даром и потом будете рассказывать гостям, что однажды в жизни вам здорово повезло!
В дни семейных или табельных праздников было принято обмениваться кулебяками, словно визитными карточками: если вкусная кулебяка — значит и человек хороший, с таким можно вести дело. Славился и одесский квас, который одесситы потребляли сразу по две кружки: первую для утоления жажды, а вторую — чтобы поговорить о достоинствах кваса. Заодно уж сообщу и такую подробность из старого быта Одессы: женщины по базарам с кошелками не шлялись, с утра пораньше на базар ходили только мужчины, а их жены сладостно дремали в блаженной истоме, преследуемые лирическими сновидениями.
Чувствую, назрела суровая необходимость рассказать кое-что об одесских женщинах. Нигде в России тогда на бабах еще не ездили, ибо до эмансипации не дожили, но в Одессе, между нами говоря, такое случалось. Однажды на балу составили «тройку» три замечательные одесситки: русская купчиха Агафья Папудова, красавица-гречанка Артемида Зарифи, еврейка Розалия Бродская, а погонял их немец по фамилии Гире. Интернациональная дружба, как видите, процветала! Здесь уместно сказать, что одесские женщины легкого флирта не признавали, а если влюблялись, так серьезно и надолго — как говорится, «напропалую» или «позарез».
Это качество заметно отличало их от одесских мужчин, которые, будучи намного слабее женщин духом, влюблялись ежемесячно, а в случае первой же неудачи грозили дамам застрелиться, но свое решение почему-то откладывали до следующего романа (а заодно и до ближайшего получения жалованья).
Еще была одна несообразность, понятная только одесситам, но чего никак не могли освоить жители иных городов великой империи. Обычно за честь жены вступается муж, не подпуская любовника к своей жене, но в Одессе все было наоборот: там любовник, завладев чужою женою, всеми силами отбивал ее от претензий мужа и стоял на этом крепко и нерушимо, как часовой на охране неприкосновенных рубежей…
До «конца света» оставалось жить совсем недолго!
Астрономы тогда предсказывали, что на самом исходе XIX века, в ноябре 1899 года, выпадет обильный «звездный дождь», который испепелит нашу планету и все живущее на ней. Новость, конечно, не очень-то приятная. Одни заранее транжирили свои деньжата, ибо все равно погибать, а другие кубышек своих не трогали, рассуждая вполне разумно:
— От этих ученых добра не жди, одни пакости! Видят же гадючьи души, что мы живем и наслаждаемся, вот и решили настроение нам испортить… Я за себя не ручаюсь! Если попадется мне какой звездочет, излуплю его так, что у него у самого звезды из глаз посыплются.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Итак, я жил тогда в Одессе…» Не сегодня жил, а сто лет назад — прошу читателя это учитывать.
На исходе прошлого века Одесса наблюдала вымирание исторических персон, которых еще успела побаюкать Екатерина Великая на своих пышных коленях. Среди жителей встречались престарелые ворчуньи, давшие в юности зарок не выходить замуж на том веском основании, что им довелось танцевать с самим Пушкиным.
Близилось время Соньки Золотой Ручки, предвосхитившей появление Миши Япончика и литературного Бени Крика, а по улицам Одессы еще блуждали тени людей, которые нельзя было назвать загробными. На покое доживали свой век и те, что были косвенно повинны в гибели великого поэта. Граф Александр Строганов, уже готовый отметить столетие своей жизни, носил эполеты с вензелями Александра I, руки никому не подавал, а корреспондентов отпугивал слишком выразительно:
— Брысь, скнипа! Моего папеньку воспел еще Байрон в своем «Дон-Жуане», а ты… брысь, ты еще не Байрон!
Под стать ему была знаменитая Идалия Полетика, до самого смертного часа не изменившая своей закоренелой ненависти к поэту. Эта мегера даже собиралась ехать в Москву, чтобы публично оплевать (!) опекушинский памятник Пушкину на Тверском бульваре. Идалия умерла раньше Строганова, а сам Строганов, услышав призыв Харона, нанял пароход, загрузил его тоннами семейных бумаг и весь архив утопил в открытом море. Там было много такого, что могло бы переиначить некоторые акценты в истории нашего государства, но… Как объяснить этот дичайший вандализм графа — этого я, простите, не знаю!
Не лучше ли нам поговорить на иную тему?..
Сто лет назад по улицам Одессы еще блуждали итальянцы-шарманщики, а в саду Форкатти вырывались из оркестровых «раковин» мелодии Верди, Россини и Доницетти. Одесский театр, воспетый Пушкиным, после пожара 1873 года являл обгорелые руины; на фоне этих руин фокусник-левантиец зазывал прохожих глянуть в подзорную трубу, проходящую через его живот, и любопытные, оплатив показ, плевались:
— Нашел что показывать! Мы и не такое видывали…
Одесса издавна любила знаменитости, которые считали честью здесь гастролировать, но одесситы любили и крайности. Если великий Паганини играл на одной струне, то в Одессе успешно выступал танцор Донато, виртуозно плясавший на единственной ноге, благо вторая у него отсутствовала. Любимцем публики был и клоун Таити с «ученой» свиньей, которую наши добры молодцы купили за 10 000 рублей и сожрали ее под выпивку, сами ученостью свиньи не обладая. Одесса, конечно, смеялась.
А скажите вы мне — когда не смеялась Одесса?
Но в ее веселье иногда вторгались и трагические моменты, связанные с переменой начальства. Худо стало, когда пост градоначальника занял контр-адмирал П. А. Зеленый, возвестивший о своем появлении почти по Салтыкову-Щедрину:
— Да, я — Зеленый, но и вы скоро все позеленеете!
Матерщинник был страшный, слова не мог сказать без подробнейших комментариев на тему, всем нам известную по живописи на заборах. Но, воздадим ему должное, Зеленый строго следил за нравственностью одесской прессы, особо преследуя перенос на другую строку слова «лейтенант», чтобы призывное и внятное «лей» не писалось отдельно от жалкого «тенанта»:
— Крамола, мать вашу за ногу и так далее!..
Зеленый пользовался колоссальным авторитетом. Даже очередь перед банком, жаждущая получить пенсию, дружно разбегалась при виде своего любимого градоначальника, быстро «зеленея» от его вида. Адмирал был непримирим и в борьбе с проституцией, для чего по ночам лично распугивал невинных девиц, порскавших в разные стороны, словно тараканы, застигнутые ярким светом. Однажды и супруга отважного адмирала, возвращаясь пешком из гостей, случайно попала в облаву, принятая мужем в темноте за даму легкого поведения:
— Ах ты, курва старая! — зарычал он во мраке. — Под арест ее, чтобы постыдилась…
Сие было исполнено. Уж как она, бедненькая, отбивалась, уж как она клялась… Зато и хохоту же было в Одессе!
Для любителей таинств «полтергейста», столь модного сейчас в нашей могучей державе, сообщаю: сто лет назад в Одессе сами по себе передвигались шкафы, стулья отплясывали веселого гопака, по ночам свечи гасли и снова вспыхивали более ярким пламенем, а по комнатам невест, застывших в трепетном ожидании, тихо плавали скомканные бумаги с непонятными письменами.
В старых домах, где заводилась нечистая сила, полиция заколачивала окна и двери, чтобы нахальные призраки не вздумали шляться по улицам.
Впрочем, босяки, воры и голодранцы умудрялись проникать в такие дома, устраивая в них убежища для ночлега, и дружно распивали там водку. Думаю, они даже чокались кружками с явлениями потустороннего мира!
Надеюсь, читатель, для преамбулы этого достаточно.
Примерно такой была одесская жизнь сто лет назад, обозначенная мною лишь слабым пунктиром…
2. «ШТУЧКА» ГОСПОДИНА КАНДИНСКОГО
Одесса уже пробудилась, день обещал быть жарким, когда околоточный надзиратель Пахом Горилов приступил к исполнению служебного долга, издревле почитаемого священным. Для этого ему следовало, взирая начальственно, а поступь имея уверенную, обойти свои законные владения, дабы высмотреть непорядок — и указать, и распушить, и проследовать далее, чтобы обыватели участка себя не забывали, а его тоже вовек запомнили, как помнят на Руси отца родного.
С такими-то вот благородными намерениями Пахом Горилов начал свою ежедневную одиссею, деликатно погромыхивая шашкою и скромнейше посверкивая лучезарными сапожищами. Солнце восходило к зениту, и душа околоточного ликовала, слыша, как поют птахи небесные, а близ лошадиного водопоя так благостно и так душевно скандалят ломовые извозчики. Пахом Горилов начинал обход участка от поля Куликова, так что слева зеленели райские кущи Ботанического сада, а справа оставалась тюрьма, из окошек которой узники могли бесплатно созерцать, как крутятся карусели, а клоуны зазывают публику в балаганы. Согласитесь, что сидеть в такой тюрьме было одно удовольствие!
Между тем, наш благородный герой двигался вдоль Порто-Франковской, не минуя при этом заглянуть в Арнаутскую и Рыбную, чтобы за богадельней для увечных и престарелых (разумно устроенной впритык к кладбищу) навестить неугомонный Толкучий рынок. Здесь, на рынке, Пахом Горилов не стал ждать милостей от природы, а решил взять их силой. Для этого, обозревая ряды торгующих, он сделал серьезное внушение (с милым «заушением») ворам-карманникам, которые признали его неоспоримую правоту, за что и отблагодарили Пахома пятью рублями.
— Еще раз увижу, так… гляди! Пятью не отделаешься…
Жарища усиливалась, и Горилову захотелось не пить, а выпить. Для этого он уклонился от генерального маршрута и на Мещанской проверил чистоту в трактире Абрама Застенкера, который сразу поднес ему чарочку — за любезное указание угла, где залежался мусор. Теперь следовало закурить, ради чего Пахом Горилов свернул на Арнаутскую, на которой доброжелательный грек Катараксис содержал табачную лавчонку…
Вот именно здесь и произошла первая встреча!
— Здрасьте, — сказал Пахом, облокотясь на прилавок, за которым стояла невиданная раньше брюнетка, скромная и пугливая. — Отчего же не видать сей день мадам Катараксис?
— Прихворнула, — пояснила девица. — А хозяин нанял меня недавно… Вам каких папирос желательно?
— Курим фабрику братьев Месаксуди, — величаво ответил Пахом. — А ты сама-то откедова? Местная али как иначе?
— Таврическая. Недавно приехала в Одессу из Симферополя, и вот нанялась… в услужение.
— Это плохо, — крякнул Горилов, — это очень плохо, что приболела мадам Катараксис, имевшая похвальную привычку давать десяток папирос просто так… по знакомству.
— Воля ваша, — согласилась девица, покраснев. — Я вам тоже дам десяток бесплатно, только не говорите об этом моему хозяину… ладно? А то он, боюсь, прогонит меня.
— Ишь ты какая! — восхищенно произнес Горилов.
— А… какая?
— Больно красовитая. Вроде бы, цыганка-молдаванка. Может, заодно и наворожишь мне на счастье?
— Извините, — потупилась девица. — Я не умею.
— Ну и ладно, — сказал Пахом, отвалившись от скрипучего прилавка. — Отсыпь мне горсточку папиросок «Пушка» и будь здорова. А мне еще ходить, чтобы порядок навести…
Пошел к дверям, но задержался на пороге:
— Эй, барышня! А зовут-то тебя как?
— Ольгой.
— По батюшке?
— Васильевна.
— А дале-то как? Прозванием?
— Попова, — назвалась девица таврическая, снова зардевшись стыдливым румянцем.
Этой информацией Пахом был вполне удовлетворен и паспорта не спрашивал, ибо в Одессе столько всяких… тьфу!
— Будь здорова, мамзель Попова, — сказал на прощание. — Ежели кто обидит, ты мне жалуйся… У меня кулаки — во! Как врежу, так потом соплей не соберешь.
— Благодарю, господин околоточный. Вы так добры, вы так сердечны, а я ведь совсем одинока… сиротинка горькая!
На этом они и расстались. Выстраивая хронологию событий, я пришел к выводу, что в табачной лавке девица появилась где-то около 1886 года. Если она родилась в 1866 году, то ее появление в Одессе будем относить к той волшебной поре юности, когда любая девушка невольно становится классическою Венерой, достойной всеобщего обозрения. Конечно, околоточный не раз навещал лавку Катараксиса, но однажды ему отсыпала десяток дармовых «Пушек» сама жена хозяина.
— А кудыть девка-то подевалась? Выгнали?
— Хвостом вильнула и ушла.
— А-а-а, — с пониманием дела изрек Пахом Горилов…
Но однажды осенью 1887 года околоточный, совершая бдительный обход своего участка, на углу Вокзальной и Тюремного переулка был обрызган с ног до головы грязью, выплеснувшей из-под дутых шин роскошного «штейгера», который увлекал в суету улиц каурый рысак. В коляске, откачнувшись назад и фривольно раскинув руки по бокам дивана, сидела красивая молодая дама. Пахом, не будь дураком, сразу засвистел, чтобы кучер остановился для восприятия кроткого «внушения», но тот, сволочь паршивая, пуще нахлестнул жеребца, и «штейгер» завернул в суматоху Ришельевского проспекта.
— Что за притча! — удивился Пахом.
Дело в том, что глаз он имел ястребиный, наметанный, и в краткий момент узнал в красавице, промчавшейся мимо него, ту самую бедную девушку из табачной лавчонки. В душе околоточного, вестимо, возникли всякие подозрения:
— Уж не воровка ли какая? С чего бы этой задрипанной девке на рысаках кататься и мой чин слякотью обливать…
Исполненный служебного рвения, он навестил полицейского пристава Олега Чабанова, которому и высказал свои опасения.
Чабанов подумал и сказал в ответ надзирателю:
— Ты вот что! Эту девку не трогай.
— А пошто так?
— А то, что она стала «штучкой» господина Кандинского…
Одесса хорошо знала господина В. В. Кандинского, богатого коммерсанта, державшего в городе финансовую контору.
— Вася-Вася? — удивился Пахом Горилов. — Ну, скажи ты на милость! Кто бы мог подумать? Не успела жена помереть, как он сразу молоденькую «штучку» себе завел… Ай-я-яй! — пожалел он коммерсанта. — Где бы ему, дураку старому, по стеночке ходить с тросточкой, а он… ай-я-яй!
— «Штучка»-то — что надо, — зевнул Чабанов. — Я с Васей-Васей тут как-то на днях в штосс резался, так просил по дружбе сознаться, во сколько же она ему обходится?
— Ну-ну! Во сколько?
— Так не мычит мой Вася, не телится. Видать, понравилось иметь одалиску, теперь пушинки с нее сдувает…
В таком приятном разговоре Пахом назвал девицу Ольгой Васильевной Поповой, но Чабанов высмеял его:
— Ольга Палем, и никакая она тебе не Попова… Это она наврала тебе, а ты, дурак, и уши развесил.
— Да вить сказывала, что таврическая.
— Верно! У нее родители в Симферополе. Вообще-то я тебя предупредил: ты эту «штучку» лучше не задевай… Ну ее к бесу! У нее какие-то связи с генералом Поповым, который ныне предводителем дворянства в Таврической губернии…
3. ГОСПОЖА ПОПОВА
Спустя годы, когда имя Ольги Палем уже отгремело на Руси и затихло в безбожном отдалении, заезжий столичный корреспондент отыскал в Симферополе ее захудалых родителей.
Перед ним предстал ветхозаветный Мордка Палем, трясущийся от гнева и бедности, опозоренный своей дочерью.
— Меня была чудная девочка, — рассказывал он, — и все было бы превосходно, если бы не эти романы, которые она читала запоем… Раввин мудро предрек мне, что Адонай, великий бог отмщения, не прощает евреев до седьмого колена, и мои потомки семь поколений сряду осуждены страдать за грехи Мени, которая изменила вере своих отцов… Вы только посмотрите на мою бедную жену! — воскликнул он.
Корреспондент охотно оглядел Геню Пейсаховну Палем, уже сгорбленную нуждой старуху, глаза которой — это было заметно — не просыхали от слез и от тягостей жизни.
— Видите? А ведь моя Генечка была лучшей красавицей в городе, — сообщил Мордка Палем. — Знатные господа и даже адмиралы из Севастополя платили мне по червонцу, чтобы только полюбоваться ее красотой. Это была сущая Саломея, а теперь… Что видите вы теперь? Геня, скажи сама.
— О горе нам, горе! — запричитала старуха.
— Хватит, — велел ей муж. — Раввин оказался прав. Я ведь был вполне обеспеченный торговец, меня все уважали, а когда Меня ушла, все пошло прахом, мы сразу сделались нищими.
— Но я слышал, — заметил корреспондент, — что в вашем разорении повинна сама еврейская община Симферополя, выместившая на вас свое зло за уход юной еврейки из дома.
— Еврей не станет разорять еврея! — гневно закричал Мордка. — Это сам великий Адонай пожелал видеть меня обнищавшим. Пока она читала романы, я молчал, но теперь я ее проклинаю.
— Я не рожала такой дочери! — зарыдала и мать…
Что же там случилось, в этом семействе?
Н. П. Карабчевский много позже проанализировал детство Мени Палем, придя к выводу: «Она не была похожа на других детей (в семействе Палем). То задумчивая и грустная, то безумно шаловливая и очень веселая, она нередко разражалась нервными припадками… Заботливо перешептываясь между собой, родители решили, что Менечку не надо излишне раздражать, и предоставили девочке полную свободу». Впрочем, эта свобода была лишь относительной — читать русские книги ей запрещали, с детства девочке указали будущего мужа — сопливого Натана Напфельбаума, от которого вечно пахло селедкой с луком. Меня была еще подростком, когда ее стали выводить на бульвар Симферополя, одетую «барышней», и вот тут родители за ней не углядели.
Красивая и живая девочка, она, словно бабочка, резво впорхнула в компанию русских гимназистов и гимназисток, которые охотно приняли ее в свой веселый круг, в котором понимание жизни было широким, как мир, и совсем не таким, каким раньше все ей казалось. А потом Мене было так тяжко возвращаться в свой удушливый дом, где отец бубнил из потемок над раскрытым Талмудом, вздыхала за стеною мать, братья с длинными пейсами говорили меж собой только шепотом, а ходили по комнатам на цыпочках, словно боясь кого-то незримого, но страшного…
Меня оказалась чертовски талантлива! Даже без учителей она самоучкой освоила чтение и писание по-русски, тайком от родителей поглощала ночами романы, в которых распускалась неведомая ей жизнь, а прекрасные героини на самой последней странице подставляли пунцовые губы под жаркий ливень огненных поцелуев. Так зарождались мечты — сладкие иллюзии о той жизни, которая совсем не ждет ее, но которая возможна, если…
«Ах, если бы!» — потихоньку вздыхала она.
Отныне обстановка в родительском доме ей казалась невыносима, хотелось вырваться и куда-то бежать, жаждалось быть постоянно веселой, делать только то, что хочется. Но… как обрести эту призрачную свободу, чтобы не сопливый Натан, а сказочный некто увлек ее в чудесные соблазны? Наконец Меня Палем, никому ничего не говоря, сообразила, что свободу ей может дать только переход в православие.
Ей было лет пятнадцать-шестнадцать, когда она посетила православный собор в родном городе. Конечно, священник заметил еврейскую девушку в толпе молящихся, и, по окончании службы, он молча поманил ее в притвор храма, где никого не было.
— Я тебя знаю, — просто сказал он. — Знаю и твоих папу с мамой. Разве ты не боишься, что тебя очень строго накажут в семье за посещение нашей церкви?
— Не боюсь. Крестите меня, — взмолилась Меня.
Священник был человеком осторожным.
— Не горячись, девочка, — рассудительно произнес он. — Сядь и выслушай меня очень внимательно. До Симферополя я служил в Могилеве, и там со мною случилась большая беда. Я крестил еврейскую девушку, влюбленную в русского офицера, который сделал ей предложение. Но закончилось все ужасно… Соплеменники забили ее камнями, и я до сих пор содрогаюсь, вспоминая этот кошмарный случай, в котором косвенно оказался виноват я сам. Потому и говорю тебе — будь благоразумна.
— Я вполне благоразумна, — ответила Меня Палем. — Но поймите, я хочу жить, потому и прошу вас: крестите меня!
Священник сказал, что сочувствует ее стремлениям, но сам он слишком ничтожная персона, и потому неспособен оградить ее от побиения камнями по ветхозаветным обычаям.
— Вернись домой и помалкивай, — выпроваживал он Меню из храма. — Я постараюсь сыскать авторитетного человека, который не побоится стать твоим крестным отцом…
Нашел! Это был генерал-майор и местный миллионер Василий Павлович Попов — потомок того знаменитого В. С. Попова, который состоял еще при светлейшем князе Потемкине-Таврическом и потомство которого прочно осело в Крыму, где Поповы владели огромными поместьями, перевитыми виноградной лозой, исстари завезенной сюда из Токая. Вот этот Василий Павлович Попов, наследник былой славы, и согласился быть крестным, а в конце церковной процедуры он подарил вчерашней Менечке сотню рублей, преподав ей напутствие:
— Ты стала Ольгой в святом крещении, а отчество у тебя от моего имени. Но я не стану возражать, если пожелаешь писаться «Поповой». Желаю счастья! Но после всего, что здесь произошло, домой тебе уже никогда не вернуться, почему и советую тебе скрыться… хотя бы в Одессе. Там такой оживленный город, где даже крокодил может затеряться в толпе на базаре. Но боюсь, что с такою внешностью, от судьбы не укроешься…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Генерал Попов не слишком-то расщедрился перед крестницей, зато он дал ей рекомендательное письмо знакомым в Одессе, с этим письмом Ольгу Палем-Попову взяли в услужение хорошие люди из хорошего дома. Однако удержалась она в горничных день-два, не больше, ибо, как выяснилось, делать ничего не умела, даже самовар не могла поставить как надо. После этого и оказалась за прилавком табачного магазина. Но вскоре и тут выяснилось, что к торговле совсем неприспособлена, расхваливать товар не умела, и жена хозяина, выздоровев, выставила ее на улицу, еще обругав как следует за нехватку папирос фабрики Месаксуди, выкуренных околоточным Пахомом Гориловым…
А куда ей деваться? Без родни и знакомых, девушка с яркой, броской внешностью, — конечно, она уже не раз перехватывала на улицах взгляды мужчин, оценивающие ее. Выглядела же она великолепно, о таких женщинах принято говорить, что они родились с «изюминкой во рту» и созданы для любви. Вряд ли Палем-Попова догадывалась в ту пору жизни, что сейчас она — лишь хороший «товар», на который всегда сыщется покупатель.
Пристав Чабанов спустя несколько лет вспомнил, что Ольга Васильевна одевалась тогда бедненько, держалась скромницей, но была весела и здорова, а чахнуть стала именно с того времени, когда на нее нашелся богатый «покупатель».
Василий Васильевич Кандинский появился в 1887 году под видом солидного человека, который, упаси бог, не зазывал ее в ресторан у Фанкони, а сначала лишь изрекал благостные и гуманные пожелания окружить ее «отеческой» заботой, так как его сердце разрывается при виде ее сиротства:
— Вы даже не представляете, как вам повезло, что встретили именно меня, который вполне бескорыстно готов устроить ваше благополучие и ваше будущее счастье…
Установить четкую грань, которая бы делила «отеческую» заботу от прочих интересов Кандинского, сейчас уже невозможно, и даже Карабчевский, пытавшийся проникнуть в душу Кандинского, отступил перед ним в непонимании его характера: «К сожалению, г-н Кандинский, когда от него требовалось дать прямой ответ, очень любил поговорить о погоде…»
Наверное, именно таким и был этот финансист, желавший иметь Ольгу Палем где-то между своей конторой и биржей. Как бы то ни было, но «отеческое» внимание он все-таки проявил: снял для Ольги квартиру, обставил ее хорошей мебелью, нанял служанку, а кучеру Илье велел катать Ольгу — куда ей вздумается.
— Для меня, — намекал Кандинский, перебирая брелоки часов, выпущенных поверх жилетки, — твое имя звучит отчасти вульгарно. Посмотри на себя в зеркало — какая же ты Ольга? Позволь, деточка, я стану называть тебя библейским именем Мариам, а ты называй меня своим пупсиком… Так будет гораздо проще и придаст некоторую интимность нашим непредсказуемым отношениям.
«Отеческие» отношения вскоре уступили место другим, весьма далеким от родительских попечений, но которые Ольга Палем, кажется, не слишком-то драматизировала. Кандинский вечерами, усталый, просил ее щипать гитарные струны, и после игры на бирже ему было приятно слышать игру на гитаре, и слова романса сулили ему как раз то, на что он уже не мог рассчитывать:
У ног твоих рабой умру, Давно-давно блаженства жду. Ты мучь меня, терзай меня, Одно прошу — люби меня, И, умирая, не солгу, «Люблю» скажу — и вмиг умру…— Ах, как это приятно! — умилялся Кандинский. Но вскоре ей стало тошно быть райской птичкой, посаженной в золоченую клетку. Человек мало выразительный, целиком погруженный в мир балансов, авуаров и кредитов, Кандинский, надо полагать, сделал ее содержанкой не ради взбодрения мужских эмоций, а лишь для того, чтобы поднять престиж своей конторы; пусть люди говорят: «Если уж этот старый хрыч мотает на молодую любовницу, так, значит, финансы его конторы в полном порядке…» Ольга Палем стала как бы яркой рекламой преуспеяния конторы Кандинского, который серьезно полагал, что квартира, мебель и служанка — этого вполне достаточно, чтобы его «Мариам» была довольна и счастлива.
Кстати, у него был приятель — отставной полковник Колемин, уже пожилой человек, и он был единственным, кого Кандинский допустил до знакомства с Ольгой Палем. Случайно, оставив мужчин наедине, Ольга слышала, как Колемин говорил:
— Мерзавец ты, Васька, мало тебя смолоду били! С тебя-то спрос короткий, благо из штанов давно песок сыплется, а вот каково-то ей, бедной девице? Ведь ей жить да жить, а кто возьмет ее в жены, если узнает, что она была твоей содержанкой? Ты бы прежде хоть со мной посоветовался…
Отношения с Кандинским затянулись, но, встречая Ольгу Палем-Попову на улицах, пристав Чабанов заметил, что «меценатство» Кандинского не пошло на пользу: женщина выглядела плохо, осунулась, подурнела. Это были внешние проявления, а сам Кандинский наблюдал и внутренние — его «Мариам» колотила тарелки на кухне, кричала на служанку, казалась издерганной, не в меру вспыльчивой, места себе не находила.
— Деточка, — вежливо допытывался Кандинский, — пожалей своего пупсика и не будь такой букой. Чего тебе еще не хватает? Ну скажи что-нибудь ласковое. Может, добавить денег, чтобы ты завтра побегала по Александровской?
Колемин, человек семейный, навещал ее запросто, с ним Ольга была доверительна, как дочь с отцом. Бывалый вояка, крутой и честный, полковник сам и завел разговор с нею.
— Слушай! — сказал он Ольге. — У меня ведь дочь старше тебя, и я вижу, что ты исчахлась, а красота твоя меркнет… Разве это жизнь? Одна маета и никакого просвета. Ну хорошо, я приятель Васи-Васи, но все же скажу, что он тебя в гроб загонит! Ты меня послушай, дочка, я ведь зла тебе не желаю. Только добра хочу.
— Верю, — тихо отозвалась Ольга, заплакав.
— Бросай ты этого полудохлого мерина и поживи, как живут все молодые чудачки. На что этот Вася-Вася, который нужен тебе — словно слепой поводырь зрячему?
— Он меня не отпустит, — призадумалась Ольга.
Колемин трахнул кулаком по столу:
— А пусть только попробует не отпустить! Или ты веревкой к нему привязана? Не спорю, что Вася-Вася честный человек, но он же свихнулся на старости лет. Всю жизнь прожил со своей грымзой, а теперь ему, видите ли, свежатинки захотелось!
Ольга Палем вытерла слезы, спросила:
— Уйду! А вот на что я жить стану?
— Наймись.
— Куда? Меня же никто не возьмет, я белоручка, ничего не умею делать, метлы в руках не держала…
— Ах ты, господи! — сокрушенно вздыхал Колемин. — Ладно, — рассудил он потом, — я сам поговорю с Васей-Васей, чтобы кончал дурака валять, чтобы своих седин не позорил и чтобы тебя не позорил перед всем светом…
Этот разговор, судя по всему, происходил летом 1889 года. Кандинский, подводя баланс своим амурным делам, откровенно признался другу, что изнурен до крайности:
— У меня после общения с Мариам стало вот тут побаливать. Раньше не болело, а теперь болит. И сам вижу, что ради соблюдения благопристойности нам лучше расстаться. Не только она со мною измучилась, но и мне стало труднее высиживать дни в конторе. Мариам очень скоро вошла во вкус и теперь требует от меня такой прыткости, будто я только вчера закончил гимназию… Так и быть. Расстанемся по-хорошему.
— Что ты называешь хорошим? — спросил Колемин.
— Хорошо — это когда без скандала…
Ольга Васильевна стала укладывать вещи в саквояж.
— Ну, я пойду, — сказала она. — За хлеб-соль спасибо. Чужого мне не надобно. Прощайте.
— Стой! — заорал полковник как бешеный. — Куда пойдешь? До первого фонаря на углу? Там тебя адмирал Зеленый возьмет на цугундер, потом не отбрыкаешься… Думать надо!
— Я думать не умею, — созналась Ольга.
— Так я стану за тебя думать. Садись!
Ольга Палем присела между пожилыми мужчинами.
— Так дела не делаются, — строжайше выговорил полковник Кандинскому. — Если ты, сукин сын, обесчестил Ольгу Васильевну ее стыдным положением, так будь любезен раскошелиться, чтобы она не побиралась. Ничего! Ты не обеднеешь, а душу спасешь. Согрешил — так давай расплачивайся.
Кандинский, не прекословя, выложил на стол три тысячи, просил Ольгу Палем заверить полученную сумму подписью в особой квитанции, припасенной для финала беседы заранее:
— Этот расход я должен внести в конторские книги, дабы бухгалтер подвел баланс тютелька в тютельку… Ну что ж, — обвел он глазами комнату, — мебель очень хорошая. Я, конечно, сожалею, что все получилось кувырком, но… За мебель держаться не стану. Пусть Ольга Васильевна забирает все.
— Заберет, не сомневайся, — утешил его Колемин. — А ты, — повернулся он к Ольге Палем, — не сиди, как разиня деревенская. Говори сразу, что тебе еще от этого Ротшильда надобно?
Ольга, смущаясь, разглядывала свои ногти:
— Да ничего мне больше не требуется…
Бравый полковник поводил перед самым носом Кандинского громадным пальцем, багровым от возмущения.
— Нет уж, — гневно прошипел он. — Ты у меня, Вася-Вася, мебелью да посудой от девки не отвинтишься. Иначе я тебе, дурню старому, и руки впредь не подам… Понял?
— Разве я спорю? — отозвался Кандинский, следя за движением пальца. — Я ведь не враг Оленьки, почему бы и не выручить ее… только бы не забывала она расписываться в квитанциях!..
Ольга Палем вышла на улицу, уселась в пролетку.
— Илья, — сказала она, — ты одессит старый, все тут давно знаешь, поехали искать новую квартиру.
— Да есть тут одна вроде бы… Нно-о, помчались!
Он задержал бег рысака возле обширного дома Вагнера на Дерибасовской. Лопоухий гимназист, увидев богатую даму, перестал ковырять в носу. Ольга Палем поправила на нем фуражку.
— Не знаешь ли, сдает ли хозяин квартиру?
— Ага. На втором этаже. Вон шесть окон. А вы кто будете?
— Твоя будущая соседка… Тебя как зовут?
— Мама! — что есть мочи завопил гимназист. — Тут спрашивают, как меня зовут. Отвечать или сама поговоришь?
— Без меня ничего не говори, — послышалось из окон. — Я сейчас выйду сама и скажу, что тебя зовут Вивочкой…
…Странно, что в окружении Кандинского я встретил и некоего Малевича. Но в какой степени родства они были с известными абстракционистами — этого я, простите, не выяснил. Просто мне было некогда залезать в генеалогические дебри.
Сейчас у меня и у вас, читатель, есть дела поважнее!
4. ПОМОГИ ЕЙ, ГОСПОДИ!
По утрам, коленопреклоненная, Ольга Палем молилась:
— Боженька ласковый, помоги мне, бедненькой….
Залитый солнцем город, почти воздушный, если глянуть на него с моря, синеватый отблеск базальтовых мостовых, белый слепящий камень дворцов богачей и негоциантов, бурные всплески полосатых тентов, растянутых над верандами и балконами. До глубокой ночи шумели рестораны Робини и Фанкони, в которых навзрыд играли румынские скрипки, а таборные цыганки сулили разлуку в степных раздольях. Дельцы, жулики и пройдохи с утра занимали столики в приморских кафе, спекулируя меж собой чуть ли не воздухом. В публичных садах звончато гремели струи фонтанов, оркестры выдували в небо разнузданные мотивы из оперетт Оффенбаха, оживленная публика слонялась по бульварам, юные жуиры и стареющие бонвиваны с торопливой угодливостью раскланивались перед дамами, приятными во всех отношениях. На каждом углу продавали цветы, все благоухало морем, дынями, акациями, вином, дамскими духами от Ралле и Броккара, и все вокруг, кажется, звучало — музыкой, плеском воды, говором, призывами, откликами, смехом…
Тут и не захочешь, да поневоле взмолишься:
— Вразуми меня, Господи, и не дай пропасть…
Только теперь, вырвавшись из клетки, обильно позлащенной Кандинским, Ольга Палем взмыла ввысь как вольная птица, и с трагической высоты своего одинокого полета она, казалось, увидела сама себя — свободной, прекрасной, счастливой.
Не сердитесь, если я снова сошлюсь на слова Н. П. Карабчевского: «Она вращалась теперь в обществе молодых студентов и офицеров, юнкеров и гимназистов. Они устраивали для нее кавалькады, сопровождали верхами в загородных прогулках, вводили Ольгу Палем в свои студенческие вечеринки и танцевальные вечера; в обществе молодой и красивой женщины всегда было шумно, весело, молодо, непринужденно…»
— Господи, не оставь меня! — молилась Ольга Палем, обуянная тихим ужасом перед приманками жизни, столь щедро разбросанными на путях ее жизни.
Да, слишком уж много соблазнов окружало ее, все ухаживали за ней, влюблялись в нее, недоступную никому, и она, как и всякая женщина, ощутившая власть своей красоты, становилась излишне гордой, презрительно-равнодушной, все отвергающая, выдумывающая о себе даже то, чего никогда не было.
— Почему я сегодня Палем, а завтра опять Попова? — говорила она своим поклонникам. — О-о, это ужасная история… Моя мать, красивая княжна из рода крымских Гиреев, была женою какого-то богача Палема, но покинула его ради страстной любви к одному аристократу… Потому и называю себя как хочу!
Но свои выдумки она вышивала по черному белыми нитками. Если ее улавливали на лжи, Ольга Палем обижалась:
— Это не ложь, а лишь маленькое преувеличение…
Среди молодежи, окружавшей ее, оказался и титулованный студент барон Сталь-фон-Гольштейн, который открыто выражал сомнение в ее «недоступности».
— Бросьте, господа! — авторитетно заявил он однажды. — Палем или Попова, называйте ее как угодно, самая обычная «прости господи». Разве неизвестно, что она уже побывала в сарданапаловых объятиях старого паука, известного одесского гобсека? А где река текла, там всегда мокро будет…
— Чем докажете это, барон? — возмутился курносый юнкер Сережа Лукьянов, тайный обожатель красавицы-амазонки.
— Чем? — усмехнулся Сталь. — Согласен на пари. Через неделю она станет моей… Вы, юнкер, не верите?
— Не верю.
— Тогда договоримся: если Ольга Палем устоит передо мною, я, как благородный человек, признаю свое поражение, так и быть — ставлю на всех ящик шампанского.
Через неделю барон честно расплатился за проигрыш.
— Черт бы ее побрал, эту недотрогу! — сказал он при этом. — Ведь я всегда был неотразимым мужчиной, но эта язва и впрямь оказалась неприступнее Карфагена… Может, теперь попытаете счастье именно вы, юнкер Лукьянов?
— Зачем? — понуро отвечал тот. — Зачем мешать Аристиду Зарифи, в которого влюблена госпожа Палем? Вы же видите, как волшебно сияют ее глаза, когда она встречает его…
Кажется, Ольга Палем действительно влюбилась в очень красивого грека, сына богатого негоцианта, но Зарифи лишь загадочно улыбался, когда его спрашивали о результатах романа. Да, возникли и сплетни о том, что Аристид хорошо заплатил Ольге Палем, но красавец сразу же отверг эти слухи.
— Стоит ли разводить грязь на чистом месте? — сказал он. — Ольга Васильевна и своих денег имеет достаточно. Она даже не делает секрета, откровенно рассказав мне, что господин Кандинский до сих пор опекает ее как родной папочка…
Летом 1889 года в компании «золотой» молодежи Одессы, в которой юнкер Сережа Лукьянов был самым невинным и скромным, неожиданно заметили, что именно этот юнкер одержал над Ольгой Палем неслыханную победу. Капризная красавица сама пожелала провести летний сезон на захудалом хуторе его матери — в степных краях под Аккерманом. Мать юноши встретила Ольгу Палем очень радушно, и до чего же хорошо было Ольге на хуторе, где сохранилась еще дедовская библиотека, а вечерами, сидя в «вольтеровском» кресле, по-домашнему поджав под себя ноги с выпуклыми коленками, Ольга Палем запоем читала Бальзака, Гюго, Флобера, Поля де-Кока, Жорж Занд и Бурже.
— Боже праведный! — восклицала она, блаженно щурясь при свете керосиновой лампы. — Сережа, милый, как я завидую тем людям, что жили до нас… сколько огня, сколько страсти!
Молоденький юнкер, влюбленный лишь платонически, не смел и пальцем коснуться своей «богини», счастливый лишь оттого, что его глаза впитывают свет ее глубоких очей.
— Может, чаю? Или сливок? — суетливо предлагал он. — Мама говорит, что вы мало едите. Это ее беспокоит…
Рано утром Ольга Палем еще нежилась в постели, сонно слушая возгласы петухов, звавших ее к пробуждению, когда за стеною возникла тихая беседа матери с сыном.
— Ах, Сережа! — говорила мать. — Вот станешь ты офицером, придет время жениться и… Поверь, лучшей невестки я бы и не хотела! Мне очень нравится Оленька, ты как-нибудь поговори с нею, чтобы согласилась дождаться тебя уже при эполетах.
— Что вы, мама! — почтительно отвечал юнкер. — Ольга такая красивая, а я… я такой курносый. Как я скажу ей?..
Лукьянов провожал ее осенью до вокзала в Аккермане, прощаясь, они долго стояли молча, и Ольге Палем было жаль оставлять юношу на перроне так… просто так. В самом деле, что ей стоит подарить ему свои губы, чтобы потом не спал по ночам, чтобы думал о ней, чтобы ожили прочитанные романы.
Но ударил гонг — почти спасительный для нее.
Доброе пожатье рук — и ничего больше.
Так закончилось это лето — без единого поцелуя.
…Знал бы Сережа Лукьянов, что пройдет несколько лет, и ему, ставшему офицером артиллерии, придется отстаивать честь его «богини», которую станут обливать зловонными помоями, всю испачкав грязью домыслов и циничных обвинений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В доме Вагнера на Дерибасовской она снимала обширную квартиру на втором этаже, а почти весь бельэтаж занимали состоятельные люди — чиновники или офицеры с семьями, здесь царили тишь да гладь да божья благодать, ароматизирующая запахами кухонь, волнующая звуками роялей, на которых доченьки с бантами в прическах разучивали гаммы. Граммофоны тогда еще не вошли в моду, одесситы довольствовались шарманками. Похрустывая на зубах шоколадом, Ольга Палем часто внимала пению девочек, подпевавших шарманкам из обычного репертуара улиц:
Подайте мне карету, Трех вороных коней, Я сяду и поеду К разлучнице своей…Это слышалось с улицы. Зато окна квартиры выходили во двор, где размещались жилые флигели с открытыми галереями, густо заселенные мастеровым и базарным людом. Там в корытах прачки стирали белье для жильцов бельэтажа, там ругались и дрались мужья с женами, за что-то постоянно лупили орущих детей, со двора неистово гудели примусы, а на гигантских сковородах вечно шкворчали неизменные баклажаны с луком, запах которых Ольга Палем вдыхала вольно или невольно… Гораздо труднее было мириться с бурными дискуссиями, возникавшими во дворе на лирической, меркантильной или национальной основе.
Ольга Палем невольно съеживалась в своих комнатах, когда со двора раздавалось требование:
— Заткнись ты… морда жидовская!
— От такого слышу! Ты сначала глянь на свою морду…
Общедворовый скандал развивался по всем правилам народного искусства: евреев оставляли в покое, зато с жаром и пылом начинали перебирать других обитателей двора:
— У, хохлятина! Сало-то с салом, вот и нажрал ряшку.
— А тебе, кацапу, больше других надобно?
— Я этой гречанке глаза повыцарапаю. Давно вижу, как она в мово драгоценного буркалы свои уставила, бесстыжая!
— На помощь, тут свои наших бьют!
— Свят-свят, люди добрые, будьте в свидетелях.
— Маланья, у тебя борщ сбежал… кипит!
— Чичас всех в протокол запихаем!
— Николай, с кем ты связался-то? Или у тебя других дел не стало? Марш домой, покедова я не озверемши…
Но даже в этом содоме, столь обычном для одесских задворок, к Ольге Палем относились хорошо. Она ладила с жителями двора, как умела ладить и с жильцами бельэтажа. Умела утешить бедную прачку, если у нее запивал муж-сапожник, давала на водку и сапожнику, когда тому требовалось похмелиться. Дворовые дети любили «тетю Поповочку», угощавшую их конфетами в красивых хрустящих фантиках, дарившую им пятаки на мороженое.
Со всеми ровная и улыбчивая, Ольга Палем быстро сошлась и с обитателями бельэтажа. Как раз под нею селилась чиновная вдова Александра Михайловна Довнар-Запольская, моложавая и внешне симпатичная дама; любимой ее присказкой были слова: «Что люди скажут?» Вдовица жила наследством от мужа, воспитывая четырех детей. Ольга знала, что ее старший сын Александр уже студент, но видела его лишь мельком, вечно спешащего; зато к ней привык младший — Виктор Довнар, тот самый, что ковырял пальцем в носу, когда она первый раз подъехала к дому Вагнера, чтобы снять здесь квартиру.
Теперь Ольга Палем, сидя на балконе, часто разговаривала с «Вивочкой», как звали его домашние, когда зазывала к себе, поила чаем или какао, дарила мальчику игрушки и лакомства. Довнар-Запольская никогда не благодарила Ольгу Палем за такое внимание к младшему сыну, но однажды, случайно повстречав ее в подъезде дома, сразу завела речь о старшем сыне.
— Вы еще молоды, вряд ли поймете мои материнские волнения. Саша уже студент, умный, талантливый, скромный, естественно, он уже нуждается в женщине, и судить его за это нельзя. Но я боюсь, чтобы он не стал искать женской любви там, где ее находят холостые мужчины. Вы же знаете, голубушка, чем это все кончается. Так легко заболеть от дурных женщин…
Ольга Палем покраснела — как и тогда, когда околоточный Пахом Горилов выклянчивал у нее дармовые папиросы. При этом она нервно повела плечами, отворачиваясь:
— Александра Михайловна, я сама такая же… я ведь тоже боюсь. Не знаю, что и сказать вам в утешение.
Казалось, на этом разговор двух женщин, молодой и зрелой, должен бы закончиться. Но мадам Довнар не уходила.
— Платить за любовь, знаете, тоже как-то неудобно, — продолжала она, намекая чересчур откровенно. — Но чего не сделает мать ради любимого сына? Я согласна на любые расходы, лишь бы мой Сашенька не навещал Фаину Эдельгейм.
— Эдельгейм? А кто это такая? — удивилась Ольга Палем.
— Как? Вы не знаете того, что известно всем одесситам? Это же матерая бандерша в самом фешенебельном доме свиданий. Простите, что возник такой житейский разговор, для меня самой неприятный. Но поймите и мое материнское сердце…
Но и теперь не ушла, не досказав что-то главное.
— Понимаю, — кратко отозвалась Ольга Палем.
Но кажется, она еще не все понимала. Не понимала самое главное: время, проведенное на содержании у Кандинского, позволяло судить о ней именно так, как справедливо судила и почтенная матрона Александра Михайловна Довнар-Запольская.
Палем жила одиноко и гостей не ждала. Тем более было странно, когда через несколько дней после этого разговора в дверь ее квартиры позвонили с лестницы. Думая, что это звонит дворник, она широко и бездумно распахнула дверь…
Перед ней стоял молодой и внешне приятный человек с таким идеальным пробором на голове, какой бывает только у чиновников для особых поручений, состоящих при очень важных персонах. Кажется, перед визитом к одинокой женщине он не пожалел бриллиантина, отчего волосы его ярко блестели, создавая в потемках светлый кружок нимба над головой, словно перед нею, божественно настроенной, явился новый апостол.
— Не помешаю своим вторжением? — вопросил он.
— Проходите, — ответила Ольга Палем.
Оказавшись в прихожей, гость отчетливо прищелкнул каблуками и резким наклонением головы выказал ей свое уважение:
— Не откажу себе в удовольствии представиться. Александр Степанович Довнар-Запольский… сын покойного статского советника. Из шляхетского рода старинного герба «Побаг».
Ольга Палем не знала, что делать в таких случаях, ибо сама не могла похвастать своей родословной, а вместо герба ей служили яркие и сочные губы.
— Очень приятно, — сказала она в полной растерянности. — Может, пройдете? Правда, у меня не совсем прибрано… извините. Терпеть не могу заниматься хозяйством.
5. КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО
Пройдя в комнаты и долго выбирая удобную позу для расположения в кресле — так, словно он собирался позировать перед художником, желающим обессмертить его на портрете, — Довнар вежливыми словами начал свой гибельный и неотвратимый путь:
— Я бы, наверное, не осмелился тревожить покой одинокой очаровательной дамы, если бы не одно важное обстоятельство, понудившее меня именно к этому. Собственно, — упивался Довнар своими словами, — я потревожил вас только потому, что я лично и моя драгоценная мамулечка давно желали выразить вам свою признательность за то доброе отношение, которое вы столь щедро распространили на моего младшего брата Вивочку…
Наверное, эти фразы были заранее написаны Довнаром и, заученные наизусть, произносились без малейшей запинки. Гладкие, словно обтесанные слова, хорошо притертые одно к другому, теперь стекали легко и свободно — как течет вода из кухонного крана, и, казалось, не закрой этот кран потуже, вода его вежливых слов будет струиться безостановочно.
— Не стоит вашей благодарности, — сказала Ольга Палем, остановив безудержное течение слов. — Давайте лучше поговорим о чем-либо ином. Вы учитесь, чтобы стать… кем?
Воротничок на шее Довнара имел круто загнутые уголки «лиселей», в узле галстука поблескивала матовая жемчужина.
— Сложный вопрос! — ответил он, переменив эффектную позу на более развязную. — Кем я хочу стать — этого не ведает даже моя любимая мамочка. Сейчас я студент математического факультета местного Новороссийского университета. Однако мир теорем и формул меня, признаюсь, не вдохновляет. Ну допустим, я получил диплом. А что далее?
— Далее… наверное, завидное будущее.
— Будущее? Где вы усмотрели это завидное будущее? В лучшем случае я стану преподавателем в гимназии, благо ни Эйлера, ни Араго из меня никак не получится. А тогда простителен вопрос: что же ждет меня впереди?
— Что? — эхом откликнулась Ольга Палем.
— Ни-че-го… пустота, — энергично отозвался Довнар. — В жизни все-таки следует иметь не кусок хлеба, а лучше кусок роскошного торта. Я помышляю податься в область медицины, ибо врачи гребут деньги лопатой, а потом отвозят их в банк тачками. Смотрите, как живут Боткин или Захарьин…
Он замолк, размышляя, наверное, о том, как живут боткины и захарьины. Ольга молчала тоже. Довнар продолжил:
— Мы существуем на этом поганом свете только единожды, и второй жизни не дано, об этом не следует забывать. Если я стану принимать клиентов под вывеской частного врача, то, согласитесь, это намного прибыльнее, нежели ежедневно втемяшивать в тупиц-гимназистов великое значение Пифагора…
Ольге Палем, послушавшей Довнара, стало даже неловко, ибо все ее знание мира ограничивалось романами с неизбежным поцелуем в конце, после чего главная героиня «задыхалась от бурной страсти». А тут тебе сразу и Араго с Пифагором, да еще Боткин с Захарьиным, названные столь легко, словно Довнар накидал их в тачку лопатой, а сейчас отвезет всех на свалку, чтобы потом резать шикарный торт своей будущей жизни.
— Итак, все ясно! — решительно заявил он, быстро покинув кресло, и прошелся по комнате, явно красуясь.
Ольга Палем, грустная, взирала в окно, и там она видела, как первый осенний лист, забавно кружась в воздухе, вдруг жалко и безнадежно прилип к мокрому стеклу. «Вот и я так же», — подумалось ей. Начиналась осень 1889 года…
Довнар вдруг круто остановился:
— Простите, я не слишком вас утомил?
— Нет, что вы!
— О чем же вы так печально задумались?
— Мне уже двадцать три. А… вам?
— Мне двадцать два.
— И вы пришли… — начала было она.
— Дабы выразить вам душевную благодарность, — был четкий ответ. Довнар постоял. Подумал. Закончил: — За брата.
— И это… все? — повернулась к нему Ольга Палем.
«Он боится идти в бедлам Фаньки Эдельгейм и потому пришел ко мне», — вдруг резануло ее чудовищной догадкой.
Но ответ молодого человека прозвучал совершенно иначе.
— Пока все, — сказал Довнар. — Спокойной ночи.
Когда Довнар спускался по лестнице, Ольга Палем слышала, как он насвистывает. Она разделась и легла в постель. Ей тоже хотелось свистеть — так же красиво и так же бравурно, как это делал Довнар, но у нее, глупышки, ничего не получалось.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Утром она навестила Кандинского в его конторе и сразу, уронив голову на стол, начала громко плакать.
— Деточка, что с тобою? — испугался Кандинский.
— Не знаю.
— Ты… влюблена?
— Наверное.
— Так это же очень хорошо. Скажи, кто он?
— Довнар-Запольский. Студент. Математик.
— Поздравляю, — разволновался Вася-Вася, со старческой нежностью погладив ее по руке, так соблазнительно откинутой поверх стопки бумаг с колонками дебетов и кредитов его конторы. — Я ведь когда-то знавал и батюшку этого студента. Вполне порядочная и культурная семья. Впрочем, покойный всегда был под каблуком своей ненаглядной, это уж правда… Скажи, деточка, ты ни в чем не нуждаешься?
— Нет. Спасибо.
— Но ты не забывай своего старого пупсика. Я совсем не желаю, чтобы ты, моя прелесть, в чем-то себе отказывала. Все-таки объясни, ради чего ты сегодня ко мне пожаловала?
Ольга Палем откинула голову, вытерла слезы.
— Просто так. У меня же, Василий Василич, никого больше нет. Я одинока, как бродячая собака… Наверное, помешала вам, да?
— Если говорить честно, то — да! Я так занят, так много дел. Впрочем, — засуетился Кандинский, — мой «штейгер» стоит у подъезда, Илья сегодня трезв, аки херувим, и он отвезет тебя хоть на край света…
Ворохи желтых листьев вихрились в воздухе, все вокруг было так красиво и замечательно, так легко ей дышалось, когда, опустив вуаль со шляпы, Ольга Палем — барыней! — катила по Ланжероновской, а потом рысак вынес ее прямо на Дворянскую и замер на углу Херсонской — возле здания Новороссийского (иначе Одесского) университета.
Ольга велела кучеру обождать, но из коляски богатого «штейгера» не вышла и осталась сидеть, широко раскинув руки по краям дивана. Желтые листья кружились долго…
— Чего ждем-то? — спросил Илья, просморкавшись.
— Судьбы.
— А-а-а… эта штука пользительная. Особливо ежели кому повезет. Я судьбу знаю. Такая стерва — не приведи бог!
— Ах, Илья, Илья, — рассмеялась Ольга Палем, наслаждаясь ожиданием. — Видел ли ты хоть разочек в жизни счастливого человека?
Илья радостно хохотнул ей в ответ:
— Да я тока вчерась был им! Опосля свары с женкою она мне сразу два шкалика на стол выкатила и говорит: «Чтоб ты треснул, зараза худая, и когдась ты лопнешь?» Ну я, вестимо дело, чекалдыкнул и такой стал счастливый. Даже запел.
— Вот и мне, Илья, сегодня хочется петь…
Она дождалась. Закончились лекции в университете, студенты веселой и суматошной гурьбой выбегали на улицу, улавливая падавшие с дерев осенние листья. Наконец показался и Довнар, горячо жестикулирующий, что-то доказывая своим коллегам.
Вдруг увидел ее. Сам остановился, и остановились все.
Ольга Палем рукою в серебристой перчатке поманила его к себе — жестом, почти царственным, словно Клеопатра, подзывающая своего Антония.
Довнар подбежал, почти ошеломленный:
— Вы?
— Нет, это не я, — отвечала она, приподняв вуаль.
— Но чья же эта роскошная коляска, чей это рысак?
— Мои…
Их обтекала толпа студентов, слышались возгласы:
— Во, Сашка… везет же дуракам!
— Оторвал от лаптей хромовые стельки.
— Да, братцы, это вам не Танька с толкучки.
— Такая одну ночь подержит, а утром выкинет.
— Садитесь рядом, — сказала Ольга Палем растерянному Довнару. — Мой Илья хотел бы знать, куда вам надо?
— Вообще-то… домой. Мамочка ждет к обеду.
— Какое приятное совпадение! — поиграла глазами Ольга Палем. — Я тоже еду домой, только у меня нет мамочки и обедов я не готовлю, ибо хозяйка я никудышная…
Далее события развивались стремительно. Не было, пожалуй, такого вечера, чтобы Довнар не засиживался у нее до полуночи, и она почти силком выпроваживала его к мамочке, снова слушая его очаровательный свист. Правда, Довнар иногда словно невзначай пытался обнять ее талию, хотел бы и поцеловать, но Ольга Палем с хохотом, а иногда даже с явным раздражением выкручивалась на его объятий:
— В чем дело? Пока лишь жесты. А где слова?
— Какие? — притворно недоумевал Довнар.
— Можно бы и самому догадаться… о словах!
Но с объяснением Довнар не спешил, очевидно, заранее наученный матерью помалкивать, ибо Александра Михайловна не искала для сына любимую женщину, а желала для него лишь покорную наложницу, которая обойдется и так — без порхания амуров над внебрачною постелью.
Впрочем, молодые люди скоро перешли на «ты», оба они чувствовали, что один в другом стали нуждаться. Вскоре мадам Довнар, которая имела служанку Дашу Шкваркину, служившую за 15 рублей в месяц, уступила ее Ольге Палем, которая стала платить на пятерку больше. Это заставило студента Довнара подвести в уме нехитрую калькуляцию:
— Слушай, откуда у тебя лишние деньги?
Ольга Палем не стала выкручиваться, не стала придумывать, она просто и честно созналась, что у нее своих денег нет и не будет, все деньги поступают к ней из кассы Кандинского.
Довнар пересел к ней поближе, ощутив тепло ее тела:
— Значит, это правда, что говорят о тебе люди?
— Да, — не стала она кривить душою.
Довнар призадумался. Она, как женщина, ожидала от него вспышки безумной ревности, заранее согласная вынести удары пощечин, но — вместо этого — получила деловой ответ:
— Это хорошо. Даже очень хорошо, что старик тебя не забывает. Ты оставайся с ним поласковее. Чем черт не шутит, но, может, еще понадобятся услуги гобсека — Кандинского.
— Кому? — душевно напряглась Ольга Палем, в этот момент даже оскорбленная его расчетливым спокойствием.
— Нам, — внятно ответил Довнар…
Это «нам» внутренне потрясло Ольгу Палем: он, который не желает сознаться в своей любви (а ведь любит, любит, любит!), он уже разделил с нею деньги, как делят торговцы выручку на базаре. За окном сыпал мягкий снежок, но в этот миг он словно почернел в ее глазах. Женщина без нужды передвинула горшок с геранью на подоконнике, потом долго барабанила пальцами по оконному стеклу, раздумывая, и воробей, сидевший на ветке дерева, подпрыгивал, готовый улететь подальше…
Наблюдая за этим воробышком, Ольга Палем вдруг болезненно ощутила, что ее чувство, как никогда, именно теперь нуждается в ответном отклике. Да, пришло время, чтобы спросить:
— Я жду… любишь или не любишь? Не лучше ли уж сразу сказать мне «да», чтобы не изнурять меня в ожидании.
Довнар с деланным величием раскурил папиросу «Элегант», долго не знал, куда бросить обгорелую спичку, и наконец он воткнул ее в горшок с цветами герани.
— Ну, знаешь ли, — стал говорить он, отводя глаза в сторону, — я не привык расточать высокопарные слова, которыми пестрят страницы бульварных романов. В конце-то концов, — убежденно произнес Довнар, — между разнополыми особями существуют именно те отношения, которые и вызывают к жизни именно такие слова, которые ты ожидаешь слышать…
Слова текли, текли, текли — опять как вода из крана, который лучше сразу закрыть, чтобы не погибнуть в их потопе.
— И ты, — спросила Ольга Палем, — сначала желаешь иметь эти отношения, чтобы только потом разукрасить их словами?
— Стоит ли этому удивляться? — ответил Довнар. — Известно, что дом сначала строят, а потом его красят.
— Не старайся придумывать отговорки. Я не милости у тебя прошу, а только слово… одно лишь слово. Умри, но не давай поцелуя без любви. Кто так сказал?
— Не помню, — поежился Довнар с таким видом, словно ему подали к столу нечто заманчивое, но вряд ли съедобное.
— Но сказал их умный человек, так и мы будем умнее. Разве ты, Саша, не знаешь о моих чувствах?
— Догадываюсь, — сухо кивнул Довнар.
— Скажи на милость — он догадывается! — с явной издевкой произнесла Ольга Палем. — Да моя Дунька Шкваркина раньше тебя догадалась… Я же вижу! Все вижу. Ты ходишь вокруг меня, словно кот вокруг миски со сметаной. Ты льнешь ко мне, ты ищешь моего тела, но при этом боишься связывать себя словами любви… Трус! — крикнула она. — Ничего не получишь.
— Это уж слишком, — наигранно возмутился Довнар. — Вот уж не думал, что моя благородная сдержанность будет оценена именно таким образом…
— Теперь уходи, — невозмутимо сказала Ольга Палем.
— Уходить? Не понимаю — куда?
— К своей мамочке…
Сгорбленный, волоча ноги, Александр Довнар ушел. На этот раз она уже не слышала его музыкального свиста…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Было уже далеко за полночь, а Ольга Палем даже не прилегла.
На кухне во всю ивановскую храпела Дунька Шкваркина, у которой, — после прибавки к жалованью — никаких проблем больше не возникало. В печи жарко отполыхали поленья, красные угли погасали, зловеще отсвечивая голубыми огнями. К ночи разыгралась вьюга, стегала в окна пригоршнями снега.
Ольга Палем блуждала по комнатам.
Думала, сравнивала, отвергала, привлекала…
Мучилась!
Неожиданно вздрогнула: кто-то не звонил с лестницы, а лишь тихо скребся в двери, как скребется виноватая собака, умоляющая хозяина не оставлять ее в такую ночь за порогом.
— Кто там? — почти шепотом спросила Ольга Палем.
— Я… опять я.
Довнар вошел, сразу опустился перед ней на колени.
— Прости, — повинился он, не подымая на нее глаз.
— Я действительно люблю тебя… даже очень. Безумно! Но ты права: мама запретила мне выражать свои чувства, чтобы я не связывал себя никакими словами… Прости, прости, прости! Если только можешь, умоляю — не мучай меня. Сжалься.
Не вставая с колен, Довнар расплакался.
Ольга Палем водрузила руки поверх его головы с идеальным пробором, словно на святой аналой перед причастием:
— Значит, любишь?
— Да.
— Клянись!
— Клянусь.
— Тогда, мой любимый, можешь смотреть…
Резкими движениями она стала разрывать на себе одежды, выкрикивая с каким-то упоением, словно молилась:
— На! На! На! Получи же наконец…
И, совершенно голая, переступив через клочья своих платьев, двинулась на него, гордо выставив остроторчащие сосцы женщины, которая все уже знает:
— Если любишь, так… на!
Читатель-мужчина может закрыть мой роман.
Но читательница-женщина, думаю, не оставит его.
6. ЖЕНЩИНА НЕ ДОЕСТ…
Больше всех радовалась Александра Михайловна Довнар, вдохновенно растрепавшая всем знакомым и незнакомым:
— Вы не представляете, как повезло Сашеньке! Отныне мое материнское сердце спокойно… Просто чудо! — восклицала она восторженно. — Мой сыночек нашел женщину, которая всегда под боком, живет этажом выше. Но, что особенно меня устраивает, так это то, что она ничего Сашеньке не стоит… ни копеечки! Согласитесь, что по нынешним временам это большая редкость.
Опытная матрона, сама усиленно ищущая себе доходного мужа, мадам Довнар всячески поощряла удобную связь сына с госпожою Палем. Сам же Александр Довнар действительно увлекся молодою соседкой, легкие шаги которой на втором этаже явственно слышал в своей комнате. Но при этом студент хотел бы казаться перед сверстниками эдаким равнодушным фатом, который привык менять женщин как перчатки. На самом же деле Ольга Палем сильно растревожила его сердце. Он даже прифрантился и заимел тросточку, желая нравиться, но деньги тратил все-таки в разумных пределах, не допуская излишеств…
Сорил медяками больше по мелочам — когда бутылка лимонада, когда кекс из кондитерской Балабухи или крошечные пирожные.
— Я знаю, ты любишь птифуры, — уверял он женщину.
Она их раньше презирала, но теперь… полюбила.
Чтобы придать себе значимость, Довнар иногда рассказывал Ольге Палем не то, что с ним было, а то, что случилось с другими, приписывая себе спасение утопающих в бушующем море или безумную драку с околоточным, который спасался от него постыдным бегством. Конечно, женщина догадывалась, что он привирает, дабы предстать перед ней в наилучшем, героическом свете, но любое вранье выслушивала без возражений, ибо сама тоже грешила всякими фантазиями.
Именно в этот период, когда душа Ольги Палем была преисполнена счастьем, они посетили театр — новый для Одессы, строенный взамен сгоревшего. Здесь их увидел полицейский пристав Олег Чабанов (человек, кстати, очень порядочный). Хорошо извещенный в том, «кто есть кто», он любезно раскланялся перед нарядной цветущей женщиной:
— Как поживаете, Ольга Васильевна? Судя по радости на вашем лице, жизнь складывается так, что лучше и не надо.
Палем мановением руки указала ему на Довнара:
— Рекомендую — мой жених! Будущий Эйлер или Араго, а может быть, Боткин или Захарьин…
Впрочем, сам Довнар не пытался разрушить ее трепетных иллюзий, никогда не возражая против этого любовного «титула», каким Палем открыто награждала его в любом обществе, с большим желанием выдавая себя за «невесту» Довнара. Между ними возник случайный разговор:
— Саша, хочу тебя спросить… давно хочу.
— Ну?
— Когда ты на мне женишься? — спросила Ольга Палем.
— Глупенькая! — расхохотался Довнар. — Вот уж не ожидал такого наивного вопроса… Неужели сама не знаешь, что студентам жениться запрещено. На то мы и студенты, чтобы не связывать себя кастрюлями и пеленками…
Ольга Палем проверила: Довнар говорил правду.
Значит, ей суждено ждать и ждать, когда возлюбленный обретет диплом, и тогда она станет… знать бы — кем? Или женою учителя гимназии, или женою врача.
Ничего, она терпеливая — дождется светлого часа!
Между тем в эти же дни Довнар отыскал своего старого приятеля гимназических лет — Стефана Матеранского.
— Ты же знаешь, — взволнованно рассказывал он ему, — что до сих пор я тратился на женщин в доме Фанни Эдельгейм, что было весьма разорительно для моего кармана. Но теперь, ты не поверишь, я встретил пылкую, очень интересную женщину. Конечно, — глумливо хвастал Довнар, — она изображала недотрогу, умоляла пощадить ее невинность, но не на такого напала… Я свое с нее взял! Здорово, верно?
— Здорово, — согласился Матеранский. — Влюблен?
— Что ты! — отрицал Довнар с возмущением. — Стану ли я заниматься подобной лирикой? Но главное, что в этой женщине меня привлекает, так это ее полное бескорыстие…
Стефан Матеранский плотоядно потер руки.
— Это не женщина, а клад, — позавидовал он другу.
— Сущий клад! — подтвердил Довнар.
— Дай рубль… на пропитание.
— А когда вернешь?
— Ну как-нибудь, Сашка, мы же друзья… Кстати, может, ты меня познакомишь со своей «штучкой»?
— Заходи… Будем ты, я, можно позвать и поручика Шелейко. Живет она над нами, это очень удобно! Заодно убедитесь, что влюблена в меня, словно кошка. Ну что там эта Зойка Ермолина у Фанни Эдельгейм, которая в самый патетический момент продолжает жевать ириски! Зато у меня любовница — сущий Везувий, извергающий огненную лаву, именно так и погибла Помпея.
— Не погибни ты сам. Как дела-то твои?
Вопрос Матеранского был Довнару неприятен:
— С математикой плохо. Сам не ожидал, что я такой бестолковый. Думаю, надо податься в Петербург.
— Значит, и «штучку» свою прихватишь?
— Зачем? В столице и без нее много всяких и невсяких…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Довнар принадлежал к той породе людей, которые свою копейку на благо ближнего не пожертвуют. Человек далеко не бедный, он свои деньжата нежно холил, как нищий торбу, и даже молодость, которой присуща безалаберность, когда хочется сорить деньгами, удивляя людей своей щедростью, даже эта легкомысленная пора жизни не отразилась на его кошельке.
Был серый и будний день, когда Довнар навестил Ольгу Палем — мрачный, поникший, озлобленный.
— В чем дело? — любовно встревожилась она.
— Стыдно говорить, — сознался Довнар, — но моих скромных познаний в математике хватило для того, чтобы уличить свою мамочку в подтасовке учета процентов. Поверь, мне это очень неприятно, но я проверил все биржевые бюллетени, выяснив, что она играла со мной на понижениях денежного курса. В результате мамулечка, словно прожженный биржевой делец, вписала в свой актив четыреста рублей, а я имел их в своем пассиве. Каково?
— Ужасно, — согласилась Ольга Палем.
— Конечно, я не глупец, чтобы прощать такое, — обозлился Довнар, — и после хорошего скандала я заставил мамочку вернуть мне эти деньги. Тут и слезы, тут и упреки… ах!
Ольга Палем задумалась, а задумалась она потому, что Вася-Вася Кандинский, какой бы он ни был, требовал только расписки в получении денег, но он даже не проверял ее расходов, и ей было дико, что родная мать способна обманывать сына.
— Извини, — сказала она, — я совсем не желала бы залезать в твой кошелек, но все-таки, как твоя будущая жена, хотела бы знать, каким состоянием ты располагаешь?
Спросила и тут же раскаялась в своем вопросе. Было видно, что Довнару совсем не хотелось посвящать ее в свои финансовые таинства. С явной неохотой, гримасничая, он признался, что держит в банке пятнадцать тысяч — под проценты.
— Это моя личная доля от наследства отца. С процентов я могу жить как рантье. А мамочка дает деньги под закладные, беря с должников по девять процентов годовых…
Женщина рассмеялась, а Довнар даже обиделся:
— Не понимаю, что тут смешного? Это ведь жизнь… Се ля ви, как говорят французы, лучше нас, диких славян, понимающие, как надобно жить и наслаждаться.
— Прости. Но мне твои рассуждения показались такими странными. Наверное, я большая невежда, если никак не пойму, что из денег можно делать еще деньги… Разве не так?
— Так, мой ангел. Только кретины, имеющие один рубль, не подозревают, что из рубля можно сделать полтора и не быть при этом вором. Моя мамочка имеет по тысяче рублей в год с одних лишь процентов. Чем плохо? Оставим эту тему. Нас обещали навестить мои лучшие друзья. Пошли Дуньку до лавки, чтобы купила хотя бы две бутылки вина… подешевле!
Гости явились. Поручик Шелейко наклюкался очень быстро и все пытался рассказать анекдот, конец которого он не мог вспомнить, и это было самое смешное в его анекдоте. Стефан же Матеранский, тоже студент, пока офицер трепался с Ольгою, выманил Довнара на лестницу — для разговора без свидетелей.
— Слушай, — сказал он, — неужели ты веришь в эти сказки, будто она татарская княжна, а мать родила ее от генерала Попова? Посмотри на нее как следует… в профиль.
— А что? — мигом протрезвел Довнар, пугаясь.
— Да ведь твоя Ольга Васильевна да еще Попова — типичная жидовня, и это никак не украсит твоего светлого будущего.
Довнар жарко вспыхнул, оправдываясь:
— Не собираюсь же я на ней жениться, черт тебя побери!
— Ты не собираешься быть ее мужем, зато она уже наладилась быть твоею женой, — точно определил Матеранский, ехидно посмеиваясь. — Тебе эта «штучка» дорого обойдется. Так что ты напрасно трепался мне об ее бескорыстии…
Довнар склонился над пролетом лестницы.
— Да пусть болтает, что ей взбредет в голову, — отвечал он. — В конце концов, у нее хватает ума, чтобы не беременеть. А так… женщина удобная, ходить далеко не надо, она всегда под рукой, где оставил, там и найдешь… Я же говорил тебе, что она ни гроша не стоит! Ее этот Кандинский до сих пор содержит. Согласись, что вариант превосходный: старый дурак ее содержит, а молодой умник спит с нею.
Матеранский швырнул папиросу в кошачий угол:
— Смотри сам, мое дело предупредить, чтобы ты потом не рвал волос и не вопил: «Ах, я несчастный…»
Зима прошла в удовольствиях. Довнар счел возможным даже представиться Кандинскому, чтобы тот лично удостоверился в его «благородстве», и роман молодых людей развивался по всем правилам хорошего тона, лишь единожды омраченный «семейным» скандалом. Это случилось на городском катке, где Довнар повстречал свою кузину Зиночку Круссер, которая строила ему глазки, за что сразу и получила по морде от Ольги Палем.
Бедная Зиночка рухнула на лед, повредив себе очаровательный копчик, чего простить было нельзя.
— Нахалка! — сказала она. — В протокол захотелось?
— Куда смотрит полиция? — стали орать конькобежцы. — Каток совсем не для того, чтобы тут дрались…
Городовой явился, составив протокол о нарушении «благочиния», но тут вмешалась сама госпожа Довнар, сумевшая доказать в полиции, что Ольга Палем ревнивая «девочка», которая сошла с ума от любви к ее «мальчику». После этого случая Ольга Палем показала Довнару револьвер системы «бульдог»:
— Вот пусть еще посмеют с тобой любезничать, я разделаюсь одним выстрелом, а второй — тебе.
Довнар как следует осмотрел револьвер:
— Сколько ты платила за это паршивое барахло?
— Четырнадцать рублей.
— Хоть бы со мной посоветовалась. Нельзя же так сорить деньгами. Могла бы купить и дешевле…
Он велел спрятать «бульдог» подальше и нежно привлек ее к себе, нашептывая приятные слова.
— Мне нравится, что ты ревнуешь, — сказал он, целуя ее в пупок через платье, — а теперь повернись-ка… в профиль!
Ольга со смехом обратила к нему профиль своего лица.
— Да-а, — протянул Довнар, присвистнув. — До чего же ты похожа на генерала Попова… прямо точная копия?
— Я в чем-нибудь провинилась?
— Да нет, с тобою-то все в порядке, зато здорово провинились твои высокоблагородные родители…
Здесь необходимо примечание для читателей. Они жили в том времени, когда царствовал император Александр III, который не выносил евреев. Известно, с каким трудом уговорили его принять в Аничковом дворце мадам Эфрусси, дочь Ротшильда: «О чем мне болтать с этой жидовкой? — доказывал он. — О том, сколько стоят ее бриллианты? Или о том, сколько заплаток на моих солдатских штанах?..» Антисемитизм в Одессе, да, был. И когда приехала на гастроли прославленная Сара Бернар, из дверей пивнухи в ее коляску запустили бутылкой (пустой, конечно). Но при этом еврейская буржуазия процветала, городским головой Одессы был миллионер Абрам Маркович Бродский, подносивший царю хлеб-соль, а жене его букеты магнолий. Кстати, этот же Бродский, когда у него просили денег на стипендии бедным студентам-евреям, денег не дал, говоря, что помогать надо не бедным, а талантливым, невзирая на то, евреи они или русские. Известно и другое: во время еврейского погрома в 1871 году Янкель Цитрон бесстрашно торговал папиросами в толпе погромщиков и те его не трогали, ибо торгующий человек в Одессе неприкосновенен, как и коленопреклоненный в храмах России… Вот поди ж ты разберись тут в подобных нюансах одесского «антисемитизма»!
Но Ольга Палем все-таки охотнее называла себя «Поповой», скрывая свое еврейское происхождение, почему и выдумывала всякие байки о красавице-матери из ханского рода крымских Гиреев. Конечно, она, женщина далеко не глупая, сразу догадалась, почему Довнар столь пристально вглядывался в ее профиль. Впрочем, тогда же решила она, если Сашка любит ее, так он будет любить ее и с таким носом, каким наградила ее великая мать-природа.
— Сашунчик, — сказала она ему весной 1890 года, — к сожалению, нам предстоит коротенькая разлука. Я вынуждена побывать в Симферополе, чтобы обменять паспорт.
Довнар покрыл поцелуями ее лицо и ладони:
— Глупышка! Неужели ты думаешь, что я могу вынести эту разлуку? Ни в коем случае. Поедем вместе…
Довнара в это время угнетали иные заботы: свое отвращение к математике он превратил в тягу к медицине, и это превращение далось столь же легко, словно он перелил воду из одного сосуда в другой. Все чаще и чаще он стал поговаривать о переезде в Петербург, всюду доказывая:
— С одним курсом Новороссийского университета меня, конечно, примут в Медико-хирургическую академию столицы. Отмучаюсь еще пять-шесть лет, а там… Там-то и начнется такая шикарная жизнь, что все приятели скорчатся от зависти!
Ольга Палем ревниво следила за тем, чтобы в его житейских планах обязательно умещалась и ее женская судьба.
— А как же я? — спрашивала она по ночам. — Ты не оставишь меня одну в Одессе, ты возьмешь меня в Петербург?
Над нею взмывали руки, падающие, чтобы обнять ее.
— Господи милосердный, — клятвенно звучало во мраке, — да как ты могла подумать, что я способен дышать без тебя? Конечно же, моя радость! И в твой паршивый Симферополь, и в этот божественный Санкт-Петербург поедем вместе…
На исходе зимы Довнар повадился навещать манеж, где с трудом осваивал приемы верховой езды, ибо давно заметил в Ольге Палем давнюю — почти дикую — любовь к лошадям, которую она приобрела с детства в степях под Симферополем.
— Ты же знаешь, — говорила она, посмеиваясь, — что во мне бушует горячая кровь ногаев и в седле я чувствую себя гораздо лучше, нежели ты на стуле.
Весною они стали нанимать верховых лошадей для загородных прогулок — с друзьями и знакомыми. Сохранилось описание выезда на одну из таких прогулок: «Мать Довнара со всеми своими присными выходила на крыльцо и любовалась, пока кавалькада во дворе готовилась выехать за ворота. Затянутую в рюмочку, грациозную и изящную амазонку, вскакивавшую на лошадь в своем черном элегантном наряде, она приветствовала поощрительной улыбкой…»
— Браво, дети мои, браво! — восклицала она.
Так что все складывалось даже замечательно…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Еще одно примечание, на мой взгляд — существенное.
То, что Довнар больше всего на свете обожал сам себя, Ольга Палем уже знала. Даже по ночам, если ему становилось холодно, он безжалостно перетягивал одеяло на себя, оставляя ее открытой. Во время обеда с общего блюда он без зазрения совести выбирал для себя кусочки побольше и повкуснее. Между тем (я в этом уверен) настоящий мужчина самый лучший кусок всегда отдаст женщине, а себе оставит лишь то, что женщина не доест… Не так, а иначе поступают одни только хамы!
Но, влюбленная, она всего этого еще не замечала.
7. ПЕРЕМЕНА КЛИМАТА
Виктор Довнар — или попросту «Вива» — подрастал как на дрожжах, мечтая командовать обязательно броненосцем, а его моложавая маман поговаривала, что ее дамская жизнь требует самого активного продолжения:
— Дети подрастают, теперь в самый раз подумать и о себе…
Александра Михайловна завела себе пожилого поклонника в лице капитана 2-го ранга Шмидта, пребывавшего в заслуженной отставке. Этот вислоусый и хмурый моряк, чем-то похожий на престарелого швейцара из богадельни, усиленно внушал своему будущему пасынку «Вивочке»:
— Ты как раз годишься для Морского корпуса, где тебе мгновенно устроят такую хорошую трепку, от которой любой Иванушка-дурачок становится мудрее Канта или Гегеля. Вообще-то, если где и жить человеку, так только подальше от берегов, чтобы не видеть всех мерзостей на земле…
Этот моряк, читатель, не будет иметь никакого отношения к нашей истории, а упомянул я о нем лишь потому, что мадам Довнар вскоре предстоит именоваться мадам Шмидт. В этот период жизни Александра Михайловна даже похорошела, как и положено невесте, справедливо считая, что хорошая пенсия отставного капитана 2-го ранга позволит ей содержать свои сбережения в неприкосновенности. Как раз во время сватовства Шмидта, видевшего на земле одни мерзости, мадам Довнар однажды вызвала Ольгу Палем на многозначительный разговор.
— Вы догадываетесь, — авторитетно заявила она, — что моему Сашеньке предстоит еще долго влачить жалкую роль студента, а жизнь слишком переменчива, и потому не лучше ли вам, моя милочка, заранее подумать о своем будущем.
Ольга Палем не сразу сообразила, к чему эта зловещая прелюдия, но в словах госпожи Довнар она распознала подоплеку каких-то дальновидных предостережений. Неужели ее использовали, как последнюю дурочку, только затем, чтобы сыночек не тратился на визиты в заведение Фаньки Эдельгейм? Стараясь оставаться спокойной, Ольга Палем, естественно, спросила:
— Разве я мешаю вашему сыну учиться?
— Здесь, в Одессе, вы не мешали, напротив, — уклончиво отвечала мать. — Но в столице совсем иной мир, преисполненный иными заботами, и мне очень жаль, если вам предстоит испытать некоторые… как бы сказать? Пожалуй, разочарования.
Ольга Палем заявила, что не тащит ее сына под венец, а сейчас живет не столько надеждами на будущий брак, сколько настоящей, хотя и безбрачной, любовью.
— Любовь — святое чувство, никто не спорит, — вздохнула Довнар. — Но, к сожалению, одной любовью сыты не станете. Сашенька еще молод, и многое в его жизни может перемениться… его планы, его настроения. Вы же знаете, он загорелся ехать в Петербург для изучения медицины, а вы…
Над головою мадам Довнар канарейка в клетке запела.
— Что я? Прошу. Договаривайте.
— Неужели вы согласны ждать его много лет?
— Нет, не согласна, — горячо возразила Палем, — и, конечно, поеду за ним, ибо без меня ему будет трудно.
Александра Михайловна скупо поджала губы, раскачивая над собой клетку, в которой канарейка сразу притихла.
— На что вы претендуете, моя дорогая? — последовал суровый вопрос. — Мне совсем не хотелось бы касаться этой темы, но ваша репутация не ахти какая, и в Одессе нет даже дворника, который бы не ведал об источнике ваших доходов.
— Саша об этом извещен, — отвечала Ольга Палем. — И он сам просил, чтобы моя дружба с Кандинским продолжалась.
— Упаси меня бог вмешиваться в ваши отношения, — пылко подхватила мадам Довнар. — Я ведь завела этот разговор исключительно в ваших же интересах, чтобы вы потом не раскаивались, уповая едино лишь на любовь. В ваши годы любовь — это еще не то чувство, на которое можно основательно положиться…
После таких намеков в душе остался гадкий осадок, и Ольга Палем не скрыла от Довнара своего раздражения:
— Ты говоришь мне о своей страсти, а твоя мамуля толкует о твоей карьере врача, и, кажется, она совсем не желает, чтобы я находилась подле тебя.
— К чему опасения? — отвечал Довнар. — Мать права в одном: Петербург слишком дорогой город и, может, пока я буду учиться, тебе лучше остаться в Одессе… конечно, ты можешь и навещать меня. Иногда! — добавил он.
Ольга Палем разрыдалась, тут же им расцелованная.
— Счастье мое, — говорил Довнар, — прекраснейшая из женщин, не сердись… умоляю! Я ведь не сказал, что Петербург для тебя заказан. Но пойми и меня, наконец. Сначала надобно осмотреться. Устроиться. Найти подходящую квартиру. Завести связи. Наконец, куда ты денешь вот все это?
— Что «это»? — не поняла его Ольга Палем.
Довнар широким жестом обвел обстановку ее комнат.
— Хотя бы мебель. Сколько ты за нее платила?
— Не я, а Кандинский, и обошлась она ему, кажется, около пяти тысяч. При чем здесь эти доски и эти тряпки, если я согласна на рай в шалаше?
— Од-на-ко! — наставительно произнес Довнар. — Надо все продать за такую же сумму, лишние деньги не помешают. Тем более в Питере мебель стоит намного дороже. Не захочешь же ты, чтобы я вертелся на венских стульях!
— Хорошо, — нервно отвечала Ольга Палем. — Я все продам, я привезу тебе в зубах эти пять тысяч, согласная сидеть на табуретках, лишь бы мой Сашка нежился в креслах. Об одном прошу тебя: не оставляй меня в Одессе… про-па-ду-у-у!
— Это даже забавно, — посмеялся Довнар.
— Ты меня еще не знаешь, — с угрозой произнесла Ольга Палем, — а ведь я способна на все. Застрелюсь. Стану пьяницей. Отомщу тебе тем, что — назло тебе! — сделаюсь шлюхой, чтобы ты мучился самой мерзкой, самой отвратительной ревностью.
— Ненормальная… лечись! — ужаснулся Довнар. — Я же вижу, как ты вся дергаешься. Даже зубы стучат, словно у волчицы. Нельзя же так распускать себя…
Летом 1890 года они на пароходе приплыли в Севастополь, откуда выехали в Симферополь, ибо пришло время обменивать паспорт. Староста мещанской управы некто Щукин знавал Меню Палем еще ребенком, и сейчас он, добрый старик, очень обрадовался, увидев ее «барышней» и «невестой».
— Ах, какая ты стала… ну-ка, повернись ближе к свету, дай полюбоваться, — сказал он. — Да-а, совсем барышня! Ей-ей, хороша. А платье — последний крик Парижа… Меня всегда была хорошей девочкой, — сообщил Щукин Довнару, — вы ее, молодой человек, не обижайте. Она, видит бог, и без того обиженная… Папу-то с мамой видела? — потихоньку спросил Щукин, подчеркнуто именуя красавицу «Меней».
— Нет, — отвечала Ольга Палем, — и вы, будьте добры, не говорите здесь никому, что я приезжала в Симферополь…
Она боялась этого разговора в присутствии Довнара, но он ничем не выдал своего удивления. Ольга Палем, обменяв паспорт, заторопилась в обратный путь, чтобы не встречаться в Симферополе с людьми, способными узнать ее. Правда, женщину несколько поразило, что Довнар очень спокойно воспринял слова Щукина, и она убедилась — Сашка, наверное, знает, что она рождена в еврейской семье. В ответ на ее новейшие домыслы Довнар сказал, что ему давно все известно:
— Оставь в покое ханов Гиреев и даже генерала Попова, не городи чепухи, ибо я тебя люблю, даже очень люблю, и мне все равно, кто ты… лишь бы и ты меня любила!
Весь обратный путь до Одессы она была так счастлива, так благодарна своему Сашеньке, ей так хотелось делать добро всем людям, которые охотно любовались ими обоими, находя, что они «подходящая пара».
— Спасибо тебе, — шепнула она Довнару, когда над горизонтом нависло жемчужное облако одесской пыли.
— За что?
— Ну так… за все, что ты для меня делаешь.
— Я тебе еще не то сделаю! — обещал ей Довнар.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По паспорту она значилась симферопольской мещанкой Ольгой Васильевной Палем, но однажды, повидавшись с Кандинским, просила писать ей письма на фамилию Довнара:
— Я буду Ольгой Васильевной Довнар-Запольской.
— Поздравляю. Собираешься уезжать?
— Сначала Саша поедет один, а я чуть попозже, когда устроятся его дела с питерской академией.
— Чувствую, меж вами все уже решено?
— Да, лишь бы Саша выдержал экзамены. Он так боится, так трусит. Но это же понятно. После всяких там формул сразу забираться в кишки человеку — это нелегко, Василий Васильевич, правда ведь? Но он спит и видит себя врачом.
— Благородное желание! — поддакнул Кандинский. — Когда-нибудь, разоренный и нищий, если я буду стоять на углу, так ты, жена знаменитого эскулапа, не пройди мимо… хоть плюнь в протянутую длань своего бедного «пупсика»!
Летом 1891 года Александр Довнар, уже готовый к отъезду, завел как бы случайный разговор о том, что денег, вырученных от продажи мебели, наверное, будет все-таки маловато для проживания в столице империи, где все стоит дорого.
— Один бы я выжил, но ведь нас будет двое… На двоих не разгуляешься! Ты бы, дорогая, оставила свою скромность и попросила бы у Кандинского денег побольше. А?
Ольга Палем испытала неловкое смущение:
— Побойся бога, Сашка! Он и так много для меня сделал. Если бы не Кандинский, у меня не было бы даже чашки, чтобы воды напиться… Не проще ли тебе самому снять часть вклада со своих капиталов в банке?
Довнар, стоя перед зеркалом, расправлял свой пробор на голове, и он даже обозлился от подобного совета:
— Но тебе ведь известно, что деньги положены в рост под проценты. Если я сниму со своего счета хоть малую толику, я лишусь прибыли. А тогда разрушатся все мои финансовые комбинации… Я лучше тебя знаю, что можно, а что нельзя!
Довнар уехал в начале лета, чтобы поспеть к осенним экзаменам, чтобы проштудировать забытую химию и воскресить в голове латынь, плохо памятную с гимназии. Свет померк в глазах Ольги Палем, и вечером того дня, даже не стыдясь, она горько плакала на жарком и потном плече Дуни Шкваркиной.
— И-и-и-и, — сказала та в утешение, — из-за такого-то прынца да эдак-то убиваться? Господь с вами, барышня. Стоят ли все кавалеры на свете единой бабьей слезинки? Да я бы нонеча на вашем-то положении шляпку — фик-фок на левый бок, зонтик в ручку да прошлась бы разок до Ришелье…
— Ах, Дуня-Дунька! Любила ли ты когда?
— Да у меня и своих забот хватает, зато сплю спокойно — не как вы, сердешная. Опосля вас все простыни в жгут перекручены, будто сам бес на вас нападал. А у меня, безгрешной, простынька-то гладенькая, хоть кого зови — любоваться…
Ольга Палем тихой скромницей затаилась в своей квартире, трепетно ожидая вихря телеграмм, зовущих ее, ожидая и бурного потока писем, ласкающих ее. Ни того, ни другого не было, Довнар молчал, будто ее более не существовало, и при встречах с мадам Довнар она стыдливо спрашивала:
— Сашенька пишет ли?
— Конечно. Или не мать я ему?
— А мне он ничего не просил передать?
— Нет, милая. Сообщает о своих делах, крайне недовольный климатом Петербурга… как-то и вас помянул.
Ольга Палем вытянулась в ожидании хоть приветика.
— Сашенька писал, мол, это просто замечательно, что Ольга Васильевна осталась в Одессе, иначе в сыром и промозглом климате Петербурга ей могла бы грозить чахотка… А как поживает господин Кандинский? — с ехидным умыслом спросила Довнар. — Вы не собираетесь к нему возвратиться?..
Ольга Палем поняла, что промедление гибельно.
Она сразу рассчиталась с Дуней Шкваркиной, быстро разорила свое уютное гнездышко, все распродав, но за обстановку квартиры выручила всего лишь 1400 рублей. Собираясь в дальнюю дорогу, она заглянула в контору Кандинского, чтобы проститься с ним. Он поцеловал ее в лоб и сказал:
— Деточка, сразу по приезде сообщи мне питерский адрес. И не сердись, если я стану присылать тебе некоторую сумму. Ежемесячно — как стипендию. Об одном молю — береги здоровье и не забывай расписываться в квитанциях о получении денег…
(Довнар упал в моих глазах, но зато Кандинский начинает вырастать в моих глазах — как добрый человек.)
— Спасибо, — благодарила его Палем, — я никогда этого не забуду. Наверное, я плохо ценила вас раньше.
Василий Васильевич по-хорошему обнял ее, как дочку:
— Стоит ли нам ворошить прошлое? Все мы не ангелы. Но я старею, а ты… молодеешь. Дай-то бог тебе счастья…
С этим они и расстались. Быстро расшвыряв нужное и ненужное, с тоскою оглядев пустые стены квартиры, Ольга Палем налегке собралась в дорогу. Извозчик уже поджидал ее на улице, чтобы отвезти до вокзала, когда Ольга Палем зашла к мадам Довнар, желая попрощаться с нею и ее детьми.
Александра Михайловна рассталась с ней сухо:
— Все-таки решили ехать? Смелая женщина. Но, думаю, мой Сашенька будет вам рад. Только помните, что вы южанка, а петербургский климат таит немало опасностей…
Она опаздывала к поезду, ибо пролетку задержало на улице долгое и муторное прохождение колонны арестантов, под конвоем следующих до Карантинной гавани, чтобы отплыть на сахалинскую каторгу. Ольга Палем с волнением посматривала на свои часики, висевшие на груди в форме золотого брелока, и краем глаза видела, как по рукам арестантов гуляет бутылка с водкой, а какой-то молодой ухарь в мятой бескозырке набекрень даже проплясал перед нею:
Прощай, моя Одесса, веселый Карантин, мы завтра уплываем на остров Сахалин…— Гони в объезд! — велела Ольга Палем кучеру.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Довнара она отыскала у его дальних родственников. Внешне он был все такой же, встретил ее приветливо.
Совместно они нашли небольшую, но удобную квартирку на Кирочной улице, швейцар и дворник были оповещены Довнаром, что они муж и жена. Первые дни радостно отшумели, переполненные обменом новостями.
Но очень скоро после приезда Ольга Палем явственно ощутила в себе признаки той самой подпольной болезни, о которой в обществе не принято рассуждать слишком громко.
Это ошеломило ее, но она даже не заплакала.
— Получилось все как по?писаному, — жестко произнесла женщина, невидящими глазами глядя в угол комнаты. — Твоя мамочка очень боялась, чтобы какая-нибудь потаскуха не заразила тебя. Но, слава богу, все закончилось идеально. Ее милый сыночек заразил меня, и пусть мамулечка будет отныне спокойна… Наверное, я только того и достойна!
— Не понимаю, к чему эти намеки и колкости?
— Ты все прекрасно понимаешь… не притворяйся глупее, нежели ты есть на самом деле.
Довнар, растерянный и жалкий, начал бормотать, что скорее всего схватил заразу в бане, куда он ходил недавно, молол что-то об опытах врачей на себе, что полезно для развития науки, и такие «подвиги» общество оценивает очень высоко.
— Прекрати… кобель несчастный! — потребовала Ольга Палем. — Не унижай себя и меня бессовестным враньем. Так я и поверила, что ты развивал науку… лучше скажи правду.
Довнар начал валяться у нее в ногах.
— Сам не знаю, как получилось, — навзрыд каялся он. — Ну, собрались мы, будущие врачи. Выпили. Были и женщины. Вот уж не думал, что эта дама, вполне респектабельная, способна так злостно подшутить надо мною! Ну, бей…
Ольга Палем в полный мах отвесила ему оплеуху.
— Скотина! — четко выразилась она. — Как же мне верить тебе далее, если и трех месяцев не прошло после нашей разлуки, а ты уже позабыл все прежние клятвы?
— Виноват! — рыдал Довнар, ползая перед ней на коленях. — Бей меня, бей… согласен. Но что же мне теперь? Или сразу вешаться? Клянусь, первый и последний раз.
— Встань, кукла чертова! Что теперь делать?
Довнар встал и сразу сделался невозмутим:
— В таких случаях люди не психуют, а лечатся. Но покидать меня в такой ответственный момент моей биографии, когда я готовлюсь к экзаменам, ты не имеешь морального права.
Вот теперь началась истерика с Ольгой Палем.
— Но я-то в чем виновата? — кричала она. — Мне-то за что страдать? Уж если ты, негодяй, знал, что болен, так не лез бы ко мне. Или ты решил, что я такая уж безответная тварь, с которой все можно делать?
Целый день скандалили, но ближе к вечеру уже не она, а сам Довнар сделался озлобленно-агрессивен, уже не она, невинная, а именно он, виноватый, наступал с упреками:
— Не я, а ты… ты, ты, ты виновата! Надо было приезжать раньше, тогда ничего бы и не было. Почему ты всегда думаешь только о себе? А обо мне ты не подумала?..
На следующий день отправились искать частного врача, лечащего под вывеской с гарантией соблюдения тайны. Все время Довнар мучился одним важным вопросом:
— Интересно, сколько он возьмет? Ты не знаешь?
Нужного врача нашли, и, поднимаясь по крутой лестнице под самую крышу громадного дома, женщина вдруг замерла.
— Это даже смешно, — сказала она, очень далекая от смеха. — Сынок и маменька в один голос пугали меня петербургским климатом. Наверное, только климат и останется виноват… Скажи, неужели тебе не стыдно?
…Осенью 1891 года Довнар был зачислен в число «вольноприходящих» студентов Медико-хирургической академии, давшей стране и народу множество великих исцелителей.
8. НИКТО НЕ ПОВЕРИТ
Конечно, это событие, совпавшее с облегчением от болезни, незаметно примирило их, и теперь Ольга Палем хлопотала по хозяйству, время от времени впадая в шутливый тон:
— При мне всегда лучшая бабская техника — кружка Эсмарха да револьвер системы «бульдог». Прямо не знаю, с чего начинать? То ли бежать подмываться, то ли мне сразу застрелиться… Двигайся к стенке, дай и мне лечь!
Лежа на спине с открытыми глазами и вглядываясь в тревожное передвижение теней на потолке, Ольга Палем неожиданно содрогнулась всем телом от страшной мысли: что, если Сашка нарочно заразил ее, дабы она, оскорбленная, оставила его навсегда и разлюбила его, изменника?
— Спишь? — спросила она в темноту.
— Нет. Еще нет. А что?
Она безжалостно оттаскала его за волосы:
— Вот тебе, вот тебе, вот тебе… И не думай, что от меня так легко избавиться! Моя любовь к тебе такая, что даже тебе, подлецу, никогда не удастся ее загубить.
— Ты дашь мне спать сегодня? — разворчался Довнар. — У меня же завтра лекция. Очень ответственная. О кровообращении в человеке. Будут спрашивать, что мы знаем об этом?
— Ничего ты не знаешь. Ладно. Спи…
Но сама не уснула. Сначала ей было жаль только себя, а потом она стала жалеть своего беспутного Сашеньку: «Ну конечно, — размышляла она, — он еще наивный несмышленыш, его нарочно тогда подпоили, чтобы он ничего не соображал, а потом… известно ведь, какие средь женщин бывают вампиры…» И до того ей стало жалко разнесчастного Сашунчика, что она целовала его спину между лопатками, нежно гладила его по голове, отчего он и проснулся, встревоженный.
— Простила, да? — спрашивал он. — Значит, больше не сердишься? Клянусь, я люблю только тебя… одну тебя.
Закусив губу, чтобы не расплакаться от тихой радости возвращения к былому, Ольга Палем заботливо укрыла его плечи, даже зажгла свет, чтобы глянуть на часы:
— Спи давай, спи. Не забывай, что завтра тебе рано вставать. Нельзя опаздывать на лекции. Спи, миленький…
И это понятно! Пожалуй, нет такой женщины на свете, которая бы не имела в душе большого чувства материнской любви — даже к тому, кто делает ее матерью.
Тихо стало. Уснули оба. Бог с ними…
Петербург, никогда не спящий, выстраивал на потолке их жилища громоздкие и несуразные призраки ночной жизни — отблесками каретных фонарей, всполохами трамвайных дуг, столица накрывала их мрачными крыльями пролетающих дождевых туч.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Среди столичных родственников Довнара были почему-то одни вдовы, какая полковница, какая статская советница, третья просто дворянка. Делать им визиты мучительно даже для Довнара, а каково было Палем, если эти старушки смотрели мимо нее, будто не видя, а после неизбежного чаепития и нудных разговоров о падении нравственности среди молодых женщин приходилось долго кланяться в прихожей, изображая радость:
— Благодарю за гостеприимство. Очень было приятно…
Хотя приятного было мало, ибо эти старухи, помешанные на женской нравственности, целили прямо в нее. И уж совсем невдомек, ради чего Довнар в дождливый день затащил ее на Выборгскую сторону, где среди усопших на католическом кладбище показывал ей могилу своего деда Казимира.
— Холодно, — зябко ежилась Палем. — Уйдем.
— Пошли. Но ты должна знать, что мои предки, в отличие от твоих сомнительных «Гиреев», не с печки свалились, а были знатного рода… Видишь, надгробие с гербом!
— Да бог с ним. Что я в этом понимаю?
— Где уж тебе понять, симферопольской мещанке? Кстати, дворник, возвращая твой паспорт из полиции, не спрашивал ли, почему ты Палем, а я Довнар-Запольский?
— Нет, не спрашивал. Я ему рубль дала, он откланялся, и все тут. Швейцар очень любезен. Тоже кланяется.
— Нехорошо, — призадумался Довнар. — В полиции наверняка отметили нас как «незаконно сожительствующих».
— Мы такие и есть. Разве не так?
— Так-то оно так, но… Не возникнут ли неприятности в академии, если узнают об этом? Ты уж не сердись, если я стану говорить, что ты для меня просто любовница.
— Нет, так не надо. Лучше говори служанка.
— А если я женюсь на тебе? Меня же погонят отовсюду, ибо простительно ли мне, дворянину, жениться на служанке?
— Ах, боже мой! Сам запутался и меня запутал. Говори, что хочешь, только не делай из меня дурочку…
Неприятности начались совсем с иной стороны, и полиция тут не играла никакой роли. Просто молодой человек — с первых же лекций — сразу ощутил, что медицина, как и математика, требуют призвания к этим наукам, а вот призвания-то как раз и не было. Довнар день ото дня становился взвинченнее, он возвращался с занятий угрюмый и недовольный.
— Там такие требования к нашему брату-студенту, — рассказывал он, — что я теперь в дистракции и в дизеспере. А ведь это еще первый курс. С ужасом думаю, что будет, если переберусь на второй? Я попросту лопну от напряжения, не в силах постичь все эти кишки, вены, сосуды, аорты и прочую дрянь…
Подобные настроения усугублялись с каждым днем, и медицина, однажды раскрасившая карьеру врача розанчиками бешеных гонораров, вдруг обернулась для Довнара обратной и гадостной изнанкой, требуя от него того, к чему он готов не был, да и не думал готовиться. Ольга Палем даже растерялась:
— Математика для тебя была слишком отвлеченной, а медицина кажется приземленной. Одна чистая наука — не нравится, другая грязная — тоже. Конечно, — доказывала Ольга Палем, — у нас в животах водятся не логарифмы, а микробы. Противно, тут я согласна. Но… обо мне ты хоть разочек вспомнил?
— Где логика? — укоризненно вопрошал Довнар.
— Бедненький, тебе уже логики захотелось? Так этого добра у меня хватит на двоих. Зачем, спрашивается, покинула я Одессу? Все там разбазарила, все распродала, Дуньку отпустила. Если вернусь, так снова сидеть на шее Кандинского?
Довнар, кстати сказать, никаких пособий не получал, зато Кандинский регулярно высылал Ольге по сто рублей, словно не Довнар, а сама Палем готовилась в эскулапы. При этом старик переводил деньги, адресуя их на имя Ольги Васильевны Довнар. С большими усилиями, лаской и уговорами Ольга Палем спасала себя и Довнара, умоляя его учиться, но он разбрасывал учебные книги, говорил, что опять ошибся:
— Карьера врача, — доказывал он, — это, оказывается, совсем не то, что я думал. Ну допустим на минуту, диплом получен. А что дальше? Бегать с визитами по вызовам в любую погоду и даже ночью? Потом брать с родичей умирающего полтинники, делая при этом такой вид, будто в гонораре не нуждаешься… Нет, избави меня боже от такой судьбы! Надо искать что-то другое, более интересное, более доходное…
Внешне их сожительство выглядело вполне благопристойно, соседи по дому на Кирочной не могли бы сказать о них ничего дурного. Это внешне, зато внутри дома… За краткий период 1891–1892 годов в их найме перебывало четыре служанки, и все четыре сами отказывались от места. Близкие к интимной жизни нанимателей, видевшие их жизнь без прикрас, они потом рассказывали, что там творилось:
— Да разве можно было с ними ужиться? У них кажинный денечек такая пальба шла — не приведи бог! На молодую барыню мы без слез смотреть не могли. Ведь сам-то барин какой? Со всеми вежливый, любезный, слова худого не скажет, что ему ни сделаешь — за все благодарит. А когдась один на один с барыней, так он ее — и метлой и кулаком, а потом брал ножны от студенческой шпаги — и этими-то ножнами да в полный мах! Какое сердце тут выдержит, на нее глядючи? Нам и денег от них не захотелось — только бы глаза эвтакого сраму не видели.
Служанки говорили сущую правду, да и зачем им лгать?
Непонятно, как все это началось в их семейном конкубинате, но Довнар словно вымещал на ней свои житейские неудачи. Ольга Палем скрывала свои синяки, а Довнар почасту сидел дома, залечивая царапины от когтей возлюбленной им тигрицы. Вслед за скандалами, конечно, следовали бурные примирения, и — одна в синяках, другой в царапинах — они снова кидались в объятия один другому, а на стене их спальни звякала по ночам спасительная кружка Эсмарха.
— Пожалей ты меня, — терзалась Ольга Палем.
— Но и ты меня пощади, — отзывался Довнар…
Точнее Н. П. Карабчевского все равно не скажешь, ибо не я, автор, а именно он, защитник слабых и униженных, общался с нею. Николай Платонович так рассуждал об Ольге Палем: «То покорная до унижения, то бурная и неистовая, она не знала никакого удержу, не признавая никаких границ в выражении любовной гаммы, в которой самой последней нотой всегда и неизменно следовал один и тот же стонущий, но ликующий вопль: „Саша, люблю!..“ Так тянулась эта невозможная пытка, и Довнар слышал от нее „Саша, люблю!“, а она каждый раз слышала от него: „Ольга, клянусь…“»
Но все-таки, будем знать, кулаки мужчины опасней женских ногтей, и к весне 1892 года Довнар начал ее побеждать с помощью кухонной метлы и железных ножен от шпаги, этого давнего символа мужского и дворянского превосходства.
— Неужели тебе совсем не жалко меня? — спрашивала она.
— Не нравится? Так убирайся.
— Куда? — стонуще отзывалась Ольга Палем.
Однажды утром, спустив ноги с кровати, она почти равнодушно вытерла струйку крови, выбегавшую изо рта, и, надрывно кашляя, сказала Довнару окровавленным ртом:
— Полюбуйся! Ты и твоя мамочка оказались все-таки правы. Петербургский климат опасен для моего здоровья…
Но к болезни она отнеслась с роковым спокойствием обреченной, зато, боже мой, как перепугался Довнар, мигом превратившись в того милого Сашеньку, какого она любила и каким хотела видеть всегда. Заботливо он отвел ее в лучшую клинику герцога Максимилиана Лейхтенбергского, срочный анализ мокроты не показал наличия палочек Коха, зато врачи сразу отметили опасное малокровие и критическое состояние всей нервной системы, уже вконец расшатанной.
— А это, простите, что у вас? — спросил у нее доктор, показывая на синяки, ставшие уже матово-зелеными.
— Ударилась, — отвечала Ольга Палем.
Пригласив Довнара, как мужа, для приватной беседы, врачи еще больше нагнали на него страху, внушая ему, что лечение больной крайне необходимо:
— Иначе может развиться туберкулез, а нервные приступы грозят вылиться в форменную истерию. Покой, питание и желательно питье кумыса — вот суть главное…
Довнара было не узнать: он так бережно держал Ольгу под локоток, словно она досталась ему хрустальной, кутал ее шею, по дороге на Кирочную не раз прослезился:
— Сразу напиши Кандинскому, чтобы знал правду о твоем состоянии. Предстоят немалые расходы, чтобы ты, моя прелесть, могла провести летний сезон на хорошем курорте…
В самый канун весны 1892 года Довнар, кажется, совсем отвратился от медицины, в один из дней вернувшись из Академии ошарашенным, почти невменяемым, с блуждающим взором.
— Сашенька, что с тобою? — обеспокоилась Ольга Палем.
— Лучше не спрашивай… Сегодня я впервые побывал в анатомическом театре, при мне профессор потрошил женщину, покончившую с собой ядом. Даже мертвая, она была обворожительна! Профессор сказал, что это Марго Золотой Ключик, известная дама полусвета, промышлявшая по ресторанам… Ужасно! — говорил Довнар. — Я смотрел, как кромсают ее нагое тело, выворачивая наружу всю требуху, издающую гнусное зловоние, и тут я окончательно убедился, что врачом мне не бывать.
Из этих слов Ольга Палем выявила главное для себя.
— Вот видишь, — мстительно упрекнула она Довнара, — ты способен пожалеть даже мертвую женщину… Что бы тебе, мой милый, иногда пожалеть и меня, живую?
Довнар отмалчивался. Затем она спросила его, куда же пойдет он учиться, что он думает делать дальше?
— О-о, я нашел такой институт, что, узнай о нем моя мамочка, она останется очень довольна.
— Назови мне его!
— Институт инженеров путей сообщения.
— А что это значит?
— Рельсы… шпалы… семафоры… локомотивы. Пар под высоким давлением. Да ведь об этом можно только мечтать. А какой, знала бы ты, конкурс — у-у-у… Конечно, не один я такой умный и не все же кругом дураки, потому многие чувствуют, как прибыльно стать инженером-путейцем. Так что, — взбодрился Довнар, — отныне цель моей жизни определилась!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Славута, куда она попала ради поправления здоровья, была прелестным местечком на реке Горыни в Волынской губернии (ныне город и районный центр Хмельницкой области УССР). По сути дела, этот маленький городишко — старинное имение графов Сангушек, здесь размещался их дворец с прекрасным музеем древностей; в Славуте, помимо церквей и синагоги, было великое множество лавок и лавчонок, где предлагали больным все, начиная с подтяжек, якобы только вчера доставленных из Парижа, и кончая самодельным повидлом, которое, по уверению торговцев, прибыло в прошлую субботу прямо из Чикаго. Вечерами над Славутой траурно звучала серьезная духовная музыка в дивном исполнении оркестра местной пожарной команды.
Ольга Палем пила кумыс в лечебнице при конских заводах тех же графов Сангушек, охотно купалась в Горыни — в шляпе и пышной юбочке, а перед сном гуляла в старинном сосновом парке. Здесь чинно двигались алчущие исцеления, которые могучей силой животного инстинкта разделялись на группы малокровных, желудочных, неврастеников и просто прекрасных дам, у которых ниже пояса не все было в порядке для полноты женского счастья. Печально звонили колокола церквей, жалобно вздыхали валторны, им вторили мощные геликоны, печально бубнили оркестровые тарелки, а на зеленых пожнях Горыни гневно ржали холеные кобылицы, не подпуская к себе жеребцов.
Здесь, в райски-болезненной обстановке, Ольга Палем совсем потеряла голову… от любви!
Не подумаем о ней плохо. Нет, она не заводила искрометных романов с партнерами в поглощении лечебного кумыса. Она заново переживала большое чувство к тому же Довнару, который из столицы обрушил на нее целую лавину нежнейших писем, заклиная думать только о своем драгоценном здоровье — и ни о чем больше! Мало того, он называл ее птичкой, мохнатушкой, пупочком, кружечкой и даже… даже «своей женушкой», что для нее сейчас было важнее всего.
Ошеломленная таким натиском небывалой нежности, Ольга Палем, тихо всхлипывая от счастья, в какой раз перечитывала слова, строчки, фразы его писем, даже в знаках восклицания ей невольно виделся волшебный смысл большого любовного праздника, ради которого стоило жить…
Наконец Довнар и сам навестил ее в Славуте; гордая его появлением, она вместе с ним блуждала под высоченными соснами, внимательная к рассказам о тех небывалых трудностях, какие ожидают всех, кто желает стать инженером путей сообщения:
— Вакансий всего семьдесят в году, а желающих попасть в комплект больше тысячи. Подумай, ведь меня сразу скостят на экзаменах. Нужны какие-то ловкие обходные пути с переводом стрелок на самые главные магистрали, чтобы на моем жизненном пути все семафоры давали только зеленый свет…
Вместе они покинули Славуту, ехали в одном купе поезда, как законные муж и жена, и Довнар всю дорогу до Петербурга переживал — быть ему или не быть инженером-путейцем.
— В любом случае, — внушал он Ольге, — я должен попасть в комплект. Не удивляйся, но какой-нибудь запселый начальник ремонтного депо на станции Воронье Гнездо получает в месяц намного больше министра… Ты меня слушаешь?
— Конечно. С восторгом!
— Так вот я и говорю: это ли не жизнь? Да скажи кому-нибудь, что я… больше министра… так ведь никто не поверит!
— Никто, — соглашалась Ольга Палем.
9. ОТКРЫТИЕ СЕМАФОРОВ
Александра Михайловна Довнар-Запольская, ставшая в новом браке госпожою Шмидт, времени даром не теряла, и в ближайшие же дни она навестила контору Васи-Васи Кандинского.
— Помогите! — взмолилась она, хватаясь за высокую грудь, под которой подразумевалось наличие материнского сердца. — Мой сыночек, образованный, талантливый, благородный, давно горит святым желанием связать свою судьбу с паровозами. В нашей семье давно прозревали великое будущее железных дорог. Я сама с безмерным удовольствием всегда вдыхала дым паровозов. Но в Институте путейцев такой чудовищный конкурс, так режут, так режут… Вы же понимаете — без ножа режут!
— Я как раз ничего не понимаю, — ошалел Кандинский.
— Ах, боже мой, боже мой! Разве неизвестно, как трудно попасть в комплект избранных для учения. Всегда сыщется немало гнусных завистников, желающих погубить моего скромного сына, чтобы пристроить своих нахалов, и, как водится, вперед вылезут всякие там бездарности, а мой Сашенька талантливый, начитанный, образованный…
Тут Кандинский все уразумел, но развел руками:
— Мадам! Что я могу сделать для вашего сына, если к рельсам и шпалам я не имею никакого отношения?
— Но у вас же есть связи, — напомнила госпожа Шмидт. — Я уж молчу о своем детище, но вы-то… вы-то! Хотя бы ради Ольги Васильевны, которая измучилась, бедняжка, взирая на немыслимые страдания моего Сашеньки…
Кандинский был человеком порядочным. И свои хлопоты начал не ради Довнара, а ради того, чтобы угодить Ольге Палем, влюбленной в Довнара. Для этого он навестил князя Юрия Евгеньевича Гагарина, известного в Одессе филантропа, просил князя начертать рекомендательное письмо к институтскому начальству. Юрий Евгеньевич посмеялся:
— Надо и не надо, все идут ко мне! Ради вас я, конечно, готов служить. Но мое слово весомо звучит для общества одесских босяков или бедовых нищенок, которые держат на руках, баюкая, кулек с младенцем, на поверку оказывающийся березовым поленом. Но для министерства путей сообщения, боюсь, мое слово ничего значить не может…
Рекомендацию его сиятельства Кандинский подкрепил письмом своего приятеля Шевцова, строителя железных дорог, и все эти бумаги скоро попали в руки Довнара, который с глубоким поклоном вручил их П. В. Кухарскому, инспектору института.
— А к чему мне эти филькины грамоты? — сразу разъярился Кухарский. — Да и вам они ни к чему, ибо комплект студентов уже набран для прохождения курса, а вас там, пардон, не числится. Прием окончен. Свободных вакансий нет…
Семафоры закрылись, горяґ устойчивым красным светом.
Довнар так убивался, он так страдал от того, что не получать ему ежемесячно больше самого министра, что Ольга Палем не выдержала и во всю ширь распахнула платяной шкаф, выбирая самое скромное, но зато самое приличное платье.
— Куда ты? — плачуще вопросил Довнар.
Женщина кокетливо повертелась перед ним, как перед зеркалом, демонстрируя свой выходной туалет:
— Как тебе нравится такая «штучка»?
— Очень.
— Вот именно это лучше всяких рекомендаций. Особенно, если я появлюсь под черной вуалью, которая мне идет, да еще разрыдаюсь так, что все побегут за валерьянкой…
Нет, она не искала обходных путей, сразу направившись в министерство путей сообщения, где с февраля 1892 года восседал в кресле министра человек, с которым она как-то виделась в Одессе — еще в ту пору, когда Кандинский был для нее милым «пупсиком». Этим человеком был Сергей Ильевич Витте, только что начинавший свою баснословную карьеру на рельсовых путях великой железнодорожной державы.
Он весьма холодно встретил молодую даму, которую едва помнил по прежней жизни в Одессе, весьма путанной.
— Итак… э-э-э… чем могу служить?
Ольга Палем сразу брала быка за рога:
— Я должна сообщить вам одну ГЛУБОКУЮ ТАЙНУ, обещайте, что все сказанное мною останется между нами.
Витте, уже заинтригованный, кивнул породистой головой, не изменяя при этом величавой осанки даже в кресле.
— Дело в том, — продолжала Палем зловещим шепотом, — что я желаю просить за мужа, с которым обвенчана тайно, ибо, как вы знаете, студентам жениться не дозволено. Мой муж с детства мечтает быть инженером-путейцем, и теперь только вы… один вы… вы или я? — Палем разрыдалась. — Поймите мои страдания и муки моего мужа, который по небрежности не попал в комплект принятых в Институт путей сообщения. Мне этого не вынести! Только вы — только вы! — можете сделать меня несчастной или счастливой…
Конечно, какой мужчина сознается, что он желает видеть женщину несчастной? Ольга Палем живо вернулась домой:
— Сашка! Завтра можешь галопом скакать до Кухарского, ибо бумаги от министра путей сообщения уже будут находиться на столе генерала Герсеванова, начальника твоего института…
Вестимо, что Довнар сдал экзамены шаляй-валяй, но внимание к нему важной персоны явно снизило внимание экзаменаторов, и Довнар был принят в число студентов сверх комплекта.
На радостях они решили совершить путешествие — почти свадебное и объявились в Одессе, где все поздравляли с успехом, а сама Ольга Палем, чувствуя себя «царицею бала», пребывала в состоянии чудесной эйфории. Александра Михайловна, убедившись, что Ольга Палем способна на многое (даже на то, на что неспособна она сама), просила ее содействия в устройстве младшего сыночка в Морской корпус его величества.
— Вивочка весь изнылся, мечтая о броненосцах, чтобы от твердынь Кронштадта угрожать коварной владычице морей. Мой новый муж (замечательный человек!) справедливо утверждает, что на земле живут одни негодяи, и только в море можно избавиться от земных мерзостей… Сделайте что-нибудь!
Ольга — как и Кандинский — только разводила руками:
— Но у меня же нет знакомых среди адмиралов…
Словно побитая собака, приплелся и Стефан Матеранский, жалуясь, что все к нему придираются, просил Ольгу хлопотать о переводе его из Новороссийского в Киевский университет. Опять пришлось Ольге Палем разводить руками:
— Да бог с вами! Учитесь в Одесском получше, тогда не придется искать путей в Киев…
Притащился в сильном подпитии и подпоручик Шелейко, родственник Довнаров, недавно разжалованный за пьянство из поручиков, умолял Ольгу помочь ему устроиться в Погранстражу, где платят куда как больше, чем в этой поганой армии.
— Надо меньше пить и больше закусывать, тогда бы и армия не казалась поганой, — отказала ему Ольга Палем.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пожалуй, еще никогда она не чувствовала себя столь уверенной в том, что будущее наконец-то прояснилось, Довнар будет счастлив иметь такую жену, как она, и даже Александра Михайловна стала относиться к ней как к своей будущей невестке. Довнар счел нужным лично благодарить Кандинского за рекомендацию князя Гагарина, Кандинский поздравлял Довнара, и все хором восхваляли Ольгу Васильевну, одним махом покорившую самого грозного министра.
Стефан Матеранский при сем присутствовал, словно бедный родственник на богатых именинах, он явно завидовал своему другу, а Довнар, преисполненный гордостью, свысока поучал его:
— Надо уметь жить! Что нам деньги, если мы сами — золото? В свете так принято, что в человеке ценят только его успех, и в этом случае бери пример с меня. Сам видишь, что я пришел, увидел и победил, как Цезарь… Что там эти экзамены? Не в них дело. Дело в самом человеке.
В обратный путь из Одессы они тронулись вместе с Виктором Довнаром, чтобы готовить его для поступления в Морской корпус. «Вивочке» было уже 13 лет, никаких доблестей за ним не числилось, и Ольга Палем понимала, какую обузу берет на себя, но… чего не сделаешь, лишь бы угодить будущей свекрови!
Так радостно и легковерно начался первый учебный год Довнара в новом для него институте. Ольга Палем с замиранием сердца боялась — не получилось бы с паровозами, как с математикой и медициной? Но ее Сашка возвращался домой очень веселым, говорил, что изучение механики ему нравится.
— Знаешь, когда все наглядно двигается, что-то за что-то цепляется, чтобы возникло движение, тогда мне понятно…
Настал роковой для женщины день, когда Довнар сказал:
— Оля, позволь, я приглашу на ужин своих новых товарищей. Сама убедишься, какие замечательные молодые люди! Князь Жорж Туманов — тифлисский красавец, пишет стихи, а Стась Милицер — страшная уродина, зато сколько в нем ума и желчи. Кстати уж, — сказал Довнар, загадочно улыбаясь, — теперь я не стану возражать, если ты представишься им наследницей крымских Гиреев, а то ведь мне совсем нечем похвастать… Вот и брызни на моих друзей из струй бахчисарайского фонтана!
Грузинский князь Туманов, происходящий из очень культурной семьи, оказался милым и скромным человеком, а варшавянин Станислав Милицер, искоса поглядывая на Ольгу Палем, загадочно улыбался — так улыбался, словно давно знал о ней какую-то гадость. Под этими взглядами Милицера она чувствовала себя скованной, разоблаченной, заранее проклятой и опозоренной.
Предчувствия не обманули ее. Выходя на кухню, чтобы перекурить, Милицер конкретно спросил у Довнара:
— Кто она тебе, эта задрыга?
Довнар не лишил себя удовольствия предстать перед сокурсником бывалым мужчиной, давно пресыщенным женщинами.
— Да так… живем, — равнодушно изрек он.
Милицер стряхнул пепел папиросы в красивую сахарницу (и на эту деталь я прошу читателя обратить внимание).
— Опасное занятие: жить вот так, как вы живете, — сказал Милицер, выпуская табачный дым прямо в лицо Довнара. — Не лучше ли развязаться с ней сразу, чтобы сохранить себя ради идеальной чистоты своего служебного формуляра.
— До этого далеко! Я ведь еще студент.
— А случись она забеременеет — тогда не развяжешься.
— Ольга пользуется кружкой Эсмарха.
— А, ерунда! — отмахнулся Милицер, гася окурок папиросы в тарелке с рыбным салатом. — Все ею пользуются, и все ходят с животами аж до самого носа… Догадываюсь, что ты уже наобещал ей с три короба счастья, еще не зная, что эта бабенка способна испортить тебе положение в обществе.
— Пока она мне не мешает, — ответил Довнар.
— Но еще станет мешать. Посуди сам: дворянин, инженер, солидное жалованье, а жена… аристократка из Бердичева.
— Из Симферополя, — машинально поправил его Довнар.
— А какая разница? Жиды уже сожрали великую Речь Посполитую, а теперь принимаются обгладывать великую Российскую империю, и этим легендарным Саломеям, танцующим в неглиже, не следует доверять. Ты об этом, кажется, не подумал!..
Ольга Палем не могла знать о сути этого разговора, но женский инстинкт сразу подсказал ей, что Милицера надо бояться.
Проводив гостей, она спросила Довнара:
— О чем вы там говорили?
— Где?
— На кухне.
— Да так. О разном.
— Лучше сознайся сразу, что речь шла обо мне, и, конечно, я не заслужила от вас ни единого доброго слова…
Возник очередной скандал. Случилось невероятное, но точно подсказанное из глубин женского сердца: Ольга Палем настаивала, чтобы Довнар оставил дружбу с Милицером. Получалось какое-то несуразное положение: Милицер советовал Довнару избавиться от нее, а она требовала от него изгнания Милицера.
— Это очень пакостный человек, — доказывала она.
— Чем ты это докажешь?
— Он смотрит на меня так, словно я перед ним голая. И не спорь! Это вы глупцы, а мы, женщины, умеем читать во взорах мужчин даже то, в чем они никогда не сознаются.
— Что же ты прочла в глазах Стася?
— Не знаю — что. Но мне страшно.
— За кого? За себя?
— Не за себя, а за тебя, дурака…
Я давно уже склонен думать, что Ольга Палем была намного умнее Александра Довнара.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Вива» был ею пристроен в подготовительный пансионат г-на Ивановского, обещавшего втемяшить в него то, чего не могла вдолбить гимназия. Ольга хлопотала по дому, подруг у нее не было, а на одиночество она никогда не жаловалась.
Сейчас ее угнетало другое. Ее любимейший изверг, общаясь с Милицером, обрел в своем характере, и до этого далеком от золотого, то, что раньше в нем не замечалось. Теперь, набравшись «мудрости» у того же Милицера, он начал выставлять наружу цинизм — грубый и беспардонный. На смену интимной деликатности пришло откровенное хамство, и Довнар, хватая в пястку самые интимные части ее тела, говорил самоупоенно:
— Во! На моих-то харчах какой здоровый бабец отрастила.
— Сашка, имей совесть, — отбрыкивалась она.
Теперь бороться с Довнаром становилось труднее.
Если раньше он во всем подчинялся мамочке, то отныне целиком подпал под влияние Милицера, более опасного и хитрого.
Желая исправить «семейное» положение, Ольга Палем поступила чисто по-женски, она решила перетянуть Милицера на свою сторону, дабы сделать из него союзника — в борьбе за Довнара (и против того же Милицера). Ради этого она решилась даже на то, чтобы пококетничать перед врагом, делая вид, что он ей безумно нравится, и однажды с гитарой в руке она исполнила персонально для него, как бы намекая:
Мне не нужен старый муж, Утоплю в одной из луж. Обобью я гроб батистом, А сама сбегу с артистом…С риском для себя она давала повод для ревности Довнара, но тот лишь зловеще усмехался, наблюдая за ее ухищрениями, а Милицер остался равнодушен к таким женским фокусам.
— Все-таки, — сказал он, — вы стараетесь напрасно. Я никак не похож на Иосифа прекрасного, а вы плохая жена вот этому глупому Потифару, — указал он на Довнара…
Милицер принадлежал к числу людей, опасных для тех, чья воля оказывалась слабее его воли. Такие люди, почти демонические, вольно или невольно вносят в чужие союзы хаос и разрушение. Люди, подобные Милицеру, суть диктаторы по натуре, природа словно заранее готовит их повелевать, и они, эти мелкотравчатые нероны, всюду отыскивают слабейшие места в человеческих отношениях, чтобы втереться между людьми, а потом насыщать свое тщеславие властью разрушителя. Люди такого сорта испытывают отвращение к любой гармонии, к любому проявлению красоты, и Милицер — тоже! — не выносил даже вида красивой безделушки, сразу желая изуродовать ее, испакостить, уничтожить. Так же поступал он и с людьми, натравливая их одного на другого, при этом он круто подчинял их себе, чтобы над ними потом и властвовать.
Он сделал все, желая опорочить и князя Туманова:
— Да гони ты от себя этого грузинского голодранца, который возомнил из себя какого-то Гомера… Ты нюхал его?
— Нет.
— Значит, еще не заметил, как дурно пахнет из пасти его сиятельства. Уверен, что у князя полно в животе глистов и солитеров. А он садится за стол, даже не помыв руки. Ольга Васильевна, в следующий раз, когда придет князь Туманов, вы не давайте ему вина, а угостите его отваром цитварного семени.
Впервые Ольга Палем ощутила свое бессилие, а Довнар все далее отходил от нее — днями в институте, вечерами пропадал у Милицера на Николаевской улице. Презирая себя, женщина часами простаивала напротив дома, где проживал Милицер, ожидала появления Сашеньки, а он все не шел, валил снег, и было холодно стоять на одном и том же месте, прохожие мужчины озирали ее с особым интересом, как оглядывают проституток, жаждущих приглашения до ближайшего трактира…
— С нетерпением ожидаю лета, — сказала она Довнару.
— Чтобы не мерзнуть? — засмеялся он.
— Нет, чтобы уехать туда, где нет Милицера.
Близились летние вакации (каникулы, как говорят ныне). Заранее они сняли дачу в Шувалове, пригороде Петербурга, а «Вива» с пансионатом Ивановского выехал на станцию Сиверская, и начался безмятежный период жизни… последний!
Александра Михайловна Шмидт из Одессы писала Ольге Палем, что смело вверяет ее заботам двух сыновей — старшего и младшего. «Уважаемая Ольга Васильевна», — таким обращением она начинала свои письма к ней… Посмотрим, что станется далее с этим ее «уважением»!
Не спорю, у всех матерей есть «материнское сердце», но что делать, если эти сердца бьются по-разному?
10. ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ольга Палем стала бояться перемен — даже пустяковых.
Дачный поезд отходил в полдень, и за час до отправления они, уже готовые ехать на вокзал, придирчиво осматривали комнаты — все ли взяли, не забыли ли чего-либо из вещей?
— Ключи оставим у швейцара, — заметил Довнар. — Ты долго еще будешь копаться? Что ты ковыряешься там в комоде?
В руке Ольги Палем тускло блеснул револьвер.
— Брать на дачу? — спросила она.
— Оставь…
Она спрятала «бульдог» между складок белья в комоде, повернулась к нему — такая жалкая, такая растерянная, казалось, продумавшая что-то свое, для нее едва ли не главное.
— Саша, — трагически дрогнул голос Ольги Палем, — ты не оставишь меня? Ты ведь обещал… обещал! Я не забыла.
— Что я тебе обещал?
— Жениться на мне. Не обманешь?
— Послушай, — возмутился Довнар, — вот именно сейчас, перед самым отъездом на дачу, тебе вдруг приспичило знать, оставлю я тебя или сохраню верность до гроба.
— Не отвергай меня никогда, — жалобно просила она. — Ты еще не знаешь, на что я способна… не знаешь, как сильно могу я любить… только не брось — заклинаю!
Поехали. Справа остались парковые кущи Лесного института, слева протянулись поля столичного ипподрома, мелькнула станция Удельная с одинокой фигурой зевающего жандарма. Довнар, чтобы не терять времени даром, вычитывал из газеты статистику несчастных случаев в Санкт-Петербурге:
— Слушай: каждый год в столице империи умирают от пьянства триста тридцать пять человек, тонут — двести тридцать два человека, при пожарах погибают шестнадцать… Страшно!
Ольга Палем, думая о своем, сказала:
— Там не пишут, сколько в году самоубийств?
– Много! Сто тридцать восемь.
— А сколько каждый год убивают?
– Мало! Всего двадцать четыре человека…
Приехали.
Шувалово — не для богатых, здесь отдыхала средняя публика умеренного достатка. Однако со времен Екатерины Великой полиция надзирала, чтобы на окраинах Петербурга плохих дач не строили, а потому все дачи были нарядные, как игрушки, над их верандами упруго выгибались под ветром красочные паласы. Молодые поселились близ Озерцов, и на другой день Ольга Палем проснулась, вся осиянная солнцем, ее разбудили горластые выкрики торговцев и торговок:
— Красная смородина! А кому тут малины? Свежая корюшка! Кому живых раков?
— А вот печенка! У кого кошки, берите для них печенку.
— Топленое молоко. Прямо из печи! С пенкой…
Кажется, и сам Довнар радовался, что на даче он избавлен от настырной опеки Милицера, угнетавшего его своим беспрекословным диктатом. Жизнь потекла лениво-размеренно, не возникало скандалов, не было и причин для обычных раздоров.
— Наверное, — говорила Ольга Палем, — во многом виноваты не мы, а люди, вмешивающиеся в нашу жизнь. Если бы мы, как Адам и Ева, были всегда одни — мы бы реже ссорились… Я проклинаю людей, мешающих мне любить тебя!
Здесь она наслаждалась летним теплом, в Озерках они катались на лодке, молодо дурачились. Мимо их дачи катили семейные ландо, проносились кавалькады хохочущих всадниц, дачные компании женщин издали казались похожими на букеты цветов. А кавалеры исподтишка оглядывали ладную фигуру Ольги Палем.
— Не смей оборачиваться, — шептал на нее Довнар. — Меня бесит, что на тебя смотрят посторонние мужчины… Ты слишком похорошела за эти дни! Тебя надо изуродовать, чтобы одним своим видом ты внушала физическое отвращение.
— Ревнуешь? Мне это нравится…
Каждое проявление чувства в Довнаре, даже его злоба от ревности, приносило ей сердечную радость. Женщину вдруг потянуло к детям, она стала щедрее в подаче милостыни старухам, кормила бездомных собак, вилявших хвостами от благодарности. В один из дней Довнар с утра уехал в Петербург. Ольга просила его не искать встреч с Милицером.
— Возвращайся скорее. Буду ждать…
Весь день провела в комнатах, слушая возгласы дачных поездов. У соседей плакал ребенок, где-то играли на рояле, надсадно скрипели детские качели, с дачных кухонь доносило бойкий перестук ножей в руках говорливых кухарок. Наконец протяжно заскрипела калитка, но явился… князь Туманов.
— Вы одни? — спросил Жорж. — Тем лучше. Давно хотел говорить с вами, хотя вряд ли имею на это моральное право.
— Я рада вам. Говорите…
Было видно, что князю нелегко начинать свою речь, он расстегнул верхнюю пуговицу на белоснежном мундире студента, попросил разрешения курить.
— Ольга Васильевна, я не раз становился свидетелем вашей жизни с Довнаром, и даже не в самые светлые моменты. Не хотелось бы выражать вам сочувствие, для вас, наверно, обидное, однако я вынужден это сделать. МНЕ ЖАЛЬ ВАС, — со значением произнес Туманов, — жаль еще и потому, что вы не заслуживаете той доли, какая вам выпала…
Это не удивило Ольгу Палем, а даже порадовало:
— Князь, вы случайно не влюблены ли в меня?
— Случайно я никогда не влюбляюсь. Прошу понять меня правильно. Я человек для вас посторонний, но даже мне, постороннему, иногда тяжко видеть, какому глумлению вы подвергаетесь. До каких же пор вы можете сносить унижение своего женского и человеческого достоинства?
Возникла долгая пауза, неловкая для обоих.
Если бы все это князь высказал в худшую пору ее жизни, она бы выпила его слова, как целебный яд, но сейчас, когда дачный сезон был доверху наполнен медоточивым и сладостным миролюбием, этот обличительный монолог князя казался ей попросту неуместным. Но требовалось как-то на него реагировать.
— Что же вы, князь, могли бы мне посоветовать?
Впрочем, его любой ответ был бы для нее безразличным.
— Довнар не достоин вашей любви, — ответил князь Туманов. — В нем отсутствует то благородство, какое необходимо каждому мужчине в его отношениях с женщиной. Довнар переступил все мыслимые и немыслимые границы дозволенного. В институте он изображает фата, имеющего на содержании покорную любовницу. Все ваши слова, что расточаются вами перед ним, известны и нам, его коллегам, словно выставленные Довнаром ради всеобщего осмеяния… Потому и говорю, что МНЕ ВАС ЖАЛЬ.
— Довнар хвастунишка, — сказала Ольга Палем, оправдывая его даже в его подлости. — Ему приятно хвастать моей любовью. Спасибо вам, Жорж, за то, что вы столь откровенны. Но мои отношения с Довнаром уже настолько запутаны, что мне самой трудно разобраться, кто из нас порой прав, а кто виноват…
Туманов долго застегивал пуговицу на мундире:
— Уважаю вас и ваше чувство, — сказал он, поднимаясь. — Для меня вы всегда останетесь святою женщиной. Но будь я на месте Довнара, я счел бы своим долгом завтра же предложить вам свои руку и сердце. Хотя, если говорить правду до конца, вам нужны рука и сердце более порядочного человека.
Только теперь Ольга Палем начала понимать, что князь Туманов завел этот рискованный разговор не ради досужих сплетен, а душевно переживая за ее обиды — и те, что отболели в ней заодно с синяками, и те, которые еще ожидают ее.
Уходящего князя она остановила вопросом:
— Мы разве никогда более не увидимся?
— Нет. Потому и говорю вам — прощайте…
Довнар вернулся, когда из комнаты еще не успел выветриться дым от папиросы, выкуренной князем Тумановым.
— Кто у тебя был? — закричал он неистово.
— Это столь важно?
— Да.
— Заходил штабс-капитан Филиппов с соседней дачи. Искал партнера для игры в карты.
— Я знаю его. Филиппов не курит.
— Но после него забежал на минутку князь Туманов…
— Вот оно что! Значит, пока меня нет дома, ты принимаешь любовников? Конечно, он красивый да еще стихоплет — тебе, паршивке, мало одного меня, еще и князя захотелось! Подыхай, подыхай, подыхай…
С этими словами Довнар обхватил ее шею, сдавив горло до хруста, и голова Ольги Палем моталась из стороны в сторону, разметывая копну волос, словно пышный бутон на тонком стебле. Из горла вырвался не крик, а лишь сдавленное хрипение:
— Ревнуешь, да? Значит, любишь, да?
— Дура! — выкрикнул Довнар, разведя на ее шее пальцы. — Сейчас же подавай на стол. Я голоден…
«Ревнует — любит», — решила она. О, жалкое ослепление многих женщин. Ведь и в русских деревнях молодые бабы, пока не исколотит их суженый, до тех пор не уверены в его любви.
Ольга Палем с блаженной улыбкой на лице подавала ужин своему любимому Сашеньке… Стоило ли Туманову говорить ей то, что она и без него знала? Знала даже больше Туманова.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Близилась осень, перед отъездом Довнар спросил:
— Надеюсь, ты довольна летним сезоном?
— Очень. И спасибо тебе, что с нами не было Милицера.
В августе они вернулись в город, сразу же перебрались с Кирочной ближе к Институту путей сообщения, для чего наняли квартиру в доме богача Ратькова-Рожнова возле Кокушкина моста на Екатерининском канале. Ванны в квартире не было, зато в вестибюле дома уже позванивал телефон, бывший новинкой того времени. Швейцар Игнатий Садовский помог молодым поднять вещи на пятый этаж, за что и получил рубль от Ольги Палем.
— Покорнейше благодарим, — отвечал он, сняв фуражку.
Подходящей служанки не нашлось, все заботы по дому взяла на себя Ольга Палем; по субботам их навещал «Вива», балбес растущий, так что приходилось варить, печь, жарить, а потом до ночи перемывать посуду.
— Глаза боятся, а руки делают, — удивлялась Ольга Палем. — Вот уж не думала, что стану такой хозяйкой… Скажи, я сегодня не пересолила котлеты?
— Ты у нас молодец, — нахваливал ее Довнар.
Все дни одна-одинешенька, поглядывая на часы в ожидании Довнара из института, женщина прихорашивала квартиру с таким же старанием, с каким птица свивает гнездо для любимых птенчиков. Ожидать помощи от Довнара не следовало — Ольга Палем сама неумело орудовала молотком, приколачивая гардины, она любовно развешивала оконные занавеси. Наверное, не без умысла на самом видном месте Ольга Палем укрепила рядышком на стене две фотографии — свою и довнаровскую.
На усталость она не жаловалась, ибо во всем, даже в скользящем отражении зеркального трюмо, купленного по дешевке, ей мерещилось нечто теплое и волнующее, приятно ее ласкающее если не счастьем, то хотя бы счастьицем обыденного бытия…
Ах, как ей хотелось быть хорошей женой!
В один из дней она сказала Довнару:
— Все хорошо, пока хорошо. Но если меня обманешь, то в статистике Петербурга одним самоубийством станет больше.
Это вызвало смех у Довнара:
— Застрелишься? Из своего «бульдога»? Ха-ха-ха… Не болтай, глупостей. Из него даже мухи не шлепнуть.
Ольга Палем выждала, когда он перестанет смеяться:
— Тебе весело? А ведь я даже не улыбнулась.
— Ладно, — миролюбиво утешил ее Довнар. — Знаю я тебе цену и знаю цену твоим словам… комедиантка! Не так-то легко покончить с собой, как тебе это кажется…
Был уже сентябрь, дождевые тучи низко пролетали над крышами столичных зданий. Ольга Палем иногда выходила на балкон, с высоты пятого этажа смотрела, как жутко темнеют воды канала, спешат внизу фигурки пешеходов, ей становилось страшно, и она торопливо закрывала балконную дверь.
Дурные предчувствия угнетали ее, она говорила:
— Как трудно жить, все время ожидая какой-то беды. И откуда она придет — неизвестно… может, от Милицера?
Милицер все эти дни не появлялся, и ей порою казалось, что она уже навсегда избавлена от его издевочек и намеков, больно ранящих ее женское самолюбие. Как наглядный, но молчаливый укор Довнару Ольга Палем выставила поверх комода фарфоровую безделку, изображавшую французскую маркизу, которой не так давно Милицер с наслаждением отломал правую руку…
Долгий-долгий звонок с лестницы — вот он и появился!
— Вас только и ждали, — зло проворчала она.
— Сашки нет? — спросил Милицер, следуя в комнаты, даже не снимая галоши. — Впрочем, он мне и не нужен… Ольга Васильевна, — выговорил он, садясь за стол прямо в шинели студента; а фуражкой, мокрой от дождя, Милицер накрыл красивую вазу с натюрмортом из фруктов, — может быть, вы объясните, что заставило вас сделать подлейший донос на меня в институте?
Ольга Палем ярко вспыхнула — от смущения и гнева.
Да, перед самым отъездом на дачу в Шувалове она действительно повидалась с инспектором Кухарским, умоляя его оградить Довнара от жестокой опеки Милицера. Может, именно по этой причине злодей и не появлялся на даче в Шувалове…
— Я заявила инспектору, что ваше влияние на Сашу делается невыносимым. Если вы щирый варшавянин, то нельзя же требовать от Саши, чтобы он разговаривал с вами обязательно на польском языке, которого Довнар не учил и не знает.
— Но, как шляхтич древнего рода Довнар-Запольских, он обязан знать язык своих предков, — внушительно заметил Милицер. — Однако вы, барыня или барышня, не знаю, как точнее определить ваше положение в этом доме, сумели внушить идиоту Кухарскому, будто я действую из иных побуждений, желая вызвать в Довнаре угасшую любовь к Речи Посполитой и возбудить в нем законное презрение к России… Именно так и понял вас инспектор Кухарский! Всего доброго. Не смею более задерживать столь почтенную даму, щеки которой пылают огнем, словно заранее предвкушают презрение моих пощечин…
И, наследив галошами, он удалился, треснув входной дверью с такой силой, что звякнул колокольчик звонка.
— С-с-сволочь! — сказала Ольга, когда он исчез. Вечером в тот же день швейцар Игнатий Садовский с поклоном вручил Довнару телеграмму от матери.
— Ну вот, — обрадовался Довнар, — надо срочно готовить для нее комнату. Займись этим сама, чтобы мамочка осталась довольна. Покажи себя с самой лучшей стороны.
Ольга Палем обещала сделать все, чтобы Александре Михайловне понравилось. В день приезда будущей свекрови она часто посматривала на часы, чтобы не опоздать на вокзал:
— Ты проверил, когда приходит одесский поезд? Хорошо бы заранее заказать пролетку, чтобы встретить мамочку.
— Не беспокойся, — ответил Довнар. — Я просил Милицера встретить мамулю на вокзале, он и подвезет ее к дому.
Ольга Палем, ничего не сказав, мучительно и долго взирала на обезображенную статуэтку нарядной маркизы.
— Умнее ты ничего не мог придумать, — произнесла она после молчания. — Тебе, наверное, нравится, когда меня оскорбляют. Подозреваю, как вам весело, когда вы обсуждаете меня даже в тех случаях моей жизни, которые вряд ли позволительны для всеобщего обсуждения…
— Слушай! — возмутился Довнар, вскакивая. — Не начинай скандала хотя бы сейчас, в день приезда моей мамочки.
— Ладно. Я молчу.
11. ПРИЕЗД И РАЗЪЕЗД
Александра Михайловна нагрянула не с пустыми руками, именуя Ольгу «душечкой» и «голубушкой», она подарила ей связку бубликов, которые в Одессе назывались «семитати».
— Я знаю, как вы их обожаете! — сказала она.
Повторялась давняя история с птифурами от Довнара.
Никогда Ольга Палем не заявляла, что любит бублики, и, надо полагать, Александра Михайловна прихватила для нее из Одессы то, что подешевле, лишь бы отдариться. Кажется, мадам Шмидт, бывшая Довнар, приехала основательно и надолго, во всяком случае об отъезде она даже не заикалась.
Ольга Палем старалась быть услужливой «невесткой», готовая подать, взять, принести, отнести, подогреть, вытереть, взбить подушки — и эту заботу о себе Александра Михайловна воспринимала как должное. Критически оценивая обстановку квартиры, заглядывала даже в углы, внимательно прочитывая каждую бумажку, она иногда спрашивала — сколько платили за трюмо, во сколько обошлись эти гардины, откуда взялись такие красивые рамочки для портретов?
— Я бы тоже хотела такие. Но почему вы себя и моего Сашеньку повесили в пандан над кроватью, будто вы муж и жена? Лично я не усматриваю в этом ничего предосудительного, висите на здоровье, бог с вами. Но… что скажут люди?
«Ах, люди! Опять эти люди…»
Ольга Палем смолчала. Незаметно прошло два дня, ничем не примечательных. Виктор Довнар даже очень понравился матери своим цветущим видом несокрушимого балбеса, готового питаться в любое время суток, только позовите его. За румяные щеки сына и за его вздутый живот, туго выпиравший из-под ремня с гимназической бляхой, Александра Михайловна горячо благодарила Ольгу Палем. Но тут же и упрекнула ее:
— Вы, милочка, не исполнили главное, о чем я вас просила, — сказала она. — Вы так и не устроили Вивочку в Морской корпус, дабы исполнилась мечта его расцветающей жизни.
— Ах! — отвечала Ольга Палем, суетливо раскладывая возле тарелок ложки и вилки, уже вконец замотанная по хозяйству. — Но где я возьму такого адмирала, который бы мог поручиться за вашего Вивочку? Спасибо господину Ивановскому, что еще не оторвал ему ушей в своем пансионе.
— Вива, тебе уже рвали уши? — строго спросила мать.
— Нет. Зато били линейкой. По куполу моего храма.
— Безобразие… Так можно повредить мыслительные центры в голове будущего Нельсона. Я сама поговорю с Ивановским, чтобы драл своих детей, а моего Вивочку оставил в покое…
На третий день пребывания Александры Михайловны в гостях все-то и началось. Как водится, скандалы не имеют планов, заранее составленных в тиши научных кабинетов, чтобы поступки людей развивались точно по графику. Скандалы возникают обычно из ерунды, а далее все зависит от силы талантов и степени эмоциональной подготовки участников скандала.
Вот он — блаженный послеобеденный полдень.
— Спасибо! — Мадам Шмидт взяла из сыновьего портсигара папиросу и закурила, выпуская дым над обеденным столом. — Я вот смотрю на тебя, — вдруг сказала она сыну, — и чувствую, что житье без материнской заботы не пошло тебе на пользу…
— Чай или кофе? — спросила ее Ольга Палем.
— Чай. Мне совсем не нравится твой угнетенный вид. Голубушка, вы плохо следите за моим сокровищем. Разве не видите, какой он бледный? Сашенька, мне тебя жалко… Может, возьмешь академический отпуск и отдохнешь с мамулей в Одессе?
Ольга Палем мигом взъерошилась, занимая боевую позицию, чтобы сразу и геройски отразить все атаки противника.
— Это почему же он вызывает жалость? — заговорила она, внятно пристукивая зубами, один из которых был украшен золотою коронкой. — Это почему же вы находите своего сына измученным? Только затем, чтобы увезти его подальше от меня?
При этом она вспомнила, что «замученный» однажды так измолотил ее плашмя студенческой шпагой, что от ножен отлетели даже металлические ободья.
— На что иное — так у него сил хватает! — сказала она (чтобы ее понял один Довнар, а матери знать того не надобно).
Довнар все понял, сказав вразумительно:
— Да перестаньте, что вы ни с того, ни с сего сцепились? И в Одессу я не поеду, ибо, кажется, нашел свое место в жизни и мне очень нравятся лекции в моем институте.
— Вива, выйди на кухню, — велела мать, картинно отставив руку с дымящейся папиросой. Вива удалился. Разговор становился серьезным. — Не мое дело вмешиваться в ваши дела, — продолжала мадам Шмидт. — Но это обширное зеркало в спальне… этот любовный пандан над постелью… все это, замеченное мною, побуждает меня спросить вас, дети мои: не слишком ли вы увлекаетесь в ущерб своему здоровью? Об Ольге Васильевне я уж и не говорю. Для женщин это, может быть, даже полезно, а вот тебе, Саша…
— Ах вот как! — сразу рассвирепела Ольга Палем.
Тарелка в ее руках оказалась вроде бумеранга, запущенная в горизонтальной плоскости над головами будущих родственников, которые, не будь дураками, пригнули головы.
— Значит, — сказала она, ставя свои вопросы, — я такая, что обо мне даже и говорить не следует? Мне это, значит, полезно, а ему это, значит, вредно? Так не думайте, что я вам отдам Сашку — он мой… Я вытянула его своими руками! Это не вы, мадам Шмидт, а именно я сделала из него человека…
Довнар вскочил со стула, встряхивая ее за плечи:
— Прежде подумай, о чем ты говоришь!
— Подумай сам, я еще не все сказала… И не делай из себя святого. Пусть твоя мамулечка знает, что ты живешь мною, как червяк, забравшийся в яблоко… Пусть знают все, как ты выклянчивал деньги у Кандинского, что ты… ты… ты…
Довнар уже захлопнул ей рот ладонью.
— С кем ты связался? — спросила мамочка. — Не дай бог, если нас услышат сейчас посторонние люди…
Из кухни вышел хорошо пообедавший Вивочка.
— Теперь мне можно? — дельно вопросил он.
— Ступай назад. Здесь разговор не для тебя…
Ольга Палем извернулась и, схватив с комода однорукую «маркизу», стала лупцевать ею Довнара — куда попало.
— Никуда не отпущу… Останешься со мною! Вот тебе Одесса, вот тебе пандан, вот тебе…
— Сумасшедшая! — крикнул Довнар, вырвав фарфоровую статуэтку, и она тут же разлетелась в вихре осколков, вдребезги разбитая об голову сожительницы.
Палем кинулась к балконной двери — с явным намерением броситься вниз головой на панель, но Довнар удержал ее, а мадам Шмидт тут же послала Вивочку за дворником.
— Какой дворник? — взывал Довнар, обхватил Ольгу, которая билась в его руках. — В таких случаях зовут карету из дома «Всех скорбящих», где живут все рехнувшиеся…
— Господи, куда я попала? — заломила руки его мать.
— Она еще спрашивает, куда попала! — выкрикивала Ольга Палем, рвущаяся из рук Довнара. — Приехала и стала наводить здесь порядки… теперь я виновата, что ее сыночек стал бледным… это я, одна виновата, а он… Пусссти!
— Это выше моих сил, — сказала Александра Михайловна, под каблуками которой с визгом крошились осколки от разбитой «маркизы». — Говорили мне умные люди, чтобы обратила свое внимание… чтобы гнать эту хамку… чтобы…
— Ведьма! — зарыдала Ольга Палем, падая в обморок.
Довнар швырнул ее на диван, словно тряпку.
— Каждый раз этим и заканчивается, — сказал он матери. — Сил моих больше не хватает. Умные люди и мне говорили…
Ольга Палем рывком села на диване:
— Можно подумать, одни только вы знаете умных людей! Мне тоже говорили, чтобы я не связывалась с вами, крохоборы несчастные… что мать, что сын — одна вам цена!
— Она тебя погубит, сын мой, — торжественно возвестила мать.
Вслед за Вивой в квартиру явился швейцар Садовский:
— Дворника нет. Я за него. Что угодно?
— Игнат, пошлите за полицией, — распорядилась мадам Шмидт, указывая на Ольгу Палем. — Вот эта женщина, которой я отныне не знаю, сошла с ума! Пусть околоточный составит протокол по всем правилам о произведении бесчинства в чужом доме…
Ольга Палем протянула руки к Садовскому:
— Дядя Игнатий, скажи… ты слышал, что говорят? Я уже стала чужой в своем же доме. Хоть ты вразуми их…
Садовский, кажется, был умнее всех.
— Дамы и господа, — сказал он, поправив на груди медаль за «сидение на Шипке», — не вижу причин трепать нервы еще и полиции. А ежели у Ольги Васильевны нервы шалят, так околоточный их не вылечит. Тут врача бы…
— Я сам врач, — хмуро огрызнулся Довнар.
— Тогда мое дело сторона. Разбирайтесь сами. Пойду…
— Прощайте все! — с небывалой гордостью заявила мать. — Я ухожу, чтобы не видеть позора своего любимого сына.
— Мама, ты куда? — встрепенулся Довнар.
— Неужели ты думаешь, что после всего, что я здесь наблюдала, я еще смогу оставаться в этом доме? Ни минуты.
Она быстро сложила в саквояж свои вещички, сказав сыну, что сыщет приют в номерах на ближней Подьяческой улице. Ольга Палем, словно вспомнив самое главное, вдруг схватила связку одесских бубликов и запустила их вслед уходящей.
— Ведьма! Грызи сама свои баранки…
Связка распалась, и бублики весело закружились по комнате. Довнар велел Виве принести веник и подмести. Когда вечером Садовский навестил их, чтобы подать самовар, они еще ссорились. Довнар угрожал, что уйдет к матери на Подьяческую, Ольга Палем не отпускала его.
Время было близко к полуночи, когда, возвращаясь в пансион, Виктор Довнар сообщил швейцару Садовскому:
— Дядя Игнат, они там выдохлись, теперь спать будут.
— У молодых всегда так, — мудро отвечал старый солдат, — тока бы до постели добраться, а там всем дракам конец. Иди, малец, с богом. Ну вас всех подальше!
Черные тучи низко пролетали над царственным городом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Продолжающиеся бои шли с переменным успехом, но мне думается, что Ольга Палем наверняка бы одержала победу, если бы…
Если бы не болезнь Довнара, скрутившая его сразу же после скандала. Палем вызвала домашнего врача Освальда Морица, который определил брюшной тиф, настаивая на немедленном помещении больного в Александровскую больницу на Фонтанке.
Ольга Палем взмолилась перед Морицем:
— Доктор, миленький, родненький, только не больница… Обещаю не спать день и ночь, как хорошая сиделка, сделаю все, что скажете… Только войдите в мое положение!
Положение складывалось теперь не в ее пользу, и, если Довнар окажется в больнице, она потеряет контроль над ним, а делить свои женские права на него с правами материнскими — это будет нелегко.
— У вас в квартире, — отвечал Мориц, — нет даже ванны, а больница оборудована всеми удобствами… не спорьте.
Мориц считал ее женою Довнара, и потому, когда Палем выговорила для себя свидания с ним в любое время, доктор охотно дал согласие. Тут же была вызвана по телефону больничная карета, Ольга Палем сама и отвезла Довнара на Фонтанку, где громоздилось помпезное здание больницы с торжественным парадным подъездом, украшенным античными колоннами.
Была уже ночь. Хлынул дождь. Ольга Палем пешком возвращалась домой, всю дорогу плача… ее даже шатало!
— Боженька, ну почему я такая несчастная? Боженька, ты всем помогаешь, так помоги ты и мне, боженька…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мадам Шмидт, бодрая и здоровая, совсем не собиралась «просить пардону». В меблированных номерах на Подьяческой, чересчур словоохотливая, она сразу же оказалась в центре внимания людей, готовых выслушать все, что интересно знать посторонним или, вернее, как раз то, что им знать совсем не нужно. Согласитесь, что на умную лекцию о движении небесных светил людей иногда калачом не заманишь, но их соберется несметная толпа, если станут рассказывать домашние сплетни.
Дама упивалась всеобщим и заслуженным вниманием:
— На старости лет, стыдно сказать, возникло невыносимое положение. Я приехала. Тратилась. Ничего не жалела. Привезла кучу подарков. Разве я была плохая мать? А теперь? Вы только посмотрите на меня, дамы и господа… ужасно!
Постояльцы номеров, все эти заезжие из провинции старухи, какие-то затюканные инвалиды, наехавшие в столицу хлопотать о пенсии, сердобольные вдовы — все слушали ее с почтением.
— Приезжаю. Смотрю. Вот такая… выше меня! Ноги длиннющие, словно оглобли. Руки еще длиннее, загребущие. Пришла и не уходит. Подчинила сына себе. Явная аферистка. Нос у нее — вот такой, как у попугая. И выгнала меня… на улицу.
Мадам Шмидт возрыдала.
Аудитория зашелестела, зашепталась, заохала.
— Страдалица. Сочувствуем. А сын-то? Нешто дозволил?
Мадам Шмидт рыдать временно прекратила.
— Сын, благороднейший человек, сразу заболел от горя, не в силах сносить поругание матери, и я с колоссальным трудом устроила его в лучшую клинику столицы, а государь император, узнав о моем несчастье, прислал своего лейб-медика… весь в орденах. Вот отсюда и ниже. Так и сверкает! Не удивляйтесь, дамы и господа. Император помнит об услугах моих мужей, имевших высокое государственное предназначение.
— Ахти, господи! Пронеси и помилуй нас, царица небесная…
Концерт был окончен. Публика разбредалась по своим убогим закутам, горячо обсуждая услышанное, говорливая, словно заядлые театралы после эффектного спектакля, в финале которого ни одного из героев не остается в живых, все полегли замертво, пронзив свои сердца бутафорскими кинжалами.
— Страсти-то какие, Исусе праведный, — шелестели старухи. — До чего же мы дожили, ежели родную мать, не кого-нибудь, а свою мать из дому гонят. А энта молодуха-то, гляди, какая проворная… так и хватат, так и хватат!
— Нонеча совести-то у молодых совсем не стало. Я по ночам кой годик не сплю. Все думаю. А ну как и мой балбес приволокет этакую орясину, так у них потом кипяточку не допросишься…
Здесь, в номерах, Александру Михайловну отыскал Милицер, пылающий желанием сурового отмщения за то, что наболтала Ольга Палем инспектору института. Он сразу понял, что перед ним обыкновенная дура, но эта дура, как и положено всем дурам на свете, имеет немыслимые претензии, а потому он ей доказывал:
— Вы же мудрейшая из женщин… право, вы ошеломили меня. Теперь и сами видите, в чем корень зла. Понимаю, вы благородны под стать вашему классическому облику. Кстати, ваши предки внесены ли в «Готский Альманах»? Нет? Очень жаль. Советую похлопотать… Однако, — продолжал Милицер, — с насилием и коварством, достойным пера самого Шекспира, надобно сражаться методами Шиллера.
— Верно, ах как верно! — кивала мадам Шмидт.
— Я, — заявил Милицер, — помогу вам избавить своего лучшего друга и вашего сына от алчных притязаний этой нахалки…
Тем временем, отвезя Довнара в больницу, Ольга Палем с утра пораньше сама появилась в больнице. Перед швейцаром, ссылаясь на разрешение доктора О. Э. Морица, она выдавала себя женою, которой дозволено видеть мужа в любое время. Довнар, кстати, не противился этим свиданиям, напротив, даже радовался им, как и каждый больной, когда его навещают.
Но однажды случилось то, чего и следовало ожидать: у постели больного она застала его мать. Слово за слово, сначала шепотом, потом все громче и, наконец, криками две женщины обменялись мнениями о том, что каждая о другой думает.
— Аферистка, на такой даже пробы негде ставить… хоть бы людей постыдилась! — кричала мать Довнара, нарочно привлекая внимание больных в громадной и гулкой палате.
Даже в хронически больных пробудился прежний вкус к жизни. Они стали напрягаться, садясь на кроватях, явно довольные, что больничная скука разрешается бесплатным зрелищем. Отовсюду слышались реплики — кто за мать, кто за жену:
— Нельзя же так, тут надо по совести.
— Молодую-то нешто не жалко?
— А старую кто пожалеет?
— Верно, Федя. Она же мать. У ней, гляди, сердце.
— А у молодухи-то рази нет сердца?
— У ней не сердце, а совсем другое… вот и взбесилась!
Кончилось все ужасно. Сбежались врачи, сестры милосердия, дюжие дядьки-санитары. Довнар кричал, чтобы убрали от него «вот эту женщину», способную любого, даже здорового, загнать в гроб. При обмене мнениями выяснилось, что Ольга Палем не жена ему, а просто так, вроде хорошей знакомой. Госпожа Шмидт откуда-то вдруг извлекла икону и, целуя ее, требовала не пускать «аферистку» в больницу, и Ольге Палем тут же было отказано в дальнейших посещениях больного.
— Идите и не спорьте, — выталкивали ее санитары из палаты. — Швейцара мы предупредили, чтобы вас более не пускал…
Дни сочились, как свежие раны, — тоской, одиночеством, суевериями, предчувствиями. Именно сейчас ей хотелось бы повидать князя Туманова, о котором думалось с какой-то надеждой, но искать его не решилась. Однажды она сумела как-то прорваться к Довнару, но тут в палате возник шум:
— Молодуха! Во проныра какая, гляди, пробралась!
Ее выставили под локотки. Каждый день она с утра торчала в конторе больницы, всем служащим там надоела, постоянно выведывая о здоровье Довнара, а перед грозным швейцаром унижалась, совала ему рубли, молила пропустить ее:
— Я на минутку! Только погляжу на него.
— И рад бы, — отвечал старик, — да начальство не с вас, а с меня спросит. А мне, родимая, до пенсии уже недалече. Чего же это из-ва вас мне пенсиона лишаться? Вы што ли дряхлость мою обеспечите?
Наконец настал самый черный день — в конторе ей было сказано, чтобы она более не ходила сюда напрасно:
— Больной по фамилии Довнар-Запольский вчера вечером выписан из больницы и сдан на руки своему товарищу по фамилии Милицер, который сразу и отвез его домой.
Но домой Довнар не вернулся, значит, Милицер отвез его на Подьяческую — под материнское крылышко.
Что тут стало с Ольгой Палем! Она ощутила себя загнанной в безвыходный тупик, из которого ей не выбраться.
Все-все вокруг — теперь уже все! — хотят ей только одного зла, а кто подарит хоть крупицу добра?
— Люди, да что ж вы делаете со мной… люди?
Шатаясь и плача, она ходила по улицам, не видя людей.
12. «ТУТ НИЧЕМ ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ»
Секретарь канцелярии. Форменный сюртук. Сверкание пенсне и пуговиц. Доложено от порога с подобающим поклоном:
— Павел Викентьевич, там пришла молодая дама, называющая себя женою студента Довнара. Соблаговолите принять?
— Да, пусть войдет…
Инспектор Института инженеров путей сообщения П. В. Кухарский — чин тайного советника! — заранее вышел из-за стола:
— Прошу, мадам. Что вас привело ко мне?
— Горе, — еле слышно отвечала Ольга Палем…
На этот раз она ничего не выдумывала, не желая предстать в лучшем свете, не притворялась и «светской дамой», а явилась перед Кухарским просто страдающей женщиной, для которой сейчас все трын-трава, важно сберечь даже такую любовь, которая виснет на ней тяжким бременем. Тайный советник слушал ее не перебивая, только время от времени побрякивал бронзовой крышкой громадной старомодной чернильницы.
Наконец она закончила. Кухарский спросил:
— И долго продолжались такие ваши отношения?
— Скоро уже четыре года.
— И у вас хватало терпения?
— Но я же его люблю… даже сейчас.
Павел Викентьевич, поразмыслив, соизволил заметить, что после такого срока совместного проживания мужчина должен не покидать женщину, а, наоборот, увлекать ее под венец.
— Того требует мораль в моем старомодном ее понимании, иначе это… безнравственно. Корпус инженеров путей сообщения — почти офицерская организация, и каждый студент должен дорожить честью своего мундира. Дело не в том, можно или нельзя студенту жениться, а в том, что Довнар обязан к этому.
Кухарский проводил Ольгу Палем до дверей кабинета:
— Обо всем услышанном от вас я доложу генералу Герсеванову, и следует решить, достоин ли Довнар звания студента нашего прославленного на весь мир института…
Пока хлопотала Ольга Палем, не оставалась без хлопот и Александра Михайловна Шмидт. Среди обитателей меблированных номеров, охотно выслушивавших ее стенания, нашлись старики-чинуши еще старой дореформенной России, и они в один голос убеждали ее, что это дело можно «провернуть»:
— Ежели подать куда надо прошеньице со слезой да чтобы еще «подмазать». И не расписывайте много, ибо начальство у нас читать не любит. Пишите кратко, но веско!
Краткость — сестра таланта, но талант госпожи Шмидт разогнал ее фантазию на четыре страницы доноса, который, будучи адресован на имя санкт-петербургского градоначальника, обретал скромное название «просьбы» (в старину такие «просьбы» назывались еще точнее — «слезницами»).
В доносе очень неприглядно была обрисована фигура «некоей особы Палем», которая покушается на честь (и на кошелек) ее сына. Кажется, доношение было подано в канцелярию градоначальства еще до выхода Довнара из больницы, а знаки препинания в тексте были со знанием дела проставлены Милицером, который заслужил одобрение Александры Михайловны:
— Вы правильно расставили восклицательные знаки, чтобы градоначальник понял, с кем имеет дело. А раньше вы очень тонко подметили: она нас Шекспиром, а мы ее Шиллером…
Градоначальником столицы был в ту пору генерал-майор В. В. фон Валь, о котором я не могу сказать ни хорошего, ни дурного. Его канцелярия работала четко, без проволочек, и потому «слезница» госпожи Шмидт сразу обрела законное движение по административному кругу, похожему на известный «круг царя Соломона». Быстро навели оправки, а сама бумага вскоре же оказалась на столе его превосходительства.
— Что за бред! — фыркнул Виктор Вильгельмович. — Сын подательницы уже совершеннолетний, сам писать умеет, но от него ходатайства не поступало. Из сего следует, что этот фрукт вполне доволен своей сожительницей. Так чего им надо?
Делопроизводитель счел своим долгом согласиться:
— Какой резолюционс видеть вам бы желательно?
Фон Валь уже вчитывался в другие бумаги, ворча:
— Они там сами кашу заварили, пусть сами и расхлебывают, а у меня своих дел по горло — кошку некогда высечь…
Александра Михайловна получила доношение обратно, украшенное такой резолюцией: «ТУТ НИЧЕМ ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ».
— Как это нельзя, если можно? — возмутилась она. — Что за власть такая пошла, если отказываются помочь мне, честной женщине? Помню, в годы моей безмятежной юности… Разве такие бывали резолюции? Вспомнишь, так душа замирает…
Ее донос был отправлен 8 октября 1893 года, а через месяц был сооружен новый, более убедительный. Теперь, как того и желало градоначальство, бумага была составлена от имени самого «потерпевшего». Довнар писал, что упомянутая ранее особа О. В. Палем въехала в его квартиру, пользуется чужим имуществом, совместное проживание с этой особой уже невыносимо, почему он, проситель, и просит власть имущих оградить его от последующих притязаний Палем, чтобы означенную особу выселили не только из квартиры, но и вообще удалили ее из столицы, ибо ее нравственность внушает сильные подозрения.
— Этот молодой человек одним выстрелом желает убить двух зайцев. Для начала запросите одесское полицейское управление, — распорядился фон Валь, — подождем, что оно ответит?
Одесса отозвалась о нравственности госпожи Палем благоприятно, никаких грехов ее не указывая, и таким образом вопрос о выдворении из Петербурга отпал сам по себе. Но зато оставался животрепещущим вопрос о выселении из квартиры.
Виктор Вильгельмович расправил густую бороду:
— Ну что тут делать? Придется выселять, паче того квартира записана на имя Довнара, посему здесь потребуется и раздел имущества. Этим и прошу озаботиться канцелярию…
Рано утром Довнар появился в квартире, но пришел не один — его сопровождал Болеслав Туцевич, пристав полиции в чине подполковника. Довнар выглядел наигранно веселым.
— Здравствуй, — сказал он Ольге Палем, — сейчас предстоят неприятные минуты раздела имущества… Ты готова?
— После чего, — добавил Туцевич, — я буду вынужден по долгу службы проследить за вашим, мадам, выселением…
Это был удар, скрутивший Ольгу Палем в отчаянии.
Она заметалась, даже не понимая до конца, что происходит. Туцевич, человек деликатный, только покашливал, когда начинались споры — кому что принадлежит. По его словам, Ольга Палем сама «помогала Довнару укладывать вещи, то плакала, то говорила ему дерзости и укоряла, взваливая всю вину на его мать. Довнар при этом держал себя очень серьезно».
Оправдывая себя, он иногда шептал Туцевичу:
— Видите, как она цепляется за все мое? Мало ей, что разорила меня, я бывал вынужден тратить на ее прихоти по пять тысяч в год… ни стыда, ни совести! Хамка…
Это была ложь: как раз в это время личный капитал Довнара составлял сумму в 14 000 рублей (и были еще банковские чеки на несколько тысяч), а Ольга Палем, получая пособие от Кандинского, сама расплачивалась за квартиру, за услуги дворников и служанок. Но Туцевич этого, конечно, не знал и просил только поторопиться с разделом. Довнар уступал Ольге вещи, если на них имелась ее вышивка, цеплялся за шкаф и комоды, кричал, что трюмо никогда не отдаст:
— Это я платил! Одеяло тоже не трогай… Я тебе не солдат, чтобы накрываться шинелькой.
Свое барахло он сваливал в комнатах, а то, что доставалось ей, он вышвыривал на кухню. Туцевич за время службы в полиции всяких пакостей насмотрелся, но все-таки, улучив момент, он счел нужным выговорить Довнару:
— С женщиной, сударь, так не поступают.
— Так не жена же она мне!
— Тем более. Если любовницу бросают, так ее бросают со всей хурдой вместе, а не смотрят на бельевые отметки. Впрочем, извините. Не мое это дело. Я ведь только при исполнении служебного долга. Но вы пожалейте ее.
— Войдите и вы в мое дикое положение, — горячо нашептывал Довнар на ухо Туцевичу. — Как она, жалкая мещанка, посмела надеяться стать моей женой, женой шляхтича герба «Побаг»? Конечно, по-человечески ее можно пожалеть, но…
— Но она же вас любит, я по глазам вижу — любит.
— Да таких у нее, как я, знаете, сколько перебывало? По глазам вы не можете судить, что она бескорыстна.
— Однако, сударь, корысти с ее стороны я не заметил. Впрочем, — повторил Тущевич, — лирика — не моя профессия. Я лишь пристав полиции, а вы разбирайтесь сами, кому тарелка, кому вилка, кому спинка от стула, а кому ножка от кресла…
Когда имущество доделили, Довнар закрыл свои комнаты на ключ, а ключ от кухни он вручил Ольге Палем.
— Олечка, — разрешил ей Довнар, — ты в любой момент можешь забрать свои вещи, ибо кухня имеет отдельный выход на черную лестницу. Теперь я хотел бы с тобой попрощаться…
Вход в квартиру с парадной лестницы был для нее закрыт. Отныне она могла пользоваться лишь черной лестницей. Она сидела на табуретке в прихожей, даже не плача, слепо глядя перед собой, а Туцевич не знал, где найти нужные слова:
— Мадам, время позднее, жена сей день пироги пекла, давно ждет меня. Вы уж извините, но долг службы повелевает мне проследить за вашим удалением из этой квартиры…
Ольга Палем грустно улыбнулась Довнару:
— Спасибо за все… за все, что ты сделал. Вот была бы у тебя собака, интересно, выгнал бы ты ее так, как изгоняешь меня? А куда я денусь теперь? Ведь даже с проституткой не поступают столь безжалостно под утро, как ты со мною к ночи… Что же мне теперь? Самой сделаться проституткой?
— Слышите? — обратился Довнар к приставу. — Она еще смеет упрекать меня. Разорила, а теперь упрекает. Если вы полиция, так принудите ее удалиться.
— Да, я полиция, — не отрицал Туцевич, — но я еще никогда не бывал вышибалой. Госпожа Палем и сама уйдет…
Она спустилась по чистой парадной лестнице, освещенной газовыми рожками, в вестибюле швейцар Садовский читал газету.
— Дядя Игнатий, пожалей хоть ты меня…
— Бедная, кудыть же ты теперича?
— А не знаю! Пойду на Невский и первому попавшемуся… хоть за рубль, хоть за полтинник. Только б не это!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сказанного вполне достаточно, чтобы расставить верные ударения. Согласен, что раздел имущества всегда гадостен. Добавлю от себя, что однажды сам наблюдал нечто подобное. Люди, которых я считал интеллигентами, вдруг превращались в алчных зверей, хватая то одно, то другое, — и в этот момент я не узнавал их. Где же их прежние речи о человеческом достоинстве и душевном благородстве? В моем представлении любая мебель — это все-таки доски, а любая одежда — это все-таки тряпки.
На мой взгляд, в нашем прискорбном и материальном мире существует одно лишь мерило ценности — это книги!
Но Ольга Палем и Александр Довнар не книги делили…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Не надо плакать, — сказал инспектор Кухарский. — Я вас провожу к Михаилу Николаевичу, директору нашего института, он добрый человек и поймет вас… Прошу, мадам!
Директор Института инженеров путей сообщения Михаил Николаевич Герсеванов (1830–1907) был широко известен в научном мире. Соратник еще графа Тотлебена, человек образованный, автор многих научных трудов, он строил железные дороги в горах Кавказа, устраивал коммерческие порты в Черноморье, имея немалые заслуги перед отечеством. Сейчас Россия тянула рельсы в таежную синеву Приамурья, чтобы выйти к причалам Владивостока, и страна постоянно нуждалась в романтиках-путейцах, которых поставлял его институт. Герсеванов внимательно выслушал Ольгу Палем: Довнар всегда выдавал ее за жену, она получала письма на имя «Ольги Довнар», а теперь… теперь у нее ничего не осталось.
— Я не вправе судить о нравственности вашего союза, — отвечал Герсеванов, — но меня волнует нравственность господина Довнара: имеет ли он право быть терпим в кругу студентов, носящих мундир и шпагу нашего путейского ведомства, которое никак не является последним в империи?..
Ближайший совет профессуры Герсеванов открыл таким же вопросом. Ученые мужи, ординарные и экстраординарные, добряки по натуре, в законах не разбирались, они лишь толковали об извечной борьбе добра и зла, но их наивные рассуждения ничего не значили на штатских весах официального правопорядка.
— Что за молодежь пошла ныне! — огорчались премудрые старцы, начинавшие карьеру еще при графе Клейнмихеле, хорошо помнившие даже графа Аракчеева. — Ежели четыре года блудил, так надо этого вертопраха обуздать крепкой подпиской, чтобы покрыл грех законным браком. Разве можно, обнадежив девицу посулами жениться, вдруг ни с того ни с сего выбрасывать ее в подворотню?
— Девица-то из мещан, а Довнар — дворянин.
— Так и что с того? Мы все тут дворяне. Сколько известно таких браков, когда крестьянка или актриса становились женами знатных вельмож, бывая почитаемы в свете как добропорядочные матери и супруги. А тут какая-то мелюзга артачится так, будто его предки занесены в «Бархатную Книгу».
— Она, говорят, еврейка, вот в чем дело!
— Велика важность, — посмеялись ученые старцы. — Наш министр Витте, не секрет, выложил сорок тысяч господину Лисаневичу, чтобы тот уступил ему жену, тоже еврейку, и живут же ведь — не дерутся, не стонут…
Да, эмоций хватало, а толку не было, одни разговоры. Герсеванов, сочувствуя Ольге Палем, тоже никак не мог проявить богатейших познаний в области юридических отношений.
— Милая моя, — пожалел он женщину, — мы тут больше мостоконструкциями да разведением стрелок заняты, а вам надобен юрист с головой. — Он вручил Палем свою визитную карточку. — С нею навестите моего сородича, присяжного поверенного Андреевского, пусть он выслушает вас…
Пожелав ей успеха, Герсеванов сказал, что Довнара надо сразу изъять из комплекта студентов, но тут сама Ольга Палем просила его не делать этого:
— Видит бог, он даже не виноват! Довнар слабовольный человек, потому и подпал под дурное влияние дурных людей.
— Все-таки поговорите с Андреевским. Сергей Аркадьевич умнейший человек, одна в нем беда — видит людей не такими, какие они есть, а такими, какими он хотел бы их видеть…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ольга Палем, как и этот Андреевский, тоже видела своего Довнара таким, каким хотела бы его видеть… Скорбная, начинала она свои хождения по мукам.
13. ПОДПИСКА В ЛЮБВИ
Андреевский, кому и сам бог велел вставать на защиту обиженных, защищать Ольгу Палем в ее деле не пожелал:
— Герсеванов ввел вас в заблуждение. Я занимаюсь убийствами, крупными аферами, спорами о наследствах, а сводить вас с каким-то студентом… извините, это — не моя стихия!
Защитником решил побыть сам Кухарский, горевший желанием делать добро, и это добро он делал в меру своих сил и возможностей. Он насмерть перепугал Довнара, перед которым потряс толстою пачкой писем, перевязанных розовой ленточкой.
— Не отпирайтесь! Это вы писали госпоже Палем, заклиная ее быть вашей женой. Конечно, я не читал их, но в этом меня заверила сама госпожа Палем, которая сейчас предстанет перед нами, и мы с вами разберемся. Присядьте…
Довнар так и присел. Будущее устрашало.
Кухарский был категоричен, словно прокурор-громовержец, пронзающий сердца подсудимых огненными перунами доказательств. Наверное, я так думаю, он был неплох на посту инспектора, но в запутанном случае Палем — Довнар полез не в свое дело.
— Пишите! — властно диктовал он Довнару, когда появилась Палем. — Сим обязуюсь не покидать госпожу О-Вэ Палем и жить с нею далее, ежели вышеозначенная не будет требовать насильственного брака и сама таковому обещанию подчиняется…
Большей ахинеи трудно было придумать, но Довнар такую подписку дал, подписалась под нею и сама Ольга Васильевна.
— Желаю вам счастья, дети мои! — отпустил их Кухарский.
С таким вот «рецептом» вольные, если не любовью, так обоюдной неприязнью, удалились для совместного проживания.
— Что теперь будем делать? — робко спросил Довнар, когда они, потрясенные моментальным «правосудием» Кухарского, вышли из института на широкий простор Забалканского проспекта.
Перемирие, заключенное по указу начальства, кажется, перепугало не только Довнара, но обескуражило и Ольгу Палем. Мимо них катились каретки, проходили люди, ломовые битюги налегали в хомуты, волоча от садов Пулкова гигантские телеги с фруктами, а они все думали и ничего не могли придумать.
Наконец Довнар предложил удобный для него вариант:
— Можно жить совместно, но при этом раздельно. Для этого лучше иметь не квартиру, а две отдельные комнаты, но с одним коридором, чтобы могли навещать друг друга. Тогда и придраться никто не сможет…
Ольга Палем была согласна на все. Иногда я встаю в тупик, не понимая ее: как она, женщина, не догадывалась, что все давно разрушено, отчего же она столь яростно держалась за Довнара, который не стоил ее большого чувства? Целый день они блуждали по городу, отыскивая отдельные комнаты. Ольга Палем уже не просила, чтобы Довнар женился на ней.
— Саша, — тихо молила она, — только не оставляй меня одну. Я ведь ноги тебе мыть стану… сама теперь не знаю, на что я готова. До чего ты меня довел? Я застрелюсь, правда.
— Да брось, — отмахивался Довнар. — А впрочем, если тебе этого так уж хочется, то можешь стреляться…
Наконец они отыскали удобные меблированные комнаты, которые содержал на Фонтанке господин Сыросек, сдававший их внаем приезжим или бездомным. Довнар и Палем сняли у него две паршивые комнатенки, соединенные промежуточной дверью, но имевшие выход в общий коридор. Каждый за свое жилье расплачивался отдельно. Сыросек, человек к людям внимательный, ибо служил в полиции, сразу заметил, что эта молодая пара не муж и жена, а просто двое, в любую минуту готовые взорваться в грандиозном скандале. Сыросек сам видел, что Довнар походя больно щиплет Палем через платье.
— Ой! — невольно вскрикивала она, морщась, и потом что-то шептала про себя, очевидно, ругаясь…
Велико было их удивление, когда в коридоре они встретили князя Туманова с перекинутым через плечо полотенцем.
— Жорж, как вы сюда попали? — удивился Довнар.
— Давно живу в этих номерах. Народу тут разного много. Если угодно, заходите, буду рад. Мой номер одиннадцатый…
В соседней комнате кутила студенческая молодежь, оттуда доносились жалобные всхлипы граммофонной трубы:
Хас-Булат удалой рядом в комнате жил, и он с Саррой моей шуры-муры крутил…Утром Ольгу Палем навестил в ее комнате Довнар:
— Когда ты кончишь эту комедию? Я ведь думал, что ты уже застрелилась, и пришел, чтобы порыдать над твоим бездыханным трупом. Ну, стреляйся… чего медлишь?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С этого времени Довнар начал очень опасную игру.
Вроде бы насмешливо, зато настойчиво он подначивал Ольгу Палем доказать свой характер и застрелиться, а при этом в его голове, наверное, копошилась подлая, но очень выгодная для него мыслишка: «Пусть! С концом этой стервы кончатся и мои невзгоды, я снова стану свободен. Это ли не счастье?»
Возможно, потому так ласково иногда звучал голос Довнара:
— Это не так уж трудно, — нежно убеждал он, словно речь шла о какой-то ерунде. — Один нажим пальцем, и ты сразу докажешь свою любовь, о которой так часто говоришь мне.
Палем его слушала, слушала — даже не верилось:
— Боже, как у тебя поворачивается язык? Если по твоим словам все это так просто, так — на, я дам тебе «бульдог», а ты докажи мне, что любишь, выстрелом…
Она иногда надевала свое лучшее платье с глубоким вырезом декольте и выходила на лестничную площадку, где подолгу простаивала, облокотясь на перила, и тихо пошевеливала оттопыренным задом, который некоторые мужчины, проходившие мимо, задевали как бы ненароком.
Чего она хотела? Возбудить ревность в Довнаре? Или отомстить ему романом с другим? Не знаю.
Но зато мне известно, что Довнар в общем коридоре номеров, где собирались вечерами постояльцы Сыросека, выражался о ней с явным презрением, давая повод думать о ней скверно:
— Вообще-то эта дыруська всем нарядам предпочитает скромный наряд Евы в раю… Кстати, недорого и стоит!
Думаю, что он сознательно вынуждал ее и на измену, которая стала бы для него спасительным поводом для окончательного разрыва. Однажды, когда Довнара поблизости не было, Ольгу Палем неожиданно навестил князь Туманов.
— Я вам не надоел? Извините, что снова вмешиваюсь. У нас на Кавказе подобные отношения попросту невозможны.
— Здесь не Кавказ, — отмахнулась Ольга Палем.
— И все-таки прошу, выслушайте меня… Неужели вы сами не видите, что так жить нельзя? Вы еще молоды, вы хороши. Стоит ли продлевать роман, опасный для вас обоих? Вы бы послушали, что говорят о вас квартиранты Сыросека.
— Черт с ними, пускай говорят, что им хочется. И не надо, князь, за меня вступаться, — раздраженно ответила Ольга Палем. — Наверное, я такая и есть, как обо мне судят.
— Но так же нельзя! — пылко воскликнул Туманов.
— Можно и так, — отвечала ему Палем.
В этот момент ей почему-то (почему?) показалось, что сейчас последует объяснение в любви. Но Туманов почтительно поцеловал ей руку и вышел, ничего не добавив к тому, что было им сказано. Довнар вернулся пьяный, что бывало с ним очень редко, она закрыла дверь между их комнатами на два оборота ключа, но он выбил ее ударами ноги.
— Еще жива? — говорил он, заваливая ее на постель. — Ты еще на что-то надеешься? Ну так не ломайся…
Почти изнасилованная им, жестоко и отвратительно, Ольга Палем восприняла эту грубость как должное. «Так мне и надо, так мне и надо», — думала она.
— Заплати! — вдруг потребовала она у Довнара.
— Сколько? — усмехнулся он криво.
— Три рубля, не меньше.
Он отсчитал три копейки и швырнул их в лицо ей:
— Больше не стоишь… получи!
Потом, пьяно вихляясь, он стал куражиться над нею, сознательно потешался над Ольгой Палем как над женщиной:
— Ты все равно что дырка от бублика! Разве ты способна на большее? Вот я познакомился тут с одной дамой — не чета тебе. Знаешь, что вытворяла? Знаешь, как она умела?
Ольга Палем в ужасе захлопнула лицо руками:
— Умоляю… не надо… молчи.
— Нет, ты слушай, — настаивал Довнар.
— Пощади меня… имей хоть каплю жалости! Зачем же тебе добивать меня, уже и без того растоптанную?
Довнар явно любовался ее поражением. Ее муками!
— Я тебе еще не то могу рассказать… хочешь?
И разом осекся, увидев дуло револьвера.
— С меня хватит. Выстрелю, — предупредила его Палем.
— В себя, в себя! — закричал Довнар, почти беснуясь, и, выкручивая женщине руку, он силком направлял дуло «бульдога» в ее же грудь. — Вот так, вот так… теперь стреляй!
— Нет, — сказала Ольга Палем. — Еще рано…
Как-то она снова торчала на лестнице в соблазнительной позе, когда к ней неожиданно подошел старик Сыросек.
— Слушай, девка, — грубо, но зато честно сказал он, — видеть мне тебя тошно. Хочешь, познакомлю с женихом?
— Смешно, — вильнула задом Палем.
— Порядочный человек. Лет сорок. Может, и больше. Зато коллежский. Опять-таки свой домишко на Песках. Не пьет, не курит, только на гуслях играет, а сам плачет… Ей-ей, — перекрестился Сыросек, — какого рожна тебе еще надобно?
Ольга Палем поняла, что старик говорит искренно, желая добра и жалея ее, а потому она благодарила его:
— Спасибо, Петр Николаич, но я уже помешанная, вы лучше оставьте меня в покое… не мешайте мне погибать.
— Ума-то в тебе совсем нету, — обиделся Сыросек и на прощание больно врезал ей «леща» пониже спины столь душевно, как родной отец лупит дочь, живущую не по правилам…
Стоять на лестнице, глядя, как одни восходят по ней, кто легко, а кто с одышкою, а другие спускаются, со всеми здороваясь, ей почему-то нравилось. Вот и простаивала часами, не желая томиться в одиночестве комнаты, словно причастная к чужой суете, внимала чужому смеху и чужим песням. Где-то шумно пировали отставные ветераны-кавказцы, они, видать, здорово подпили, залихватски распевая о делах своих дедов:
Грянули, ударили, понеслись на брань и в секунду с четвертью взяли Эривань…Под самое Рождество случилось то, чего так боялась Ольга Палем: Довнар укладывал белье в чемодан, говоря, что его терпению пришел конец, он должен как следует отдохнуть от истерик и скандалов, а уж заодно пора навестить мамочку.
Ее всю трясло, она просила Довнара не покидать ее:
— Я ведь знаю, ты не вернешься ко мне, а в Одессе тебя сделают врагом моим… Не уезжай, умоляю! Саша, Саша…
Довнар вдруг увидел ее фотографию, снятую еще в Одессе, когда она была на содержании у Кандинского, и, выломав ее жесткий картон из рамочки, он сунул фотографию в карман.
— Вот видишь, как я тебя люблю! — сказал с усмешкой, не предвещавшей ничего доброго. — Приеду в Одессу, повешу над своей кроватью и стану тобой любоваться…
Довнар уехал, а с нею случился нервный припадок.
Совсем чужие люди приняли в ней участие, кто побежал в аптеку, кто за доктором, князь Туманов вызвался дежурить возле ее постели. Врач Ипполит Твирбут, осмотрев больную, сказал, что требуется покой и чтобы никаких волнений.
— Вы, наверное, муж ее? — спросил он князя.
— Нет. Сосед.
— В любом случае нельзя отходить от нее, почаще кладите ей на голову холодные компрессы. Не стану возражать, если вы усыпите ее хлоралом…
Было время далеко за полночь, в номерах Сыросека все давно спали, когда с лестницы раздался тихий осторожный звонок. Туманов вышел отворить двери и увидел… Довнара.
— Не пущу, — сказал ему князь. — Недавно был доктор и велел никого посторонних к ней не пускать.
— Но я-то ведь далеко не посторонний.
— Не пущу! Она едва успокоилась. Что передать?
Очевидно, Довнар понял, что горячая грузинская кровь сейчас взыграет. А потому он решил не настаивать далее и молча протянул увесистый кулек.
— Что это?
— Апельсины. Для нее.
— Сейчас-то зачем? — удивился Туманов.
— Рождество. Так принято. Чтобы делать подарки…
«Свинья», — не сказал, а только подумал князь. Всю ночь он не отходил от постели Ольги Палем, она временами еще металась, просила настежь отворить окна, Туманов ласково ее утешал, отсчитывал для нее дозу снотворного хлорала, но про кулек с апельсинами от Довнара сознательно умолчал, чтобы лишний раз не терзать ей нервы, и без того уже вконец истрепанные.
Под утро Ольга Палем крепко уснула, князь Туманов раскрыл учебник, но премудрость науки никак не лезла ему в голову. Слабый ночник едва высвечивал в темноте лицо спящей женщины, и она была теперь так хороша, так прекрасна в своем забытьи, что князь не выдержал. Он нагнулся и тихо поцеловал ее, ощутив холодок ее чистых и ровных зубов.
Ольга Палем улыбнулась ему, даже не просыпаясь…
Утром он вручил ей кулек с апельсинами:
— Ночью приходил Довнар, просил передать. Заодно он просил и поздравить вас с наступающим Рождеством.
Что тут стало! Палем прижала кулек к груди:
— Зачем и вы обманываете меня? Я же знаю, что Довнар не способен на это… Вы! Именно вы дарите мне апельсины.
— Ольга Васильевна, зачем бы мне вас обманывать?
Она очень долго смотрела на его красивое лицо:
— Милый мой человек, — было сказано ею с кротостью, — скажите уж всю правду до конца… Давно ли вы любите меня? Ну, не стыдитесь. Да? Любите?
— Нет, — жестко отвечал он.
«Вот и напрасно… жаль», — подумала женщина.
И она забросила апельсины подальше от себя.
…Здесь я поймал себя на опасной мысли, что, наверное, мужчина все-таки не способен к точному описанию душевных и сердечных психологизмов женщины. Думается, о женщинах откровенно и достоверно способна писать только сама женщина.
А для нас, для мужчин, многое остается сокрыто.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зато вот о мужчинах мне писать легче — особенно о подлецах, ибо я немало повидал их в своей чересчур сумбурной и не всегда праведной жизни…
Приехав в Одессу, Довнар повидался с Матеранским.
— Стефа, сознайся, ты по-прежнему балуешься у Эдельгейм?
— Изредка. Знаешь, как я теперь живу… скромно. А девки у Фаньки балованные, любят всякие гостинцы.
Скупой Довнар щедро отсчитал другу десять рублей:
— Вот тебе на одну шикарную ноченьку.
— Что-то я не пойму тебя, Сашка.
Поверх денежной подачки Довнар возложил фотографию Ольги Палем, внизу которой была золоченая надпись: «Одесса. Широкая, дом 17. Фотоателье г-на А. И. Горелика». Довнар просил приятеля оказать ему «крохотную» услугу:
— Там есть такая здоровая бабина — Зойка Ермолина, которая ведет картотеку всех девиц, заодно собирает их фотографии, чтобы никакая не могла вырваться из борделя замуж. Ты возьми ее фотографию, и пусть она украсит музей заведения госпожи Фаины Эдельгейм.
Стефан Матеранский простецки почесал себя за ухом:
— Понимаю. Ольга тебя оставила. Жаждешь отмщения?
— Не такой я мужчина, чтобы меня оставила женщина, я сам оставлю любую из них, — выспренне отвечал Довнар…
Тем временем Александра Михайловна тоже не сидела без дела. Если в былые времена эта почтенная дама называла Ольгу Палем в письмах «уважаемая Ольга Васильевна», то теперь она повадилась шляться по одесским юристам, чтобы, как она говорила, «вывести на чистую воду эту аферистку, а к тому же еще и жидовку…». В один из вечеров она возвратилась к своему семейному очагу, очень довольная собой:
— Сашенька, поздравь свою умную мамочку. Кажется, мне кое-что удалось сегодня… Адольф Викторович, ты его знаешь, был настолько любезен, что дал мне рекомендательное письмо к петербургскому адвокату Серебряному, который хоть самого черта лысого обманет… Ты с ним повидаешься в Петербурге, он тебя научит, как удобнее раздавить эту мерзавку!
В разговоре с сыном она вдруг хлопнула себя по лбу:
— Ах, дура! Как это раньше не пришло мне в голову? Надо обязательно повидать и Кандинского… Видишь, я согласна вытерпеть любое унижение, лишь бы моему сыночку было хорошо!
Ее замысел был прост и ясен: если Кандинский перестанет высылать деньги Ольге Палем, тогда, сильно отощавшая, эта гадюка сама выползет из своей норы в поисках пропитания. А если она покинет Петербург, ее Сашенька сделается свободен, дурацкая же «подписка», данная им Кухарскому по глупости, мигом обернется пустой бумажкой. С такими-то вот настроениями, заранее уверенная в успехе, Александра Михайловна появилась в конторе Кандинского — во всей своей материнской мощи.
— Василий Васильевич, — умильно начала она, уже неспособная играть очами, зато очень искусно игравшая зонтиком, — вы помните, какой чудесный человек был мой первый супруг, как он любил и уважал вас… не забыли?
«Вася-Вася» сразу насторожился, посерев лицом, а его уши, и без того длинные, вытянулись еще больше. Он молча съел все-все, что подала ему мадам Шмидт с пылу и с жару, — и то, что Ольга Палем развратилась, что она такая-сякая, что по ней давно плачет сахалинская тачка, что она…
— Надеюсь, вы сами поняли мое намерение предостеречь вас, дабы эта негодница более не испытывала доброту вашего чистого сердца. Неужели вам самому не жалко своих денег, которые вы столь щедро отсылаете для ее разврата?
Кандинский все понял. Поднялся из-за стола:
— Значит, вам угодно, чтобы Ольга Палем осталась без денег и, не имеющая в Петербурге ни друзей, ни родных, она…
— Так, так, так, — закивала мадам Шмидт.
Кандинский долго вытягивал из кармана обширный платок, расписанный пляшущими чертями и бесенятами, он замедленно растряс его в длани, высморкался — как выстрелил из пушки. Потом взмахнул платком, словно развернутым флагом, указуя на дверь.
— Вон! — произнес он краткое резюме.
— Что, что, что? — не сразу поняла Шмидт.
— Я сказал ясно — прочь отсюда, халда старая, и скажи спасибо, что я не зову конторщиков, которые выведут тебя под руки и дадут коленом под ж…, чтобы ты враз поумнела.
Дама выкатилась, а Кандинский позвал бухгалтера:
— Вы приготовили перевод денег для госпожи Палем?
— Как положено. Я помню.
— Только учитывайте подписанные ею квитанции. В остальном же продолжайте высылать ей пособие, как это заведено…
Довнар уже давно низко пал в моих глазах.
Зато выше поднималась тщедушная фигура Кандинского.
14. ПО ЗАКОНАМ ПОДЛОСТИ
Читатель догадался и сам, что за время рождественских вакаций, проведенных в Одессе, благостные порывы в душе Довнара перемешались с отвратным вызреванием ненависти.
Мамочка, конечно, весьма преуспела в перевоспитании сына, как следует натравив его на Ольгу Палем, и Довнар — под энергичные стуки колес, равнодушно поглядывал в окно вагона, — реже испытывал жалость, зато слишком часто, вспомнив об Ольге, переживал почти яростное бешенство. Среди провожавших его на одесском вокзале была и кузина Зиночка Круссер (с ее «очаровательным копчиком»), мать потихоньку шепнула сыну, что она может быть для него подходящей невестой: «Зинуся получает в наследство от тетки богатый хутор на Черниговщине… соображай сам, что земля сейчас в большой цене!»
Паровоз, безжалостно разрезая российские пространства с юга на север, кричал истошно и надрывно, словно человек, предвещавший неотвратимое бедствие. Довнар «соображал».
Теперь в его бумажнике покоилось рекомендательное письмо к присяжному поверенному Серебряному, для ублажения которого приготовлено 500 рублей — вроде задатка, сумма которого способна потрясти любое воображение. Провожая сына в обратный путь, Александра Михайловна дала ему ценные указания:
— Если этот хапуга Серебряный скривит морду, ты скажи ему, что мы готовы пожертвовать и коробкой в сотню дорогих сигар. Но ничего больше не обещай, сам знаешь, что эти проклятые цицероны обожают гонорары, а сами наболтают — и ничего не сделают. Будь умнее!..
Всю дорогу до Петербурга студент-путеец мучился. Пачка любовных писем, виденная Довнаром в руках инспектора Кухарского, не давала ему покоя: «Вот глупец, — размышлял он, жестоко укоряя себя. — Надавал этой сучке всяких заверений, а теперь… Теперь она будет трясти этими письмами направо и налево, чтобы меня шантажировать!»
Поезд близился к столице, и Довнар предчувствовал, что Ольга Палем, возможно, каждый день караулит его на перроне Варшавского вокзала. Чтобы избежать встречи с нею, крайне нежелательной, Довнар умышленно не доехал до Петербурга, оставив вагон на окраинах столицы, и вышел с чемоданом на платформе Александровская, примыкавшей к паркам Царского Села.
Каково же было его изумление, когда под часами станции он увидел жалкую фигуру Ольги Палем, которая ожидала его.
Ожидала именно там, где его не могло быть.
— Ты разве колдунья? — крикнул он в ее сторону.
Ольга Палем медленно приближалась к нему.
— Нет, я теперь святая, — услышал он издали.
Смех Довнара был неестественным, наигранным:
— А я-то думал, что ты давно застрелилась.
— Выходит, ты об этом мечтаешь?
— Но ты же обещала.
— Вот уж не думала, что ты такой подлец…
Довнар вовремя сменил гнев на милость:
— Ладно. Я пошутил. Но все-таки сознайся, как ты могла догадаться встретить меня именно здесь, а не на перроне Варшавского вокзала?
Секрета не было. Ольга Палем слишком хорошо изучила Довнара, а чисто женское чутье само подсказало ей, что он пожелает избежать встречи с нею, и не умом, так сердцем женщина догадалась, что Довнар сойдет с поезда именно на этой загородной платформе. Наверное, в ней сработал природный инстинкт — так звери заранее чуют то, о чем и не помышляют люди, считающие себя умнее зверей.
Она взяла его под руку, насмешливо спросив:
— Надеюсь, ты часто разглядывал мою фотографию?
— Да. Посматривал. Раньше ты была моложе.
— Не хами! Я такая же, как и раньше, только вот ты сделался совсем другим.
— Старше?
— Нет. Хуже… Не будем ссориться. Едем.
В столицу они вернулись царскосельским поездом, вышли на площадь перед вокзалом. Довнар поставил чемодан на тумбу. Она ждала. Он посмотрел на нее и не узнал. «Желтое лицо с провалившимися лихорадочными глазами возбуждало ужас и сожаление. За одну эту зиму Ольга Палем состарилась на несколько лет», — так писал очевидец событий.
— Ты получила от меня кулек с апельсинами?
— Не видела я от тебя никаких апельсинов…
Довнар, пожимая плечами, долго молчал, думая, наверное, о князе Туманове, который сожрал все его апельсины.
— Не молчи. Что дальше? — потребовала Ольга Палем.
— Извини, — ответил он ей. — Я не собираюсь оставаться верным расписке, данной Кухарскому. Хотя бы по той причине, что в номерах Сыросека проживает и этот грузинский красавец Туманов, вызывающий во мне физическое отвращение… Извозчик! — закричал Довнар, увидев свободную пролетку, и, забросив в нее чемодан, быстро отъехал прочь, оставив Ольгу Палем посреди вокзальной площади.
— Саша, — не крикнула, а лишь прошептала она.
Наитие привело ее на платформу Александровской станции, это же наитие подсказало, что Довнара надо искать в Демидовом переулке, где проживал его новый приятель студент Панов. Она убедилась в правоте своих домыслов, и Довнар, вызванный запиской на улицу, вышел в наспех накинутой шинели.
— До чего же ты настойчива! — с явным раздражением сказал он. — Не буду скрывать, что ты иногда бываешь очень нужна мне. Но только как самка. Давай, сразу договоримся. И рассудим все если не душевно, так плотски. Согласна?
Она медлила с ответом. Тихо падал снежок.
— Саша, — вдруг сказала она, — у тебя совсем износилось пальто, пуговицы едва держатся. Можно я поухаживаю за тобой?
…Женщины, подскажите мне — верить ли?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Присяжный поверенный Серебряный (имя и отчество которого я позабыл) славился в Петербурге своим виртуозным ловкачеством, служа не столько при весах Фемиды, сколько поклонением всепожирающему Маммоне, о котором еще в Новом Завете начертано как о злом духе, способствующем обогащению.
500 рублей он спрятал в карман сюртука с таким брезгливым видом, словно Довнар подсунул ему какую-то дрянь.
— Надеюсь, это лишь аванс, — напомнил Серебряный. — Итак, молодой человек, я весь к вашим услугам…
По изложении Довнаром сути вопроса о выселении Ольги Палем из столицы Серебряный изобразил на своем холеном лице важное глубокомыслие, свойственное мудрецам древности.
— Если дело было только «доложено», его всегда можно «передоложить», дабы в градоначальстве возникли инсинуации, в корне изменяющие прежний взгляд на этот вопрос. Сфера нашего воздействия неограниченна и… сколько вы мне дали?
— Пятьсот, — торопливо ответил Довнар. — Но в случае, если выселение Палем состоится, с моей стороны последует подношение вам роскошной коробки с сотнею лучших сигар.
— Но при этом прошу учесть, что фирма «Петит букет» меня не прельщает, я курю исключительно сигары фасона «Панетелас империалис»… Теперь напрягитесь, дабы подсказать мне те насущные мотивы, кои я мог бы развить в этом деле. Ведь для выселения из столицы требуются весомые факторы, дабы активно воздействовать на канцелярию столичного градоначальника… Надеюсь, она глубоко безнравственна и порочна?
— Кто? — очнулся Довнар, заговоренный адвокатом.
— Ну, вот эта… штучка. Как ее? Палем, кажется….
Довнар толчками приблизил свой стул к адвокату:
— Осмелюсь известить вас, — почти радостно сообщил он, — что в одесском притоне мадам Фаины Эдельгейм до сих пор хранится фотография Ольги Палем, что красноречиво доказывает прежний род ее постыдных занятий.
— Отлично, — одобрил его Серебряный. — Через одесскую полицию затребуем фотографию для приобщения ее к нашему делу, о котором никто не скажет, что оно шито белыми нитками. Но этого, увы, мало… Смелее, молодой человек, инкриминируйте в адрес этой отвратной особы.
Довнар даже перегнулся через стол, сообщая Серебряному зловещим шепотом — как нечто ужасное:
— К тому же она, простите, еврейка…
Серебряный сам был иудеем, но в таких делах, когда вопрос касается кармана, национальные и религиозные признаки можно отстранить, как мешающие служению великой правде — Маммоне.
— Что ж, на этом тоже можно сыграть, — изрек он. — Столица империи все-таки, согласитесь, не резиновая, чтобы под ее крышами умещались… всякие. Продолжайте, пожалуйста.
Если бы Довнар был умнее и проницательнее, он бы сразу заметил, что Серебряный высиживает цыплят из яиц, уже давно сваренных. Присяжный поверенный лишь изображает внимание, отрабатывая полученный аванс, а браться за выселение Ольги Палем никогда не станет. Довнар между тем воодушевился, признавшись в главном, что его мучило:
— Вы понимаете, ошибка молодости… порыв души и так далее. Все это вылилось в письмах, адресованных мною госпоже Палем, и я боюсь, что она использует этот факт против меня. Желательно было бы конфисковать у нее эти письма.
Серебряный имел связи в полиции, изъять письма не составляло труда, но он изобразил особую озабоченность:
— Ах, как вы были неосторожны! Разве можно оставлять женщинам документы о любви? Что вы хоть там ей писали?
— Обещал жениться…
— Кошмар! — выразился Серебряный. — Я, конечно, попытаюсь… Но это трудно. Очень трудно…
Обнадеженный в успехе, Довнар испытывал надобность в женщине, ради чего он и вызвал Ольгу Палем на свидание. Для этого он заранее снял номер в гостинице «Европа» у Чернышева моста возле Малого (Суворинского) театра.
Ольга Палем явилась на зов его плоти и старалась быть «вулканом страстей», втайне надеясь, что своим телом привяжет Довнара к своей душе. Она, это понятно, не могла знать, какую подлость замышляет против нее Довнар, и на другой же день отправила ему записку, которую даже сейчас (столетие спустя) мне было очень больно читать.
Вот она, эта записка: «Милый, я так счастлива, я так много и жадно надышалась тобою вчера…»
Довнар эту записку с хохотом показывал Панову:
— Видишь? Я же говорил, что она без ума от меня… дура!
— Конечно, дура, — согласился Панов. — Но и ты, братец, нисколько не умнее ее…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 февраля 1894 года владелец меблированных комнат господин Сыросек был страшно перепуган, когда в его тишайшие владения вдруг с гамом и топотом сапог вломилась полиция.
Агент сыскного отдела Красов потребовал:
— Проводите в комнаты госпожи Палем.
— А что случилось?
В этот момент Сыросек решил, что Ольга Палем хитрущая террористка, которую давно ищут, и сейчас у нее под подушкой найдут страшную черную бомбу для подрыва устоев самодержавия, доселе, слава те, господи, еще нерушимых.
Красов приступил к исполнению обязанностей:
— Мадам, не заставляйте нас проводить обыск по всем правилам. Все раскидаем, все разроем, перину вспорем, обои от стенок отдерем. Лучше сами верните письма Довнар…
Навидавшийся на своем веку всякого, Красов позже признавал, что ему тогда было и стыдно и тяжко: «Уж очень плакала, уж очень убивалась Ольга Васильевна, она даже целовала письма Довнара и, рыдающая, говорила: — И это, даже это у меня отнимают…» Красов на прощание извинился:
— Не имейте на меня сердца, мадам. Такова служба…
Присяжный поверенный Серебряный честно отработал аванс, и Александра Михайловна из Одессы поздравила сыночка с первым успехом на благодатной ниве российского правосудия. Довнар отписывал матери, что жалобы Палем теперь всюду отвергаемы как неосновательные. Зато вопрос о сигарах для выкуривания их господином Серебряным — этот жуткий вопрос как бы растаял в облаках табачного дыма, ибо мадам Шмидт трезво рассудила, что Серебряный (хапуга!) не сделал еще самого главного.
Ольга Палем не была выслана из Санкт-Петербурга.
Князь Туманов предупредил ее в эти дни:
— Не желаю становиться навязчивым, но все-таки выслушайте меня. Зачем вам бывать в Демидовом переулке? Вы удивляете меня своим упрямством в поисках того, чего быть не может. Кажется, ни одна женщина не способна выносить столько унижений, какие выпали на вашу долю. Пожалейте себя. Прошу вас.
— Спасибо, князь. Вы, как всегда, правы, — отвечала ему Палем. — Но еще больнее быть униженной в ваших глазах. Мне стыдно. Да. Сама презираю себя, но… такова уж есть!
С хозяином она расплатилась за комнату.
— Или не угодил я тебе? Живи, бог с тобою.
— Я и без того благодарна вам, — отвечала Ольга Палем. — Вы добрый человек. Но здесь я была слишком несчастна. Мне тяжело оставаться у вас, буду искать новое место, где меня никто не знает и я всем чужая. Так легче.
Сыросек совал ей шестнадцать рублей обратно:
— Да ну тя к лешему, дуреха такая! Небось и самой-то не хватает… Да и кудыть же ты теперича?
— Ах, сама не ведаю. Вот найму извозчика, и пусть прокатит меня хоть до «Пале-Рояля». Мне теперь все равно…
15. «ПАЛЕ-РОЯЛЬ»
Разве тут уснешь? Ей мешала певичка из сада «Буфф», с утра тренировавшая голос для услаждения гулящей публики:
Мне ночные развлеченья не приносят наслажденья, от своей душевной муки Я давно страдаю так, что надеть решила брюки и коротенький пиджак…По коридорам шатались непризнанные гении — пьяные, пьяненькие и абсолютно трезвые, но жаждавшие похмелиться. Ольга Палем лежала в своем номере, с головой накрывшись одеялом, а до нее все равно долетали голоса соседей из коридора:
— Не я ли тебе говорю, что Бисмарк — это голова.
— Гладстон — тоже голова, и не спорь.
— Карно — вот это голова!
— А в России разве голов не стало?
— Были. Но перевелись.
— Позвольте, сочту своим долгом вмешаться.
— Не позволим. Ни в коем случае…
Казалось, в «Пале-Рояле» жили и стены. Слева слышалось:
— Еще одно слово — и я за себя не отвечаю.
А справа истошно взвизгивал женский голос:
— Что угодно! Только не это, только не это, только не это. Попробуйте как-нибудь иначе…
История «Пале-Рояля» еще не начертана, и мне — жаль.
Скромнейший памятник Пушкину в убогом скверике, установленный в 1884 году, заставил и Новую-Компанейскую улицу переименовать в Пушкинскую. Громадный доходный дом № 20, принадлежавший господину Н. Ф. Немилову, сделался традиционным обиталищем всей петербургской богемы.
Боже, кого только не видели эти выносливые стены!
Здесь проживали на покое отставные актеры, когда-то потрясавшие Сюзьму или Царевококшайск, а теперь согласные за полтинник выйти на столичную сцену, чтобы сказать «кушать подано». Томимые угрожающим предчувствием гонораров (от рубля и выше), слонялись без дела молодые поэты, всегда готовые сочинить сонет на любую тему — за пирожок с капустой. По утрам в «Пале-Рояль» возвращались потрепанные дамы полусвета, пахнущие духами от Ралле и коньяком фирмы Шустова. В ожидании выгодных ангажементов молодящиеся актрисы приучали своих взрослых дочерей называть их «сестрицами».
Наконец, мне было странно узнать, что как раз в это время, когда здесь появилась Ольга Палем, в «Пале-Рояле» селились два подлинных гения — молодой Федор Шаляпин, еще не вкусивший славы, и Мамонт Дальский, славы уже вкусивший…
Ольга Палем жила тишайше, словно мышка, для поимки которой всюду расставлены ловушки с приманками. На одиноких женщин всегда особый спрос среди мужского отродья, и по ночам Ольга Палем не раз сжималась под одеялом, когда в двери тихо стучались, нашептывая в замочную скважину трагическим басом или волшебным тенором:
— Не угодно ли разделить одиночество с загубленным талантом, который завтра воспрянет, чтобы потрясти весь мир?..
Убого мерцала лампочка под высоченным потолком неуютного номера, в портьерах водились кусачие блохи, а в углу трепетно мигала лампадка перед иконой «Утоли моя печали».
В эти вот дни, отверженная и оскорбленная, Ольга Палем сделалась неистово набожной, ездила в Кронштадт, чтобы коснуться ризы Иоанна Кронштадтского, за Невской заставой она искала утешения у пророчицы Матрены-Босоножки, горячившей себя чистым денатуратом, всюду она истово каялась, как великая грешница, просила боженьку не оставлять ее в своих милостях… Удивляться тут нечему! Новообращенные прозелиты впадают в религиозный экстаз более чувственно, нежели те, кто перенял веру от предков своих.
К этому я добавлю. Было замечено (и не мной, а людьми, знавшими ее), что Ольга Палем, попав в среду образованных людей, которые были намного выше ее, становилась какой-то неестественной, вела себя вызывающе и капризно, выдумывала о себе всякие басни, силясь поднять реноме своей персоны. И, напротив, в обществе простых людей, никогда не блиставших интеллектом, Ольга Палем и сама становилась проста, для всех находила ласковые слова, ее любили за доброту сердца.
Так же случилось и в «Пале-Рояле»! Она страшилась его гулких и таинственных коридоров, где с утра до ночи толклись непонятные люди, судившие о Гамлете или Отелло, как о своих близких приятелях, а сама она не имела своего мнения о «головах» Карно или Гладстона, ее пугали мрачные трагики, провожавшие женщину зловещим хохотом кощунственного вопроса: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?..» Возвращаясь с прогулок, Ольга Палем торопливо вбегала по широким лестницам «Пале-Рояля» на верхний этаж и замыкалась в своей комнате.
Понятно, почему подругу для своих мучительных излияний она избрала не в муравейнике этажей и номеров, а в глубине подвалов «Пале-Рояля», где селилась безмужняя прачка Анютка Маслова с девочкой Соней, прижитой от какого-то солдата.
С прачкой ей было хорошо, притворяться не надо.
Для нее Ольга Палем ставила бутыль с водкою, готовила немудреную закуску с неизбежной селедкой, а потом плакала, горевала, жаловалась… Вот Анютка Маслова ее понимала:
— Вопче нам, бабам, от энтих мужиков спасу не стало. Одни убытки и никакого тебе удовольствия. Будь я царицей, так я бы всех мужчинков, которые в штанах бегают, на Сахалин сослала. Чтоб они и треснули тамотко, окаянные… Бывалоча, пришпандорит такой, соловьем изливается, а на уме-то у него только одно: как бы мою слабость поскорее использовать!
— Лезут, — отвечала Ольга Палем, расширив глаза. — Не успеешь уснуть, а они уже скребутся.
— Мыши-то?
— Да нет, мужчины. Спать не дают.
— Терпи! — поучала ее Анютка, вправляя под платок рыжие волосы. — Така уж наша доля, чтобы терпеть…
Но однажды, приникнув к уху Палем, прачка сообщила:
— Слышь-ка! Хороший человек живет в сто тринадцатом номере. И, кажись, глаз на тебя имеет.
— Господи, да кто ж это такой?
— Отставной поручик Лопатин, от жены сбежавший, нонеча ён в «Пале-Рояле» прячется. Пенсию раздобыл за веру, царя и отечество. Живет — не тужит. Слыхивала, в Европы сбирается, чтобы тамошним людям себя показывать… Ты не проходи мимо. Хватайся! Хороший человек-то, говорю. Уже с пенсией.
К вину равнодушная, Ольга Палем никогда водки не пробовала, а тут — в компании с прачкой — решила испытать, что это такое, отчего люди с ума сходят. Почти с ужасом, стараясь не дышать, она тянула и тянула из стакана, а Маслова шлепала себя по жирным ляжкам обваренными в стирке ладонями:
— Пейдодна, пейдодна, пейдодна, пей… легше станет!
Ольга Палем опустошила стакан, вытаращила глаза:
— Анечка, а что теперь со мной будет?
Анютка Маслова воткнула в рот ей соленый огурец:
— Хрусти! А ничего не будет. Вместях поплачем…
Напились две бабы и плакали при закрытых дверях, чтобы никто не видел их, несчастных. Страшась одиночества, особенно пакостного среди людей, Палем просила Маслову, чтобы дала ей свою дочку — пожить в номере. Сонечка освоилась быстро, спали они на одной кровати, Ольга Палем прижимала к себе девочку, придумывая для нее сказки…
В такие моменты ей очень хотелось иметь ребенка!
Спору нет, чужая для всех в «Пале-Рояле», Ольга Палем была своей и понятной для служанок, полотеров и коридорных подметал, никогда не забывала вежливо поздороваться с дворником, чего, кстати сказать, никогда не делали гении, таланты, корифеи и прочие дарования.
Но иногда, словно долгожданный великий праздник, случались такие дни, когда швейцар просовывал в дверную щель ее комнаты записку от Довнара — с призывом явиться туда-то и в такое-то время, и этот совсем не душевный призыв завершался всеобъясняющей фразой: «Не забудь прихватить кружку Эсмарха».
Ольга Палем тревожно собиралась:
— Сонечка, ты побудешь сегодня одна. Тетя Оля завтра утром вернется, она купит тебе книжку с картинками…
Отправляясь на свидание с Довнаром, Ольга Палем являлась к нему под густою вуалью, пряча свое лицо, словно все люди догадывались об ее женском позоре.
Читатель, простим ее. Понять трудно, но простить надо.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ольга Палем еще продолжала верить, что, отдав Довнару четыре года жизни (лучшие свои годы!), она обрела на него права, которые когда-нибудь позволят ей назвать его своим мужем.
Но ее женская — чисто женская! — логика казалась Довнару безумием. После одной из таких ночей он исхлестал ее ремнем, словно приблудную собачонку, крича:
— Сумасшедшая… дура! С тобой хорошо только в темноте, а днем ты никому не нужна. Неужели самой-то тебе не понять?
Нет, не понимала. Панов, новый приятель Довнара, не раз предупреждал его, чтобы оставил свои шутки с огнем:
— Женщины, как научно доказал французский профессор психологии Сигиле, более жестоки, нежели наше поганое отродье, и поступки их зачастую непредсказуемы… Разве тебе, олуху царя небесного, не страшно встречаться с нею?
— Глупости, — небрежно отвечал Довнар, похваляясь властью над женщиной. — Эта стерва способна только на истерики да обмороки, но у нее не хватит духу на все остальное.
— Не знаю, не знаю, — сомневался Панов. — Я бы на твоем месте не стал испытывать судьбу.
— Ерунда все это, — убежденно говорил Довнар. — Моя пассия по-прежнему остается удобной во всех отношениях. Сама за все расплачивается даже в ресторане. Она чистоплотна. Фигура у нее — залюбуешься. Чего же еще желать от женщины?
Вот это уже настоящее свинство! С одной стороны, он жестоко преследовал Ольгу Палем, именно по его изветам полиция вторгалась в ее жизнь, отнимая даже любовные письма, а с другой стороны, человек мелочный и не в меру эгоистичный, Довнар не прерывал с нею близких отношений, на которые она, раз и навсегда опозоренная, всегда охотно отзывалась, готовая быть для него подстилкой, лишь бы с ним не расставаться…
Что это? Любовь? Страсть? Привычка?
Не знаю.
Об этом несоответствии надо бы спрашивать не у меня, а у женщин. Может быть, одни только женщины могут верно растолковать необъяснимые для меня поступки Ольги Палем.
Теперь их встречи происходили в случайных местах, обычно в малоприличных номерах «Палермо», «Сан-Ремо», у Яхимовича или в доме свиданий Цейтлера. Они снимали номер, за который расплачивался Довнар, на одну только ночь, предоставляя Ольге право платить за ужин с шампанским.
Однажды, решив вызвать ревность в Довнаре, Ольга Палем стала выдумывать то, чего не было, делая из мухи слона:
— Не скрою, что за мною в «Пале-Рояле» серьезно ухаживает солидный поручик лейб-гвардии Лопатин.
(Этого Лопатина, кстати, она ни разу не видала.)
— Откуда он взялся? — спросил Довнар.
— Из сто тринадцатого номера. Можешь проверить.
— Ну и что? — равнодушно хмыкнул Довнар.
Фантазии Палем хватило лишь на выдумку, очень наивную:
— Он собирается состоять атташе при странах Европы, а меня упрашивает, чтобы я при нем состояла… как жена!
— Как же! — высмеял ее Довнар. — Только вас в Европе и не хватало. Путайся с кем хочешь, только не завирайся…
Ее ложь не произвела на Довнара никакого впечатления, ибо за четыре года он тоже хорошо изучил ее. Иногда, испытывая наслаждение от собственного садизма, Довнар приставал к ней — когда серьезно, а когда и даже шутливо:
— Слушай, а когда ты сделаешь пиф-паф?
— Давай, вместе… а? — предложила она.
Довнар был немало испуган, обнаружив, что Палем не расстается со своим «бульдогом» и при свиданиях с ним прячет его в своем ридикюле. Он сказал, чтобы она не дурила:
— Даже любимая лошадь может нечаянно убить хозяина копытом, а револьверы марки «бульдог» обладают дурной привычкой выстреливать, когда их об этом никто не просит.
Во время подобных свиданий, звякая кружкой Эсмарха, женщина уже не просила о розах брачного Гименея, но признаний в любви требовала по-прежнему. Довнар даже удивлялся ей:
— Все-таки ты неисправима. Ну зачем тебе мои признания, если встречаться можно и так, не тратя время на банальные слова, от которых ничто не изменится…
Говоря это, Довнар стоял возле окна, глядя на улицу, и услышал, как за его спиной что-то вдруг щелкнуло.
— Обернись, — потребовала она.
Довнар обернулся и увидел жуткий зрачок револьвера.
А выше сверкали блуждающие глаза Ольги Палем.
— Я не шучу, — сказала она. — На колени!
По выражению ее лица Довнар понял, что сейчас она способна на все, и он с грохотом пал перед нею ниц.
— Молись, — велела она ему.
Довнар подползал к ней, заклиная пощадить его:
— Олечка, счастье мое, светик… прости! Не надо…
— Считаю до трех. Если не сознаешься в том, что любишь меня, как раньше, я… я стреляю. Стреляю! Раз…
— Люблю! — закричал Довнар, в ужасе отпрянув от нее и забиваясь в угол. — Неужели не веришь? Люблю, люблю, люблю…
Ольга Палем отбросила «бульдог» на диван.
— Да врешь ты все, — устало сказала она. — Вылезай из угла… всю пылищу собрал. И не позорься… Я ведь чувствую, что твои слова не от любви, а от страха.
Довнару было стыдно, он отряхнул брюки от пыли.
— Вообще-то, — сказал он как можно равнодушнее, — ты, конечно, права. Я здорово испугался. Потому что ты сумасшедшая. Как говорят в народе, «с эфтакой-то бабы чего не станется?».
После каждого такого свидания его в сильном волнении поджидал студент Панов, радуясь видеть Довнара живым.
— Ох, смотри, Сашка, когда-нибудь не вернешься. Но я на твои похороны не пойду. С чего бы мне таскать гроб, в котором будет валяться такой здоровенный дурень…
Неожиданно Довнар повстречал в институте Кухарского.
— Молодой человек, — был его вопрос, — надеюсь, вы неукоснительно соблюдаете условия той подписки, которую дали во время оно в моем кабинете?
Довнар отвесил инспектору учтивый поклон:
— Конечно, ваше превосходительство. Стоит ли думать обо мне дурно? Я же благородный человек, умею держать слово.
— Очень рад и готов вам верить. Всего доброго.
16. ОСКОРБЛЕНИЕ
«Пале-Рояль» давно опостылел, но искать другое убежище не хотелось, а Кандинский, издалека чуя ее смятение, настойчиво зазывал в Одессу, порою казалось, что еще можно начать сначала — хоть с табачной лавки грека Катараксиса.
Теперь, когда ее навещала веселая прачка Маслова, она уже не отказывалась от водки, а потом, раскисшая и шлепогубая, Ольга Палем безжалостно потрошила перед прачкой свою загубленную душу, судила перед ней…
Судила — кого? Да, кажется, всех!
В эти дни одна только Сонечка была ее утешением, она учила девочку грамоте, ласкала ее и баловала, даже купила ей глобус и, сама плохо знакомая с географией, вращала земной шар, вычитывая названия материков и океанов:
— Вот это, видишь, Африка, запомни. Там живут одни негры. Туда мы с тобой не поедем. А вот, гляди, и Черное море, вот и Одесса, где я была когда-то счастливой. А сейчас найдем Петербург, где я стала несчастной…
Неожиданно, словно довершая все беды, ее вызвали в полицейское управление столицы. Встревоженная, Ольга Палем с трепетом явилась на Гороховую, там ее принял молодой чиновник — следователь, который был неукоснительно вежлив:
— Садитесь. У меня к вам только один вопрос деликатного свойства… Вам знакома эта фотография?
Он показал фотокарточку той давней поры, когда она позировала в фотоателье на Широкой улице в Одессе.
— Да. Это я, — пролепетала она. — Подтверждаете, что это именно вы?
— Конечно. А как она к вам попала?
Следователь отложил фотографию в сторону:
— Чем вы можете объяснить, что эта карточка оказалась в заведении Фаины Эдельгейм? Обычно фотографии показывают гостям, дабы они выбрали девицу по вкусу. Может, вы сразу признаете, что служили в доме терпимости?
— Да что вы! Господь с вами, — отозвалась Ольга Палем, вконец растерянная, ошеломленная услышанным.
— А как же эта карточка оказалась в публичном доме?
— Ума не приложу.
Следователь убрал фотографию со стола, вздохнул:
— У меня вопросов более нет. Можете идти. Но дело о вашем выселении из Петербурга будет решено не в вашу пользу. Вы уж извините, но сами не маленькая, все понимаете…
Ничего она не понимала! Да и понять было невозможно.
Ольга Палем, почти раздавленная позором, вернулась в «Пале-Рояль», и этот несуразный домина, переполненный постояльцами, показался ей раем небесным. Сонечку она послала за матерью:
— Сбегай в прачешную. Пусть мама придет.
В этот вечер она напилась так, что ничего не помнила.
Очнулась только под утро и с ужасом увидела, что девочка играет с ее «бульдогом», радуясь новой игрушке.
— Дай сюда! — хрипло заорала Ольга Палем. — Это что тебе? Кукла? Еще раз увижу, так все уши оборву и прогоню к матке, вот и полоскайся там в своем подвале…
Анютка Маслова принесла под передником полбутылки:
— Башка-то небось трещит? Похмелимся манень-ко, да я пойду. У меня там полная лохань белья от поручика Лопатина. Такая рвань, что впору выбросить. По всему видать, с пенсии-то не проживешь. Так что, милая, ежели он начнет к тебе липнуть, ты его шугани подалее… Ну, давай, что ли? Чокнемся…
За окном просветлело солнечно, чирикали воробьи, радуясь жизни. Начинался день 16 мая 1884 года.
Ольга Палем провела этот день в дремоте, даже не вставая с постели, а вечером швейцар подкинул ей в номер записку от Довнара, извещавшего, что он будет ждать ее опять в гостинице «Европа».
21-й номер на двоих им снят до 17 мая.
Больно стучало в висках: не ходи, не ходи, не ходи.
Но словно бес нашептывал иное: он ждет, он ждет, он ждет…
Ольга Палем стала прихорашиваться перед зеркалом.
— Соня, я сегодня не слишком страшная?
— Тетя Оля хорошенькая, — похвалила ее девочка.
На этот раз Довнар в своем приглашении о кружке Эсмарха не упоминал, наверное зная, что сама догадается. Она, конечно, не забыла о ней. Но, уже далеко отойдя от «Пале-Рояля», прибежала обратно, сильно встревоженная.
— Ты чего вернулась, тетя Оленька?
— Да так. Кое-что забыла…
Она вспомнила о револьвере, который снова мог оказаться в руках ребенка, — потому и вернулась. Так спокойнее!
— Веди себя хорошо, ложись пораньше, а по коридорам не шляйся, — наказала она Сонечке, укладывая «бульдог» в свой ридикюль. — Тетя Оля завтра утром вернется, и мы снова будем крутить глобус. Ты запомнила, где Одесса, а где река Амур?
И она опять скрыла свое лицо под густою вуалью.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Известно все. Даже то, что Довнар имел при себе лишь три рубля, но тратить их не пожелал, как всегда надеясь на щедрость Ольги Палем, которая оплатила ресторанный счет на восемь рублей, после чего у нее в кошельке оставалось еще 9 рублей и 30 копеек.
В ресторане гостиницы «Европа», где они ужинали, до полуночи играл румынский оркестр, и томный красавец Тадеску, полусонно блуждая среди столиков со скрипкою, крючком изогнулся подле Ольги Палем, исполнив специально для нее, которая показалась ему самой обворожительной из женщин:
Спуни, спуни, молдаване, унде друма ла Фокшани, унде каса матитик, унде фата фармащик…Внимая мотивам Тадеску, она невольно припомнила хутор под Аккерманом, выкрики петухов на рассвете, пастухов, играющих коровам на скрипках, и скромнейшего юнкера Сережу Лукьянова, которого она так и не поцеловала.
— Благодарю, — сказала Ольга Палем скрипачу, невольно залюбовавшись сиянием шампанского в своем бокале…
В этот миг жизнь представилась ей снова волшебной!
— Что он пел тебе, этот валах? — спросил Довнар, когда по широкой лестнице они поднимались в свой номер.
— А я разве знаю? Пел, и все тут… Но — для меня!
— Жаль, что я не прогнал его от нашего столика.
— Ревнуешь? Даже к скрипачу? Меня это радует.
— Просто я тебя сегодня… люблю, — сознался Довнар. — Ты какая-то особенная. Тобою хочется любоваться. И мне очень приятно, как ты покорной овечкой сама идешь на заклание…
После того, как опустела кружка Эсмарха, они говорили, и даже так хорошо, как будто оба вернулись в старые одесские ночи, пропитанные ароматом отцветающих акаций.
Ночь, пронизанная страстью, миновала быстро. За окнами светало. Наступил новый день — 17 мая…
— О, господи, — заохал Довнар, — как подумаю, что опять эти лекции, опять эта суета… осточертело!
Нехотя он одевался, жалуясь, что не выспался. Наверное, Довнар, как всегда после подобных свиданий, раскаивался в том, что сам же и виноват в продлении своего романа.
— Кстати, — сказал он, зевая, — ты говорила о каком-то поручике Лопатине, звавшем тебя куда-то ехать. Может, и в самом деле стоит подумать о том, как устраивать судьбу… без меня. Не обижайся. Но ты и сама видишь, что ближайшие годы, пока не получу диплома инженера-путейца, мое будущее неопределенно, я сам себе не хозяин.
Ольга Палем уже привыкла к тому, что по утрам, когда страсть исчерпана, Довнар помышляет об одном — скорее покинуть ее, желая при этом сохранить свое «благородство».
Громко щелкнули костяные застежки на упругом лифе.
Она оглядела свои стройные ноги в сиреневых чулках.
Вопрос женщины прозвучал почти спокойно:
— Ты не боишься получить от меня оплеуху?
— За что, милая? Я ведь хочу тебе лучшего.
— Вот за это самое «лучшее» ты и получишь…
Довнар перед зеркалом долго возился с галстуком.
— Это даже смешно, — продолжал он без тени улыбки. — Моя прекрасная возлюбленная, презрев жалкого студента, бежала от него с офицером… Совсем как в дурной комедии!
— Ну, хватит! — прикрикнула Ольга Палем. — Каждый раз одно и то же, одно и то же… Не проще ли тебе попросту сказать, что я все уже сделала, а теперь могу убираться.
Довнар наконец-то справился с галстуком, и тут, проклиная себя за слабость, он потерял чувство меры, начиная унижать Ольгу Палем своими насмешками:
— Ты сделала все, это правда… Согласен, что от тебя порою исходит бурное пламя, но после него остается немало копоти. Впрочем, не думай, что ты лучше других.
— Ах вот как? Но ради чего ты зовешь меня?
— Наверное, — ответил Довнар, вдевая в манжеты запонки, — общение с тобою превратилось у меня в дурную привычку…
Чтобы ускорить конец свидания, уже начинавшего тяготить его, Довнар нарочито цинично стал описывать перед нею достоинства других женщин, которые намного лучше ее хотя бы потому, что ни одна из них ни на что не претендует. («К моему великому несчастью, — признавалась позже Ольга Палем, — в это утро он слишком сильно вызывал во мне ревность и, не щадя во мне женщину, оскорблял меня, как только умел…»)
Коридорный лакей внес в их номер шумящий самовар, угодливо спрашивал, чем может служить, но лицо его было искажено гримасой презрения не к Довнару в студенческом мундире, а именно к ней, ибо лакей, очевидно, принял ее за уличную девку.
— Оставьте нас, — попросила его Ольга Палем.
Совместное чаепитие никак не сближало, каждый думал только о своем. Ольга Палем еще раз жестоко убедилась в том, что ночь хороша лишь в том случае, если был хорош предыдущий день, подготовивший эту ночь. А постель никогда не исправит того, что было испорчено раньше, и какая б ни была сила страсти, ей уже не дано принести полную гармонию счастья…
— Да! — вдруг с вызовом заявила она. — Господин Лопатин без ума от меня. Вчера он преподнес мне три прекрасные розы, снова предлагал побывать в театре.
На Довнара это никак не подействовало.
— Так в чем же дело? — хмыкнул он с кривою усмешкой. — Только не забудь пригласить меня на свою свадьбу…
Ответа от нее не дождался. Машинально помешивая ложечкой остывающий чай, Ольга Палем вдруг вспомнила о своем визите на Гороховую, где следователь предупредил ее о возможном выселении из Петербурга, и тут она не выдержала — она сама рассказала Довнару про эту злополучную фотографию:
— Как? Каким образом? — спрашивала Палем, начиная плакать. — Как моя карточка могла оказаться в борделе Фаньки Эдельгейм, а потом в столичной полиции?
Ничто не изменилось в лице Довнара, и в этот момент, возможно, он душевно благодарил Серебряного, который честно отработал аванс, а сейчас покуривает сигару марки «Панетелас империалис». Но этот великолепный козырь следовало разыграть.
Довнар вскочил из-за стола — в бешенстве:
— Теперь уже не следователь, а я — я сам! — желаю спросить, почему твоя фотография очутилась в грязном притоне Фаньки, куда порядочные люди Одессы не ходят?
— Я не знаю, — глухо отвечала Ольга Палем.
— Она не знает! — передразнивая ее, восклицал Довнар в обвинительном упоении. — Лучше сознайся сразу, что ты еще до меня прошла хорошую школу в публичном доме. А я-то, наивный человек, все эти годы думал, что у тебя был только один старик Кандинский…
— Один Кандинский, — эхом отозвалась Ольга Палем.
— Да кто тебе поверит теперь? — бушевал Довнар с видом человека, возмущенного до глубин души. — Говорили мне умные люди, еще в Одессе не раз предупреждали, чтобы я не связывался с тобой, и, выходит, они были правы.
— Неправда! Все кругом меня ложь, ложь, ложь… И ты сам знаешь, что это неправда, — отрицала Ольга Палем.
Довнар, заплетаясь ногами, отошел к окну и приник лбом к стеклу, изображая страдания несчастного и обманутого.
— Теперь мне все стало ясно, — упавшим голосом произнес он в полном отчаянии (им же придуманном, им же актерски разыгранном). — Все эти годы ты только притворялась честною женщиной, а на самом деле… Какой ужас!
Ольга Палем словно окаменела, а взгляд ее ненормально застыл, устремленный на кадку с запыленным фикусом.
— Постыдись, — тихо и даже без гнева сказала она.
— Нет! — прорыдал Довнар, остужая лоб об оконное стекло. — Это не мне, а тебе должно быть стыдно. Ты же извещена, что я достался тебе чистым и непорочным, как дитя малое, а ты… а ты… О, боже, какая невыразимая мука!
— Перестань кривляться, — еще тише отозвалась Ольга Палем. — Я не знаю, каким образом моя фотография оказалась там, где ее никогда не могло быть. Поверь, что это так.
Драма создавалась Довнаром по самым привычным рецептам театральной кухни, где подобные коллизии должны вызывать сочувствие публики и рыдания нервных женщин. Он махнул рукой, показывая тем самым, что его сердце разбито вдребезги:
— Может, и к лучшему? Но отныне я не верю ни единому твоему слову. Все четыре года ты просто обманывала меня…
Стук в дверь — снова явился коридорный лакей:
— Ничего боле не требуется? Позвольте самоварчик забрать. А то в соседнем номере купчиха заезжая гневается, у нас самоваров-то на всю «Европу» не хватает.
— Отец! — провозгласил Довнар, обращаясь к лакею. — Видишь ли ты мои слезы? Запомни их навсегда. Это слезы человека, обманутого в самых лучших своих чувствах…
Лакею до его чувств не было никакого дела:
— Так я за самоваром. Купчиха там, говорю, злится.
— А, забирай! Мне уже ничего не нужно на этом свете…
Вслед за лакеем Довнар закрыл двери на ключ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наверное, он и сам понял, что последний акт драмы завершается, пора опускать занавес. Он отошел от окна к туалетному столику с надтреснутым зеркалом, уже не оборачиваясь в сторону Палем, и сказал даже не ей, а этому зеркалу:
— Продажные женщины все-таки лучше тебя, ибо, получив свое, они долго не засиживаются.
Яснее, чем сказано, было уже не сказать.
Ольга Палем вышла из-за стола, задумчиво раскрыла свой ридикюль.
— Я не продажная, — спокойно ответила она.
Довнар еще смотрел в зеркало, видя в нем одного лишь себя и не замечая ее отражения в зеркале.
— Ты? — вроде бы удивился он, нагло рассмеявшись. — Ты гаже их всех… ты — б..!
Довнар не обернулся, когда она подошла ближе:
— Неужели ты это мне… за все?
— Тебе — за все!
Грянул выстрел — Довнар рухнул на пол.
Жалобно всхлипнув, словно обиженный ребенок, Ольга Палем дулом револьвера нащупала биение своего сердца. Выкрик: «Ой!» — совпал с ее вторым выстрелом.
…В суматошном «Пале-Рояле», узнав об этом из вечерних газет, многие плакали. Они знали ее доброе сердце, и никто не понимал, как она могла решиться на такое «злодейство»? Но многие плакали, даже очень плакали, жалея ее… Я верю в это!
17. ОБВИНЯЕМАЯ, ОТВЕЧАЙТЕ
Из полицейского протокола: «…раздались один за другим два выстрела, потом щелкнул замок двери, из 21-го номера выбежала окровавленная женщина с криком: „Спасите! Я совершила преступление, но я жива, ранив себя… скорее полицию и доктора. Я все объясню“. Затем она рухнула на пол, повторяя: „Я убила, убила его и убила себя!“»
Коридорный сразу кликнул служанок, гуртом они вломились в номер, где увидели студента в луже крови, струившейся из затылка, а в кресле еще продолжал дымиться страшный и черный «бульдог», в барабане которого оставались три патрона.
В отеле возникла суматоха, люди бегали, кричали:
— Полицию! Скорее врача… она еще жива…
Служанки поднимали Ольгу Палем с ковровой дорожки.
— Сидеть можете? — хлопотали они. — Врача уже вызвали, он живет рядышком — в Чернышевом переулке, возле театра.
Ее усадили на ближайший стул в коридоре. Откинув голову и бездумно глядя в потолок, она очень быстро говорила:
— Разве кто виноват? Виноватой останусь я… так мне и надо. Рано или поздно это должно было случиться.
Из протокола: «На вопросы, зачем она убила студента Довнара, задержанная объясняла, что он оскорбил ее одним очень нехорошим словом, и тогда она решила отомстить ему…»
Альфред Петрович Зельгейм, врач театральной дирекции, оказался скорым на ногу, он сразу же глянул на Довнара:
— Тут мое искусство бессильно, — был его вывод.
После чего, безжалостно оголив Ольгу Палем до пояса, врач осмотрел и прощупал ее спереди и сзади. Пуля миновала сердце, пробив легкое, но застряла в спинных мышцах, не выйдя наружу. Положения раненой было очень опасным.
— Срочно карету из Мариинской больницы, — наказал Зельгейм. — Сразу на операционный стол…
Потом движениями пальцев он раздвинул ей веки:
— Скрывать не стану! Вы можете умереть, а посему, если у вас на душе есть что-либо значительное, скажите сразу.
Ольга Палем назвала одесский адрес Кандинского:
— А больше никому не надо телеграфировать…
Когда же явился полицейский пристав Хоменко, она, уже теряющая сознание, приняла его за доктора:
— Наконец-то и вы… Спасите меня! Спасите…
В больничной карете Ольга Палем, кажется, уже была близка к смерти, оставаясь по-прежнему сильно возбужденной.
— Я разве не умерла, нет? — спрашивала она. — Скажите честно, я еще живая? Мне лучше умереть… Я проклинаю судьбу, проклинаю себя и всех. Мне ничего не жаль!
Санитарки успокаивали ее, говоря, что больничные лошади скорые, хирурги в «Мариинке» хорошие, на живот умирающей они положили кошелек, из которого рассыпалась денежная мелочь и непогашенные почтовые марки.
Операция была серьезной и длилась очень долго.
Ольга Палем очнулась в обширной палате, где лежали другие женщины, сразу попросила у сестер бумагу и карандаш.
Кандинскому она писала: «Саша убит совершенно случайно, я не хотела и себя убивать, а хотела только ранить себя, чтобы он испугался выстрела и у него явилось раскаяние…»
Так писала она в Одессу, оправдывая себя. Но перед соседками в палате Ольга Палем безжалостно судила Довнара, который не один год издевался над нею. И тут произошло нечто странное, мало понятное для меня, но понятное для женщин, лежавших с нею рядом. Они тянули к Палем свои руки, некоторые подходили, целуя ее в лоб, и даже благодарили за то, что она отомстила за все, что так часто приходится выносить женщинам от мужчин, требующих от них любви, но не дающих любви…
Я не придумал это — так было: ее благодарили!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
После больницы — тюрьма, а от тюрьмы, как и от сумы, на Руси не отказываются. Старшая надзирательница Шурка Крылова, девка здоровая, встретив ее, громыхнула ключами от камер:
— Не скули! Не ты первая, не ты последняя. Пошли, посажу в одиночку. И не вой! Клопов у нас не водится. Это у мужиков клопы, а у нас одни блохи…
Дом предварительного заключения был наполнен гулом железа, вскриками и хохотом женщин; но одиночка усугубила нервное состояние Ольги Палем, она часто дубасила в дверь кулаками.
— Чего тебе? — спрашивали через «глазок».
— Отвезите меня. На кладбище… к Саше.
В «глазке» исчезало недреманное око надзирательницы, в нем выставлялись ее толстые губы, вопрошающие:
— Ты что? Рехнулась или притворяешься идиоткой? Вот подохнешь, тогда и отвезем… прямо к Сашке тваму!
Тюремная фельдшерица Катя Журавлева, тихая опрятная женщина, докладывала начальству, что Ольгу Палем никак нельзя содержать в одиночном заключении: «Оттого, что Палем иногда приходит в неистовство и в это время рвет на себе волосы, а головою бьется о стенку…» Лязгнули дверные затворы:
— Выходи! Переводим в общую…
Соседками по общей камере оказались две симпатичные женщины. Фрая Стиннес, дремучая проститутка, судимая за отважный хипес (обворовывание клиентов), сразу поделилась с ней колбасой, а опытная воровка Машка Гордина угостила папиросою «Пушка», и Ольге Палем невольно вспомнился околоточный надзиратель Пахом Горилов… О, как давно это было!
— Ну, мажь свою картину, а мы поглазеем…
С деловитым вниманием, не перебивая ее, узницы выслушали подробный рассказ Ольги Палем о том, как она дошла до жизни такой, после чего Фрая Стиннес, сложив руки под могучими титьками, потрясавшими клиентов, произнесла убежденно:
— Ну и житуха же у нас, бабы! Такая пошла красотища, что зови куму — любоваться нами. И всюду, куда ни кинь, мы же, бабы, и виноватыми остаемся. Мужики, сволочи, как-то еще выкручиваются, а мы словно проклятые… Посадили и сидим. А на кой хрен, спрашивается, я страдать должна? Будь у меня муж хороший, а не пропойца поганый, так рази ж я стала бы хипесничать по карманам?
«Воскресение» еще не было Львом Толстым написано, но каждая из узниц, если бы ведала судьбу Катюши Масловой, вряд ли могла бы рассчитывать на то, что из тумана их судеб выплывет благороднейший облик спасительного Нехлюдова.
— Все беды от них, от мужиков, — рассуждали в камере. — Мы что? Мы так, лишь состоящие при их царстве, а они, паразиты поганые, что хотят, то с нами вытворяют.
Начиналось дознание по всем правилам, и перед допросом соседки по камере благословляли Ольгу Палем, а Машка Гордина внушала ей самое главное:
— Ни в чем не сознавайся! Сознаешься, так совсем замотают. Говори, что играла с пистолетом, а хахаль, дурак такой, за крючок дернул — пуля в него и влепилась.
— Да ведь убила я его! — простонала Ольга Палем.
— Так и что с того? А то, что он кажинный раз тебя всяко умучивал — это, значится, можно? А тебе и разок шлепнуть его нельзя? Это, милая, еще доказать надобно, кто кого убивал. Так и говори: сама не знаю, как получилось…
Но Ольга Палем оказалась не способна отрицать убийство, как не могла признать и его преднамеренность.
— Да, убила! — возвестила она следователю еще с порога кабинета. — Но случайным для меня был не сам выстрел, случайной для меня стала смерть самого Довнара.
— Вы, госпожа Палем, сначала присядьте, и не стоит так нервничать. Разберемся во всем по порядку…
Следователь справедливо заметил, что, стреляя почти в упор, иного результата от выстрела нельзя было ожидать:
— Лучше сразу сознаться в том, что убийство было заранее обдумано и совершено вами умышленно.
Вот с этим Ольга Палем никак не соглашалась, говоря, что хотела только «испугать» Довнара, а потом, увидев его мертвым, сразу стреляла в себя. Следователь заметил несоответствие в ее поступках, приводя свои соображения:
— Испугать покойного можно было, стреляя ему над ухом, но вы подошли к нему сзади, направив револьвер в затылок. Все это не вяжется с вашими рассказами, и потому следствию желательно было бы знать, каковы причины убийства?
Ольга Палем не щадила Довнара, даже мертвого, рисуя его перед следователем в самом непривлекательном свете.
— Если вам угодно знать истину, — злобно кричала она, — так я убила последнего негодяя, которого содержала на свои же деньги. Это не он поступил в институт, а я устроила его. Да, я любила его больше всего на свете, а отдала ему свою честь и свою жизнь, а он… Он — подлец, и не убивала его раньше лишь потому, что страшилась гнева господня и думала, что Довнар еще изменит свое отношение ко мне.
Естественно, следователь уцепился за эти признания:
— Именно ненавистью к Довнару и следует объяснять мотивы злодейства. А все эти разговоры о том, случайно или не случайно выстрелил револьвер, яйца выеденного не стоят… Госпожа Палем, вам придется побыть откровенной! Если убитый вами Довнар действительно был таким законченным негодяем, то мы вправе спросить вас — как вы могли любить его?
— Не знаю. Любила — и все тут…
Следствие (в моем понимании) велось неряшливо и даже безалаберно. К чему-то собирали груды побочных материалов, к убийству Довнара никакого отношения не имевших, копались в деталях жизни Ольги Палем, которая сама ничего не помнила (или не желала о них помнить), следствием являлись факты совсем посторонние, а то, что было необходимо для прояснения истины, задвигалось в тень — и все это делалось не ради того, чтобы усилить вину женщины, уже обреченной, а просто так, по хаотичности делопроизводства.
Во время очередного допроса следователь просил Ольгу Палем не утаивать источник своих доходов, говоря при этом, что вопрос щепетилен для женщины, но все-таки…
— Все-таки вы сознайтесь, откуда брались деньги, позволявшие вам жить безбедно? Убитый вами Довнар, судя по наведенным справкам, был человеком вполне обеспеченным, и вам, наверное, неловко признать, что были его содержанкой?
Ольга Палем сразу вспыхнула от гнева:
— В который раз повторяю, что из этого плюшкина пятака было не выжать, почти все расходы ложились на меня.
Следователь погасил в своих глазах искры удовольствия, какое он получил, словно кот, сцапавший жирную мышку.
— Очень хорошо, — сказал он. — Но если большая часть расходов ложилась на вас, то позволительно спросить, откуда вы черпали деньги, дабы оставаться независимой от Довнара?
Пришлось сознаться и в этом:
— Я получала содержание от господина Кандинского.
— Кто он такой?
— Я была его любовницей в Одессе, и он оплачивал мои расходы даже после разрыва наших отношений.
— Это очень странно! — не поверил ей следователь. — Откуда берутся такие наивные добряки, согласные оплачивать прихоти — кого? — любовника своей бывшей любовницы.
— Конечно, странно, — согласилась Ольга Палем. — Мало того, убитый мною Довнар иногда сам просил у Кандинского денег, и Кандинский никогда ему не отказывал…
Так ковырялись в ее душе, пока не доковырялись до тела. Следователь случайно обмолвился, что скоро Ольге Палем исполнится тридцать лет, и тут она разом закатила ему истерику:
— Вам хочется сделать из меня старуху? Сначала тридцать, а потом и сорок? А мне всего двадцать пять, проверьте.
Следователь к самому ее носу подсунул справку из мещанской управы города Симферополя, точно указывающую, что Ольга Палем родилась в 1866 году:
— Вот и считайте сами, каков ваш возраст!
— Справки ваши фальшивые, — совсем зашлась Ольга Палем, — знаю только одно, что мне двадцать пять, и больше я вам ничего не скажу, хоть вы тут разрезайте меня на сто кусков…
Возраст в деле убийства Довнара не играл никакой роли, но обвиняемую подвергли медицинской экспертизе, и — к удивлению следователей — маститые врачи подтвердили, что Ольге Палем именно двадцать пять лет, и никак не больше.
— Но вот же документы, помилуйте!
— Организм обвиняемой тоже является документом огромной важности, и мы утверждаем, что она заявляет правду…
Измученную осмотрами и анализами Ольгу Палем вернули в тюремную камеру, где ее сразу обступили подруги по несчастью, пылко выведывая — ну как? ну что?
— Мерзавцы! — отвечала она, улыбаясь. — Лазали даже туда, куда без спроса лазать никому не дозволяется. Всю осмотрели, всю ощупали, все обвертели, но я им свое доказала.
Подруги, радуясь за нее, поняли так, что она доказала свою невиновность в убийстве Довнара.
— Нет, — сказала Палем, гордо тряхнув головой, — я доказала этим оболтусам, что я гораздо моложе, нежели они все осмелились обо мне думать…
Спрашивается, зачем все это было нужно? Зачем следствию понадобилось перелистать 537 толстущих книг Одесской почтовой конторы и еще больше книг столичного почтамта, чтобы выявить лишь источники доходов Палем или Довнара? Разве это не подтверждает мое авторское мнение о том, что следствие велось кое-как? Всего же по делу Ольги Палем было привлечено 92 свидетеля, но множество вопросов так и остались только вопросами, лишь запутывая картину преступления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А разве не кажется странным другое? Вот живет себе человек, встречая на своем пути множество других людей, совершает поступки, дурные или хорошие, и при этом никогда не думает, что «хвост» прошлого уже тащится за ним, словно за ящерицей. Конечно, любое прошлое можно перечеркнуть и умереть спокойно, как это и бывает со многими. Но если случится попасть под суд, то пышный «хвост» прошлого разворачивается перед обществом во всю ширь, словно убор бесстыжего павлина. Подсудимый когда-то кого-то встретил, давно не вспоминая о них, но эти люди вдруг воскресают для него в роли свидетелей, начинают говорить о тебе — так или сяк, хорошо или плохо, а прежние твои поступки, вроде бы даже незначительные, становятся главными мотивами для всеобщего осуждения…
Ольга Палем не знала, куда ей деваться от стыда, когда следователь вдруг начал извлекать забытые имена — и грека Аристида Зарифи, и опытного ловеласа барона Сталь-фон-Гольштейна, оказывается, ему был известен даже милейший юнкер Сережа Лукьянов, с которым она провела лето под Аккерманом.
— Нет, нет, нет! — отрекалась Ольга Палем. — Никого не знаю. Ничего не помню. Ни с кем не целовалась.
— Верю, — уступил ей следователь. — Вернемся к тем, с которыми вы изволили целоваться. Опять поговорим о господине Кандинском, дабы выяснить степень его финансовой помощи. Согласитесь, что между вами возникли странные отношения.
— Может, и странные. Но я же заявляла, что Кандинский относился ко мне, как родной отец к любимой дочери.
— Однако нет такого родного отца, который бы, давая любимой дочери деньги, требовал от нее расписки…
Скоро из Петербурга в Одессу поступило распоряжение о секвестре всех деловых бумаг в конторе Кандинского, который сразу оказался без вины виноватым. Из конторы выгребли все финансовые бумаги, хотя можно было изъять только квитанции Ольги Палем.
Пожалуй, я прав. Следствие все время уходило в сторону от главного, стараясь выискать истоки преступления даже там, где их не могло быть. А старый человек еще долго потом хлопотал, чтобы ему вернули арестованные бумаги.
— Я же разорюсь, — доказывал Кандинский. — Моя голова не вмещает столько — все невозможно упомнить. Теперь я не знаю, кому обязан платить, а кто и сколько задолжал мне…
В один из дней тюремная надзирательница Шурка Крылова сопроводила Ольгу Палем в камеру для свиданий. За железной решеткой желтело лицо Кандинского с трясущимися губами.
— Оля, — спросил он, — как ты могла? Я ведь знаю, какой у тебя гадкий характер, но чтобы убить человека..?
— Убила, — получил он ответ.
18. ИСКУССТВО РАДИ ИСКУССТВА
Жизнь, как бы мы ее ни крутили и ни облагораживали, нуждается не только в прокурорах, сажающих нас за решетку, — требуются и защитники, из-за тех решеток нас вызволяющие.
Присяжные поверенные бывали на Руси разные.
Самые лучшие старались делать добро, шлифуя свое ораторское умение; порою их слово становилось весомее закона.
Да, многие из них были красноречивы, но излишнее красноречие иногда становится опасным.
Припоминается, что однажды в лесах под Лугою некий бродяга Лебедев отнял у проезжего мужика 28 копеек. Адвокат Н. С. Виноградский начал свою защиту эпическим слогом: «Не в широких степях Забайкалья, не в привольных полях Поволжья, а в дремучих дебрях Лужского уезда и не сам Стенька Разин с кистенем, а некто беспаспортный Лебедев отнял у честного труженика двадцать восемь копеечек…» Ясно, что такая защита вызвала хохот публики и судей, даже подсудимый зашелся от хохота.
Однако совсем без эмоций тоже нельзя. При этом совсем необязательно, чтобы в зале суда падали в обморок — необходима некая золотая середина.
Кажется, именно Карабчевский обладал умением находить в своих речах эту золотую середину, но… эмоции?!
Разве затем дана человеку речь, насыщенная яркими алмазами слов, чтобы он забыл о великой силе эмоций?
В самом деле, читатель, кому нужны занудные бубнилы, докладывающие по бумажке о том, как прекрасна была бы жизнь, если бы она не была такой паршивой!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н. П. Карабчевский, как это ни странно, был потомком кровожадного турецкого янычара, взятого в плен еще во времена Суворова и оставшегося на Украине ради возникшей любви к одной веселой хохлушке, которая вечерами для него «писни спивала».
Николай Платонович, когда его спрашивали, что он сделал в жизни хорошего, отвечал, что плохого тоже не сделал:
— По неимению зубов кормилицу за грудь не кусал, нянек своих не бил, маму слушался, а носовых платков из карманов гостей не воровал… Неужели вам этого недостаточно?
В 1894 году, когда готовился процесс над Ольгой Палем, Карабчевский собирался отметить двадцатилетний юбилей своего служения на ущербной ниве судебного правосудия. На юбилейном банкете, наверное, будет приятно вспомнить, что самый первый процесс был им выигран. Подзащитным юного Карабчевского стал тогда сапожник Семен Гаврилов, взломавший чужой сундук, чтобы стащить 17 рублей для «Надьки рыжей».
— Вы, наверное, очень любили эту Надьку?
— Страсть как!
— Позволительно знать — за что?
— А вот у моей матки в деревне телка была такая же — сама белая, но с рыжинкой. Гляну, бывалоча, на энту Анютку, а сам слезьми умываюсь — очинна уж она телку напоминала…
Жизнь этого тупого парня, обрисованная Карабчевским в его речи на суде, вызвала такое сочувствие публики, что она тут же собрала для него пачку денег, которую и сам адвокат дополнил скромною рублевкой. «Нет, невиновен», — было решение суда присяжных заседателей. Много лет с той поры миновало, и кого только не защищал Карабчевский!
Слава пришла к нему в политическом процессе, когда он был совсем молодым человеком (ему исполнилось тогда 25 лет).
На знаменитом «процессе 193-х» Карабчевский защищал народоволку Екатерину Брешко-Брешковскую, ставшую потом «бабушкой русской революции». Тогда он поверг не только публику своим красноречием, но его логикой были поражены и сами подсудимые, увидевшие в его речах развитие тех идей, которые были близки им, народовольцам. Прощаясь со своим адвокатом, Брешко-Брешковская сказала ему:
— Вы… наш! Угодно ли, я предоставлю вам адреса наших явок, наши пароли, и вы по праву займете должное место в истории великой революции будущего.
Вот на это Карабчевский никогда не был способен.
— Благодарю! — отвечал он. — Но я, как адвокат, обязан высоко нести другое знамя. Это знамя личной независимости и объективнейшей беспартийности, чтобы ничто не могло влиять на мое отношение к возрождению юридической истины…
Был серенький зимний денек, дворники скребли фанерными лопатами, убирая с панелей мягкий пушистый снег, был приятен угасающий в сумерках город, насыщенный теплыми огнями окон, когда Николай Платонович вернулся домой на Знаменскую улицу, где он занимал хорошую уютную квартиру из восьми барских комнат. Его радостно встретила жена Ольга Константиновна, миловидная корпулентная дама, озабоченная своей будущей ролью Клеопатры в «живых картинах» на благотворительном концерте в пользу неимущих жителей столичных окраин. Сам же Николай Платонович давно готовился к роли городничего в «Ревизоре», и потому супруги, сидя под абажуром, мило посудачили о театральных делах Петербурга…
Карабчевский с шорохом развернул газетные листы:
— Ты, душа моя, конечно, читала, что назревает судебно-нравственный процесс над некоей мещанкой Ольгой Палем.
— Да. Но, может, она и не убивала студента?
— Вот именно, что она его убила.
— Возможно, случайно?
— Случайно в упор не убивают.
— Собираешься защищать?
— Хотел бы.
— Но как же ты надеешься защищать?
— Не знаю. Об этом предстоит думать…
Накоротке он повидал Н. Д. Чаплина, председателя окружного суда, для которого уже была уготована роль обвинителя на предстоящем процессе. Карабчевский дал понять, что его кредо правдоискателя прозвучит на суде несколько одиозно, очевидно, вызывая недовольство в министерстве юстиции.
— Не пугайте меня, — хотел отшутиться Чаплин.
— Да я и сам боюсь своих мыслей, Николай Дмитриевич. В нашей стране женщина остается лишена насущной мужской привилегии — вызывать оскорбителя на дуэль… Все равно! — убежденно договорил Карабчевский. — Рано или поздно женщина находит свой способ отомстить. Если не убьет, так изменит. Если не изменит, так разлюбит.
Чаплин перевел разговор на деловые рельсы:
— Надеюсь, вы обговорили условия гонорара с вашей подзащитной, которую я постараюсь упечь на полную катушку, чтобы ее жизнь закончилась на лоне дивной сахалинской природы.
— Да что с нее взять-то? Я ведь не Серебряный, чтобы водружать свое корыто на Вавилоне человеческих страстей и мучений. Нет, я желаю бороться с вами, Николай Дмитриевич, защищая Ольгу Палем вполне бескорыстно, не заботясь о личной выгоде. Искусство ради искусства — это, согласитесь, не так уж плохо звучит, если речь заходит о настоящем искусстве!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Член совета присяжных поверенных Санкт-Петербурга, Николай Платонович имел немалые права, и вскоре же состоялось его первое свидание с подзащитной — в тюрьме.
Вернулся он домой в подавленном настроении.
— Твоя тезка, — сказал он жене, — никогда не убила бы этого студента, если бы не переполнилась великая чаша ее женского долготерпения. Обвинение женщины, мстящей за свое поругание, давно вышло за пределы уголовного права, становясь краеугольным вопросом всей нашей общественной морали.
— Извольте кушать, — объявила господам служанка.
Карабчевский проследовал с женою к столу.
— Нравственность извечно зиждется в первоистоках формирования человека обществом. Прости, — сказал он жене, — но первый в жизни поцелуй — это ведь акт колоссального значения… Сегодня очень вкусный суп, — похвалил его Карабчевский и после долгого молчания вернулся к прежней теме разговора. — Я мучаюсь, Ольга, еще не ведая, с чего мне начать. Так, наверное, страдает писатель, ищущий первую строку своего романа.
— С чего же начнешь? — вопросительно посмотрела жена.
— Пожалуй, с появления Ольги Палем в Одессе…
Известно, что Карабчевский хорошо проницал предстоящие дела защиты, но речей никогда не готовил и не записывал, уповая едино лишь на силу своего творческого вдохновения. Он как бы незримо «писал» свою речь в голове… Мне думается, что, готовясь к процессу, Карабчевский поработал более тщательно и был гораздо ближе в поисках истины, нежели казенные следователи, истерзавшие Ольгу Палем посторонними вопросами, лишь увеличивая ее страдания.
— По сути дела, — рассуждал Карабчевский перед женою, — Ольга Палем, и без того уже достаточно истерзанная, подвергается новым оскорблениям, когда из ее души пытаются извлечь то, чем дорожит каждая женщина. Мною тяжело переживаются свидания с нею. Ольга Палем плачет, ее состояние, близкое к истеричности, требует внимания врачей, а не следователей…
Карабчевский заблаговременно распорядился, чтобы из Одессы в Петербург были вызваны в качестве свидетелей и фотограф Горелик, и Фаина Эдельгейм, содержательница публичного дома. Зато никакими клещами было не выманить на суд Александру Михайловну Довнар-Шмидт, и не потому, что она была повержена гибелью сына, а совсем по иным причинам. Накануне суда Карабчевский переговорил с П. Е. Рейнботом, которому предстояло выступать на суде поверенным гражданской истицы (то есть от лица матери убитого):
— Павел Евгеньевич, госпожа Довнар-Шмидт, невзирая на многие вызовы, конечно, на суд не явится, и я полагаю, что вашей истице просто нежелательно, чтобы ее поступки предстали перед судом общественности в самом неблагоприятном свете.
— Как сказать, — выгнул плечи Рейнбот. — Поймите же и вы материнское сердце, всю силу его отчаяния.
Карабчевский сказал, что материнские сердца иногда бывают излишне жестокими, порождая эгоизм в своих же возлюбленных чадах. В трагедии между сыном и Ольгой Палем во многом повинна именно она, сознательно сводившая молодых людей, эгоистично желая, чтобы ее сын избежал общения с непотребными женщинами. Результат оказался неожиданным и для нее!
— Мне было очень неприятно, Павел Евгеньевич, залезать в морг, но все же знайте: вскрытие тела Довнара показало, что во время последнего (самого последнего) свидания с Ольгой Палем он уже был заражен новой дурной болезнью. Об этом я не говорил обвиняемой, дабы не добавлять ей душевных страданий… Придется сказать потом!
— Вы меня просто убили, — сознался Рейнбот.
За день до суда Карабчевский снова побывал в тюрьме, из камеры Ольга Палем была доставлена в служебную комнату для адвокатов, Николай Платонович заранее заказал ужин в хорошем ресторане, подследственная с тихим удивлением обозревала диковинные яства, которых никогда в жизни не видела.
— Что это значит? Я… свободна?
— Завтра вы будете уже на свободе, а сейчас расслабьтесь, — внушал ей Карабчевский. — Можете даже выпить со мною вина, это нам не помешает. Сегодня я не стану тревожить вас своими вопросами, мы просто поговорим, как друзья по общему для нас несчастью. Вы нужны мне завтра бодрой и веселой… Кстати, я принес вам письмо, автором которого является маркер в бильярдном клубе, осужденный за воровство из карманов влиятельных игроков. Вот, послушайте, что писал этот жулик своей возлюбленной из тюрьмы…
«Дорогая! — писал тот. — Желаю, чтобы мое письмо не спасовало с волшебным треском, влетая в твою душу, как шар в лузу. Чувство мое не фукс, а крепкое, как сукно, туго натянутое на бильярде. Ты удачно срезала мое сердце и приперла к бортам мои лучшие намерения. Теперь, лишенный тебя, я мечусь по камере, словно шар между бортами. Жизнь опостылела, как пять очков на себя с приплатой. Надеюсь, наше будущее пойдет с легким накатом, без всяких клоп-штоссов. Но твоя измена поразит меня со всеми карамболями. Целую тебя столько раз, сколько очков в не разыгранной еще пирамиде…»
Карабчевский все-таки добился, что Ольга Палем стала смеяться, и на прощание он поцеловал ей тонкую руку:
— Будьте спокойны. Завтра во всем разберемся…
Я подозреваю, что он придумал и этого вороватого маркера, как и то, что письмо маркера сочинил он сам, ибо обладал немалым литературным талантом. Русский читатель знал его как поэта, прозаика и публициста… Не в укор Карабчевскому тогда писали, что, «обладая выдающимся искусством допрашивать свидетелей и экспертов, он часто переносил центр тяжести процесса на судебное следствие». Желательно, читатель, чтобы и у нас подражали этому примеру — пусть адвокат налегает в хомут, в который впряжены и следственные органы.
— Завтра, завтра! — всю ночь Ольга Палем не могла уснуть.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 февраля 1895 года началось слушание дела.
«Встать, суд идет!» — надо встать как положено…
В публике, заполнившей весь зал, жадной до пикантных подробностей, связанных с порханием амуров над трупами, все внимание было обращено даже не на Чаплина, не волновал ее и скучный Рейнбот — она ожидала грозы, должной грянуть из-за отдельного пюпитра, за которым, внешне безучастный, сидел Карабчевский. Петербуржцы знали, что сейчас в этом человеке с густой шапкой темных волос незримо копится огромная взрывчатая сила убеждений, подобная пакету нобелевского динамита, столь модного в том времени, чреватом зарождением истребительных войн…
Негромким голосом он попросил Чаплина предоставить слово свидетелям защиты, ибо они вчера приехали из Одессы на свои же деньги, стеснены временем и вечерним поездом должны отъехать обратно. Краем глаза он заметил возбуждение Ольги Палем, когда предстал фотограф Горелик. Ему была предъявлена для опознания фотография Ольги Палем четырехлетней давности, и Горелик сразу признал в ней изделие своего ателье:
— Да, это подсудимая в лучшую пору ее жизни, когда она и приехала ко мне на «штейгере» с дутыми шинами, желая иметь свой шикарный портрет в модной шляпе с цветами. Я госпожу Палем всегда знал за порядочную женщину и таковой считаю ее до сих пор. Мне как-то странно видеть ее сейчас на скамье подсудимых. Извините, если что не так я сказал.
Перед синклитом судей явилась субтильная дамочка неопределенного возраста, и Рейнбот потребовал, чтобы она откинула с лица вуаль, что и было исполнено. Фаина Эдельгейм, мельком и без интереса глянув на Ольгу Палем, решительно заявила:
— Я своих девочек знаю, как даже курица не знает своих цыпляток. Подсудимая никогда не была в числе моего выводка, и в этом я клятвенно заверяю суд присяжных заседателей. А как попала ее фотография в коллекцию Зойки Ермолиной, этого объяснить не могу. Но эта Зойка привыкла собирать всякие картинки и даже фантики от конфеток… Что с нее взять, если она попросту недоразвитая!
Самая безобразная страница из дела Ольги Палем была вырвана и уничтожена стараниями Николая Платоновича.
Одесситы удалились, провожаемые шушуканьем публики, в чем-то уже разочарованной. Но встреча с ними, как и новое предъявление злополучной фотографии, вызвали в Ольге Палем сильное нервное содрогание, что мгновенно насторожило Карабчевского, который счел нужным сразу вмешаться:
— Как представитель защиты, я прошу учесть нездоровое состояние подсудимой, дабы со стороны уважаемого председательствующего было дозволено прервать заседание суда…
В один день суд не закончится, а Карабчевский ждал своего звездного часа. Озабоченный, он вернулся домой.
Ольга Константиновна ощутила его тревогу:
— Что-нибудь не так, как ты хотел бы?
— Да нет. Пока все гладко. Но обвинительная сторона имеет немало врагов подзащитной. Явился на суд и какой-то отставной полковник Колемин, которого никто не знал, а что он скажет — бог его знает. Ты же знаешь, я всегда побаиваюсь людей, рвущихся стать свидетелями…
За окнами меркло, и снова ярко разгорались окна в домах, где жили беззаботные, веселые, говорливые люди, которым не угрожали речи прокуроров, которые не нуждались в речах присяжных поверенных… Вечерний Петербург ликовал!
19. НЕТ, НЕВИНОВНА
Суд длился четыре дня — до 18 февраля, и по мере того, как увеличивалось число свидетелей, то выгораживавших ее, то порицавших ее, голова Ольги Палем опускалась все ниже, а перед судьями опять представали люди, люди, люди, которых она хотела бы забыть, но которых суд безжалостно извлекал из забвения былого и ставил их перед ней напоказ, а она боялась слов о себе — теперь Ольга Палем боялась любых слов!
О, как хотелось ей в эти дни вернуться обратно в тюремную камеру, прислониться спиною к жарким батареям парового отопления, сжаться в комочек и затихнуть, чтобы о ней никто и никогда больше не помнил…
Она оживилась, когда перед судьями предстал отставной полковник Колемин, опиравшийся на костыль.
— Я старый русский солдат, а потому… — сипло начал Колемин, тут же остановленный замечанием Чаплина, что высокий суд интересует совсем другое, в частности отношения подсудимой с господином Кандинским.
Колемин принадлежал к числу тех людей на Руси, которые готовы сражаться за правду-матку, настырно вмешиваясь во все дела, даже очень далекие от их личных интересов.
— Да, — просипел он, сразу начиная злиться, — Ольга Васильевна Попова состояла на содержании Кандинского, да, это так, я не спорю… А куда ей было деваться? Из многих зол она выбрала меньшее, иначе мы бы говорили о ней сейчас как об уличной жрице любви. Одинокая, ни кола, ни двора, бежавшая из родного дома — что она могла поделать, еще девчонка?
— Итак, свидетель, — вмешался истец Рейнбот, — вы подтверждаете, что подсудимая уже в свои юные годы пала столь низко, что охотно пошла на содержание к богатому человеку.
— Кандинский, конечно, виноват в том, что сделал ее своей наложницей, но было бы еще хуже, если бы Ольга Палем попала к другому человеку, — ответил Колемин.
— Как вы сами относитесь к подсудимой?
— С жалостью. С жалостью и уважением.
— Откуда у вас могло возникнуть подобное уважение?
— Просто я не извещен о таких фактах ее жизни, которые могли бы вызвать во мне обратное мнение…
— Хорошо. Продолжайте.
— Так на чем вы меня перебили? Ах, да, вспомнил — о содержании. Поначалу госпожа Попова о нем и не помышляла. Это я, поверьте, сам я настоял на том, чтобы Кандинский не остался свинтусом, а госпожу Попову именно я принудил не отказываться от его мздоимства. Позорно не это, а то, что покойный Довнар не раз прибегал к щедрости Кандинского, не имея на это никаких прав. Вот это — безнравственно!
Павел Рейнбот, исполняя свой долг перед истицей, громко стучал карандашом, потребовав от Колемина:
— Свидетель, не оскорбляйте память покойного.
— Не буду. Но хотел бы изложить перед судом последнее. Я знавал Ольгу Васильевну еще вот такой. — Полковник показал на вершок от пола. — Я знал ее как дочь генерал-майора и предводителя дворянства Таврической губернии Василия Павловича Попова… В этом я уверен! Другое дело, что ее мать, Геня Палем, смолоду очень красивая еврейка, сущая искусительница, была любовницей генерала Попова, а потом возвращена к ее мужу в Симферополь. Так что, — заключил Колемин, — Ольга Васильевна не ошибалась, говоря о своем высоком происхождении…
Судьи переполошились. Карабчевский тоже растерялся.
— Как же эта Геня Палем оказалась у Попова?
— А что тут долго размусоливать, — отмахнулся Колемин. — У нас за деньги и не такое еще возможно…
Вот этого не предвидел никто, и, кажется, не могла предвидеть даже сама подсудимая.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Был объявлен перерыв, ибо Ольге Палем опять стало дурно. Потребовалось время, чтобы она успокоилась, а публика гуляла в коридорах суда, делясь свежими впечатлениями:
— Какая-то фантасмагория с этим миллионером.
— Попов — такая значительная персона, и вдруг..?
— Господи, да просто шлюха и падшая женщина.
— Но мне ее жалко, она так страдает.
— У меня же ни капли жалости. Так ей и надо!
— Не говорите, дорогая. Все мы ходим под богом.
— Под богом, верно, но ходим в законном браке.
— Карабчевский, вы заметили, еще не вмешивается.
— Готовит бомбу, уж я-то его знаю…
Перерыв закончился. Мужчины, возвращаясь на свои места, бережно откинули края пиджаков или фалды фраков, а дамы расправили оборки своих широких платьев. Корреспонденты вечерних газет нацелили свои карандаши в блокноты, готовые выявить зерно сенсации, за сообщение которой в редакциях платят на сорок копеек дороже. А за барьером, разделяющим два мира, свободных от несвободных, совсем поникла Ольга Палем, когда красноглаголящей чередой, быстро наглея от поддержки суда и реакции публики, перед нею прошли следующие свидетели, жестоко каравшие ее, — Матеранский, Шелейко и Милицер.
— Я давно видел, какие страдания принесла эта женщина моему другу, студенту Довнару, и он сам, приезжая в Одессу, не раз горько плакал, жалуясь, что она измучила его физически и нравственно, — утверждал Стефан Матеранский.
— Подсудимая насквозь лживая и фальшивая особа, интриганка и аферистка, — подхватил подпоручик Шелейко. — Я всегда с трудом переносил общение с нею, душевно жалея Довнара, этого чистого и светлого юношу, которого эта мессалина опутала клятвами, силой принуждая его к позорному сожительству, она хищно увлекала Довнара в бездну падения своим утонченным развратом, о коем даже говорить здесь непристойно.
— Суд, — деловито начал Станислав Милицер, — возможно, сочтет меня слишком пристрастным свидетелем, ибо я лично немало пострадал от грязных доносов подсудимой, которая ненавидела меня с первого же дня нашего знакомства. Да, она догадывалась, что именно я отвращал Довнара от общения с этой падшей женщиной, готовой на все, лишь бы носить дворянскую фамилию Довнар-Запольской древнего герба «Побаг». Нет слов, чтобы выразить то ужасное душевное состояние Довнара, который никак не мог избавиться от преследований этой хищницы в женском обличье. Что тут долго говорить, — развел Милицер руками, — если даже почтенную госпожу Шмидт она называла «ведьмой». Подсудимая так и говорила ей: «Дождешься, ведьма! Живым или мертвым, но твой Сашка все равно останется моим, твоя материнская любовь и погубит его…»
Тут из рядов публики поднялся неизвестный, пожелавший таковым и оставаться. С места он прокричал в сторону Чаплина, что убийство Довнара не явилось для него неожиданностью, ибо этого и следовало давно ожидать от такой психопатки:
— Позволю припомнить давний эпизод на катке в саду Франкони. Взревновав Довнара к его кузине Зиночке Круссер, подсудимая вдруг выхватила револьвер, угрожая застрелить Довнара и мадемуазель Круссер… об этом в Одессе все мы знали!
— Вот этот револьвер? — издали показал Чаплин «бульдог», трагически завершивший судьбу молодого человека.
— Нет. Не этот. У нее был другой. Маленький.
Чаплин обратился к подсудимой:
— Госпожа Палем, вы подтверждаете сказанное?
— Да, — послышалось из-за барьера…
По рядам публики пронесся шелест взволнованных голосов, дамы разом издали слабый стон, томно прикрывая глаза, когда перед ними предстал очередной свидетель обвинения — одесский грек Аристид Зарифи, поразивший всех своею античною красотой. Даже за столом Фемиды возник шепот, а председательствующий Чаплин напрямик спросил одесского Аполлона:
— Вопрос не по существу дела. Но мне все-таки хотелось бы знать — вы когда-нибудь видели себя в зеркале?
— Иногда, — отозвался красавец. — Но это лицезрение, прошу поверить, никогда не доставляло мне удовольствия.
Зарифи был вызван на суд стороною истицы, затребованный от имени присяжного поверенного Рейнбота, дабы очернить Ольгу Палем откровенным признанием в том, что она — после разрыва с Кандинским — была его любовницей. Дамы вытянулись вперед, заострившись носами от внимания, похожие в этот момент на хищных птиц, завидевших податливую добычу. Зарифи, кажется, и впрямь не уверовал в отражение зеркал, и потому, уже привычный к вниманию женщин, он держался подчеркнуто скромно, без тени развязности, какая присуща большинству красавцев.
— К сожалению или к счастью, но это сущая правда, — рассказывал он, потупясь. — Да, мы были молоды, нам светило прекрасное южное солнце, дивное море ласкалось у наших ног, она не скрывала, что уже познала любовь, а потому мы вступили в связь, длившуюся краткий срок, и были счастливы оба.
— Неправда! — крикнула ему Ольга Палем.
— Однако, — продолжал Аристид Зарифи, — как легко мы сошлись, так же легко и расстались. Высокий суд поймет нас правильно: даже самый ослепительный фейерверк страсти не может заменить вечного светила любви. Мы расстались, и я до сих пор душевно благодарен подсудимой за то, что она как пришла, так и ушла, не требуя от меня ни заверений, ни тем более денег… А я ведь не самый бедный человек в Одессе!
Рейнбот остался очень недоволен. Он жаждал обвинений в порочности Ольги Палем, в разнузданности ее нрава, а вместо этого… что слышим? Любовь нагло сравнили с солнцем.
— Подсудимая, — был его вопрос к Ольге Палем, — вы подтверждаете сказанное о том, что после связи с Кандинским сразу же вступили в незаконную связь со свидетелем?
— Неправда, неправда, неправда! — кричала Ольга Палем.
Дамы в публике были возмущены: «Разве можно отказать такому красавцу? Я бы не отрицала, а гордилась этим…»
Аристид Зарифи, смущенный, пожимал плечами.
— Что было, то было, — сказал он себе в оправдание.
— Благодарим. Вы свободны, — отпустил его Чаплин, добавив с тонким юмором: — Но подсудимая вам НЕ поверила…
Ольга Палем бурно разрыдалась, и конвойный солдат, стоя за ее спиной, вслух отсчитывал в рюмку капли валерианки:
— …тридцать одна, тридцать две, тридцать…
— Хватит! — с места велел ему Карабчевский.
Чаплин привстал и долго звонил в колокольчик.
— Объявляется перерыв, — было сказано публике. — Для дачи свидетельских показаний приготовиться барону Сталю.
Услышав это имя, Ольга Палем схватилась за сердце:
— Боже, да когда же вы перестанете меня мучить?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В перерыве Карабчевский подошел к Ольге Палем:
— Имейте терпение. Так бывает всегда, и не стоит этому удивляться. Жестокий шквал пересудов надобно выдержать, а в конце заседания я постараюсь свести концы с концами. Вы, милая, далеко не ангел, и сами должны понимать, что люди для того и судят людей, чтобы, забыв о светлом, выставлять наружу одно черное… Не волнуйтесь. Все будет хорошо.
— Спасибо вам, — сказала Ольга Палем, дохнув валерианкой в лицо адвокату, а он ласково потрепал ее по руке:
— Держитесь. Жизнь — это все-таки не праздничный карнавал, а неравный поединок со злодейкой-судьбой, умейте же встречать ее коварные удары с открытым забралом…
Барон Сталь-фон-Гольштейн за эти годы сделался видным строителем мостовых, предсказателем великого будущего городского асфальта; одетый с лоском, довольный собой, он с явным презрением оглядывал присяжных через линзу монокля:
— Согласен с возмущением подсудимой, упрекавшей этого грека за то, что он бросил тень на ее честь порядочной женщины. Я, как и Зарифи, имел в ту пору немалые шансы покорить ее сердце и даже… даже заключал пари в кругу своих приятелей, поклявшись, что добьюсь ее благосклонности.
— Пари? — удивились присяжные заседатели.
— Да, на ящик шампанского! И хотя я, — продолжал барон, — крайне желал упрочить свой давний престиж неотразимого мужчины, но все мои притязания разбились вдребезги о неприступную фортецию по названию «Ольга Палем». Мне до сих пор болезненно сознавать, что мой авторитет был в Одессе надолго подорван, а ящик шампанского распили без меня…
Неожиданно для Палем к даче показаний был притянут и Кухарский, высокого чина которого судьи не пощадили.
— Вы пытались официально оформить брачное соглашение между подсудимой и покойным Довнаром. Этим вы преступили все мыслимые и немыслимые границы законности, беря с них какие-то расписки, подтверждающие незаконное сожительство. Согласитесь, что ваше поведение выглядит по меньшей мере наивно.
Кухарский даже не знал, что он тоже виноватый:
— Мне было жаль эту несчастную женщину, но я ведь не знаток статей закона и не мог знать, как официально проводится примирение. Я поступал не как юрист, а как… человек.
— Человеческое, — отчитывали его, словно мальчишку, — это еще не есть законное. Поступая лишь «по-человечески», вы невольно вторгались в пределы разумной юриспруденции и теперь заслуживаете порицания общества.
— Извините, — жалко бормотал тайный советник, — я ведь никого не хотел обидеть, я желал одного — чтобы лучше…
И уж совсем неожиданно для Ольги Палем выросла молодцеватая фигура полицейского пристава Олега Чабанова, который многое знал, но заявил кратко — без лишней патетики:
— Ничего худого о подсудимой доложить не могу!
— Вы знали, что подсудимая, имея законную фамилию Палем, имела дерзость называть себя и «Поповой».
— В полиции Одессы об этом все знали.
— Почему не противились нарушению законности?
— Мне кажется, что полковник Колемин уже многое прояснил. Подсудимая называла себя Поповой с нашего ведома, — отвечал Чабанов, — потому что ее крестный отец не возражал, чтобы она носила его фамилию. Спорить же с ним, генералом и губернским предводителем дворянства, нам совсем не хотелось.
Появление на суде Сережи Лукьянова привело Ольгу Палем в тихий ужас. Бывший юнкер, а ныне поручик гвардейской артиллерии, Лукьянов вспомнил перед судом летний сезон на хуторе под Аккерманом, когда мама сказала ему, что Ольга Палем могла бы стать хорошей женой, а теперь…
— Теперь я вижу, куда завели ее темные дебри жизни! Я уже досыта начитался в газетах всяческих инсинуаций о госпоже Палем, но я не верю ни в распутство, ни в злодейство подсудимой. Да, я общался с нею, еще юнкером, и смею заверить суд в ее чистоте и порядочности. Чтобы вам все стало ясно, я могу заявить лишь одно, самое насущное. Признайте ее невинной жертвой нашего порочного общества, и я отсюда же, из этого зала суда, согласен увести ее под венец, чтобы она стала моей богоданной женой и матерью моих детей. Если она и убила мерзавца, значит, он того и заслуживал… Больше мне сказать нечего. Но разве я не прав, дамы и господа?
Такое заявление вполне годилось для газетной сенсации, и корреспонденты разом склонились над своими блокнотами, дабы читатели убедились в том, что рыцари на Руси еще не перевелись. При этом Ольга Палем рвалась через барьер:
— В чем моя вина? — спрашивала она, почти безумная от ярости. — Неужели лишь в том, что я не хотела оставаться блудницей, мечтая стать законной женой человека, которого полюбила?! Если за всех людей на свете распяли Христа, так распните же и меня — за всех женщин, которые желают одного, только одного: простого семейного счастья…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Примерно в такой обстановке вершился суд, и читатель поймет, что я лишь едва-едва приоткрыл занавес, не обнажая всей сцены торжества злоречия и справедливости, ибо цельная полнота картины судилища увела бы нас слишком далеко…
18 февраля Николай Платонович начал свою речь в защиту Ольги Палем. Настал его звездный час. Вернее — три часа, и его речь, начатая в шесть часов вечера, закончилась поздно вечером бравурным громом аплодисментов публики.
Суд присяжных заседателей удалился на совещание и вскоре же вернулся в зал заседаний с окончательным вердиктом:
— Нет, невиновна!..
Карабчевский подошел к барьеру с протянутой рукой:
— Ольга Васильевна, вы свободны… Как видите, я сдержал свое слово.
20. ДА, ВИНОВНА
— Виновна с ног до головы, и в этом у меня нет никаких сомнений, — заявил министр юстиции Николай Валерианович Муравьев (который как раз в это время расходился с четвертой женой, желая вернуться к первой).
Министр — это вам не тюха-матюха, а потому его слова воспринимаются подчиненными с особым вниманием.
Всего лишь ночью 18 февраля Ольга Палем обрела свободу, а 21 февраля 1895 года «Правительственный вестник» опубликовал официальное сообщение: «Министр юстиции, обратив внимание на условия, при которых судебное заседание… по делу мещанки Ольги Палем, обвиняемой в убийстве студента Довнара, закончилось оправдательным приговором, несмотря на наличность тяжкого преступления, поручил прокурорскому надзору озаботиться принесением на этот приговор кассационного протеста в Правительствующий Сенат…»
Я лишен возможности перелистать «Новое Время» за эти дни, но зато извещен, что газета поддержала мнение министра; из глубин Эртелева переулка, где размещалась редакция Суворина, слышалось ворчливое бормотание В. П. Буренина, известного своим псевдонимом «Граф Алексис Жасминов»:
— Не слишком ли много развелось у нас Юдифей, желающих видеть наших Олофернов безголовыми? Если каждая жидовка укокошит хотя бы одного русского студента, то, посудите сами, как великая мать-Россия будет созидать лучезарное будущее?..
21 марта, довольно-таки скоро, в Кассационном департаменте Сената уже готовился доклад для пересмотра дела.
Обер-прокурор Анатолий Федорович Кони, обязанный сделать заключение по делу Ольги Палем, еще до совещания имел краткую беседу с Карабчевским. Кони, сам сенатор, относился к нему очень хорошо и с большим уважением, а потому их разговор носил дружеский характер.
Дружеский, но никак не соглашательский.
— Николай Платонович, — сказал Кони, — не в обиду вам будь сказано, сила вашей логики и вашего красноречия уже не однажды вынуждали Фемиду переписывать обвинительные приговоры на оправдательные. Вы, как никто другой, способны черного кобеля отмывать добела. Присяжные заседатели, послушав вас, желают внимать уже не прокурору с его знанием законности, а вам, присяжному поверенному, знатоку души и сердец.
— Благодарю, — отвечал Карабчевский. — Но что же мне делать? Оставаться равнодушным, словно гнилой пень в темном лесу, или жевать мякину, как это делают мои хладнокровные коллеги Адамов, Соколов или Керенский…
— Ваша речь в защиту Ольги Палем, — настаивал Анатолий Федорович, — попросту гениальна, и вашему ораторскому искусству могли бы позавидовать даже парижские адвокаты, красноречием никогда не обиженные. Но именно ваша блистательная речь и вовлекла суд в ошибочное определение полной невиновности Ольги Палем. В данном случае — увы! — эмоциональная сила вашего воздействия сокрушила торжество законности.
Николай Платонович грустно посмеялся:
— Никак не пойму, то ли вы меня хвалите, то ли вы меня порицаете за избыток эмоциональности. Но живые люди, попавшие под карающий меч закона, это все-таки не бездушные кирпичи, которым безразлично, если из Петербурга их перевозят на Сахалин, и говорить о людях следует возвышенным тоном… Я буду с вами бороться! — заключил Карабчевский.
Кони оставался джентльменом:
— Желаю успеха в борьбе с Департаментом и со мною…
Свежий ветер задувал в широкие окна с Невы, заставленной оттаявшими кораблями, торжественная лепнина высоких потолков Сената невольно напоминала о славном прошлом, а пухлозадые гении, раздувая щеки, извлекали из горнов радостные гимны юридической и нравственной справедливости.
Докладывал дело сенатор и профессор уголовного права Н. С. Таганцев, который попросил Карабчевского:
— Николай Платоныч, садитесь так, чтобы я вас видел…
Это был тот самый Таганцев, коего изобразил художник Кустодиев на известной картине «Вечернее чаепитие», на которой сенатор изображен хлебающим чаек с блюдца. Выходец с московской Таганки (откуда и его фамилия), сенатор, под стать купцам, чаепитие обожал, лицо он имел багровое, а бороду белую.
Именно этот человек в 1887 году защищал Александра Ульянова, брата Ленина. Теперь, опытный криминалист, он не защищал, а, напротив, обвинял Ольгу Палем, заодно уж осуждая и всю следственную катавасию с неразберихою множества свидетелей.
— Вы утверждаете, — говорил Таганцев, обратясь к Карабчевскому, — что убийство Довнара совершено Ольгой Палем в припадке невменяемости, настаивая при этом на случайности преступления. Вопрос же об умоисступлении, как мне кажется, остался у нас неизвлеченным из ящика Пандоры, нервное же состояние подсудимой следовало измерять выводами врачей-психиатров, а не доверять выводам полицейских врачей, которые раздели ее, бедненькую, и осмотрели даже в тех местах, кои никакого отношения к злодейству не имеют. В конце концов, господа, следствие занималось ловлей блох, а главного так и не увидело…
Таганцев говорил долго, но длинноты сенатора не были утомительны, ибо потомок купцов с Таганки владел образною народною речью, способной скрасить любое занудство. С моей же стороны, читатель, было бы излишне забивать голову судебной казуистикой о нарушениях статей № 762, 529, 619, 1484, 553 и далее, ибо мы этих статей не знаем, и знать их нам совсем не обязательно; важнее, чем Ольга Палем обрела свободу незаконно, — именно так и было заявлено Таганцевым.
Пришло время говорить сенатору А. Ф. Кони.
Мне же, автору, придется раскрыть увесистый том «Решений уголовного кассационного деп-та Правительствующего Сената» за 1895 год, изданный почему-то в Екатеринославле (типография Исаака Когана, 1911 год издания). Слава богу, эта книга в моей библиотеке имеется. Было бы опять-таки наивно с моей стороны утруждать читателя аргументами А. Ф. Кони, ибо они понятны не нам, а только юристам прошлого столетия.
Речь А. Ф. Кони была слишком объемная, я же выбрал из нее лишь одно место, дабы читатель, взыскующий достоверности, проникся ее отрицательным настроением.
— Право судебной власти, — говорил Кони, критикуя порядок суда и следствия по делу Ольги Палем, — слишком для нас священно, но и пользоваться им надобно осмотрительно, не допуская того, чтобы интимные детали чужой жизни, особенно женской, вводились в сам процесс, раскрывая публичное оглашение подробностей, способных нанести моральный ущерб личности подсудимого. Мы можем осуждать Ольгу Палем, но это не дает нам права выворачивать напоказ те стороны ее личной жизни, которые никак не относятся к обвинительному протоколу…
Николаю Платоновичу порою начинало казаться, что в лице А. Ф. Кони он нашел своего союзника, но в этом адвокат ошибался. В своем заключении обер-прокурор Сената, опираясь на статьи законов, нарушенные в процессуальном порядке, поддерживал выводы Таганцева, настаивая на крутом изменении приговора.
— Закон высказался, — произнес Кони, глянув на победных гениев правосудия, — теперь мы готовы к восприятию эмоций… Николай Платонович, мы ждем! Прошу.
Карабчевскому предстояло вторично выступить в роли защитника, и он, кажется, сумел доказать, что убийство студента Довнара после всех его издевательств над подсудимой стало попросту неизбежным возмездием , а пострадавший жизнью расплатился за свои провинности перед женщиной. Рассуждая таким образом, Николай Платонович ссылался на высокий авторитет правового института Франции, ибо Франция считалась в те времена классической страной правопорядка:
— Мои парижские коллеги вовсе не ведают кассаций оправдательных приговоров суда присяжных, потому что во Франции слишком велико доверие к общественной совести, а личность, однажды оправданная, хранима от новых посягательств прокурорского надзора. К великому сожалению, наша юридическая практика не в силах оградить личность, признанную невиновной. Между тем, оправдательный приговор суда присяжных заседателей — это святыня, хотя в России эту святыню иногда и побивают камнями судебных пророков…
Так он начинал, а вот так он завершил свою речь:
— Господа сенаторы и господа Высокий Сенат! Я кончаю свои объяснения. Или я ослеп и ничего больше не вижу, или мои выводы неотразимо правильны: в деле Ольги Палем абсолютно отсутствуют всякие поводы для кассационного пересмотра приговора. Сейчас я лишь испытываю нетерпеливое волнение при мысли, для меня существенной, — исчерпана ли мною задача защиты во всей ее целости? Одна только мысль, что я, быть может, еще не высказал все, что сказать обязан, способна повернуть меня в бездну отчаяния…
Каждому свое и каждый делал только свое.
Решением Сената оправдательный приговор по делу мещанки Ольги Палем был отменен, дело решено передать для пересмотра в другом составе судебного присутствия.
— Вы не слишком обижены на меня? — спросил Кони, сильной рукой дружески встряхивая Карабчевского за локоть.
Николай Платонович не находил слов для ответа.
— Ты победил, галилеянин! — сказал он сенатору. — Но эмоции необходимы, ибо женщину можно и пожалеть…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вечером этого же дня «Пале-Рояль» навестила полиция:
— Вы госпожа О-Вэ Палем?
— Да, я.
— Собирайтесь. Вы арестованы.
— Опять?
— Извините. Мы здесь ни при чем. Таково решение Правительствующего Сената. Не станем, мадам, мешать вашим сборам. Тюремная карета возле подъезда, и мы будем ожидать вас…
На этот раз, при более тщательном доследовании дела, Ольга Палем была подвергнута экспертизе врачей-психиатров, для чего ее поместили в больницу. Доктор Рукович сказал:
— Что тут крутить ее и вертеть, если всем нам, господа, яснее ясного дня — перед нами дама с обычным психозом.
В составе комиссии был и Зельгейм, читателю известный.
— Коллега, — проворчал он, — не забывайте, что всякое убийство человека человеком — тоже извращение психики.
— Позвольте, — вмешался третий врач, — мы каждый день слышим матюги на улицах, однако не хватаемся за револьверы, чтобы убивать сквернословов выстрелами в затылок.
— Верно! Но одно позорное слово Довнара, сказанное им Ольге Палем, явилось той последней каплей, которая переполнила чашу ее терпения. К сожалению, так случается в жизни…
Главный вывод комиссии психиатров был таков: убийство студента Довнара совершено в припадке умоисступления, когда Ольга Палем не могла контролировать свои действия. Однако новый состав суда не внял гласу врачей, и 18 августа 1896 года был вынесен новый вердикт суда присяжных заседателей.
Палем была признана виновной в убийстве студента Довнара, которое совершено ею преднамеренно, хотя и в состоянии резкого душевного раздражения.
— Исходя из этого, — зачитывался приговор, — но учитывая ее запальчивый и нервный характер, суд считает необходимым выказать подсудимой снисхождение, приговаривая ее к десяти месяцам тюремного заключения.
«СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ!» — могли бы добавить судьи.
…Ольга Палем вновь обрела свободу в яркий весенний день, за воротами тюрьмы ее оглушило звонкое пение птиц.
Она даже не удивилась, заметив, что возле тюрьмы стояла пролетка, в ней сидел Сережа Лукьянов, ожидавший ее.
Кучер сразу подогнал лошадь к женщине, Лукьянов проворно соскочил на панель, приложился губами к ее руке.
— Я не отказываюсь от своих слов, — сказал он, застенчиво улыбаясь. — Мама благословила мои намерения, а мои показания на суде вы можете считать любовным признанием.
— Спасибо. Именно так я и поняла их…
Ольга Палем обняла его шею исхудавшей рукой, крепко-крепко расцеловала в губы истосковавшимся поцелуем.
— То, что было сказано вами на суде, надо было сказать еще раньше — в те старые и дивные вечера на хуторе под Аккерманом. Наверное, вся моя жизнь сложилась бы совсем иначе… Спасибо вам, Сережа, — повторила Ольга Палем. — Вы очень хороший человек, а я… я очень плохая женщина.
— Не верю в это. Решайтесь! Я жду.
— Нет, — отказала ему Палем, гордо встряхнув головой, отчего рассыпались по ее плечам длинные волосы. — Вы слишком чисты и благородны, но я-то знаю, что рано или поздно мое прошлое еще не раз напомнит вам о себе, и я не хочу, чтобы вы мучились именно тем, что у меня есть прошлое… Такое, какое было! А какое оно было, лучше не вспоминать.
Сережа Лукьянов, огорченный отказом, спросил:
— Куда же вы теперь? Кто приютит вас?
— Если бы знать! Но я сама ничего не знаю…
Ольге Палем теперь хотелось уехать далеко-далеко — в такую несусветную даль, где о ней никто ничего не знает и никто не посмеет попрекнуть ее прошлым, которое — да простит ей бог! — есть у каждой женщины, хоть однажды любившей.
21. ТАМ, ГДЕ АМУР СВОИ ВОЛНЫ…
Начав этот роман в «женский» день 8 марта, я заканчиваю его 23 марта — в день рождения моей любимой жены Тонечки, и, признаюсь, мне хотелось бы посвятить этот роман именно ей…
Вместе со мною она уже побывала в Одессе столетней давности, а теперь она ждет от меня приглашения, чтобы навестить иные края. Совсем иные!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
После веселых будней одесской жизни, пресыщенной удовольствиями, мне как-то дико и странно, преодолевая тьму времени и расстояний, вдруг оказаться там, где еще только создавалась новая русская жизнь. Впрочем, она возникла давно, и еще Екатерина Великая, осторожный и дальновидный политик, завещала потомкам: «Если бы Амур мог нам только служить, как путь, через который можно продовольствовать Камчатку, то и тогда обладание Амуром уже имеет для нас великое значение…»
Там, где Амур свои волны несет, ветер тревожную песню поет…Впрочем, под музыку этого вальса еще не танцевали.
Но иногда нам, россиянам, полезно оглянуться назад, чтобы подсмотреть, как жили на Амуре первые поселенцы. Сто лет назад Хабаровск (бывшее село Хабаровка) насчитывал всего лишь 15 000 жителей — это, по сути дела, была большая русская деревня со своим базаром и двумя-тремя церквами.
С тех пор как Хабаровск сделался столицей Приамурского края, он считался городом гораздо лучше Владивостока. Прямые улицы, много зелени, библиотека и местный музей. По Амуру скользили лодки — русские под парусами, а китайцы вместо парусов укрепляли деревья с густою листвой. Молнии в этих краях отсвечивали бордовым светом, будто кровавые. Мимо города по своим нездешним делам часто проплывали неизвестные утопленники. Старожилы утверждали, что климат на Амуре сильно изменился. Раньше уже в марте открывали окна, модницы гуляли в ситцевых платьях, а в конце апреля засевали огороды. Жители винили беспощадную вырубку лесов, отчего на Амуре с каждым годом становилось все холоднее.
Если старожилов послушать, так раньше все было лучше.
Свобода слова царила полная, зато не было никакой свободы печати (за отсутствием самой печати). Процветала и свобода совести, национальность или религия не имели никакого значения, все назывались «амурцами». Ссыльные поляки, вернувшись в Польшу, стремились обратно, говоря, что на Амуре им лучше, нежели в Варшаве, где фонарей на улицах меньше, чем городовых.
Жизнь тогда была примитивна, а запросы жителей скромны. В лавках лежали ситцы, мука, чай, макароны, сахар и американское вино «кокомонго». Только здесь, на берегах Амура, можно было увидеть собак, которые алчно пожирали свежие или соленые огурцы. По улицам свободно бродили коровы, квохтали куры, с визгом проносились гигантские свиньи, живущие для заготовки из них бочковой солонины на зиму.
Приехавшие из Европы скучали, особенно молодежь:
— Во, тоска зеленая! Хоть бы скандал какой.
— За чем дело стало? — отвечали им ветераны. — Выдь на улицу, тресни первого попавшегося, он тебе сдачи даст, тут набегут отовсюду — и начнется повальное веселье…
По улицам тогдашнего Хабаровска шлялись расхристанные «сынки» — штрафные солдаты, сосланные на Амур из западных гарнизонов. Через город двигались по этапу партии ссыльных на Сахалин, местные чиновники отбирали из каторжанок кухарок и прачек попригожее. Ближе к зиме в Хабаровск забредали отощавшие золотоискатели и начинали «гулять». Для этого скупали весь бархат, какой был в городе, выстилали им грязную мостовую, владелец самородков шагал по бархату, крича: «Знай наших!», перед ним плясали наемные бабы, сзади шли музыканты, русский наяривал на гармошке, а еврей пиликал на скрипке.
— Себя показывает, — рассуждали зрители. — Да и как не показать, ежели от него за версту тыщами пахнет…
Между прочим, один лимончик на Амуре стоил тогда пять рублей. Тут задумаешься: покупать или не замечать? В основном же кормились рыбой. Целая лодка кеты (доверху) стоила рубль или бутылку водки. Красная рыба шла с моря накатом, но, добираясь до Благовещенска, она меняла свои формы, обретая горб и отращивая зубы, почему на рынок и поступала новая рыба — горбуша или зубатка. Водились белуги, судак, карпы, амурский сиг. Осетры попадались в рост человека, такие стоили десять рублей, причем из них выдавливали целое ведро икры. А вот паюсной икры делать в Хабаровске не умели.
Гурманов тогда не водилось. Некоторые, подражая китайцам, охотно поедали даже мясо енота с кунжутным маслом.
— Ну и что? — хохотали. — Все едино «дары природы»…
Рабочих рук не хватало, нанимали пришлых китайцев, умелых столяров и каменщиков. Китайцы работали очень медленно, зато тщательнее русских и вина не пили. Русскому работяге ежегодно выплачивали когда за сто, когда за двести трудовых дней, ибо у них было немало «праздников», а китайцы получали жалованье за все 365 дней в году. Зато китайцы часто дрались между собой. Если кого убивали, то его труп сжигали на окраине города, а пепел отсылали на родину. Особым уважением среди них пользовались местные врачи, судившие о себе откровенно:
— Какой я врач! Я за эти амурские годы совсем позабыл медицину, ибо привык лечить только солдат или матросов…
Преступность существовала. Ворья в Хабаровске тоже хватало — из числа беглых. Воровали с большим знанием дела. Так, например, находились мастера, способные вытащить через окно шкаф или кровать, проделывая эту операцию совершенно бесшумно, даже не вспугнув хозяев. Гулящих баб на Амуре не водилось, потому как любая захочет, так и гуляет. В укор это не ставилось. Старейшей гостиницей в городе считалась «Эльдорадо», разбитая на множество каморок, в стенках между номерами имелись щели в ладонь человека. Местные донжуаны утверждали, что в «Эльдорадо» они целовались с женщинами через стенку:
— Могли бы и дальше пойти в развитии накала страстей, но, согласитесь, это была бы уже сплошная порнография…
Номер в «Эльдорадо» стоил два рубля в сутки. Впрочем, деньги на Амуре всегда были «бешеными».
За ними-то сюда и приезжали, чтобы, отбарабанив срок в пять или десять лет, обрести право на хороший пенсион, после чего уматывались обратно. Но многие оставались навсегда.
Амурские ветераны любили вспоминать старую жизнь Хабаровки, в которой самым сильнейшим впечатлением оставалась встреча с тигром, издающим предупредительное рычание:
— Знаете, что испытал я, услышав его волшебное контральто? Ощущение такое, будто мне в желудок опустили большой кусок льда, а теперь жди-пожди, когда он сам по себе растает…
Тигры, выходя из тайги, ловко «снимали» с постов часовых, однажды через открытое окно утянули за косу спящего китайца, а переваривать пищу они почему-то возлюбили в баньках на огородах, где и отсыпались на душистых березовых вениках.
— Житья от полосатых не стало, — жаловались хозяйки. — Вчерась открываю дверь, гляжу — куча! Думала, «сынки» нагаверзили. Пригляделась — точно, он, полосатый, у самого крылечка во стока наворотил… Мне же за ним и убирай!
Но, пожалуй, страшнее тигров были комары и оводы, а налетавшие с Уссури слепни были громадных размеров, они имели красные глаза упырей, даже солдат обижали:
— Мука мученическая на часах стоять. Ведь он, гад такой, скрозь шинелюгу меня так вжалил, что и присесть не могу…
Это правда: на улицах часто слышались вопли укушенных, особенно доставалось женщинам в открытых платьях. Заканчивая описание амурского быта столетней тому назад бытности, хочу добавить, что «амурцы» славились небывалым плодородием.
Даже интеллигенты, которые в России многодетством никогда не грешили, тут заводили по 10–15 детей кряду.
— Делать-то все равно нечего, — говорили они себе в оправдание. — И сам не заметил, как появились… Могли бы еще и больше, да жена не позволяет, ей, мол, людей стыдно!
Дети на Амуре росли, как грибы в лесу, и никогда ничем не болели, словно заранее были извещены, что никакая медицина на помощь им все равно не придет. Игрушек не было совсем, лишь на Рождество устраивали для них праздничную елку, которую украшали золотыми и серебряными нитями, для чего офицеры гарнизона расплетали «канитель» со своих изношенных эполет.
Дети на Амуре придумывали игры сами: девочки стирали белье и гладили, подражая своим мамочкам, а мальчишки пилили и кололи дрова, подражая мужчинам…
Ольга Палем появилась в этих краях, когда жители Хабаровска уже имели свою газету, а на высоком берегу Амура, скрестив на груди руки, возвышался бронзовый граф Н. Н. Муравьев-Амурский, поставленный здесь в мае 1891 года на вечные времена. Правда, в январе 1925 года здесь появился известный Я. Б. Гамарник, который, руководствуясь железной волей победившего пролетариата, сбросил памятник с пьедестала и велел разбить его на куски, дабы выполнить план по сдаче в утильсырье цветных металлов. Теперь жители нынешнего Хабаровска много лет хлопочут, чтобы возродить исторический мемориал человеку, свято исполнившему завет Екатерины Великой.
Восстановить памятник вполне возможно, ибо в Русском музее сохранилась его бронзовая модель.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Казалось, что здесь, на берегах Амура, о ней никто ничего не знает. Она жила очень скромно, ибо Кандинский уже не баловал ее денежными переводами.
Ольга Палем нанималась в услужение семей чиновников или офицеров, ухаживая за их детьми вроде гувернантки, обучала их чтению. При естественном засилии холостяков на Амуре каждая женщина была на вес золота, но пригодной партии она составить не могла, ибо мужчины сначала предъявляли ей некоторые претензии, а потом уж и все остальное, что для Ольги Палем казалось первоначальным условием брака…
Однажды выдался теплый замечательный вечер.
На пристани девчонки продавали ароматные ландыши, а бабы вынесли на продажу крупную картошку красного цвета, когда из низовий реки подошел комфортабельный пароход «Барон Корф», строенный на бельгийских верфях специально для амурского пароходства. Две его палубы сверкали огнями, и весь он казался праздничным, словно зовущим куда-то туда, где будет хорошо.
На крутом берегу Хабаровска красовался общественный сад, в нем гуляла принаряженная публика, играла музыка, вспугивая в кустах золотистых таежных фазанов.
Ольга Палем в одиночестве присела за столик садового кафе, лакей открыл для нее бутылку с шипучим «Аполлинарисом». Она рассеянно слушала мелодии Штрауса, которые старательно исполнял оркестр солдат гарнизона, одетых в белые рубахи.
Кто-то вдруг неуверенно окликнул ее по имени, она обернулась. Перед ней стоял, сияющий пуговицами и кокардой, молодой моряк с простецким добрым лицом и… улыбался.
— Вы разве меня знаете? — спросила Палем.
Он присел рядом с нею, над ним сразу распелись амурские соловьи, певшие гораздо хуже российских, но все-таки это были настоящие соловьи, с которыми жить радостнее.
— Лейтенант Федор Агапов, — представился моряк с легким поклоном. — Служил ранее на военном флоте, а ныне капитанствую на мостике «Барона Корфа». Не желаете ли совершить увлекательное путешествие в салоне второй палубы до Николаевска-на-Амуре, чтобы хоть издали повидать берега Сахалина?
— Благодарю, — учтиво отвечала Ольга Палем. — Сейчас я связана обязанностями в одном приличном семействе. А почему вы точно назвали меня по имени? Вы меня знаете?
Она вращала перед собой бокал с лимонадом на тонкой ножке, он крутил на столе свою фуражку с громадным «крабом».
— О вас, — смущенно сказал Агапов, — столько писали в газетах, о вашей трагедии было так много споров, кто прав, а кто виноват… ей-ей, не все разобрались!
Значит, и здесь она оказалась разоблаченной.
— То, что вы запомнили обо мне, — сказала Ольга Палем, — я сама уже давно позабыла. Но как вы думаете, кто виноват?
— Если бы я считал вас злодейкой, я бы не подошел к вам.
— Спасибо. Это становится интересным…
Оркестр умолк. Одни соловьи надрывались над ними.
— Я не раз бывал на Сахалине, — рассказывал Агапов, — и от местных жителей, лучше нас понимающих толк в людях, слышал необычную истину: в жены надо брать женщину, попавшую на каторгу за убийство мужа, — меня уверяли, что это самые лучшие женщины на свете.
— У меня никогда не было мужа, — сказала Ольга Палем, — и я никогда никого не убивала.
— А у меня, — ответил Агапов, — никогда не было жен, и я, поверьте, даже не знаю, с чем их едят.
Ольга Палем фыркнула в бокал, еще не догадываясь, чем этот разговор может закончиться. Впрочем…
— Впрочем, я поняла вас. Но прежде, чем пойму все до конца, хочу спросить, почему вы подошли именно ко мне? Осмотритесь вокруг. Разве мало женщин в этом саду?
Агапов высоко над собой подбросил фуражку, а Ольга Палем ловко поймала ее в конце полета.
— Вы спрашиваете — почему? Но я обошел весь сад, я обозрел всех женщин и вернулся обратно к вам, ибо в этом саду вы самая эффектная женщина… Это для вас сверкает огнями мой сказочный пароход, это для вас, в восторге от нашей встречи, соловьи поют, соловьи… Подумайте же сами, что такие слова не произносят случайно.
Ольга Палем думала, думала, думала…
Она вращала бокал, вращала его, вращала…
— Знаете, — вдруг сказала она, впервые глянув в глаза Агапову, — вы мне… нравитесь. Да! Но я сразу желаю поставить перед вами непререкаемое условие: вы никогда не станете тревожить мое прошлое.
«Барон Корф» издал торжествующий стон, призывая капитана занять место на мостике корабля.
Агапов встал и откланялся:
— Прошлое? Но его у вас никогда и не было. Разве так уж плохо, если ваша жизнь начинается только сегодня?..
Вскоре они стали мужем и женой.
Я не знаю конца жизни Ольги Палем.
Но хочу верить, что она была счастлива.
8—23 марта
1989 года.


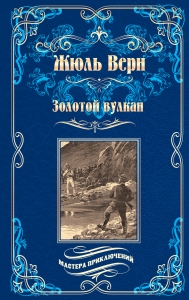

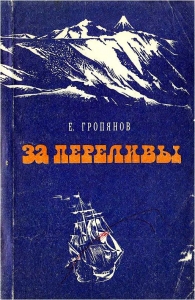
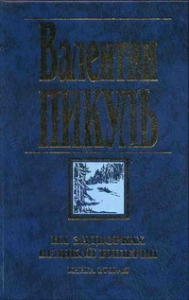

Комментарии к книге «Ступай и не греши», Валентин Пикуль
Всего 0 комментариев